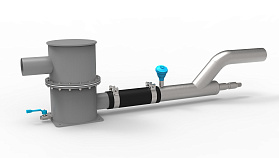Иван Николаевич Верюжский с женой. Данилов. 1914 год.
Вскоре в семье Ивана Николаевича Верюжского и его жены, имя которой ни у кого из родственников в памяти не сохранилось, в 1914 году родился сын, названный, вероятно, по семейной традиции - Николаем. К великому сожалению, трагическая судьба произошла и в семье Ивана. В период какой-то очередной повальной эпидемии, прокатившейся в те годы по Поволжью, жена Ивана Николаевича заболела, и спасти её не удалось.
Оказавшись в отчаянном положении с малолетним сыном, Иван женился второй раз, но через некоторое время сам заболел и умер, оставив своего сына Николая на воспитание приёмной матери, которая однажды даже приезжала в Углич и просила дедушку Николая Павловича принять уже подросшего мальчика к себе на жительство в Углич. Однако дедушка на такое просто не мог решиться, как бы ни хотел помочь своему внуку Николаю: поскольку сам уже давно находился на пенсии, жил в стеснённых условиях с другими членами семьи на частной квартире. Но главное, наверное, было то, что к тому времени здоровье бабушки Анемаисы Ивановны резко ухудшилось, и она уже не могла вести домашнее хозяйство в полную силу, как это делала раньше.
О дальнейшей судьбе Николая Ивановича Верюжского (моего старшего брательника двоюродного брата) известно очень мало, только то, что детство у него прошло не в родной семье. Но как бы там ни было, он вырос, возмужал, получил военное образование, женился, где в их молодой семье родились два мальчика.

Николай Иванович Верюжский с женой. Снимок, предположительно, 1939-1940 годов.
Будучи в звании старшего лейтенанта служил в Витебске. Это было как раз накануне самой войны, непредсказуемые события в период которой происходившие не могли не привести к неминуемой потере всяких контактов. Как сложилась дальнейшая судьба Николая Ивановича Верюжского, его жены и сыновей, никто из родственников никакими сведениями не располагают. И это очень горько и обидно.
Третьим ребёнком в семье старших Верюжских являлся сын Александр мой папа. Всё о нём я подробнейшим образом изложил в предыдущих главах.
На предложенной фотографии 1926 года папа Александр Николаевич и мама Александра Александровна с моей сестрой Женей, а до моего рождения осталось всего девять лет.
На этой фотографии я хотел бы задержать внимание чуть-чуть подольше. Дело в том, что здесь запечатлена почти в полном составе на тот период семья Верюжских, кроме безвременно ушедших в иной мир Александры и Ивана.
Появление внучек-ровесниц в двух молодых семьях: Жени у Александра Николаевича и Александры Александровны Верюжских и Марины у Николая Васильевича и Агриппины Николаевны Лазаревых, были для дедушки и бабушки большой радостью.

Первый ряд: Агриппина Николаевна Лазарева (тётя Граня), Николай Павлович (дедушка), Марина, Женя (двоюродные сёстры), Анемаиса Ивановна (бабушка), Алла Николаевна (тётя Аля).
Второй ряд: Николай Васильевич Лазарев (муж тёти Грани), Николай Николаевич (дядя Коля), Александр Николаевич и Александра Александровна Верюжские (мои родители). Углич. 1926 год.
Размещаясь перед объективом фотоаппарата, я уверен, что никто не мог даже в страшном сне представить, какая впереди всех ожидает череда событий, не только радостных, счастливых, наивных и смешных, но и печальных, тяжёлых утрат, потрясений, переживаний, конфликтов. В таком составе семейство Верюжских больше никогда не собиралось, чтобы оставить о себе общий снимок на память.
Это обстоятельство заставляет меня, прежде чем продолжить рассказ об остальных детях Николае, Агриппине и Алле, уже выросших и вступивших в свою самостоятельную жизнь, остановиться на тех тяжёлых событиях, обрушившихся на большую семью Верюжских в преддверии войны и в военные годы.
Без всякого сомнения, основным печальным ударом для всех и особенно безутешным горем для дедушки явился как-то неожиданно подкравшийся уход из жизни Анемаисы Ивановны 13 августа 1931 года, причиной которого стал, как записано в свидетельстве о смерти, тогда ещё непонятной и недостаточно распространённой болезни рак кишечника.
В последние годы, по воспоминаниям родственников, бабушка стала часто жаловаться на своё здоровье, но к врачам не обращалась и по больницам не ходила. Тогда ей было всего лишь 62 года, но она уже чувствовала, как становилось затруднительно справляться с большим семейным хозяйством. Одно только приготовление обедов-ужинов на большую семью было не из лёгких, когда приходилось с первого этажа, где находилась кухня с русской печкой, таскать буквально «на животе» по узкой и крутой лестнице на второй этаж в нашу столовую многолитровые кастрюли с супами-борщами-кашами, пудовые кипящие самовары и блюда с различной снедью, совершая десятки спусков и подъёмов по тёмному лестничному перегону. Другие обязанности, как, например, уборка, стирка, топка печей в зимний период и многие другие, входившие в круг её ответственности, всегда исполнялись ревностно, аккуратно и своевременно.
Более 43-х лет она была верной женой, надёжной помощницей, хлопотливой и заботливой матерью и бабушкой для детей и внуков.
Оставаться в Угличе для дедушки стало невыносимо грустно, печально и тоскливо. Он, достаточно крепкий и бодрый для своих 68-ми лет, вдруг от душевных переживаний и наступившего одиночества стал быстро сдавать и резко стареть. Теперь, немного забегая, вперёд хочу рассказать о последних годах жизни нашего замечательного, доброго и заботливого дедушки.
Самую реальную помощь, чтобы сменить обстановку и постараться отвлечь дедушку от глубокой депрессии и печальных мыслей, предприняла его младшая дочь Алла Николаевна Железнякова (тётя Аля), которая взяла на себя всю заботу о своём папе Николае Павловиче до последних дней его жизни. Дедушка переехал в Москву и поселился в молодой семье Железняковых в Тушино, где подрастала, как нежный цветок, его внучка Алюсенька, Аллочка (моя двоюродная сестра Аля).
Дедушка, исходя из своих возможностей, помогал в воспитании внучки Аллочки, присматривая за ней в дневное время, и тем самым, освобождая родителей от этих обязанностей, давал им возможность спокойно работать.

Николай Павлович Верюжский (мой дедушка). Москва. Тушино. 1936 год.
В течение нескольких лет тихой и размеренной московской жизни дедушка был окружён вниманием и заботой семьи Железняковых и, не чувствуя себя забытым и одиноким, имел возможность часто встречаться со своими сыновьями: Николаем (дядей Колей), который тоже жил и работал в Москве, и Александром (моим папой), иногда заезжавшим из Углича в период своих командировок, регулярно переписывался с дочерью Агриппиной (тётей Граней), семья которой жила в Сталинграде.
Самым трудным и, как оказалось, жизненным последним этапом для дедушки стал начальный период войны. Случилось так, что Алла Николаевна Железнякова (тётя Аля) с восьмилетней дочкой Алей и дедушкой в августе 1941 года, когда германские войска оказались на подступах к Москве, по настоянию её мужа Николая Михайловича Железнякова (дяди Коли), который в это время проходил военную службу на Дальнем Востоке, были вынуждены уехать из Москвы в Сталинград, надеясь найти временный приют в семье Агриппины Николаевны Лазаревой (тёти Грани), наивно предполагая, что фронт в такой глубокий тыл никогда не придёт. В реальной жизни, однако, всё оказалось значительно серьёзней и опасней.
Невероятно трудно выразить словами всё то, что испытывали тысячи многострадальных переселенцев-беженцев, стремящихся обезопасить себя от неминуемо надвигающейся угрозы смертельной гибели, которую несли на русскую землю немецко-фашистские войска.
Дорога до Сталинграда оказалась настолько мучительно тяжёлой, что на одной из перевалочных станций при очередной пересадке из одного поезда в другой попутный поезд дедушка, которому было уже 78 лет, окончательно измотавшись и полностью обессилев, категорически отказался дальше ехать и готов был остаться под палящими солнечными лучами в открытой степи, чтобы, как он говорил, спокойно умереть. Никакие уговоры и увещевания не действовали. По просьбе тёти Али на помощь пришли какие-то добрые люди, которые просто-напросто на руках перенесли уже неспособного самостоятельно передвигаться дедушку в тамбур вагона отходящего поезда. С превеликими усилиями, в конце концов, в сентябре 1941 года им удалось-таки добраться до пункта своего назначения.

В , на удивление всем, шла нормальная, спокойная, размеренная мирная жизнь, где не только не бомбили, не стреляли, но и не объявляли воздушных тревог. Всё это никак не вязалось с тем, что где-то на огромной территории страны развернулась крупномасштабная, грандиозная, губительная битва. Не прошло и нескольких месяцев, как обстановка в Сталинграде резко изменилась.
Дедушка знал, что его сын Александр (мой папа) с первых дней войны находился на фронте и, беспокоясь о его судьбе, пытался наладить с ним переписку, узнав последний адрес из письма моей сестры Жени, которая сообщила его дедушке непосредственно в Сталинград.
Волнуясь также по поводу новых обстоятельств жизни сына Николая (дяди Коли), который вместе со школой был эвакуирован из Москвы сначала в Рязанскую область, а затем на Северный Урал, дедушка продолжал вести с ним переписку, интересуясь его делами, и одновременно рассказывал о своём житье-бытье у Лазаревых в Сталинграде, в действительности оказавшемся далеко не радостным.
Николай Васильевич Лазарев был крайне недоволен приездом московских родственников. Дедушка, скромный, выдержанный и терпеливый по своему характеру, с большой обидой переносил несправедливые оскорбления и в письмах к своему сыну Николаю с большим сожалением отмечал, что «не дай Бог жить у такого зятя это изверг рода человеческого».
Дедушка, некогда уважаемый и любимый всеми родственниками, став полностью зависимым от сложившихся обстоятельств и не имея возможности сопротивляться и постоять за себя, подвергался ежедневным унижениям, выслушивая в свой адрес не только от своего зятя Николая Васильевича и дочери Агриппины Николаевны (тёти Грани), которая, как отмечал дедушка, «заразилась злостью от мужа», но и от повзрослевшей внучки Марины, ранее клявшейся в бесконечной любви к дедушке, потоки безудержной брани, почти площадной ругани, обвинявших его в старости, немощности и беспомощности.
Старый, но гордый и добрый дедушка, не имея возможности постоять за себя и при отсутствии какой-либо поддержки, вынужден был терпеть обидные и незаслуженные оскорбления. При отсутствии возможности каким-либо способом образумить озлобленных родных людей, за постигшую его старческую участь на завершающем этапе жизни, за то, что он стал обузой и помехой для семейства Казаковых, такие обстоятельства для дедушки становились крайне тяжелым испытанием.
Весной 1942 года произошел случай, который явился печальным завершающим итогом долгой и праведной жизни дедушки. Однажды, проходя по коридору квартиры, он вдруг потерял равновесие и упал, ударившись головой. Удар был настолько сильный, что летальный исход наступил мгновенно. Дедушку, которому уже исполнилось 79 лет, похоронили на городском кладбище, но в результате произошедших в последующем сильнейших боёв непосредственно на территории Сталинграда, .

В заключение этой части своего повествования замечу, что на сегодняшний день из всей некогда многочисленной семьи Верюжских остался только я один, на котором и завершается история прямых наших родственников с этой фамилией.
На приведённой ниже фотографии запечатлены родственники по линии Верюжских и Железняковых, которые собрались вместе в последний раз в феврале 1955 года.

Первый ряд (слева направо): Алла Николаевна Железнякова (урождённая Верюжская, 1907-2001) – моя тётя, младшая сестра папы, Николай Николаевич Верюжский (1894-1971) – мой дядя, младший брат папы, Александра Александровна Верюжская (урождённая Соколова, 1899-1974) – моя мама.
Второй ряд: Николай Александрович Верюжский (род.1935), Алла Николаевна Железнякова (род.1933) – моя двоюродная сестра, Евгения Александровна Захарова (урождённая Верюжская, 1924-2007) – моя родная сестра, Николай Михайлович Железняков (1908-1978 ) – мой дядя, муж моей тёти Аллы Николаевны Железняковой. Москва.
Продолжение следует.
Обращение к выпускникам Тбилисского, Рижского и Ленинградского нахимовских училищ.
Пожалуйста, не забывайте сообщать своим однокашникам о существовании нашего блога, посвященного истории Нахимовских училищ, о появлении новых публикаций.

Сообщайте сведения о себе и своих однокашниках, воспитателях: годы и места службы, учебы, повышения квалификации, место рождения, жительства, иные биографические сведения. Мы стремимся собрать все возможные данные о выпускниках, командирах, преподавателях всех трех нахимовских училищ. Просьба присылать все, чем считаете вправе поделиться, все, что, по Вашему мнению, должно найти отражение в нашей коллективной истории.
Верюжский Николай Александрович (ВНА), Горлов Олег Александрович (ОАГ), Максимов Валентин Владимирович (МВВ), КСВ.
198188. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 11/3, кв. 70. Карасев Сергей Владимирович, архивариус.