В 1943-м году сильно обветшавшее и повреждённое в период военного лихолетья строение определили под создаваемое Ленинградское военно-морское подготовительное училище (ЛВМПУ). Новым его обитателям пришлось параллельно с учёбой основательно участвовать в ремонтно-строительных работах. К сентябрю 1945-го года в относительный порядок были приведены лишь первые два этажа основного здания. К августу 1946-го положение улучшилось ненамного, к тому же при сильных дождях крыша всё ещё протекала.
Перейдя свой Рубикон в виде деревянного, похожего на будку помещения КПП, я очутился на обширном плацу перед зданием училища. До дождей, похоже, было ещё далеко, лето цвело в разгаре. Ясное утро переходило в солнечный день, и его бескорыстное щедрое сияние сочувственно стремилось разогнать затаившуюся в душе насторожённость перед ожидающей меня незнакомой жизнью.
Новоиспечённых курсантов временно размещали на втором этаже в спортзале, который находился непосредственно над центральным вестибюлем. Обширное светлое с паркетным полом помещение было уставлено двухъярусными металлическими койками. Сдвинутые попарно они образовывали блоки из четырех спальных мест. Располагавшиеся рядами вдоль зала блоки разделялись узкими проходами. В проходах у стенки и между спинками коек стояли одна на другой тумбочки. Часть коек уже имела постели, остальные тускло отсвечивали своими панцырными сетками.
В зале находились ребята в гражданской одежде, видимо, поселившиеся здесь за прошлую неделю, а также «служба»: дежурный и дневальный - курсанты старшего курса. Старшекурсники были при полной форме: белая форменка с видневшейся в расходящемся вороте тельняшкой, чёрные суконные брюки, хромовые ботинки, бескозырка с ленточкой, на которой блестела золотом надпись: «ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ». На широком чёрном кожаном ремне, украшенном блестящей латунной пряжкой - «бляхой» с рельефными якорем и звездой, висел штык-нож в плоских ножнах. На левом рукаве виднелась синяя, с узкой белой полосой посредине, повязка. У дежурного, кроме того, на груди белым никелем блестел ещё один знак его официального статуса - плоская изогнутая боцманская дудка, подвешенная на заведённой под форменный воротник цепочке и укреплённая крючком за разрез форменки.

Современные реалии. В настоящее время здания занимает
Всё это вместе было не лишено своеобразного шика и смотрелось красиво. Шевельнулась приятная мысль, что теперь рано или поздно и меня не минует это великолепие.
В стенах подготовительного училища нам предстояло за три года пройти 8-й, 9-й и 10-й классы общеобразовательной школы и получить начальную военно-морскую подготовку. Окончившие «Подготию» получали «Аттестат зрелости» (общегражданский документ, свидетельствующий о завершении среднего образования) и распределялись по военно-морским училищам. Зачисление туда «подготов» осуществлялось без сдачи вступительных экзаменов.
В 1946-м году в ВМФ СССР было сравнительно небольшое число училищ, готовивших офицеров. Из них высшее образование своим выпускникам давали только два: Высшее Военно-Морское училище имени Фрунзе и Высшее Военно-Морское инженерное училище имени Дзержинского.
Первое готовило корабельных офицеров широкого профиля, которые уже в процессе службы специализировались как штурмана, артиллеристы или минёры, а также офицеров-гидрографов. Второе -корабельных инженеров.
Когда я изредка задумывался над тем, куда мне идти после окончания ЛВМПУ, то отдавал предпочтение
Хотелось быть инженером. А из имеющихся там в то время факультетов -электротехническому.

Кораблестроительный факультет, как мне казалось, сулил слишком много черчения, а я его не очень жаловал. Название же ещё одного — паросиловой — вызывало ассоциацию с паровозом, что мне тоже как-то не импонировало.
С такими наивными, туманными и зыбкими представлениями о своей дальнейшей перспективе совершил я первый, но ответственейший жизненный шаг, практически определивший всю мою дальнейшую судьбу.
«Товарообмен»Осматриваюсь, куда попал.
Дней десять, а, возможно, и больше, нас не переодевали, видимо, поджидая, пока соберутся все вновь принятые. Тем не менее, следовать установленному в училище распорядку нам пришлось с первого дня.
Поскольку этот важнейший атрибут воинского уклада определил наш жизненный ритм на длительное время вперёд, сразу приведу его основные параметры, опуская в некоторых случаях минуты.
Подъём в 6 часов утра, завтрак в 8 часов, обед и отдых в 12-14 часов, ужин в 17 часов, вечерний чай в 21 час, отбой в 23 часа. Соответственно между этими временными вехами предусматривались: физзарядка на плацу (в сильные морозы - прогулка), приборка, утренний осмотр, занятия или работы (до ужина), самоподготовка и личное время, вечерняя прогулка и проверка.
В воскресенье - выходной день. Подъём сдвигался на час вперёд, не предусматривались официально зарядка, занятия, работы и самоподготовка. Не занятые на службе и при этом не получившие в течение недели существенных замечаний могли рассчитывать на увольнение. Увольняли также и вечером в субботу. Отцы-командиры, правда, с первых дней приучали нас к мысли, что увольнение - это не право курсанта на отдых, а вид поощрения за усердие в службе. На такое «поощрение» мы, вновь принятые, получали право лишь с наступлением ноябрьских праздников (7 и 8 ноября - дни Октябрьской революции). До этого срока никаких увольнений в город (в военно-морских училищах было принято говорить: «увольнение на берег») категорически не допускалось.

Фильм был снят значительно позже, в 1962 году.
Эти первые дни мы были, в основном, предоставлены сами себе. Изредка, правда, какой-нибудь старшина из персонала училища заходил в наш просторный и всё более заполняющийся «кубрик», обращался к дежурному, и тот выделял пришедшему требуемое количество «рабочей силы».
Процесс врастания в положение новобранцев-первогодков давался с трудом. Это и понятно в ситуации, когда все окружающие для тебя - потенциальные начальники, а твоей наивной доверчивостью любой мог воспользоваться, и далеко не всегда бескорыстно.
Особенно это касалось попыток «экспроприации» у нас такого жестокого дефицита, каким являлись в те времена одежда и обувь.
Насилие при этом почти не применялось. Приемы избавления нас от своих вещей основывались на понимании психологии новобранца, стремящегося не ударить в грязь лицом перед «бывалыми моряками». Мальчишески превратное представление о морской традиции взаимовыручки и доверия не позволяли нам проявлять заскорузлую «сухопутную» сквалыжность и подозрительность в ответ на их просьбы.
Когда отдельные «старшие товарищи» приходили к нам в кубрик и, окинув цепким взглядом присутствующих, обращались к какому-нибудь обладателю приличного предмета одежды с просьбой одолжить рубашку, штаны или ботинки для похода в самоволку (мол, в городе одетого «по гражданке» не трогают патрули), отказов поначалу не было. Но чаще всего, взятые вещи владельцу не возвращались, а координаты взявшего (фамилия, номер класса и прочее) оказывались ложными. Поэтому довольно скоро этот способ перестал «работать». Остался менее вероломный приём: добровольный обмен добротной, но «гражданской» одежды на «военно-морскую». При этом следы ветхости последней владелец старался приукрасить «травлей» о штормах и походах, в каких побывала эта реликвия. И нельзя сказать, что без успеха.
Меня по этому вопросу практически не беспокоили. Когда дома я собирался в училище, инстинкт человека, вещи которому достаются нелегко, подсказал не одевать на себя лучшее из имеемого. Немного, правда, я поколебался, раздумывая над ботинками: одна пара, которую маме удалось купить перед экзаменами, была почти новой, а предыдущая пара, хотя и имела приличный вид сверху, почти не сохранила подмёток. В конце концов, я обул старую пару, уложив предварительно на стельки бумагу. Поскольку погода стояла сухая, особых неудобств я не испытывал, тем более, что на первый взгляд отсутствие подошв не было заметно. Некоторые старшекурсники даже проявляли к моей обуви интерес, впрочем, сразу пропадавший, как только они заглядывали на ботинки снизу.
Однажды после обеда я лежал на койке, мои ботинки, как и положено, аккуратно стояли у её ножки. В проходе вдруг возник небольшого роста щуплый курсант. В руках он держал пару яловых ботинок, довольно растоптанных, но чистых.
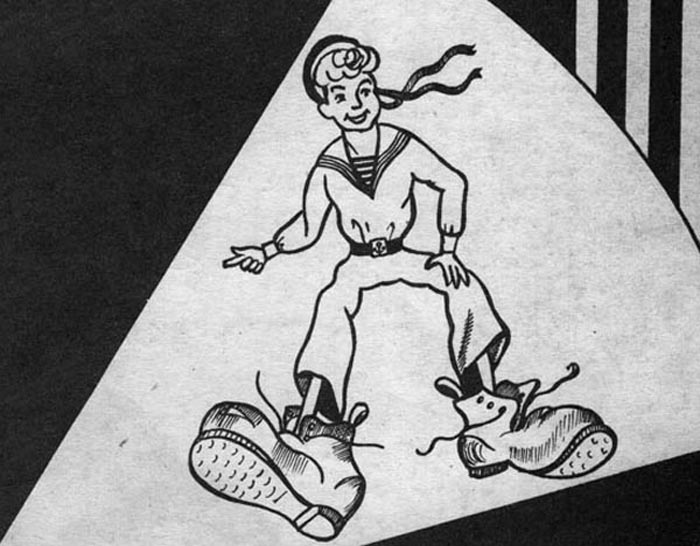
Мы уже знали, что такая обувь выдаётся курсантам. Её официальное название - «рабочие ботинки», а неофициальное - «гады». Скользнув взглядом по моей обуви, пришедший присел на соседнюю койку со словами:
- Махнёмся ботинками!
Я приподнялся на локте и хотел сказать что-то поясняющее, но он опередил меня:
- «Гады» классные, я в них два похода сделал. Смотри, какая резина, - курсант повернул ботинки подошвами ко мне, - её никакая солярка не берёт. А шнурки из сыромяти - им вообще сносу нет...
- Если тебя мои ботинки устраивают, - прервал я хозяина «гадов»,- то, пожалуйста, обменяемся. При этом я был в полной уверенности, что как только он возьмёт в руки мою обувь, то сразу пойдет на попятную.
Однако курсант, сунув мне в руки «гады», взял мои ботинки и, не взглянув на их подошвы, скрылся так же внезапно, как и появился. Некоторое время я полежал на койке, ожидая, что мой суетливый партнёр вот-вот вернётся за своей обувью. Но он не появлялся, и я, решив опробовать своё приобретение, обулся и двинулся на выход. «Гады» оказались вполне приличными, хотя для меня несколько просторными.
Подходя к двери, я неожиданно увидел в одном из проходов их бывшего хозяина. В его руках были мои ботинки. Поворачивая их так и сяк, он что-то горячо внушал сидящему напротив новобранцу. Лицо последнего выражало одновременно удивление и сомнение. «Интересно, что заливает ему курсант про отсутствующие подошвы,- мелькнула у меня мысль, - может быть, что их откусила акула, когда он тонул во время кораблекрушения?».
Я не стал дожидаться результата торга и ушёл на плац, чувствуя себя уже полноправным хозяином «гадов».
Кстати, несколько слов о плаце. Для любой воинской части, а военного училища особенно, это далеко не просто «большое пустое место». На плацу вершится много важных для училища событий и дел: от повседневных физзарядок, прогулок, занятий строевой подготовкой, до общих торжественных построений по случаю государственных праздников, встреч высоких начальников, проведения инспекций и смотров. Наиболее приятные из всего этого, конечно, торжественное построение по случаю выпуска или юбилейные встречи выпускников.

В то время плац училища представлял собой большую часть Приютского переулка, существенно расширяющуюся в этом месте за счёт того, что основное здание училища сильно вдаётся вглубь квартала, выходя обратной фасаду стороной на параллельную Приютскому переулку 12-ю Красноармейскую улицу. Со стороны, противоположной зданию училища, плац ограничивала длинная глухая краснокирпичная стена приземистого здания стрелкового тира. С правой от здания стороны - забор вдоль Дровяной улицы, который затем под прямым углом продолжался вдоль 12-й Красноармейской до здания училища.
Часть плаца в углу между стеной тира и забором была занята спортплощадкой с двумя волейбольными сетками, затем небольшим двухэтажным зданием. В нём размещалась санчасть, там же мы сдавали вступительные экзамены. Вдоль остальной части забора высился Длинный штабель из двухметровых плах, запасённых ещё, наверно, в войну.
На этих дровах мы и проводили своё свободное время, греясь и загорая, а также подключаясь изредка к игре в волейбол. Несколько позже сюда стали наведываться наши мамы и другие родичи с целью не только повидать, но и подкормить своих чад, передавая пакеты с едой через металлическую решётку, которой начинался забор около тира.
Подношения были элементарные: хлеб, варёная картошка, малосольные огурцы. И это было в самый раз, поскольку мы просто хотели есть. Да и среди наших родителей практически не было таких, кто мог бы позволить себе дорогие деликатесы.
Мне запомнилась «сцена у забора», когда курсант О. под заботливым оком мамы с аппетитом хлебал ложкой суп из небольшой алюминиевой кастрюльки, завёрнутой в газету для сохранения тепла.
О «главном» на флотеРаз уж речь зашла о еде, опишу в общем (как мне запомнилось) нашу училищную кормёжку.
Столовая и кухня (естественно, они у нас назывались по-корабельному - «камбуз») находились в цокольной - левой, если смотреть с плаца, части здания.
Низкий, со сводчатым потолком зал столовой был уставлен длинными (человек на 15 с обеих сторон) столами. Между ними помещались деревянные лавки. Столы обычно были покрыты клеёнкой, но по большим праздникам на них стелили белые льняные скатерти.

Пища на столы подавалась в объёмистых алюминиевых посудинах -
Первое блюдо - по двенадцать порций, второе - по шесть. Хлеб, нарезанный из расчёта по два куска на человека, - на глубоких тарелках, масло по шесть порций - на мелких, сахар тоже в тарелках примерно по две чайные ложки, компот - в кружках. Чай, уже заваренный, в чайниках по размеру и материалу под стать бачкам. Вся основная столовая посуда, включая ложки и вилки, была из алюминия. Ножей накрывали по два на шестёрку.
Постоянного расписания по бачкам, как это практикуется на кораблях, не существовало. Мы заходили за столы, не нарушая строя, каким шли в столовую (в колонну по два), поэтому место в строю, как правило, определяло и место за столом. Зайдя за столы, стоя ожидали, пока это выполнит целиком рота, после чего следовала команда старшины роты: «Рота, сесть!».
По его же команде: «Рота, встать!» мы поднимались и выходили из столовой, когда «приём пищи» заканчивался.
Само собой, нас не обучали, как вести себя за столом и как правильно пользоваться приборами (что для воспитанников приюта, может быть, и естественно, но никак не для будущих офицеров). Требовалось лишь, чтобы не было галдежа.
На завтрак нам давали два куска (около 150-ти грамм) белого хлеба, небольшой (грамм 20-25) кусочек масла, пару чайных ложек сахарного песку и чай.
Обед состоял, как правило, из трёх блюд: первого (суп или щи, реже борщ на мясном бульоне), второго (чаще всего макароны по-флотски, котлеты или биточки с гарниром, перловка или капуста с мясом) и третьего (преимущественно компот из сухофруктов, изредка -кисель).

Перловка и капуста в нашем обиходе более известны как «пенсак» и
Хлеба, как и на завтрак, полагалось два куска, только чёрного. По большим праздникам в обед нас могли побаловать закуской в виде винегрета или куска селёдки, а так же небольшой булочкой или коржиком.
Позже, уже в высшем училище, по субботам и в праздники во время обеда играл училищный духовой оркестр. Всем нравился «Танец с саблями» Хачатуряна.
Ужин, можно сказать, являлся бледной копией обеда и включал второе блюдо, хлеб и чай. Вечерний чай был едой почти символической: полкружки сладкого чая с кусочком белого хлеба.
Первые два года учёбы питания нам явно недоставало, чувство голода ощущалось почти постоянно. Отмечу, однако, что ссор из-за еды (например, по причине неточной или несправедливой на чей-либо взгляд делёжки) я не припомню, пожалуй, их просто не было. Мы инстинктивно сознавали, что давать волю обычно легко возникающему среди голодных, но чаще всего ложному чувству обделённости едой, недостойно морского коллектива (а мы уже начинали считать себя таковым).
Имевшие место поначалу попытки отдельных ребят в одиночку поедать полученную в передаче или посылке еду, подвергались осуждению (чаще молчаливому) большинства, и очень быстро ушли из нашего обихода. Так большей частью стихийно, под влиянием, возможно, навеянных литературой романтических представлений о моряках, в нашем разношёрстном мальчишеском коллективе стали закладываться здоровые нравственные начала.

Со своим соседом по койке мы и познакомились, угощая друг Друга переданными «с воли» картошкой и
Оказалось к тому же, что мы соседи и по городу: Серёжа Никифоров жил от меня всего через одну улицу - на Петра Лаврова (Фурштадской).
Нашему случайно начавшемуся соседству суждено было продолжаться долго: практически весь период учёбы (7 лет!) мы сидели за одной партой, занимали рядом койки и были друг другу (надеюсь, Серёжа разделит моё мнение) хорошими товарищами.
Продолжение следует