Сюжетной линией для повести «Взморье» послужило нахождение и обучение автора в Рижском, а затем в Ленинградском Нахимовских военно-морских училищах с 1949 по 1955 годы. Совершенно понятно, что для придания своему произведению бОльшего читательского интереса автору порой изменяет чувство меры и он закручивает схему событий и поведения некоторых участников до такой степени, что «от некоторых деталей написанного захватывает дух».
Я никоим образом не намерен давать оценку произведению, наводить какую-то критику, и, тем более, указывать на те или иные проколы и несоответствия, которые мне так отчётливо заметны, поскольку я сам обучался в Рижском училище с 1947 по 1953 годы и был свидетелем многих реальных событий.
Повесть написана от первого лица – Владимира Зотова и это, не скрываю, придаёт читателю чувство личной причастности к происходящему. Это хорошо, когда написано честно и откровенно. Но когда с нескрываемой ехидцей, да ещё с невероятными придумками, то впечатление – совсем другое. Герой повести «Взморье» Владимир Зотов – это двойник самого Игоря Жданова. Всем действующим лицам: офицерам-воспитателям, командирам, преподавателям автор – Игорь Жданов – дал свои имена, присвоил клички, наделил такими чертами характера, которые посчитал нужным. И что примечательно – у Зотова нет друзей, а только непримиримые соперники, другие – бездарные и никчемные недоумки-двоечники. Есть и ненавистники – это те воспитанники, к которым приезжают родители или родственники для встречи, приносят передачи и «сюсюкают». А он один. Отец погиб на фронте. Мать бросила его, сбежала неизвестно куда и с кем. Осталась одна добрая и ласковая бабушка в далёкой российской деревне. Никто никогда к нему не приедет, не навестит в училище, не принесёт подарок, не обогреет добрым словом.
Ну. что ж. Это его право.
Думаю, что по прочтению этой книги, многие из указанных героев, если ещё живы, узнают себя, но какие они получат «эмоции» от прочитанного? Вот это вопрос. Что же касается других читателей, то, надеюсь, каждый получит те впечатления, которые хочет получить. Пусть каждый имеет своё мнение. Хочу, однако заметить, что мне точно известно по воспоминаниям нахимовцев, что начальник Рижского Нахимовского училища К.А.Безпальчев, который обозначен в повести под фамилией Белогорский, после ознакомления с этим произведением получил, мягко говоря, неоднозначное впечатление.
Наконец последнее. Настоящим положительным диссонансом к содержанию повести «Взморье» является прекрасно подобранный документальный ряд фото с аннотациями, молчаливо подтверждающий реальную жизнь в нахимовском училище.

Встреча нахимовцев с Вилисом Лацисом 30 сентября 1949 года. В каком-то нашем обзоре она публиковалась с пояснительным текстом. Там стоят ребята из старших классов: Макшанчиков, Познахирко, мои одноклассники Окунь, Швыгин, Лавренчук и др. Так вот. В первом ряду, по левую руку от Лациса сидит головастенький, стриженый наголо нахимовец-пятиклассник Игорь Жданов - будущий писатель.
Н.А.Верюжский, выпускник РНВМУ-1953
Проведя исследование по изданной литературе о нахимовцах и Нахимовских училищах, мы пришли к выводу, что написано непозволительно мало, особенно относящейся к категории художественной. Поэтому было принято решение познакомить читателей нашего блога с максимально возможным количеством авторов и книг.
Одна из таких книг - "Взморье" Игоря Жданова. Можно спорить: хорошая это книга или плохая, правда это или вымысел автора. В разные годы к ней относились по-разному и нахимовцы, и офицеры. Можно вспомнить сразу и Сергея Колбасьева с его Арсеном Люпеном и некоторые другие книги, в которых приведено нестандартное видение или отношение к учебе, жизни, службе. Конечно, первое желание начальников - запретить выдавать читать, а лучше собрать все книжки, да сжечь!
Конечно, хочется, чтобы слова и поступки автора, совпадали с нашими мыслями и представлениями о добре и зле, дружбе и любви, учебе и службе и пр. и пр. Но тогда, наверно, пропадет его индивидуальность...
Мы не будем вас, дорогие читатели, томить своими рассуждениями, читайте сами, а наша авторская группа по ходу публикации будет помещать в конце глав мнение нахимовцев разных годов выпуска и разных училищ.
О.А.Горлов, выпускник ЛНВМУ-1970
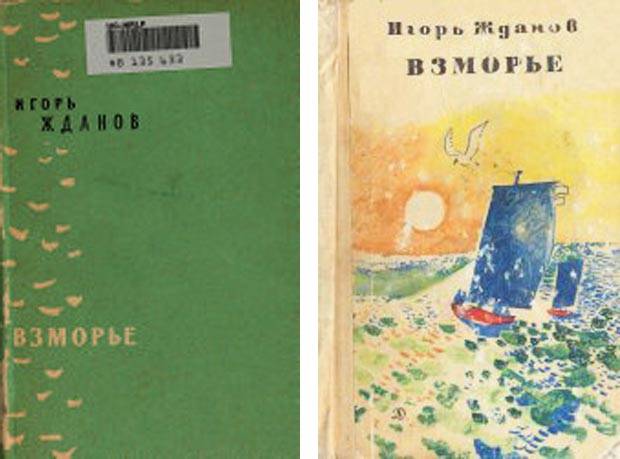
Всё, о чём пишет Игорь Жданов, было частью его собственной биографии. Как и герой повести "Взморье" Володя Зотов, он окончил Нахимовское училище.
С Володей Зотовым мы знакомимся перед окончанием Нахимовского училища и расстаёмся накануне его вступления в большую жизнь.
По всему своему укладу Володя не из "лёгких" юношей. Он много и серьёзно думает о будущем, о своём месте в жизни, неприязненно относится ко всему косному, стремится к самостоятельному творческому труду.
Как и его товарищи, он любит Родину, любит море. Во имя этой любви нахимовцы и посвящают свою жизнь флоту.
ЦЕРАТОДУС И ВЕЛИЧКО
Кто-то потряс меня за плечо и потянул за нос. Я спустил ноги с койки, коснулся пятками холодной травы и опять полез под одеяло. Снова невидимая рука вцепилась в плечо.
– Вот черт,– проворчал я и стал одеваться, не открывая глаз.
Разбудивший меня человек задел за осевой столб палатки – вздрогнул брезент, и глухим гулом отозвались туго натянутые стропы. Потом заскрипел песок под каблуками, и все смолкло.
Я зашнуровал тяжелые ботинки из свиной кожи, которые у нас почему-то назывались «гадами», и окончательно понял, что уже четыре часа утра, что мне пора заступать в караул и, значит, надо будить Толю Замыко, в паре с которым мы сегодня охраняем лагерь.
Не дай бог кому-нибудь будить Толю в четыре часа утра: он брыкается, не просыпаясь, и устрашающе рычит. Но я за пять лет постоянного общения с Толей изучил все его повадки и очень спокойно сдернул с него бушлат и одеяло. Толя пытался еще спать минуты две, потом пошарил вокруг, ища исчезнувшее одеяло, и вскочил с удивительной резвостью. Я перекинул через плечо влажный ремень карабина, пожелал Толе всего хорошего и вышел из палатки.
Солнце еще не всходило. Между темных стволов сосен, как ртуть, светилась неподвижная река. Где-то в плавнях лениво крякала утка. В конце песчаной линейки, под белым грибком с намалеванными по трафарету якорями, украдкой курил дневальный.

Я пошел прямо к берегу, где у длинных мостков, выдвинутых почти до середины реки, поскрипывали на привязи и терлись бортами многочисленные шлюпки – шестивесельные ялы и десятивесельные гребные катера. Безмолвие, предшествующее появлению солнца, почти ничем не нарушалось. Только один из караульных, присев на задернованный откос, щелкал от скуки затвором карабина, да иногда выплескивалась крупная рыба за стеной высоченных камышей.
Затвором щелкал Цератодус, или, вернее, вице-главный старшина Самохин, один из трех Николаевичей нашей выпускной роты. Второй Николаевич – Толя Замыко, третий я. Познакомились мы пять лет назад, когда еще только поступали в нахимовское училище, очень удивились, что наших отцов звали Николаями, и тогда же решили создать «Союз трех Николаевичей». Но «Союз» оказался непрочным: Самохин быстро отдалился от нас с Толей, а потом стал вице-старшиной и немедленно зазнался.
Толя постоянно занят изобретениями. Ему удалось построить вечный двигатель. Этот двигатель работал целый урок, смущая преподавателя физики. Только на перемене, когда все столпились вокруг невиданной машины, сверкающей пластмассовым колесом с наклеенными на него полосками свинцовой бумаги, раздался треск – и чары внезапно рассеялись: хитроумно приспособленная резинка, которую Толя по мере ее ослабления незаметно подкручивал, лопнула и щелкнула по носу Самохина.

Урок физики ведет старший лейтенант Виктор Петрович Башняков.
Цератодусом Самохина прозвали недавно. Раньше Цератодусом, то есть двоякодышащей рыбой, был я, потому что нырял лучше всех в роте. Но однажды на соревнованиях по плаванью я проплыл под водою весь бассейн, высунул голову у поворотного щита и оглянулся: по соседней дорожке плыл Самохин. Он явно не торопился, думая, что я отстал. Не теряя времени, я устремился к финишу. Самохин так удивился, что чуть не пошел ко дну.
Но победу мне не засчитали, потому что половину дистанции я пронырнул. Победу присудили пришедшему вторым Самохину – и вся рота долго потешалась над ним и не хотела признавать победителем. Вот тогда-то он и поклялся нырнуть дальше меня и тренировался целый год. На весенних соревнованиях он вылез из воды с красными глазами и долго хватал побелевшими губами воздух, сидя на стартовой тумбочке: он победил. Ему во всем хотелось быть первым, и он очень гордился победой надо мной. А мне почему-то было жаль его усилий, затраченных им на то, что мне давалось даром. Мне не хотелось видеть его красные глаза и вздрагивающие бледные руки. И тогда я предложил столпившимся вокруг нового чемпиона товарищам звать отныне Цератодусом не меня, а Самохина. Предложение приняли на "ура"...
И вот Цератодус сидит рядом со мной и смотрит на воду. Хотя он и вице-главный старшина, хотя его погон и пересекает широкая золотая ленточка, в караулы он ходит вместе со всеми: так приказал еще в прошлом году майор Дубонос, командир нашей роты.

Пирс летнего лагеря РНВМУ. Слева плавательный бассейн и 3-х метровая вышка.
Я прошелся по пирсу, посчитал шлюпки и отпустил с миром обоих караульных, как только на тропинке замаячила грустная фигура Толи, еще не совсем проснувшегося и цепляющего ногами за торчащие из земли корневища. Толя положил карабин на сырые доски пирса, встал на четвереньки и окунул голову в воду. Отфыркался и окунул еще два раза. Он преобразился буквально на глазах: взгляд просветлел, а длинное тело вновь приобрело гибкость и хитрую лисью грацию. Он пошевелил облупленным носом и мгновенно принял решение:
Идем на камбуз.
Зачем?
Надо же совершить обход!
Мы совершили обход, и он увенчался кастрюлей холодной и густой лапши, заправленной консервами. Лапша предназначалась, вероятно, для матросов кадровой команды, которые после отбоя навещали наших смешливых официанток, но почему-то не была съедена.
С лапшой мы покончили быстро: в лагере всегда хотелось есть, даже после обеда. Потом мы обогнули лагерь по лесу и улеглись на краю пирса, вглядываясь в воду. Солнце уже встало, и в его косых лучах были хорошо видны красноватые водоросли на дне, темные спинки мелких рыбешек около свай, облепленных ярко-зеленой слизью, и зубная щетка, оброненная кем-то во время умывания.
Мы видели, как проплывали в глубине широкие желтоватые линии, как сверкал порой среди водорослей зеркальный бок голавля и как грелись на песчаной отмели .

В шесть часов Толя разбудил дежурного офицера лейтенанта Эльянова и на пирс вернулся с удочкой. Мы стали искать червей, отворачивая большие пласты дерна у самой воды. У Толи был крючок особой конструкции, он чем-то напоминал якорь Холла с поворотными лапами. Толя смастерил крючок из булавки и двух тетрадных скрепок.
Я вспомнил, что сегодня к нам в гости должны прийти рыбаки из расположенного неподалеку поселка и что вчера на собрании мы постановили преподнести гостям подарок – рыбу, пойманную лично нами. В рыбной ловле принимала участие вся рота. Вчера мы несколько раз протащили бредень по заливчику, в котором стояли наши шлюпки, и поймали три ведра рыбы. Рыбу приходилось долго отыскивать в тине и водорослях, выволоченных на берег бреднем. Сегодня шлюпочные ученья кончатся на час раньше – и весь день, до приезда гостей, ребята будут ловить рыбу удочками. Тому, кто поймает больше всех, начальство вручит приз.
Нет, мы не надеялись поймать больше всех и получить приз. Мы просто смотрели, как терзает червяка стая мелких рыбок, а крючок Толиной конструкции настороженно ждет, когда появится стоящая добыча, и тогда мгновенно разогнутся его колючие пружинки в прожорливой рыбьей пасти. И мы дождались: из-под досок пирса выскользнуло длинное серое веретено, стая малявок бросилась в заросли и затаилась там, червяк исчез, а коричневый поплавок из толстой сосновой коры ринулся в глубину. Толя не дрогнул: он потянул удилище на себя и снова ослабил натяжение лески. Поплавок медленно поворачивался и больше не тонул. Толя поднял удилище: на конце капроновой лески топорщились жалкие остатки крючка особой конструкции.
Когда нас сменили в восемь часов утра, мы пошли спать, но в палатке было душно и пахло сыростью. Тогда Толя предложил отправиться на остров.
Этот островок знали только мы. Он находился на самом краю обширных зарослей камыша. На островке рос небольшой ивовый куст и лежал полуистлевший борт баркаса, видимо занесенный сюда разливом. Добраться до нашего острова можно было только через камыши, по пояс в воде. Да и то нужно знать точное направление, чтобы не провалиться глубже и не увязнуть.

Я захватил на всякий случай большой бинокль, и мы с Толей отправились в путь. Бодрой рысью пересекли мы спортплощадку и военный городок, прошли с полкилометра мелколесьем и остановились у края сплошного камышового моря. Здесь торчал из земли обструганный колышек – это мы отметили начало секретной .
Мы быстро разделись, тугие сверточки с одеждой, перетянутые ремнями, перекинули за спину, и пошли по пружинящему и хлюпающему ковру из переплетенных корневищ камышей. Сначала вода доходила нам до колен, потом я провалился по грудь и тут увидел, что мы чуть не прозевали «поворотный знак»– пучок камыша, перевязанный грязным бинтом.
Минут через пятнадцать заросли расступились, и мы вышли на песчаный островок, одной стороной примыкающий к плавням, а другой выходящий прямо в реку. Мы легли на песок и осмотрелись: слева от нас камыши образовали залив полукруглой формы. Он перегорожен частоколом шестов – это рыбаки поставили здесь свои верши и сети. Прямо перед нами, по широкой Лиелупе, шел на взморье белый теплоход, и на нем сверкал трубами оркестр.
Толя сказал, что утреннее солнце самое полезное, и мы решили загорать. Целый час мы усердно подставляли солнцу спины и животы, потом купались и обсыпали друг друга песком. Толя жевал сухие, мучнистые корневища каких-то водорослей, разбросанных по острову. Мне эти корневища не нравились.
Мимо нас проходили парусные шлюпки, и мы рассматривали их в бинокль. На мачте, установленной на берегу, вблизи лагеря, наконец появился белый флаг с красным крестом в центре. На языке морских сигналов этот флаг означает конец занятий. Потом в небо взлетели еще два одинаковых трехцветных флага – и на всех шлюпках паруса скользнули вниз.

Умение ходить под парусом на шлюпке отрабатывалось постепенно. Вначале надо было научиться правильно ставить мачту.
Мы с Толей задремали на солнцепеке, но вскоре нас разбудили негромкие голоса и шлепанье весел по воде.
Вот они,– сказал кто-то.– Видишь?
Вижу. Подгребать к камышам?
Валяй.
Я поднял голову и быстро отполз за куст: прямо передо мной, в центре образованного камышами залива, покачивался неуклюжий двухместный тузик с сине-белой флюгаркой – знаком нашего училища – на борту. В тузике стоял Ким Величко и рассматривал торчащие из воды верши. У Кима величественная осанка и печать независимого благородства на лице. За эти качества да еще за громкий ровный голос Киму всегда поручают зачитывать приветствия на торжественных вечерах и посылают делегатом на всякие конференции.
Греб Цератодус. Золотые нашивки на его погонах испускали солнечные зайчики. В белых бровях сверкали бисеринки пота. Длинные удилища торчали из тузика далеко за кормой.
Я разбудил Толю и зажал ему рот, потому что он начал ругаться. Хорошо еще, что шумели камыши.
Знаешь, Ким, по-моему, не стоит: ведь это все же воровство,– неуверенно сказал Цератодус.
Какое там воровство! Рыба – она ничья, общественная,– отрезал Ким.
А верши-то небось колхозные?
Ну и что ж, что колхозные?.. Мы их и не возьмем, нам чужого не надо. А рыба все равно государству пойдет, мы же ее не себе берем.

- браконьерское приспособление в форме бутылки с горлышком внутрь.
Продолжение следует.

Верюжский Николай Александрович (ВНА), Максимов Валентин Владимирович (МВВ), Карасев Сергей Владимирович (КСВ) - архивариус, Горлов Олег Александрович (ОАГ), ВРИО архивариуса





