–ë–Α–Ϋ–Ϋ–Β―Ä

–ü―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―¨ –Φ–Β―²–Α–Μ–Μ–Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―Ü–Η–Ι –Ω―Ä–Η―à–Β–Μ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨ –Ω―Ä–Β–¥–Ω―Ä–Η―è―²–Η―è–Φ –û–ü–ö
|
–£―¹–Κ–Ψ―Ä–Φ–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹ –Κ–Ψ–Ω―¨―è - –Γ–Ψ–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Α –Α–Ω―Ä–Β–Μ―¨ 2014 –≥–Ψ–¥–Α
0
08.04.201400:3608.04.2014 00:36:07
–€–Β–Ε–¥―É ―²–Β–Φ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –±―΄–Μ–Η –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Β–Ϋ―΄ ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ ―¹ –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω–Ψ–Φ, ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹ –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Β–Φ –Κ–Α―΅–Κ–Η, –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –≤―΄―à–Μ–Α –Η–Ζ –¥–Ψ–Κ–Α. –î–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²―¨ –¥–Ψ ―É–Φ–Α –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―É–Ε–Β –Ϋ–Α –Ω–Μ–Α–≤―É. –≠–Κ–Η–Ω–Α–Ε –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –Ω―Ä–Ψ–¥–Β–Μ–Α–Μ –≤―¹–Β –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–≤―΄–Β –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η―è (–Ψ–±–Β―¹―à―É–Φ–Μ–Η–≤–Α–Ϋ–Η–Β, –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Α –Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Η–Ϋ–Η–Η, –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Β, ―Ä–Α–Ζ–Φ–Α–≥–Ϋ–Η―΅–Η–≤–Α–Ϋ–Η–Β, ―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Η –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –¥–Β–≤–Η–Α―Ü–Η–Η –Η ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–¥–Β–≤–Η–Α―Ü–Η–Η) –Η, –Β―¹–Μ–Η –±―΄ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α―é―â–Η–Β―¹―è ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ ―¹ –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω–Ψ–Φ, –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –±―΄–Μ –±―΄ –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β –±–Ψ–Β―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ―΄–Φ.
–ù–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Η –Ϋ–Α ―΅―²–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –Μ–Ψ–¥–Κ―É –Η–Ζ ―¹–Ω–Η―¹–Κ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι, ―É―΅–Α―¹―²–≤―É―é―â–Η―Ö –≤ –Ψ―¹–Β–Ϋ–Ϋ–Β–Φ ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Η, –Ϋ–Β –≤―΄―΅–Β―Ä–Κ–Ϋ―É–Μ–Ψ. –£ ―Ä–Α–Ζ–≥–Α―Ä ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄, ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹ –Ω–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ζ–Α–Ω–Α―¹–Ψ–≤ ―²–Ψ–Ω–Μ–Η–≤–Α –Η –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η―è, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ ―¹ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Κ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ–Η –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ–Η ―à―²–Α–±–Α ―³–Μ–Ψ―²–Α –Η –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―à―²–Α–±–Α –£–€–Λ. –û–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Ψ–≤ ¬Ϊ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ¬Μ –Φ–Α―¹―à―²–Α–±–Α, –Β–¥–≤–Α –Ω–Ψ–Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α–≤―à–Η―¹―¨, –Ψ―²–Ψ–Ζ–≤–Α–Μ –Φ–Β–Ϋ―è –≤ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―É –Η –Ω―Ä–Ψ―à–Β–Ω―²–Α–Μ: ¬Ϊ–ù–Β –≤–Ζ–¥―É–Φ–Α–Ι –Φ–Ψ―Ä–Ψ―΅–Η―²―¨ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―É –Φ–Ψ―¹–Κ–≤–Η―΅–Α–Φ ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ "–Γ–Β–≥–Φ–Β–Ϋ―²–Ψ–Φ". –ö ―É―΅–Β–Ϋ–Η―é ―²―΄ –≥–Ψ―²–Ψ–≤! –ü–Ψ–Ϋ―è–Μ?¬Μ.
–ù–Β –Ζ–Ϋ–Α―é, ―΅–Β–Φ ―ç―²–Ψ―² ―¹–Φ–Β–Μ―΄–Ι, ―¹―²–Α–≤―à–Η–Ι –≤–Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Η –™–Β―Ä–Ψ–Β–Φ –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α, –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è. –ë―΄–≤―à–Η–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ, –Ψ–Ϋ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Μ–Ψ–¥–Κ–Α, –Φ―è–≥–Κ–Ψ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è, –Ϋ–Β –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β –±–Ψ–Β―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ–Α –Η –Ϋ–Β –Ϋ–Α–¥–Ψ –±―΄ –Β–Β ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è―²―¨ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Ϋ–Α ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β. –ï–Ι –Ε–Β, –±–Β–¥–Ϋ―è–≥–Β, ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η―è ―¹ ―É―΅–Β–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ–Η―² –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –±–Ψ–Β–≤–Α―è, –Α –Ϋ–Β ―É―΅–Β–±–Ϋ–Α―è ―¹–Μ―É–Ε–±–Α. –ù–Ψ... –Ψ―΅–Β–≤–Η–¥–Ϋ–Ψ, –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―É –Ϋ–Α―¹ ―É –≤―¹–Β―Ö –Ζ–Α –¥–Ψ–Μ–≥–Η–Β –≥–Ψ–¥―΄ ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β ―è –Ω―Ä–Ψ ―¹–Β–±―è –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é ¬Ϊ―ç―³―³–Β–Κ―²–Ψ–Φ ―â–Β–Μ–Κ–Α–Ϋ―¨―è –Κ–Α–±–Μ―É–Κ–Α–Φ–Η¬Μ, –Ϋ–Β–Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η–Β ―΅―²–Ψ-–Μ–Η–±–Ψ –Φ–Β–Ϋ―è―²―¨ –≤–Ψ ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Η―Ö –Η –Φ–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Μ–Α–Ϋ–Α―Ö –≤ ―É–≥–Ψ–¥―É ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É –Α–≤―²–Ψ―Ä–Η―²–Β―²―É ―É –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨―¹―²–≤–Α (–Ω―Ä–Η–Ϋ―Ü–Η–Ω―É ¬Ϊ―É –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Α ―³–Μ–Ψ―²–Β –≤―¹–Β–≥–¥–Α –≤―¹―ë –≤ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Β¬Μ) –±―΄–Μ–Ψ –Β–≥–Ψ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Κ―Ä–Β–¥–Ψ. –ü―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α―é―¹―¨, –Η ―è –≤ ―ç―²–Ψ―² –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―² ―¹ –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ –Β–≥–Ψ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―É (–Α –Ω–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Φ―É ―¹―΅―ë―²―É βÄî –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹―²―É ―¹–Φ–Α–Μ–Ψ–¥―É―à–Ϋ–Η―΅–Α–Μ). ¬Ϊ–™–Ϋ―É―¹–Ϋ―΄–Β –Φ―΄―¹–Μ–Η―à–Κ–Η¬Μ –Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ–Ε–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Η, –Κ–Α―Ä―¨–Β―Ä–Β, –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–¥–Α –Ϋ–Α ¬Ϊ–Α–≤–Ψ―¹―¨ –¥–Ψ–¥–Β–Μ–Α–Β–Φ –≤―¹―ë –Ϋ–Α ―Ö–Ψ–¥―É¬Μ –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α―¹―¹―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è ―É―¹–Μ―É–Ε–Μ–Η–≤–Ψ –Ζ–Α–Κ―Ä―É―²–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Β. –û―΅–Β–Ϋ―¨ ―É–Ε –Ϋ–Β ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Ψ―¹―¨ –≤―΄–≥–Μ―è–¥–Β―²―¨ –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ (–Α –Ϋ–Β–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²–Β–±–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –Κ –Μ―é–±–Ψ–Ι –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ–Φ –Ζ–Α–¥–Α―΅–Β βÄî ―ç―²–Ψ, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ –Ε–Β, –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ!) –≤ –≥–Μ–Α–Ζ–Α―Ö –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―à―²–Α–±–Α –£–€–Λ.
–ù–Η―΅―É―²―¨ –Ϋ–Β ―¹–Φ―É―â–Α―è―¹―¨ –Η –Ω―Ä–Β–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ –≥–Μ―è–¥―è –Ϋ–Α –Φ–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α, ―è –±–Ψ–¥―Ä–Ψ –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Κ ―É―΅–Α―¹―²–Η―é –≤ ―É―΅–Β–Ϋ–Η―è―Ö –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Α. ¬Ϊ–™–Ψ―¹―²–Η¬Μ ―¹ ―É–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η–Β–Φ –≤–Ψ―¹–Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ–Η ―ç―²–Ψ―² –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥ –Η, ―¹―΄―²–Ϋ–Ψ –Ψ―²–Ψ–±–Β–¥–Α–≤ –≤ –Κ–Α―é―²-–Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η, –Ω–Ψ–Κ–Η–Ϋ―É–Μ–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –≤ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Ι ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≤ –Β–≥–Ψ –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –ö ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Ϋ–Η―é, ―²–Α–Κ –Η ―Ä–Ψ–Ε–¥–Α–Β―²―¹―è –Ω―Ä–Η–≤―΄―΅–Κ–Α –Κ –Ψ―΅–Κ–Ψ–≤―²–Η―Ä–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤―É, –≤ ―²–Β –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α (–¥–Α –Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Μ–Η –≤ ―²–Β?) ―Ä–Α–Ζ―ä–Β–¥–Α–≤―à–Α―è ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―É.
–ë―É–Κ–≤–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―² –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η, ―¹–Φ–Β–Ϋ–Η–≤―à–Η–Ι –Ζ–Α–±–Ψ–Μ–Β–≤―à–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―à–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α, –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ê. –‰. –Λ–Β–¥―é–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι (–≤–Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Η –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ. –ù―΄–Ϋ–Β –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ―΄–Ι.). –· –Ζ–Ϋ–Α–Μ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Ϋ–Ψ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ. –Λ–Η–≥―É―Ä–Α –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–¥–Η–≤–Α –±―΄–Μ–Α –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Α –Ϋ–Α ―³–Μ–Ψ―²–Α―Ö. –ù–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α―Ö –Φ―΄ βÄî ―¹–Μ―É―à–Α―²–Β–Μ–Η –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Φ–Β―²–Ψ–¥ –±―΄―¹―²―Ä–Ψ–≥–Ψ –Η –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Κ―É―Ä―¹–Α ―Ü–Β–Μ–Η ¬Ϊ–Ω–Ψ –Λ–Β–¥―é–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ―É¬Μ. –≠―²–Ψ―² –Φ–Β―²–Ψ–¥ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―É―¹–Κ–Ψ―Ä―è–Μ –Η ―É–Ω―Ä–Ψ―â–Α–Μ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―É―é –Α―²–Α–Κ―É. –û―΅–Ϋ–Ψ–Β –Ε–Β –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―¹―²–≤–Ψ ―¹ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–Φ –‰–≥–Ϋ–Α―²―¨–Β–≤–Η―΅–Β–Φ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Ψ ―É –Φ–Β–Ϋ―è ―²–Ψ–≥–¥–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ–Β–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Ϋ–Α―à–Β–Ι –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –Η ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Η–Μ ―¹–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥ ―¹ –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ–Η –≤–Ψ –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ –≤ 1964 –≥–Ψ–¥―É.
–Δ–Ψ –±―΄–Μ –Φ–Ψ–Ι –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –≤―΄―Ö–Ψ–¥ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –≤ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, –Η ―è –¥–Ψ ―¹–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Β–Ϋ ―ç―²–Ψ–Φ―É ―²–Α–Κ―²–Η―΅–Ϋ–Ψ–Φ―É, –≤–¥―É–Φ―΅–Η–≤–Ψ–Φ―É, ―Ä–Α―¹―¹―É–¥–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ―É –Η ―Ä–Β―à–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ―É –Ζ–Α –Ϋ–Α―É–Κ―É. –Ξ–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Κ–Ψ–Φ–¥–Η–≤ –Ϋ–Η ―Ä–Α–Ζ―É –Ϋ–Β –≤–Φ–Β―à–Α–Μ―¹―è –≤ –Φ–Ψ–Η ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄. –©–Α–¥―è ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―é–±–Η–Β –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α, –Ψ–Ϋ –Φ―è–≥–Κ–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―²–Ψ–≤–Α–Μ, –Α –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ. –Γ–Ψ–≤–Β―²―΄ ―ç―²–Η –≤–Ψ―¹–Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η―¹―¨ –±–Β–Ζ –≤―¹―è–Κ–Η―Ö –Ψ–±–Η–¥.
–‰―¹–Ω―΄―²―΄–≤–Α―è –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Ψ–Β –¥–Ψ–≤–Β―Ä–Η–Β –Η ―É–≤–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Κ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Φ―É –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ―É, ―è –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ψ―² –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Κ―Ä―΄–Μ. –î–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –Ψ –Ϋ–Β–¥–Ψ–≤–Ψ–¥–Κ–Β –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω–Α ¬Ϊ–Γ–Β–≥–Φ–Β–Ϋ―²¬Μ –Η –Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Β –Φ–Ψ―¹–Κ–≤–Η―΅–Α–Φ. –ö–Ψ–Φ–¥–Η–≤ –Ψ–¥–Ψ–±―Ä–Η–Μ –Φ–Ψ–Η –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –Η ―Ä–Β―à–Η–Μ ―¹–Α–Φ ―¹―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ ―¹–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Α ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β, –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Η―²―¨ ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Η ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α –Κ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Ζ–Α–¥–Α―΅ –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η. –· –±―΄–Μ –Η―¹–Κ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Β ―Ä–Α–¥: –Ω―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Β –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Α –‰–≥–Ϋ–Α―²―¨–Β–≤–Α –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―²―É –Ϋ–Η―΅―É―²―¨ –Ϋ–Β ―¹–Κ–Ψ–≤―΄–≤–Α–Μ–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Η–Ϋ–Η―Ü–Η–Α―²–Η–≤―΄, –Α –Ϋ–Α–Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ―², ―¹―²–Η–Φ―É–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ –Β–Β. –£–Φ–Β―¹―²–Β –Φ―΄ ―Ä–Β―à–Η–Μ–Η: –¥–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²―¨ ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –¥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Α –±―É–¥–Β–Φ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η ―¹–Η–Μ–Α–Φ–Η. –Θ―΅–Α―¹―²–Η–Β –≤ ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Η ―³–Μ–Ψ―²–Α –‰―²–Α–Κ, –Ψ―¹―²–Α–≤–Η–≤ –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥―É –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Ψ–≤, –Ϋ–Α–¥–Β―è―¹―¨ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α ―¹–Η–Μ―΄ –Η ―É–Φ–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –ë–ß-1 (―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Α) –Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ–Ϋ–Α–≤–Η–≥–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ (–Φ–Μ–Α–¥―à–Β–≥–Ψ ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Α), ―è –Ω–Ψ–≤–Β–Μ –Μ–Ψ–¥–Κ―É –Κ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤―É –Γ–Α―Ö–Α–Μ–Η–Ϋ.
–ü–Ψ –Ω–Μ–Α–Ϋ―É ―É―΅–Β–Ϋ–Η―è ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ ―¹–Κ―Ä―΄―²–Ϋ–Ψ –≤―΄–Ι―²–Η –Η–Ζ –·–Ω–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è –≤ –Δ–Η―Ö–Η–Ι –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ, –Ω―Ä–Ψ―Ä–≤–Α―²―¨ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι ―Ä―É–±–Β–Ε ¬Ϊ―¹–Η–Ϋ–Η―Ö¬Μ –Η –Ϋ–Α–Ϋ–Β―¹―²–Η –≤–Ϋ–Β–Ζ–Α–Ω–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ―΄–Ι ―É–¥–Α―Ä –Η–Ζ-–Ω–Ψ–¥ –≤–Ψ–¥―΄ (–Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ, –±–Β–Ζ ―³–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Α ―Ä–Α–Κ–Β―²) –Ω–Ψ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤―É, –Ζ–Α―²–Β–Φ, –Ϋ–Β –¥–Α–≤ ―¹–Β–±―è –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η―²―¨, ―¹–Κ―Ä―΄―²–Ϋ–Ψ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―²–Η―²―¨―¹―è –≤ ―¹–≤–Ψ―é –Ω―Ä–Η–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ―É―é –±–Α–Ζ―É –±–Μ–Η–Ζ –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Α.
–½–Α –≤―΄―É―΅–Κ―É ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α ―è –±―΄–Μ ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Β–Ϋ. –î–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –Ε–Β –Ω–Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤―É –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä―É–±–Β–Ε–Α ―Ü–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Φ –Ζ–Α–≤–Η―¹–Β–Μ–Η –Ψ―² –Φ–Ψ–Β–≥–Ψ ―É–Φ–Β–Ϋ–Η―è ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è―²―¨ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Φ –Η –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η. –Δ―É―² ―É –Φ–Β–Ϋ―è ―É–Ε–Β –±―΄–Μ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ψ–Ω―΄―² –Η –Ζ–Α ―¹–Β–±―è ―è –±―΄–Μ ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Β–Ϋ. –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ε–Β, –Ϋ–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α –±–Β―¹–Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α―¹―΅–Β―²―΄ –Η –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –Ω–Ψ ―¹–Κ―Ä―΄―²–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥―É –Κ ―²–Ψ―΅–Κ–Β –Ζ–Α–Μ–Ω–Α, –Φ―΄―¹–Μ–Η –Φ–Ψ–Η –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α–Μ–Η―¹―¨ –Κ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹―É –¥–Ψ–≤–Β―Ä–Η―è –Η–Μ–Η –Ϋ–Β–¥–Ψ–≤–Β―Ä–Η―è –Α―¹―²―Ä–Ψ–Ϋ–Α–≤–Η–≥–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―¹―É.
–ü―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι ―Ä―É–±–Β–Ε –±―΄–Μ ―³–Ψ―Ä―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω–Ψ–Μ―É―΅–Ϋ–Ψ. –ü―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–≤ –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α―¹ ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Α–Φ–Η –Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ–Η ¬Ϊ―¹–Η–Ϋ–Η―Ö¬Μ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Β –Κ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ―É ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–±―΄ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ.
–ü–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―²―É –Κ–Ψ–Φ–¥–Η–≤–Α –Ω–Β―Ä–Β–¥ ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ–Ψ–Ι –Α―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―è –≤―¹–Β-―²–Α–Κ–Η –Ψ–¥–Η–Ϋ ―Ä–Α–Ζ –≤―¹–Ω–Μ―΄–Μ. –£ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β 10 –Φ–Η–Ϋ―É―² –Ϋ–Α―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –≤ –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η (―¹ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Ω―Ä–Ψ–¥―É―²―΄–Φ –±–Α–Μ–Μ–Α―¹―²–Ψ–Φ) –Α―¹―²―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι ―Ä–Α―¹―΅–Β―² –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β–Μ –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄–Β –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η―è. –†–Α―¹―΅–Β―²―΄ ―¹–≤–Β―Ä–Η–Μ–Η ―¹ ―Ä–Α―¹―΅–Β―²–Α–Φ–Η, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω–Ψ –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ¬Ϊ–Γ–Β–≥–Φ–Β–Ϋ―²–Α¬Μ. –†–Α–Ζ–Ϋ–Η―Ü–Α –≤ –Κ–Ψ–Ψ―Ä–¥–Η–Ϋ–Α―²–Α―Ö –Φ–Β―¹―²–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –±―΄–Μ–Α, –Ϋ–Ψ ―É–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤ –¥–Ψ–Ω―É―¹―²–Η–Φ―΄–Β –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―΄. –≠―²–Ψ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―É―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Η–Μ–Ψ –Φ–Β–Ϋ―è –Η, ―É―²–Ψ―΅–Ϋ–Η–≤ –Β―â–Β ―Ä–Α–Ζ ―¹–≤–Ψ–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ –Ω–Ψ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η―è–Φ –≤ –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω ¬Ϊ–Γ–Β–≥–Φ–Β–Ϋ―²–Α¬Μ, –Φ―΄ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β–Μ–Η ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ–Ψ-―è–¥–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι ―É–¥–Α―Ä ―²―Ä–Β–Φ―è ―Ä–Α–Κ–Β―²–Α–Φ–Η –Ω–Ψ ¬Ϊ―¹―²―Ä–Α―²–Β–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Ψ–±―ä–Β–Κ―²―É –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α¬Μ. –ö–Α–Κ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Α –≤ –±–Α–Ζ―É –Α–Ϋ–Α–Μ–Η–Ζ –Η―¹―Ö–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–±―΄ βÄî –Ψ–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Α –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Α –Ϋ–Α ¬Ϊ–Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ¬Μ. –ï―¹–Μ–Η –±―΄ –Φ―΄ ―¹―²―Ä–Β–Μ―è–Μ–Η ―¹ ―³–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ψ–Φ ―Ä–Α–Κ–Β―², –≤―¹–Β –Η―Ö ―²―Ä–Η –±–Α–Μ–Μ–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Β ―΅–Α―¹―²–Η –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ–Η –±―΄ –≤ ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ –Ψ―΅–Β―Ä―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Κ―Ä―É–≥ –¥–Ψ–Ω―É―¹―²–Η–Φ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Ψ―² ―Ä–Α―¹―΅–Β―²–Ϋ―΄―Ö ―²–Ψ―΅–Β–Κ –Ω―Ä–Η―Ü–Β–Μ–Η–≤–Α–Ϋ–Η―è. ¬Ϊ–û–±―ä–Β–Κ―²¬Μ –±―΄–Μ –±―΄ ―¹―²–Β―Ä―² ―¹ –Μ–Η―Ü–Α –Ζ–Β–Φ–Μ–Η –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Α―é―â–Β–Ι –Β–≥–Ψ ―¹―Ä–Β–¥–Ψ–Ι. –ù–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α –≤–Β―¹―¨ ―É–Ε–Α―¹ ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è, –Φ―΄ –±―΄–Μ–Η ―Ä–Α–¥―΄ ―É―¹–Ω–Β―Ö―É. –Θ–≤―΄! –Δ–Α–Κ–Ψ–≤―΄ –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ω―¹–Η―Ö–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η–Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ–Ψ–≤.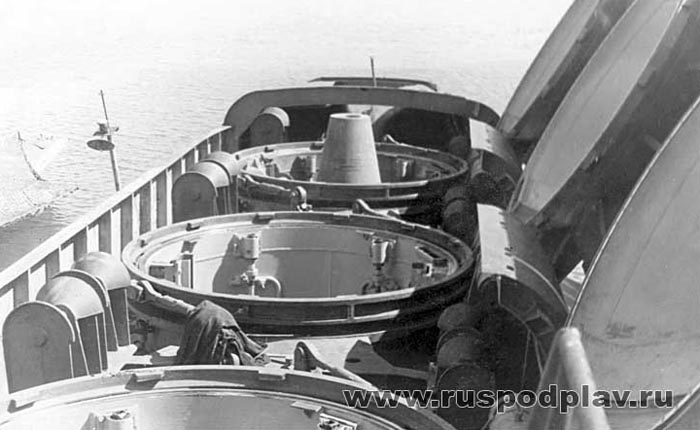
–£–Ψ–≤―Ä–Β–Φ―è –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Η―¹―¨ –≤ –±–Α–Ζ―É. –ö–Ψ–Φ–¥–Η–≤ –Ω―Ä–Ψ―â–Α―è―¹―¨, ―à–Β–Ω–Ϋ―É–Μ, ―΅―²–Ψ ―É–Ε ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨-―²–Ψ –Ψ–Ϋ –¥–Α―¹―² ―Ö–Ψ–¥ –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―é –Ϋ–Α –Ω―Ä–Η―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Η–Β –Φ–Ϋ–Β –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η―è, –Η ―΅―²–Ψ –≤–Β―Ä–Ϋ―É–≤―à–Η―¹―¨ ―¹ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄, ―è –Ω―Ä–Η–≤–Η–Ϋ―΅―É –Κ –Ω–Ψ–≥–Ψ–Ϋ–Α–Φ –Β―â–Β –Ω–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Ζ–≤–Β–Ζ–¥–Β.
–ö –Ϋ–Α―à–Β–Φ―É –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥―É –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ–Η –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Β ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²―΄-–Φ–Ψ–Ϋ―²–Α–Ε–Ϋ–Η–Κ–Η –Η –±―É–Κ–≤–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–±―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω ¬Ϊ–Γ–Β–≥–Φ–Β–Ϋ―²–Α¬Μ. –ù―É–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –±―΄ –Ψ―²–Φ–Β–Ϋ–Η―²―¨ –Η―Ö ―Ä–Α–±–Ψ―²―É. –ü―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ–Α –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω–Ψ–Φ –±―΄–Μ–Ψ ―É–Ε–Β –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ. –®–Β–≤–Β–Μ―¨–Ϋ―É–Μ–Α―¹―¨ –Φ―΄―¹–Μ―¨, ―΅―²–Ψ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ ―ç―²–Η ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²―΄ ―΅–Β–≥–Ψ –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β–≥―É–Μ–Η―Ä―É―é―² –Ω―Ä–Η–±–Ψ―Ä, –Ϋ–Ψ... –ù–Α―΅–Α–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ ―¹–Μ–Β–Ω–Ψ ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ ¬Ϊ–Β―â–Β –Η –Β―â–Β ―Ä–Α–Ζ –≤―¹―ë –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Η―²―¨¬Μ, ―¹–Η–Μ ―¹–Ω–Ψ―Ä–Η―²―¨ ―¹ –Ϋ–Η–Φ ―É –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Β ―Ö–≤–Α―²–Η–Μ–Ψ. –ê –Ε–Α–Μ―¨. –ü–Ψ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Β ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ, –Ω–Β―Ä–Β–±–Ψ―Ä―â–Η–≤ ―¹ ―Ä–Β–≥―É–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ, ¬Ϊ–≤–Β–Μ–Η–Κ–Η–Β¬Μ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²―΄ –Ω―Ä–Ψ–Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α―Ä―É―à–Η–Μ–Η ―²–Ψ, ―΅–Β–≥–Ψ –¥–Ψ–±–Η–Μ–Η―¹―¨ –Φ–Ψ–Η ―É–Φ–Β–Μ―¨―Ü―΄-―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―΄. –ü–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Η–±–Ψ―Ä–Α –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ ―¹―²–Α–Μ–Η –Ϋ–Β―É―¹―²–Ψ–Ι―΅–Η–≤―΄–Φ–Η, –Ϋ–Ψ ―è ―É–Ε–Β –Ϋ–Β ―É–Ϋ―΄–≤–Α–Μ, ―É–≤–Β―Ä–Ψ–≤–Α–≤, ―΅―²–Ψ –≤―¹―ë –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―É–¥–Β―² –Ϋ–Α–Μ–Α–¥–Η―²―¨ ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹–Η–Μ–Α–Φ–Η.
–€–Β–Ε–¥―É ―²–Β–Φ –Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ―¹―è ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä―¨, –¥–Β–Ϋ―¨ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α –±–Ψ–Β–≤―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É –Ω―Ä–Η–±–Μ–Η–Ζ–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ, ―΅―²–Ψ ―è ―É–Ε–Β –Ϋ–Β ―É―¹–Ω–Β–≤–Α–Μ, –Κ–Α–Κ ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ζ–Α–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Ψ–Φ –ù.–Γ–Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ, –Ω–Ψ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ –Ϋ–Α–¥ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Ζ–Α–¥–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Ϋ–Α –±–Ψ–Β–≤―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É (–≤ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Β―΅–Η–Η ¬Ϊ–ë.–Γ.¬Μ) –≤ ―à―²–Α–±–Β ―³–Μ–Ψ―²–Α. –ö–Ψ–Φ―³–Μ–Ψ―²–Α –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –Γ–Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–≤ –±―΄–Μ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Φ –≤–Β―¹―¨–Φ–Α –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Β―¹―¹–Η–≤–Ϋ―΄―Ö –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥–Ψ–≤. –ü―΄―²–Μ–Η–≤―΄–Ι –Η –¥―É–Φ–Α―é―â–Η–Ι –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ, –Ψ–Ϋ ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Ψ–Κ, –Ω–Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ―É –≤―¹–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι, –≤―΄―Ö–Ψ–¥―è―â–Η―Ö –Ϋ–Α –ë.–Γ., –¥–Ϋ–Β–Ι –Ω–Ψ –¥–Β―¹―è―²―¨ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Η –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹–Ψ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Α–Φ–Η ―¹–Μ―É–Ε–± –Η ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤ ―à―²–Α–±–Β ―³–Μ–Ψ―²–Α. 
–£ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Β ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä, –Ψ―²–Ψ―Ä–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ψ―² –Ω–Ψ–≤―¹–Β–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –¥–Β–Μ, –Ϋ–Β –¥–Β―Ä–≥–Α―è―¹―¨ –Ω–Ψ –Ω―É―¹―²―è–Κ–Α–Φ, –±–Β–Ζ –Ϋ–Β―Ä–≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ –Φ–Ψ–≥ –≤―Ä–Α―¹―²–Η –≤ –±―É–¥―É―â―É―é –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ―É, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―²―¨ –¥–Ψ―¹–Κ–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―É―é –Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η―é –Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è―â–Η―Ö –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α―Ö ―¹ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹–Η–Μ–Α–Φ–Η –≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α, –Ω–Ψ–¥―Ä–Ψ–±–Ϋ–Ψ –Η–Ζ―É―΅–Η―²―¨ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ –Ω–Α―²―Ä―É–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Η –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥―΄ –Κ –Ϋ–Β–Φ―É, –¥–Ψ ―²–Ψ–Ϋ–Κ–Ψ―¹―²–Η –≤―΄–Ζ―É–±―Ä–Η―²―¨ ―²–Α–Κ―²–Η–Κ–Ψ-―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹–Η―¹―²–Β–Φ –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –≤ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è, ¬Ϊ–≤–Μ–Β–Ζ―²―¨¬Μ –≤ ―¹–Η―¹―²–Β–Φ―É ―¹–≤―è–Ζ–Η –Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Β-–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Β –¥―Ä―É–≥–Ψ–Β, ―¹ ―΅–Β–Φ –Β–Φ―É –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ –±―΄ ―¹―²–Ψ–Μ–Κ–Ϋ―É―²―¨―¹―è –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β. –ö―Ä–Ψ–Φ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ―¹―è ―³–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η ―¹–Ψ–Α–≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ ¬Ϊ–½–Α–¥–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α –±–Ψ–Β–≤―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―ɬΜ, ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―à―²–Α–±–Ψ–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Α, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –™–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Φ ―à―²–Α–±–Ψ–Φ –£–€–Λ. –Γ–≤–Ψ–Β ¬Ϊ–†–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α –±–Ψ–Β–≤―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É¬Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ –Ψ―³–Ψ―Ä–Φ–Μ―è–Μ –Ϋ–Α –Κ–Α―Ä―²–Β –Η ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α–Μ ―É –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ.
–Δ–Α–Κ –≤–Ψ―², –≤―¹–Β–≥–Ψ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ, –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä―è ―¹–Ω–Β―à–Κ–Β ―¹ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Ψ–Ι –Κ –ë.–Γ. –Η –Ω–Ψ―²–Β―Ä–Β –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ϋ–Α ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β –≤ ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Η, ―è –±―΄–Μ –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ―² ―Ä–Α–Ζ –Μ–Η―à–Β–Ϋ. –£―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η ―É–Ε–Β –Ϋ–Β –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨. –ù–Β–¥–Ψ―É–Φ–Β–Ϋ–Η–Β –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –£―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―è ―¹–≤–Ψ―é ―Ä–Α–±–Ψ―²―É –Ω–Β―Ä–Β–¥ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ –Ϋ–Α –±–Ψ–Β–≤―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É –≤ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–Φ –≥–Ψ–¥―É, ―è –Ω―Ä–Η–Κ–Η–¥―΄–≤–Α–Μ, –Ϋ–Α ―΅―²–Ψ ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ –±―΄ –Ψ–±―Ä–Α―²–Η―²―¨ –Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–Β –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹. –£ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ –Ω–Β―Ä–Β–¥–Η―¹–Μ–Ψ–Κ–Α―Ü–Η–Β–Ι –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η ―¹ –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ–Η –≤ –ü―Ä–Η–Φ–Ψ―Ä―¨–Β, –Φ–Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ –Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Ϋ–Β –≤ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –Δ–Η―Ö–Ψ–Φ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Β, –Α –≤ ―²–Β―¹–Ϋ–Ψ–Φ . –£ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ –Ω–Β―Ä–Β–¥–Η―¹–Μ–Ψ–Κ–Α―Ü–Η–Β–Ι –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η ―¹ –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ–Η –≤ –ü―Ä–Η–Φ–Ψ―Ä―¨–Β, –Φ–Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ –Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Ϋ–Β –≤ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –Δ–Η―Ö–Ψ–Φ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Β, –Α –≤ ―²–Β―¹–Ϋ–Ψ–Φ .
–ë–Ψ–Β–≤–Α―è ―¹–Μ―É–Ε–±–Α –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ–Ι –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥ –Φ–Ψ―Ä–Β–Φ, ―Ö–Ψ―²―è –±―΄ –Η ―¹–Κ―Ä―΄―²–Ϋ―΄–Ι. –ü–Α―²―Ä―É–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ε–Β –≤ ¬Ϊ–≥―É―¹―²–Ψ–Ϋ–Α―¹–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ¬Μ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ–Η, ―¹―É–¥–Α–Φ–Η, ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Α–Φ–Η –·–Ω–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β –±―΄–Μ–Ψ –¥–Μ―è –Φ–Β–Ϋ―è –¥–Β–Μ–Ψ–Φ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η–≤―΄―΅–Ϋ―΄–Φ. –≠―²–Ψ –Φ–Ψ―Ä–Β, ―¹ ―²–Ψ―΅–Κ–Η –Ζ―Ä–Β–Ϋ–Η―è ―¹–Ψ–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η―è ―¹–Κ―Ä―΄―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Η –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Η –Β–≥–Ψ –±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –±―΄–Μ–Ψ ―è–≤–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β–±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ―΄–Φ. –½–Α–¥–Α―΅–Α –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è–Μ–Α –Ϋ–Β–Ω―Ä–Ψ―¹―²–Α―è. –û–±–Ψ –≤―¹―ë–Φ ―ç―²–Ψ–Φ ―è –¥―É–Φ–Α–Μ –≤ ―Ä―É–±–Κ–Β ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α―²–Β―Ä–Α, –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–≤―à–Β–≥–Ψ –Φ–Β–Ϋ―è –≤–Ψ –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ –Η–Ζ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ –±―É―Ö―² –ü―Ä–Η–Φ–Ψ―Ä―¨―è, –≥–¥–Β ¬Ϊ–ö-126¬Μ –Ω–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ–Α –Ζ–Α–Ω–Α―¹―΄ –Η –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ –Κ –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ζ–Κ–Β –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö ―Ä–Α–Κ–Β―² –Η ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥ ―¹–Ψ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η –±–Ψ–Β–≤―΄–Φ–Η ―΅–Α―¹―²―è–Φ–Η. –ü–Ψ–≥―Ä―É–Ζ–Κ–Α ―ç―²–Α –¥–Ψ–Ω―É―¹–Κ–Α–Β―²―¹―è ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω―Ä–Η –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―É―΅–Α―¹―²–Η–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Η –≤―΄–Ζ–Ψ–≤ –Φ–Β–Ϋ―è –≤ ―à―²–Α–± ―³–Μ–Ψ―²–Α –Β–Β –Ζ–Α–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Μ.
–ù–Α ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Α―²–Β―Ä–Β ―è –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β. –û–Ϋ –±―΄–Μ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η―¹–Μ–Α–Ϋ –Ζ–Α –Φ–Ϋ–Ψ–Ι, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α–Η–±–Ψ–Μ–Β–Β –±―΄―¹―²―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Μ–Α–≤―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Ψ ―¹ ―Ü–Β–Μ―¨―é ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η–Η –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –¥–Μ―è –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―²–Α–Ε–Α ―É –Κ–Ψ–Φ―³–Μ–Ψ―²–Α.
–û―² ―²―Ä–Β–≤–Ψ–Ε–Ϋ―΄―Ö –Φ―΄―¹–Μ–Β–Ι –Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è―â–Β–Φ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Η –Φ–Β–Ϋ―è –Ψ―²–≤–Μ–Β–Κ–Α–Μ–Ψ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Ζ–Α –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨―é ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Κ―Ä–Ψ―à–Β―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è. –û―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α―²―¨ –Ζ–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ, ―΅–Α―¹―²–Ψ –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤―è―â–Η–Φ―¹―è –Κ ―à―²―É―Ä–≤–Α–Μ―É. –¦–Η―Ö–Ψ―¹―²―¨ –Φ–Α–Ϋ–Β–≤―Ä–Α, ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²―¨ –Η ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Β–Φ–Ψ―¹―²―¨ –Κ–Α―²–Β―Ä–Α –Ϋ–Β–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤―΄–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ –Ζ–Α–≤–Η―¹―²–Η. –ù–Ψ –Ϋ–Β ―É―¹–Ω–Β–Μ ―è –Κ–Α–Κ ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² –Ϋ–Α―¹–Μ–Α–¥–Η―²―¨―¹―è –Ω―É―²–Β―à–Β―¹―²–≤–Η–Β–Φ –Ϋ–Α –Κ–Α―²–Β―Ä–Β, –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Φ―è–≥–Κ–Ψ –Κ–Ψ―¹–Ϋ―É–Μ―¹―è ―¹―²–Β–Ϋ–Κ–Η –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ –Η–Ζ ―¹–Α–Φ―΄―Ö –≤–Ϋ―É―à–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö, –Ϋ–Β–¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Ι ―¹―²–Ψ–Μ–Η―Ü―΄ –ü―Ä–Η–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ―Ä–Α―è βÄî –Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Β–Φ ―à―²–Α–±–Α –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄.
–û―â―É―â–Α―è –Μ–Β–≥–Κ–Ψ–Β –¥―Ä–Ψ–Ε–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Ψ–≥, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―Ä–Α―¹―¹―²–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è ―¹ –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤–Η–±―Ä–Η―Ä―É―é―â–Β–Ι –Ω–Α–Μ―É–±–Ψ–Ι ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α―²–Β―Ä–Α, ―è –Ω–Ψ ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Ψ–Ι –Η –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ω–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Β―¹―²–Ϋ–Η―Ü–Β –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ―¹―è –Κ –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ-–Ω―Ä–Ψ–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω―É–Ϋ–Κ―²―É –®―²–Α–±–Α. –ü―Ä–Ψ–Ω―É―¹–Κ –Ϋ–Α –Φ–Β–Ϋ―è –±―΄–Μ –Ζ–Α–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ –Η ―É–Ε–Β ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Η–Ϋ―É―² ―è –Ψ―΅―É―²–Η–Μ―¹―è –≤ –Κ–Α–±–Η–Ϋ–Β―²–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Η–Ϋ―²–Β–Μ–Μ–Η–≥–Β–Ϋ―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α βÄî –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è ―à―²–Α–±–Α. –î–Ψ–±―Ä–Ψ–Ε–Β–Μ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―É–Μ―΄–±–Ϋ―É–≤―à–Η―¹―¨, –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Η–Μ –Φ–Ϋ–Β ―²–Ψ, –Ψ ―΅―ë–Φ ―è –Ζ–Ϋ–Α–Μ, ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –≤–≤–Η–¥―É –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Ψ –¥–Β―³–Η―Ü–Η―²–Α –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ω–Ψ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ ¬Ϊ–Ω–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―Ö–Β–Φ–Β¬Μ –Φ–Ϋ–Β –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–¥–Β―²―¹―è. –†–Α–±–Ψ―²–Α –Ϋ–Α–¥ ¬Ϊ–½–Α–¥–Α–Ϋ–Η–Β–Φ¬Μ –Η ¬Ϊ–†–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β–Φ¬Μ ―¹–≤–Β–¥–Β―²―¹―è ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Κ –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―¹―²–≤―É ―¹ –Ϋ–Η–Φ–Η. –ü–Β―Ä–≤―΄–Ι –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―² ―É–Ε–Β –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Β–Ϋ –™–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Φ ―à―²–Α–±–Ψ–Φ, –Α ¬Ϊ–†–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α –±–Ψ–Β–≤―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―ɬΜ, –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –≤ –®―²–Α–±–Β ―³–Μ–Ψ―²–Α, ―è –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –Ϋ–Α ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ–Φ―³–Μ–Ψ―²–Α –Ζ–Α–≤―²―Ä–Α.
–½–Α―²–Β–Φ ―è –Ω―Ä–Ψ―à–Β–Μ –Κ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α–Φ-–Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä–Α–Φ, –≥–Ψ―²–Ψ–≤―è―â–Η–Φ –Ζ–Α –Φ–Β–Ϋ―è –Φ–Ψ–Β ¬Ϊ–†–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β¬Μ. –†–Β–±―è―²–Α ―ç―²–Η –±―΄–Μ–Η –Φ–Ψ–Η–Φ–Η ―¹―²–Α―Ä―΄–Φ–Η –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―΄–Φ–Η, –Α –Κ–Ψ–Β-–Κ―²–Ψ –Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ–Α―à–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η –Ω–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â―É. –î–Ψ–≤–Β―Ä―è–Μ ―è –Η–Φ –Α–±―¹–Ψ–Μ―é―²–Ϋ–Ψ, –Ψ–Ϋ–Η –Ε–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ–Η―¹―¨ –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Α―²–Α―¹–Κ–Η–≤–Α―²―¨.
–ù–Α ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ ―è –±―΄–Μ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―² –Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ βÄî –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Ψ–Φ –€–Α―¹–Μ–Ψ–≤―΄–Φ. –· –Ζ–Ϋ–Α–Μ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –Ω–Ψ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Φ ―¹ –Ϋ–Η–Φ ―¹ ―²–Β―Ö –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ –Β―â–Β –Ω–Β―Ä–≤―΄–Φ –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ–Β–Φ –Κ–Ψ–Φ―³–Μ–Ψ―²–Α. –ü–Β―Ä–Β–¥ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Β–¥―΄–¥―É―â―É―é –±–Ψ–Β–≤―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É ―è ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α–Μ ―¹–≤–Ψ–Β ¬Ϊ–†–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β¬Μ ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ, –≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ζ–Α–Φ–Β―â–Α–≤―à–Β–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ―³–Μ–Ψ―²–Α. –£―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ, ―΅―²–Ψ ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ –±―É–Κ–≤–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–≥–Ψ–Ϋ―è–Μ –Φ–Β–Ϋ―è –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Α–Φ–Η –Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö ¬Ϊ–≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α¬Μ. –£–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Β –Η–Ζ –Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ―΄―Ö –Η ―è, –Ϋ–Β –±–Β–Ζ ―²―Ä–Β–Ω–Β―²–Α –≤–Ψ―à–Β–Μ –≤ –Κ–Α–±–Η–Ϋ–Β―² –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ.
–†–Α–Ζ–≤–Β―Ä–Ϋ―É–≤ –Κ–Α―Ä―²―É-–Ω–Μ–Α–Ϋ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ ¬Ϊ–†–Β―à–Β–Ϋ–Η―è¬Μ, –¥–Ψ–±―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ –Ζ–Α―΅–Η―²–Α–Μ –Ω―Ä–Η–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Κ –Ϋ–Β–Φ―É ―²–Β–Κ―¹―² –Η –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ ―É–Κ–Α–Ζ–Κ–Ψ–Ι –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―² –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ –Ω–Α―²―Ä―É–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è. –ö–Ψ–Φ―³–Μ–Ψ―²–Α –±―΄–Μ –Η–Ζ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Ζ–Ϋ–Α–Μ –Ϋ–Α―à―É ―¹–Μ―É–Ε–±―É –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ϋ–Α―¹–Μ―΄―à–Κ–Β –Η –Ψ―²–Μ–Η―΅–Α–Μ―¹―è –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–Ι ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é. –û–Ϋ ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ε–Β –Ψ–±―Ä–Α―²–Η–Μ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―² –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Α –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ –±―΄–Μ –Ω―Ä–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ, ―²–Α–Κ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ―É―é, –±–Α–Ϋ–Κ―É –·–Φ–Α―²–Ψ, –≥–¥–Β ―è–Ω–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Η–Β ―Ä―΄–±–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Β ―¹―É–¥–Α –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Η–Ϋ―²–Β–Ϋ―¹–Η–≤–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Ψ–Φ―΄―¹–Μ–Ψ–Φ .  –£–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Α–Μ–Α –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ–Α –Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Α ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α –≤ ―Ü–Β–Μ―è―Ö ―¹–Κ―Ä―΄―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –Ω―Ä–Β―Ä–≤–Α–Μ –Φ–Ψ–Ι –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥ –Η, ―É–¥–Η–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–≤ –±―Ä–Ψ–≤–Η, –Ω―Ä–Η―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤―É―é―â–Β–≥–Ψ –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ε–Β –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è. –ü–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι, ―¹–Φ–Α―Ö–Ϋ―É–≤ ―¹ –Μ–Η―Ü–Α ―¹–≤–Ψ―é –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ―É―é –Φ―è–≥–Κ―É―é ―É–Μ―΄–±–Κ―É, ―²–≤–Β―Ä–¥–Ψ –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―² ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Β–Ϋ –≤ ¬Ϊ–½–Α–¥–Α–Ϋ–Η–Η¬Μ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―à―²–Α–±–Α –£–€–Λ –Η –Ψ–±―Ö–Ψ–¥ –±–Α–Ϋ–Κ–Η –·–Φ–Α―²–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ–Η―² –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –≤–Ψ–≤―Ä–Β–Φ―è –Ζ–Α–Ϋ―è―²―¨ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ –Ω–Α―²―Ä―É–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è, ―¹―Ä–Ψ–Κ–Η –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η―è –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ, –Ψ–Ω―è―²―¨ –Ε–Β, ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Β–Ϋ―΄ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Ψ–Ι. –ù–Α–Μ–Η―Ü–Ψ –±―΄–Μ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –Η–Ζ–≤–Β―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―΅–Η–Ϋ–Ψ–Ω–Ψ―΅–Η―²–Α–Ϋ–Η―è –Η –±–Ψ―è–Ζ–Ϋ–Η –Ω–Β―Ä–Β–¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Α –≤ –≤―΄―à–Β―¹―²–Ψ―è―â―É―é –Η–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―é. –ü―Ä–Η ―²–Α–Κ–Ψ–Φ –Ω–Β―Ä–Β–¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Β –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –±―΄ ―É–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Ϋ–Α –Ψ―à–Η–±–Κ–Η –≤ ―Ä–Α―¹―΅–Β―²–Α―Ö –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –®―²–Α–±–Α –£–€–Λ, –Α ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ–Ω―É―¹―²–Η―²―¨ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è! . –€–Α―¹–Μ–Ψ–≤ –≤–Ζ–¥–Ψ―Ö–Ϋ―É–Μ, –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Ψ –≥–Μ―è–Ϋ―É–Μ –Ϋ–Α –Φ–Β–Ϋ―è (―¹ –≤―΄―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―²–Η–Ω–Α ¬Ϊ–Δ―΄ –Ε–Β –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―à―¨?¬Μ) –Η –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Φ –Κ–Α―Ä–Α–Ϋ–¥–Α―à–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ζ–Φ–Α―à–Η―¹―²–Ψ ―Ä–Α―¹–Ω–Η―¹–Α–Μ―¹―è –Ω–Ψ–¥ –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―΄–Φ–Η, ―¹―²–Α―Ä–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤―΄–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ―à―²–Α–±–Ϋ―΄–Φ –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Ψ–Φ-―΅–Β―Ä―²–Β–Ε–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –±―É–Κ–≤–Α–Φ–Η ¬Ϊ–Θ–Δ–£–ï–†–•–î–ê–°¬Μ –Ϋ–Α –Κ–Α―Ä―²–Β-–Ω–Μ–Α–Ϋ–Β. ¬Ϊ–Δ–Β–±–Β –≤―¹―ë –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Ϋ–Ψ, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä?¬Μ –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Η ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –Ψ–Ϋ ―É –Φ–Β–Ϋ―è. –©–Β–Μ–Κ–Ϋ―É–≤ –Κ–Α–±–Μ―É–Κ–Α–Φ–Η ―è –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ϋ–Β―¹ ―É―¹―²–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β: ¬Ϊ–Δ–Α–Κ ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ!¬Μ –£–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Α–Μ–Α –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ–Α –Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Α ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α –≤ ―Ü–Β–Μ―è―Ö ―¹–Κ―Ä―΄―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –Ω―Ä–Β―Ä–≤–Α–Μ –Φ–Ψ–Ι –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥ –Η, ―É–¥–Η–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–≤ –±―Ä–Ψ–≤–Η, –Ω―Ä–Η―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤―É―é―â–Β–≥–Ψ –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ε–Β –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è. –ü–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι, ―¹–Φ–Α―Ö–Ϋ―É–≤ ―¹ –Μ–Η―Ü–Α ―¹–≤–Ψ―é –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ―É―é –Φ―è–≥–Κ―É―é ―É–Μ―΄–±–Κ―É, ―²–≤–Β―Ä–¥–Ψ –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―² ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Β–Ϋ –≤ ¬Ϊ–½–Α–¥–Α–Ϋ–Η–Η¬Μ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―à―²–Α–±–Α –£–€–Λ –Η –Ψ–±―Ö–Ψ–¥ –±–Α–Ϋ–Κ–Η –·–Φ–Α―²–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ–Η―² –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –≤–Ψ–≤―Ä–Β–Φ―è –Ζ–Α–Ϋ―è―²―¨ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ –Ω–Α―²―Ä―É–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è, ―¹―Ä–Ψ–Κ–Η –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η―è –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ, –Ψ–Ω―è―²―¨ –Ε–Β, ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Β–Ϋ―΄ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Ψ–Ι. –ù–Α–Μ–Η―Ü–Ψ –±―΄–Μ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –Η–Ζ–≤–Β―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―΅–Η–Ϋ–Ψ–Ω–Ψ―΅–Η―²–Α–Ϋ–Η―è –Η –±–Ψ―è–Ζ–Ϋ–Η –Ω–Β―Ä–Β–¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Α –≤ –≤―΄―à–Β―¹―²–Ψ―è―â―É―é –Η–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―é. –ü―Ä–Η ―²–Α–Κ–Ψ–Φ –Ω–Β―Ä–Β–¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Β –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –±―΄ ―É–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Ϋ–Α –Ψ―à–Η–±–Κ–Η –≤ ―Ä–Α―¹―΅–Β―²–Α―Ö –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –®―²–Α–±–Α –£–€–Λ, –Α ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ–Ω―É―¹―²–Η―²―¨ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è! . –€–Α―¹–Μ–Ψ–≤ –≤–Ζ–¥–Ψ―Ö–Ϋ―É–Μ, –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Ψ –≥–Μ―è–Ϋ―É–Μ –Ϋ–Α –Φ–Β–Ϋ―è (―¹ –≤―΄―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―²–Η–Ω–Α ¬Ϊ–Δ―΄ –Ε–Β –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―à―¨?¬Μ) –Η –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Φ –Κ–Α―Ä–Α–Ϋ–¥–Α―à–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ζ–Φ–Α―à–Η―¹―²–Ψ ―Ä–Α―¹–Ω–Η―¹–Α–Μ―¹―è –Ω–Ψ–¥ –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―΄–Φ–Η, ―¹―²–Α―Ä–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤―΄–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ―à―²–Α–±–Ϋ―΄–Φ –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Ψ–Φ-―΅–Β―Ä―²–Β–Ε–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –±―É–Κ–≤–Α–Φ–Η ¬Ϊ–Θ–Δ–£–ï–†–•–î–ê–°¬Μ –Ϋ–Α –Κ–Α―Ä―²–Β-–Ω–Μ–Α–Ϋ–Β. ¬Ϊ–Δ–Β–±–Β –≤―¹―ë –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Ϋ–Ψ, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä?¬Μ –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Η ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –Ψ–Ϋ ―É –Φ–Β–Ϋ―è. –©–Β–Μ–Κ–Ϋ―É–≤ –Κ–Α–±–Μ―É–Κ–Α–Φ–Η ―è –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ϋ–Β―¹ ―É―¹―²–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β: ¬Ϊ–Δ–Α–Κ ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ!¬Μ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –€–Α―¹–Μ–Ψ–≤. - –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –€–Α―¹–Μ–Ψ–≤. - –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―²
08.04.201400:3608.04.2014 00:36:07
0
07.04.201401:3907.04.2014 01:39:27
–ü–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Α –Κ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α–Φ –£ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Α–≤–≥―É―¹―²–Α –Η ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä―è –≤ –≤–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ―É―é –Η ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―É―é ―΅–Α―¹―²–Η –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α, –Ψ―²–≥–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ψ―² –Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ―΄―Ö –Β–≥–Ψ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –ù–Α―Ä–≥–Β–Ϋ-–ü–Ψ―Ä–Κ–Κ–Α–Μ–Α―É–¥―¹–Κ–Η–Φ ―Ä―É–±–Β–Ε–Ψ–Φ, –Ϋ–Β–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―¹―΄–Μ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Η ¬Ϊ–€–Α–Μ―é―²–Κ–Η¬Μ –Η–Ζ 3-–≥–Ψ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ü.–ê.–Γ–Η–¥–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Κ–Ψ.
–≠―²–Ψ –±―΄–Μ–Η ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥―΄–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥―΄, –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄–Β, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―¹–Μ–Β–¥–Η―²―¨ –Ζ–Α –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Ψ–Ι. –Γ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –≤―΄―¹–Α–Ε–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ –Ζ–Α–¥–Α–Ϋ–Η―é ―à―²–Α–±–Α –¦–Β–Ϋ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Α ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨–Β –Η –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α.
–ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –€-90, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –°.–Γ.–†―É―¹―¹–Η–Ϋ, –Ω―Ä–Η –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η –Ζ–Α–¥–Α―΅ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Η –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η–Μ―¹―è ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι –Α―²–Α–Κ–Ψ–≤–Α―²―¨ –±―΄―¹―²―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ϋ―É―é –¥–Β―¹–Α–Ϋ―²–Ϋ―É―é –±–Α―Ä–Ε―É –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α, –Η –Ψ–Ϋ–Α –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Α.
–‰–Ζ ―ç―²–Η―Ö –Ϋ–Β–¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Η―Ö, –Ϋ–Ψ ―²–Ψ–Ε–Β –Ϋ–Β–Ω―Ä–Ψ―¹―²―΄―Ö –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤, –≤―¹–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Η―¹―¨ –±–Β–Ζ –Ω–Ψ―²–Β―Ä―¨ –Η ―¹–Β―Ä―¨―ë–Ζ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Ι. –®―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―΄ ¬Ϊ–€–Α–Μ―é―²–Ψ–Κ¬Μ. –Γ–Μ–Β–≤–Α –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Ψ: –™.–ê.–•–Η–≥–Α–Μ–Ψ–≤, –¦.–ü.–ï―³―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Κ–Ψ, –°.–Γ.–†―É―¹―¹–Η–Ϋ, –ê.–€.–ö–Α–Ω–Η―²–Ψ–Ϋ–Ψ–≤, –£.–€.–Λ–Η–Μ–Α―Ä–Β―²–Ψ–≤. –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―², 1943 –≥–Ψ–¥–î–≤–Β ¬Ϊ–€–Α–Μ―é―²–Κ–Η¬Μ –±―΄–Μ–Η –Ω–Β―Ä–Β–≤–Β–Ζ–Β–Ϋ―΄ –Ω–Ψ –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Β –Ϋ–Α –¦–Α–¥–Ψ–Ε―¹–Κ–Ψ–Β –Ψ–Ζ–Β―Ä–Ψ –≤ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–≤―à–Β–Ι ―²–Α–Φ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―³–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η–Η. –û–Ϋ–Η ―²–Α–Κ–Ε–Β –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –¥–Μ―è ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Η, –≤―΄―¹–Α–Ε–Η–≤–Α–Μ–Η ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨–Β –Η –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α, –Ζ–Α–Ϋ―è―²―΄–Β –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ, ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η –≤ –≤―΄―¹–Α–¥–Κ–Β ―²–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –¥–Β―¹–Α–Ϋ―²–Ψ–≤. –®―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―΄ ¬Ϊ–€–Α–Μ―é―²–Ψ–Κ¬Μ. –Γ–Μ–Β–≤–Α –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Ψ: –™.–ê.–•–Η–≥–Α–Μ–Ψ–≤, –¦.–ü.–ï―³―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Κ–Ψ, –°.–Γ.–†―É―¹―¹–Η–Ϋ, –ê.–€.–ö–Α–Ω–Η―²–Ψ–Ϋ–Ψ–≤, –£.–€.–Λ–Η–Μ–Α―Ä–Β―²–Ψ–≤. –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―², 1943 –≥–Ψ–¥–î–≤–Β ¬Ϊ–€–Α–Μ―é―²–Κ–Η¬Μ –±―΄–Μ–Η –Ω–Β―Ä–Β–≤–Β–Ζ–Β–Ϋ―΄ –Ω–Ψ –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Β –Ϋ–Α –¦–Α–¥–Ψ–Ε―¹–Κ–Ψ–Β –Ψ–Ζ–Β―Ä–Ψ –≤ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–≤―à–Β–Ι ―²–Α–Φ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―³–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η–Η. –û–Ϋ–Η ―²–Α–Κ–Ε–Β –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –¥–Μ―è ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Η, –≤―΄―¹–Α–Ε–Η–≤–Α–Μ–Η ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨–Β –Η –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α, –Ζ–Α–Ϋ―è―²―΄–Β –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ, ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η –≤ –≤―΄―¹–Α–¥–Κ–Β ―²–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –¥–Β―¹–Α–Ϋ―²–Ψ–≤. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –€-90 –°―Ä–Η–Ι –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Η―΅ –†―É―¹―¹–Η–Ϋ–û―΅–Β–Ϋ―¨ ―²―è–Ε―ë–Μ―΄–Φ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –¥–Μ―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Η 1943 –≥–Ψ–¥. –Γ–Α–Φ―΄–Φ ―²―è–Ε―ë–Μ―΄–Φ –Ζ–Α –≤―¹―é –≤–Ψ–Ι–Ϋ―É. –ù–Ψ –≤ –Ψ–±―â–Β–Φ –Β―ë ―Ö–Ψ–¥–Β –Κ–Α–Κ ―Ä–Α–Ζ –≤ ―²–Ψ―² –≥–Ψ–¥ –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Η–Μ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Ι –Ω–Β―Ä–Β–Μ–Ψ–Φ. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –€-90 –°―Ä–Η–Ι –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Η―΅ –†―É―¹―¹–Η–Ϋ–û―΅–Β–Ϋ―¨ ―²―è–Ε―ë–Μ―΄–Φ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –¥–Μ―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Η 1943 –≥–Ψ–¥. –Γ–Α–Φ―΄–Φ ―²―è–Ε―ë–Μ―΄–Φ –Ζ–Α –≤―¹―é –≤–Ψ–Ι–Ϋ―É. –ù–Ψ –≤ –Ψ–±―â–Β–Φ –Β―ë ―Ö–Ψ–¥–Β –Κ–Α–Κ ―Ä–Α–Ζ –≤ ―²–Ψ―² –≥–Ψ–¥ –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Η–Μ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Ι –Ω–Β―Ä–Β–Μ–Ψ–Φ.
–€―΄ ―¹–Μ―É―à–Α–Μ–Η –Ω–Ψ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ―΄ –£–Β―Ä―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –Η –≤―¹―ë –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β –Φ–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Β ―¹–Α–Μ―é―²―΄. –Γ –Ϋ–Β―²–Β―Ä–Ω–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ε–¥–Α–Μ–Η, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤–Κ–Μ―é―΅–Η―²―¹―è –≤ –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Η–Ι ―³―Ä–Ψ–Ϋ―², –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Η―²―¹―è –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Α –≤ –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Β, –Η –¥–Μ―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ –Ω–Ψ―è–≤–Η―²―¹―è –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤―΄―Ä–≤–Α―²―¨―¹―è –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β.
–ê –Ω–Ψ–Κ–Α –Ϋ–Α–Ε–Η–Φ–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –±–Ψ–Β–≤―É―é –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ―É, –Ϋ–Α –Ψ―¹–Φ―΄―¹–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Η –Ψ―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α–Κ–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤ –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Β –Ψ–Ω―΄―²–Α.
–î–Μ―è –Ψ―²―Ä–Α–±–Ψ―²–Κ–Η ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α–¥–Α―΅ –±―΄–Μ –Ω―Ä–Η―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Μ–Β–Ϋ ―²―â–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―²―Ä–Α–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Ι ―Ä–Β–Ι–¥ ―É –Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ―Ä–Α―è –û―Ä–Α–Ϋ–Η–Β–Ϋ–±–Α―É–Φ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α―Ü–¥–Α―Ä–Φ–Α, –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄–≤–Α–Β–Φ―΄–Ι –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤―΄–Φ–Η –±–Α―²–Α―Ä–Β―è–Φ–Η. –Δ –Α–Φ –≤―¹―ë-―²–Α–Κ–Η –±―΄–Μ–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Α, ―΅–Β–Φ –Φ–Β–Ε–¥―É –Φ–Ψ―¹―²–Α–Φ–Η –Ϋ–Α –ù–Β–≤–Β. –£ ―à―²–Α–±–Β –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Μ–Α –Η–¥–Β―è (–≤ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Β–Φ –Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Μ―ë–Ϋ–Ϋ–Α―è) –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Η–≥–Ψ–Ϋ–Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Η ―é–Ε–Ϋ―É―é, –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―É–¥–Α–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―É―é –Ψ―² ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Α, ―΅–Α―¹―²―¨ –¦–Α–¥–Ψ–≥–Η. –Γ―Ä–Β–¥–Ϋ―è―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –¥–Β―¹―è―²–Ψ–Ι ―¹–Β―Ä–Η–Η ―²–Η–Ω–Α ¬Ϊ–©―É–Κ–Α¬Μ–™–Μ–Α–≤–Α –Ψ–¥–Η–Ϋ–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²–Α―è –Γ―Ä–Β–¥–Ϋ―è―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –¥–Β―¹―è―²–Ψ–Ι ―¹–Β―Ä–Η–Η ―²–Η–Ω–Α ¬Ϊ–©―É–Κ–Α¬Μ–™–Μ–Α–≤–Α –Ψ–¥–Η–Ϋ–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²–Α―è
–Γ–‰–¦–ê –ü–û–î–£–û–î–ù–û–™–û –û–†–Θ–•–‰–·
–ö–Α–Κ –≤―΄–≤–Β―¹―²–Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Η–Ζ –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α? –û―¹–Β–Ϋ―¨―é 1943 –≥–Ψ–¥–Α, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Α–Κ –±―΄–Μ–Α ―¹–≤―ë―Ä–Ϋ―É―²–Α –¥―Ä–Α–Φ–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Ϋ–Β―É–¥–Α―΅–Ϋ–Α―è –¥–Μ―è –±–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Κ–Α–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η―è, –Ψ–±–Β―Ä–Ϋ―É–≤―à–Α―è―¹―è –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ–Η –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–Φ–Η –±–Β–Ζ ―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Ψ–≤, –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Φ–Ψ–≥ –±―΄ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α―à–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ―¹–Φ–Ψ–≥―É―² ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –≤―΄–Ι―²–Η –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β.
–≠―²–Ψ –Ϋ–Β–Μ–Β–≥–Κ–Ψ –¥–Μ―è –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι, βÄî –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨―¹―è –≤ ―Ä–Α–Ζ–≥–Α―Ä –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –Ω–Β―Ä–Β–¥ ―³–Α–Κ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ ―²–≤–Ψ―ë ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β, ―Ö–Ψ―²―è –Ψ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Ψ―²–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≤ ―Ä–Β–Ζ–Β―Ä–≤ –Η–Μ–Η –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Β―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β, –≤―΄–Κ–Μ―é―΅–Α–Β―²―¹―è –≤ ―¹–Η–Μ―É ―¹–Μ–Ψ–Ε–Η–≤―à–Η―Ö―¹―è –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤ –Η–Ζ –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ―΄―Ö –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι.
–‰ –≤―¹―ë –Ε–Β –Φ―΄―¹–Μ–Β–Ι –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Α –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ζ–Α–≤–Β―Ä―à–Η―²―¨―¹―è –±–Β–Ζ –Ϋ–Α―¹, –Ϋ–Β –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Α–Μ–Ψ. –ö–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η–Κ–Α―Ü–Η–Η –Ϋ–Α ―é–≥–Β –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Η –Η –≤ –Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Β―ë ―΅–Α―¹―²–Η –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η ―É―²―Ä–Α―²–Η―²―¨ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η―è –¥–Μ―è –™–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ–Η–Η –¥–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Α, –Η, –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―², –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ε–¥–Α–Μ–Α ―²–Α–Φ –±–Ψ–Β–≤–Α―è ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α, –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –≤–Α–Ε–Ϋ–Α―è –¥–Μ―è ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Α. –ù–Ψ –Κ–Α–Κ –≤―¹―ë-―²–Α–Κ–Η –≤―΄–≤–Β―¹―²–Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Η–Ζ –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α?
–£―¹–Β –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η: ―Ä–Α―¹―΅–Η―¹―²–Κ–Α –Ϋ–Α–¥―ë–Ε–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤ –≤ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Φ–Ψ―â–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è―Ö βÄî –¥–Β–Μ–Ψ –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ–Β, –¥–Α–Ε–Β –Β―¹–Μ–Η –±―΄ –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ϋ–Β –Φ–Β―à–Α–Μ. –ù–Ψ, –Β―¹–Μ–Η ―³―Ä–Ψ–Ϋ―² –Ω―Ä–Ψ–¥–≤–Η–Ϋ–Β―²―¹―è –Ϋ–Α –Ζ–Α–Ω–Α–¥, ―¹―²–Α–Μ–Ψ –±―΄ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Φ, –Ϋ–Β –¥–Ψ–Ε–Η–¥–Α―è―¹―¨ –Ψ―΅–Η―¹―²–Κ–Η –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α –Ψ―² –Φ–Η–Ϋ –Η ―¹–Β―²–Β–Ι, –Ψ–±–Ψ–Ι―²–Η –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ―΄–Β ―Ä―É–±–Β–Ε–Η –Ω–Ψ–¥ –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–Φ, βÄî ―¹ ―¹–Β–≤–Β―Ä–Α –Η–Μ–Η ―¹ ―é–≥–Α. –Γ ―¹–Β–≤–Β―Ä–Α –±―΄–Μ–Ψ –±―΄ –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ―΅―²–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Β–Β: ―²–Α–Φ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Β ―à―Ö–Β―Ä–Ϋ―΄–Β ―³–Α―Ä–≤–Α―²–Β―Ä―΄.
–û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―΄ –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ, –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Α–≤―à–Η–Β ―¹―Ä–Β–¥–Η –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤, –¥–Ψ –Ω–Ψ―Ä―΄ –¥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ψ―²–≤–Μ–Β―΅―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ-―²–Β–Ψ―Ä–Β―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ–Η. –€–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Η―²―¨―¹―è, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―¹―²–Α–Μ–Η –¥–Ψ―¹―²―É–Ω–Ϋ―΄ –¥–Μ―è –Ϋ–Α―¹ ―³–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Β ―à―Ö–Β―Ä―΄. –û―¹–≤–Ψ–±–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ―² –±–Μ–Ψ–Κ–Α–¥―΄ –ù–Ψ ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è –Ϋ–Α ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Α―Ö ―Ä–Α–Ζ–≤–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –±―΄―¹―²―Ä–Ψ. –ù–Ψ–≤―΄–Ι, 1944 –≥–Ψ–¥, –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Μ –Β―â―ë –≤ –Ψ―¹–Α–¥–Β –Ω–Ψ–¥ –≤―Ä–Α–Ε–Β―¹–Κ–Η–Φ –Ψ–≥–Ϋ―ë–Φ. –ê –Ϋ–Β–Ζ–Α–¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –¥–Ψ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η ―³–Μ–Ψ―²–Α ―¹–Κ―Ä―΄―²–Ϋ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–±―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Η –Ϋ–Α –û―Ä–Α–Ϋ–Η–Β–Ϋ–±–Α―É–Φ―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Μ–Α―Ü–¥–Α―Ä–Φ ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –£―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Θ–¥–Α―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –Α―Ä–Φ–Η–Η –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ–Α –‰. –‰. –Λ–Β–¥―é–Ϋ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –£―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Θ–¥–Α―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –Α―Ä–Φ–Η–Β–Ι –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ –‰–≤–Α–Ϋ –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –Λ–Β–¥―é–Ϋ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι–û―²―²―É–¥–Α, ―¹ –û―Ä–Α–Ϋ–Η–Β–Ϋ–±–Α―É–Φ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―è―²–Α―΅–Κ–Α, –Ω―Ä–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α–≤―à–Β–≥–Ψ―¹―è –Ω–Ψ―΅―²–Η –¥–≤–Α ―¹ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Ψ–¥–Α, –±―΄–Μ –Ϋ–Α–Ϋ–Β―¹―ë–Ϋ –≤ ―è–Ϋ–≤–Α―Ä–Β –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι ―É–¥–Α―Ä –Ω–Ψ ―³–Α―à–Η―¹―²―¹–Κ–Η–Φ –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α–Φ, –Ψ―¹–Α–Ε–¥–Α–≤―à–Η–Φ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥. –‰ –≤ ―²–Ψ –Ε–Β –≤―Ä–Β–Φ―è βÄî –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι ―É–¥–Α―Ä, –Η–Ζ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α –ü―É–Μ–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö –≤―΄―¹–Ψ―². –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –£―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Θ–¥–Α―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –Α―Ä–Φ–Η–Β–Ι –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ –‰–≤–Α–Ϋ –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –Λ–Β–¥―é–Ϋ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι–û―²―²―É–¥–Α, ―¹ –û―Ä–Α–Ϋ–Η–Β–Ϋ–±–Α―É–Φ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―è―²–Α―΅–Κ–Α, –Ω―Ä–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α–≤―à–Β–≥–Ψ―¹―è –Ω–Ψ―΅―²–Η –¥–≤–Α ―¹ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Ψ–¥–Α, –±―΄–Μ –Ϋ–Α–Ϋ–Β―¹―ë–Ϋ –≤ ―è–Ϋ–≤–Α―Ä–Β –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι ―É–¥–Α―Ä –Ω–Ψ ―³–Α―à–Η―¹―²―¹–Κ–Η–Φ –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α–Φ, –Ψ―¹–Α–Ε–¥–Α–≤―à–Η–Φ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥. –‰ –≤ ―²–Ψ –Ε–Β –≤―Ä–Β–Φ―è βÄî –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι ―É–¥–Α―Ä, –Η–Ζ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α –ü―É–Μ–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö –≤―΄―¹–Ψ―².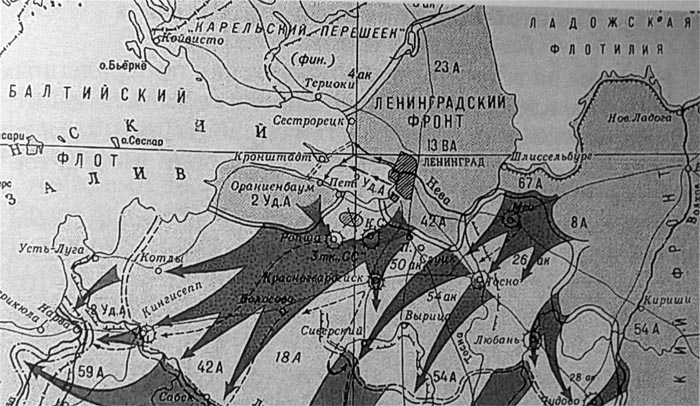 –†–Α–Ζ–≥―Ä–Ψ–Φ –Ϋ–Β–Φ―Ü–Β–≤ –Ω–Ψ–¥ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Ψ–Φ. –Γ–Ϋ―è―²–Η–Β –±–Μ–Ψ–Κ–Α–¥―΄ –Η –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Β–Β –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η –£–Ψ–Μ―Ö–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Ψ–≤. –·–Ϋ–≤–Α―Ä―¨ 1944 –≥–Ψ–¥–Α–û–¥–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Η–Φ –Ω–Β―Ä–Β―à―ë–Μ –≤ –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –£–Ψ–Μ―Ö–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι ―³―Ä–Ψ–Ϋ―². –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι ―³–Μ–Ψ―² –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Μ –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Η –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ–Ι –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Β–Ι –Η –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Β–Ι. –†–Α–Ζ–≥―Ä–Ψ–Φ –Ϋ–Β–Φ―Ü–Β–≤ –Ω–Ψ–¥ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Ψ–Φ. –Γ–Ϋ―è―²–Η–Β –±–Μ–Ψ–Κ–Α–¥―΄ –Η –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Β–Β –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η –£–Ψ–Μ―Ö–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Ψ–≤. –·–Ϋ–≤–Α―Ä―¨ 1944 –≥–Ψ–¥–Α–û–¥–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Η–Φ –Ω–Β―Ä–Β―à―ë–Μ –≤ –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –£–Ψ–Μ―Ö–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι ―³―Ä–Ψ–Ϋ―². –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι ―³–Μ–Ψ―² –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Μ –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Η –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ–Ι –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Β–Ι –Η –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Β–Ι. –Γ–Α–Μ―é―² –Ϋ–Α –ù–Β–≤–Β –≤ ―΅–Β―¹―²―¨ ―¹–Ϋ―è―²–Η―è –±–Μ–Ψ–Κ–Α–¥―΄. –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥, 27 ―è–Ϋ–≤–Α―Ä―è 1944 –≥–Ψ–¥–Α.27 ―è–Ϋ–≤–Α―Ä―è –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Β–Φ–Β–Μ ―¹–Α–Μ―é―² –≤ ―΅–Β―¹―²―¨ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –Ψ―² 900-–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ–Ψ–Ι –±–Μ–Ψ–Κ–Α–¥―΄. –Γ–Α–Μ―é―² –Ϋ–Α –ù–Β–≤–Β –≤ ―΅–Β―¹―²―¨ ―¹–Ϋ―è―²–Η―è –±–Μ–Ψ–Κ–Α–¥―΄. –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥, 27 ―è–Ϋ–≤–Α―Ä―è 1944 –≥–Ψ–¥–Α.27 ―è–Ϋ–≤–Α―Ä―è –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Β–Φ–Β–Μ ―¹–Α–Μ―é―² –≤ ―΅–Β―¹―²―¨ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –Ψ―² 900-–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ–Ψ–Ι –±–Μ–Ψ–Κ–Α–¥―΄.
–ö ―²–Ψ–Φ―É –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –±―΄–Μ ―É–Ε–Β –Ψ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–Ε–¥―ë–Ϋ –ù–Ψ–≤–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥. –‰ –≤―¹–Κ–Ψ―Ä–Β ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Β –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α –≤―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Η –Ϋ–Α –Ζ–Β–Φ–Μ―é –≠―¹―²–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Γ–Γ–†. –ê –≤ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β –Μ–Β―²–Α –±―΄–Μ–Α –≤–Ζ–Μ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–Α –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –Ϋ–Α –ö–Α―Ä–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω–Β―Ä–Β―à–Β–Ι–Κ–Β, –≤―Ä–Α–≥–Α –≤―΄–±–Η–Μ–Η –Η–Ζ –£―΄–±–Ψ―Ä–≥–Α.
–ö–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Η–Μ–Η―¹―¨ ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è –±–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è ―³–Μ–Ψ―²–Α. –ï―â―ë –Ζ–Η–Φ–Ψ–Ι –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Β –Ψ―²–Ω–Α–Μ–Α –¥–Μ―è –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Α―è ―É–≥―Ä–Ψ–Ζ–Α –Ω–Ψ–Ω–Α―¹―²―¨ –Ω―Ä―è–Φ–Ψ ―É –Ω―Ä–Η―΅–Α–Μ–Α –Ω–Ψ–¥ –Ψ–≥–Ϋ–Β–≤–Ψ–Ι –Ϋ–Α–Μ―ë―². –£―΄―à–Μ–Η –Η–Ζ –Ζ–Ψ–Ϋ―΄ –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η―è –Η –Ψ–±―¹―²―Ä–Β–Μ–Α –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ ―³–Α―Ä–≤–Α―²–Β―Ä―΄ –Φ–Β–Ε–¥―É –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Ψ–Φ, –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Ψ–Φ –Η –¦–Α–≤–Β–Ϋ―¹–Α―Ä–Η. –ö–Ψ–≥–¥–Α ―¹ ―É―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ –Μ―¨–¥–Α –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―²―Ä–Α–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –ù–Β–≤―¹–Κ–Ψ–Ι –≥―É–±―΄ –Η –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Α–Κ–≤–Α―²–Ψ―Ä–Η–Ι –≤ –≤–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α, –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―É–Ε–Β –Ϋ–Β –Ψ–Ω–Α―¹–Α―²―¨―¹―è, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α –Φ–Β―¹―²–Β –Φ–Η–Ϋ, –Ψ–±–Β–Ζ–≤―Ä–Β–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è, –Ζ–Α–≤―²―Ä–Α –Ω–Ψ―è–≤―è―²―¹―è –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β. –ü–Μ–Α–Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä–Ϋ–Α―è –±–Ψ–Β–≤–Α―è –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Α –£–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –Ζ–Α –≤–Ψ–Ι–Ϋ―É –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Α –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Α –≤ –Ω―Ä–Ψ―²―Ä–Α–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α―Ö –Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Β–Β –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Α –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Β ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ–Μ–Η–≥–Ψ–Ϋ―΄, –≥–¥–Β ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Η –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ψ―²―Ä–Α–±–Α―²―΄–≤–Α―²―¨ ―Ö–Ψ―²―è –±―΄ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α–¥–Α―΅–Η –Κ―É―Ä―¹–Α –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η. –ù–Ψ –¥–Μ―è ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄―Ö ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–± –Ψ–Ϋ–Η –≤―¹―ë –Ε–Β –Ϋ–Β –≥–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨.
–£ ―ç―²–Ψ–Φ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Η –≤―΄―Ä―É―΅–Α–Μ–Α –¦–Α–¥–Ψ–≥–Α, –Κ―É–¥–Α ―¹–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –±―΄–Μ–Η –Ω–Β―Ä–Β–≤–Β–¥–Β–Ϋ―΄ ―²―Ä–Η ¬Ϊ–€–Α–Μ―é―²–Κ–Η¬Μ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ü.–ê.–Γ–Η–¥–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Κ–Ψ: –€-90, –€-96 –Η –€-102, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ ―²―Ä–Η ¬Ϊ–©―É–Κ–Η¬Μ, βÄî –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 2-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –™.–ê.–™–Ψ–Μ―¨–¥–±–Β―Ä–≥–Α: –©-307, –©-309 –Η –©-310. –ö–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η-–Φ–Η―à–Β–Ϋ–Η –¥–Μ―è –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄―Ö ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–± –≤―΄–¥–Β–Μ―è–Μ–Α –¦–Α–¥–Ψ–Ε―¹–Κ–Α―è –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è ―³–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η―è. –Δ―Ä–Β–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Η –≤ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–±–Β –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ–Η–≥–Ψ–Ϋ–Β –≤ ―é–Ε–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –Ψ–Ζ–Β―Ä–Α –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –±–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Β –Η –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β.
–£–Ψ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Β –Μ–Β―²–Α –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ―΄ –Γ–Η–¥–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Κ–Ψ –Η –™–Ψ–Μ―¨–¥–±–Β―Ä–≥–Α –±―΄–Μ–Η –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â―ë–Ϋ―΄ –≤ –û―Ä–Α–Ϋ–Η–Β–Ϋ–±–Α―É–Φ –Η –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥. –ï ―â―ë –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α―è, –Κ–Α–Κ ―¹–Φ–Ψ–Ε–Β–Φ –≤―΄–≤–Β―¹―²–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β, –Φ―΄ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Η –Η―Ö –Κ –±–Ψ–Β–≤―΄–Φ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α–Φ, ―΅–Β–Φ―É ―É–¥–Β–Μ―è–Μ–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η―è –Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β ―³–Μ–Ψ―²–Α.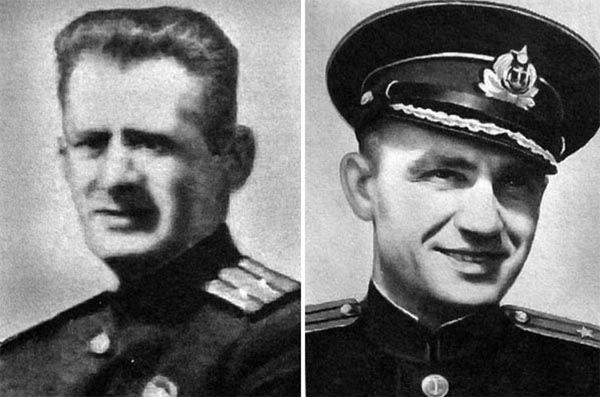 –™―Ä–Η–≥–Ψ―Ä–Η–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅ –™–Ψ–Μ―¨–¥–±–Β―Ä–≥ –ü―ë―²―Ä –ê–Ϋ―²–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –Γ–Η–¥–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Κ–Ψ –ü–Β―Ä–Β―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –Η ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Ι –Θ―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Ι –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι ―ç―à–Β–Μ–Ψ–Ϋ –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –¥–Μ―è –≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι –≤ –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β, –Κ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ―É –Φ―΄ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η –Ϋ–Α–Η–±–Ψ–Μ–Β–Β –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η, ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Η –≤ ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –¥–Β―¹―è―²―¨ ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Η―Ö –Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ: –Ω―è―²―¨ ¬Ϊ–©―É–Κ¬Μ, –¥–≤–Β ―²–Η–Ω–Α ¬Ϊ–Γ¬Μ, –î-2 –Η –¥–≤–Α –Φ–Η–Ϋ–Ζ–Α–≥–Α, –¦-3 –Η ¬Ϊ–¦–Β–Φ–±–Η―²¬Μ. –ù–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≤ ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Β. –ê –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Β –±―΄–Μ–Ψ –Φ–Ψ―â–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β: –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤―¹―²―É–Ω–Η―²―¨ –≤ ―¹―²―Ä–Ψ–Ι ―΅–Β―²―΄―Ä–Β –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä―¹–Κ–Η–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Η –Φ–Η–Ϋ–Ζ–Α–≥ –¦-21, –¥–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ―É –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―² ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ―¨, –Ζ–Α–¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ–Η ―²―è–Ε―ë–Μ―΄–Β –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Η –Α―Ä―²–Ψ–±―¹―²―Ä–Β–Μ–Α―Ö –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Α. –™―Ä–Η–≥–Ψ―Ä–Η–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅ –™–Ψ–Μ―¨–¥–±–Β―Ä–≥ –ü―ë―²―Ä –ê–Ϋ―²–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –Γ–Η–¥–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Κ–Ψ –ü–Β―Ä–Β―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –Η ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Ι –Θ―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Ι –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι ―ç―à–Β–Μ–Ψ–Ϋ –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –¥–Μ―è –≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι –≤ –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β, –Κ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ―É –Φ―΄ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η –Ϋ–Α–Η–±–Ψ–Μ–Β–Β –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η, ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Η –≤ ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –¥–Β―¹―è―²―¨ ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Η―Ö –Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ: –Ω―è―²―¨ ¬Ϊ–©―É–Κ¬Μ, –¥–≤–Β ―²–Η–Ω–Α ¬Ϊ–Γ¬Μ, –î-2 –Η –¥–≤–Α –Φ–Η–Ϋ–Ζ–Α–≥–Α, –¦-3 –Η ¬Ϊ–¦–Β–Φ–±–Η―²¬Μ. –ù–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≤ ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Β. –ê –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Β –±―΄–Μ–Ψ –Φ–Ψ―â–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β: –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤―¹―²―É–Ω–Η―²―¨ –≤ ―¹―²―Ä–Ψ–Ι ―΅–Β―²―΄―Ä–Β –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä―¹–Κ–Η–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Η –Φ–Η–Ϋ–Ζ–Α–≥ –¦-21, –¥–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ―É –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―² ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ―¨, –Ζ–Α–¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ–Η ―²―è–Ε―ë–Μ―΄–Β –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Η –Α―Ä―²–Ψ–±―¹―²―Ä–Β–Μ–Α―Ö –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Α.
–ù–Α–¥–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –≤ 1943 –≥–Ψ–¥―É, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –ê.–€.–Γ―²–Β―Ü–Β–Ϋ–Κ–Ψ –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ ―¹―²–Α–Μ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Ψ―²–¥–Β–Μ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è, –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ –¥–Ψ―¹―²―Ä–Α–Η–≤–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –±―΄–Μ –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ―ë–Ϋ –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Β–Φ―É –Η –±―΄–Μ –≤―΄–≤–Β–¥–Β–Ϋ –Η–Ζ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –Ϋ–Α―à–Β–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄.
–û―² –Ϋ–Α―¹ –Ψ―²–Ψ―à–Μ–Η –Ζ–Α–≤–Ψ–¥―¹–Κ–Η–Β –¥–Β–Μ–Α –Η –Ζ–Α–±–Ψ―²―΄, ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ–≤–Φ–Β―¹―²–Η–Φ―΄–Β ―¹ –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Η ―à―²–Α–±–Α ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è. –ù–Ψ ―ç―²–Ψ―² –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ –Ϋ–Β ―¹―²–Α–Μ –¥–Μ―è –Ϋ–Α―¹ –Ψ―²―Ä–Β–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Μ–Ψ–Φ―²–Β–Φ. –ë–Ψ–Β–≤―É―é –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ―É ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Ι –Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –Ϋ–Α―΅–Α–≤―à―É―é―¹―è –Ζ–Α–¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –¥–Ψ –Ω–Ψ–¥―ä―ë–Φ–Α –Ϋ–Α –Ϋ–Η―Ö –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Α–≥–Α, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Μ–Η ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Β ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²―΄ –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ ―à―²–Α–±–Α. –ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –Ψ―²–¥–Β–Μ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è ―à―²–Α–±–Α –ö–ë–Λ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Ι –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Η―΅ –Γ―²–Β―Ü–Β–Ϋ–Κ–Ψ–ü–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Η –Η–Φ–Β―²―¨ –Ϋ–Α –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Η –Φ–Η–Ϋ―΄, –Η―Ö –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ –Ω–Ψ –Φ–Β―Ä–Β –≤―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è –≤ ―¹―²―Ä–Ψ–Ι –≤–Κ–Μ―é―΅–Α―²―¨ –≤ –Ϋ–Α―à –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ. –ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –Ψ―²–¥–Β–Μ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è ―à―²–Α–±–Α –ö–ë–Λ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Ι –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Η―΅ –Γ―²–Β―Ü–Β–Ϋ–Κ–Ψ–ü–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Η –Η–Φ–Β―²―¨ –Ϋ–Α –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Η –Φ–Η–Ϋ―΄, –Η―Ö –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ –Ω–Ψ –Φ–Β―Ä–Β –≤―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è –≤ ―¹―²―Ä–Ψ–Ι –≤–Κ–Μ―é―΅–Α―²―¨ –≤ –Ϋ–Α―à –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ.
–£―²–Ψ―Ä―΄–Φ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ ―É–Ε–Β –Ϋ–Β –£.–ê.–ü–Ψ–Μ–Β―â―É–Κ, –Ψ―²–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ―É –ù–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ–Α –Ϋ–Α ―É―΅―ë–±―É –≤ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ―É―é –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η―é, –Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 2-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η–Ι –™–Β–Ψ―Ä–≥–Η–Β–≤–Η―΅ –®―É–Μ–Α–Κ–Ψ–≤, –≤ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–Φ ―²–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Β―Ü, –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ω–Β―Ä–≤–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ ―¹―²―Ä–Ψ―è―â–Η―Ö―¹―è –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ.
–ï―â―ë ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β ―¹–Φ–Β–Ϋ–Η–Μ―¹―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α, –Κ―É–¥–Α –≤―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –≤―¹–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ―²–Η–Ω–Α ¬Ϊ–Γ¬Μ –Η –î-2. –ö–Ψ–Φ–¥–Η–≤–Ψ–Φ ―²―É―² ―¹―²–Α–Μ –≤–Β―Ä–Ϋ―É–≤―à–Η–Ι―¹―è –≤ –Ω–Ψ–¥–Ω–Μ–Α–≤ –Η–Ζ ―à―²–Α–±–Α ―³–Μ–Ψ―²–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –ï–≤―¹―²–Α―³―¨–Β–≤–Η―΅ –û―Ä―ë–Μ, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–≤―à–Η–Ι –≤ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ.
–Θ–Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―²–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Ι –≤―΄–Ζ–≤–Α–Μ–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Β –Ω–Β―Ä–Β–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η―è –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α. –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Α –≤–≤–Β―Ä―è–Μ–Η―¹―¨ –Μ―É―΅―à–Η–Φ –Ϋ–Α―à–Η–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α–Φ, ―²–Α–Κ–Η–Φ –Κ–Α–Κ –‰.–£.–Δ―Ä–Α–≤–Κ–Η–Ϋ –Η –î.–ö.–·―Ä–Ψ―à–Β–≤–Η―΅. –ù–Α ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Η–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –±―΄–Μ–Η –Ω–Β―Ä–Β–≤–Β–¥–Β–Ϋ―΄ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ ¬Ϊ–€–Α–Μ―é―²–Ψ–Κ¬Μ, –Ω–Ψ―à–Μ–Η –Ϋ–Α –Ω–Ψ–≤―΄―à–Β–Ϋ–Η–Β –Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ―΄.
–™―Ä―É–Ω–Ω–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ–Α ―¹ –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α. –≠―²–Η –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄ (―¹ –Ϋ–Η–Φ–Η ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ―¨ –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Η―²―¹―è –Ω–Ψ ―Ö–Ψ–¥―É –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Η―Ö ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Ι), ―Ö–Ψ―²―è –Β―â―ë –Η –Ϋ–Β –≤–Ψ–Β–≤–Α–Μ–Η, –Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Η ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à―É―é ―à–Κ–Ψ–Μ―É. –½–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―è―¹―¨ ―¹ –Κ–Α–Ε–¥―΄–Φ –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö, ―è –Ψ―¹–Ψ–±–Ψ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è –Ψ–≥–Ϋ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Ψ–Ι (―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –≤ –Ϋ–Α―à–Η―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö –Ϋ–Α–≤–Β―Ä―¹―²–Α―²―¨ –±―΄–Μ–Ψ ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ) –Η ―É–Ζ–Ϋ–Α–≤–Α–Μ ―¹ ―É–¥–Ψ–≤–Μ–Β―²–≤–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Η–Β–Φ, ―΅―²–Ψ ―É –≤―¹–Β―Ö –Β―¹―²―¨ –Ψ–Ω―΄―² ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄―Ö –Α―²–Α–Κ –≤ ―É―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ―ë–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö –Ω–Ψ –±―΄―¹―²―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ ―Ü–Β–Μ―è–Φ. –î–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Β–Β –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–¥–Η–Μ–Ψ, ―΅―²–Ψ ―¹ –Δ–Η―Ö–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Α –Ω―Ä–Η–±―΄–≤–Α–Μ–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ ―É–Φ–Β–Μ―΄–Β, ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ―΄–Β –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –Ψ―¹–≤–Ψ–Η―²―¨―¹―è –≤ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Β. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä 1-–≥–Ψ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –ï–≤―¹―²–Α―³―¨–Β–≤–Η―΅ –û―Ä―ë–Μ –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä 2-–≥–Ψ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α –ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η–Ι –™–Β–Ψ―Ä–≥–Η–Β–≤–Η―΅ –®―É–Μ–Α–Κ–Ψ–≤ –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä 1-–≥–Ψ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –ï–≤―¹―²–Α―³―¨–Β–≤–Η―΅ –û―Ä―ë–Μ –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä 2-–≥–Ψ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α –ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η–Ι –™–Β–Ψ―Ä–≥–Η–Β–≤–Η―΅ –®―É–Μ–Α–Κ–Ψ–≤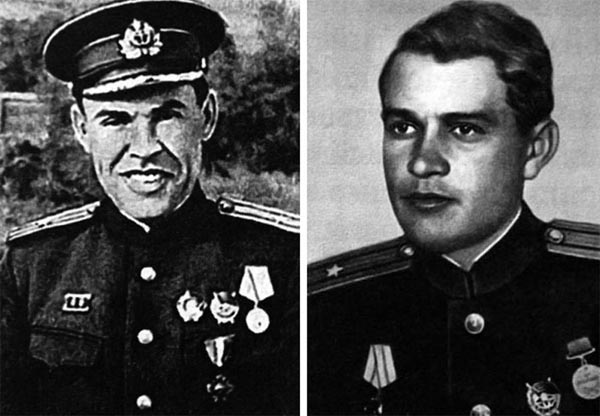 –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ü–¦ –ö-52 –‰–≤–Α–Ϋ –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅ –Δ―Ä–Α–≤–Κ–Η–Ϋ –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ü–¦ –ö-53 –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Ι –ö–Μ–Β–Φ–Β–Ϋ―²―¨–Β–≤–Η―΅ –·―Ä–Ψ―à–Β–≤–Η―΅–Γ –Ζ–Α–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Η―Ö –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι –Ϋ–Α –Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Α–Μ–Η ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –ù–Β ―Ö–≤–Α―²–Α–Μ–Ψ –Ψ–Ω―΄―²–Ϋ―΄―Ö ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Ψ–≤. –ê ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Η –≤ ¬Ϊ―¹―²–Α―Ä―΄―Ö¬Μ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α―Ö –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι ―΅–Β―²–≤―ë―Ä―²―΄–Ι –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹ –±―΄–Μ –Η–Ζ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η―è, –Η –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö –Β―â―ë –Ϋ–Β –Ω–Μ–Α–≤–Α–Μ, –Ζ–Α―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Ψ –¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨ –Ω–Ψ–¥ –Ϋ–Β–Ψ―¹–Μ–Α–±–Ϋ―΄–Φ –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ–Β–Φ –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β –Ψ–±―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β –≤ –Ω–Ψ–¥―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è―Ö, –Ϋ–Α –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Ω–Ψ―¹―²–Α―Ö. –€―΄ ―³–Ψ―Ä―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η –±–Ψ–Β–≤―É―é –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ―É, –≤–Β―Ä―è, ―΅―²–Ψ –≤―΄―Ö–Ψ–¥ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –±–Μ–Η–Ζ–Η―²―¹―è. –ù–Α―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α ―¹―É―à–Β –Φ–Β–Ϋ―è–Μ–Ψ –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ―É –Ϋ–Α –Φ–Ψ―Ä–Β –ù–Α―¹―²―É–Ω–Α―é―â–Η–Β ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Β –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α –Ψ―΅–Η―â–Α–Μ–Η –Ψ―² ―³–Α―à–Η―¹―²―¹–Κ–Η―Ö –Ψ–Κ–Κ―É–Ω–Α–Ϋ―²–Ψ–≤ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Κ–Ψ–≤―É―é ―΅–Α―¹―²―¨ –≠―¹―²–Ψ–Ϋ–Η–Η. 22 ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä―è –±―΄–Μ –Ψ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–Ε–¥―ë–Ϋ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ. –Θ –≥–Η―²–Μ–Β―Ä–Ψ–≤―Ü–Β–≤ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Β –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Η –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –±–Α–Ζ, –Ϋ–Η –Α―ç―Ä–Ψ–¥―Ä–Ψ–Φ–Ψ–≤ –Ϋ–Α ―é–Ε–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨–Β –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α. –‰―¹―΅–Β–Ζ–Μ–Η –Η–Ζ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α –Η―Ö –Κ–Α―²–Β―Ä–Ϋ―΄–Β –¥–Ψ–Ζ–Ψ―Ä―΄. –ù–Ψ ―ç―²–Ψ –Β―â―ë –Ϋ–Β –Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ, ―΅―²–Ψ –≤–¥–Ψ–Μ―¨ –Ψ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–Ε–¥―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨―è –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Ι―²–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ. –î–Α–Ε–Β –Ϋ–Α ―Ä–Β–Ι–¥–Α―Ö –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ―É –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ ―¹―²–Α―²―¨ –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Ι –±–Α–Ζ–Ψ–Ι –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α, –Η –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Α―Ö –Κ –Ϋ–Β–Φ―É, ―²–Α–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Β –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –Φ–Η–Ϋ, –Η ―²―É–¥–Α –Β―â―ë –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―¹―²–Η –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ü–¦ –ö-52 –‰–≤–Α–Ϋ –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅ –Δ―Ä–Α–≤–Κ–Η–Ϋ –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ü–¦ –ö-53 –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Ι –ö–Μ–Β–Φ–Β–Ϋ―²―¨–Β–≤–Η―΅ –·―Ä–Ψ―à–Β–≤–Η―΅–Γ –Ζ–Α–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Η―Ö –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι –Ϋ–Α –Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Α–Μ–Η ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –ù–Β ―Ö–≤–Α―²–Α–Μ–Ψ –Ψ–Ω―΄―²–Ϋ―΄―Ö ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Ψ–≤. –ê ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Η –≤ ¬Ϊ―¹―²–Α―Ä―΄―Ö¬Μ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α―Ö –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι ―΅–Β―²–≤―ë―Ä―²―΄–Ι –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹ –±―΄–Μ –Η–Ζ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η―è, –Η –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö –Β―â―ë –Ϋ–Β –Ω–Μ–Α–≤–Α–Μ, –Ζ–Α―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Ψ –¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨ –Ω–Ψ–¥ –Ϋ–Β–Ψ―¹–Μ–Α–±–Ϋ―΄–Φ –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ–Β–Φ –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β –Ψ–±―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β –≤ –Ω–Ψ–¥―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è―Ö, –Ϋ–Α –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Ω–Ψ―¹―²–Α―Ö. –€―΄ ―³–Ψ―Ä―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η –±–Ψ–Β–≤―É―é –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ―É, –≤–Β―Ä―è, ―΅―²–Ψ –≤―΄―Ö–Ψ–¥ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –±–Μ–Η–Ζ–Η―²―¹―è. –ù–Α―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α ―¹―É―à–Β –Φ–Β–Ϋ―è–Μ–Ψ –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ―É –Ϋ–Α –Φ–Ψ―Ä–Β –ù–Α―¹―²―É–Ω–Α―é―â–Η–Β ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Β –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α –Ψ―΅–Η―â–Α–Μ–Η –Ψ―² ―³–Α―à–Η―¹―²―¹–Κ–Η―Ö –Ψ–Κ–Κ―É–Ω–Α–Ϋ―²–Ψ–≤ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Κ–Ψ–≤―É―é ―΅–Α―¹―²―¨ –≠―¹―²–Ψ–Ϋ–Η–Η. 22 ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä―è –±―΄–Μ –Ψ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–Ε–¥―ë–Ϋ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ. –Θ –≥–Η―²–Μ–Β―Ä–Ψ–≤―Ü–Β–≤ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Β –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Η –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –±–Α–Ζ, –Ϋ–Η –Α―ç―Ä–Ψ–¥―Ä–Ψ–Φ–Ψ–≤ –Ϋ–Α ―é–Ε–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨–Β –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α. –‰―¹―΅–Β–Ζ–Μ–Η –Η–Ζ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α –Η―Ö –Κ–Α―²–Β―Ä–Ϋ―΄–Β –¥–Ψ–Ζ–Ψ―Ä―΄. –ù–Ψ ―ç―²–Ψ –Β―â―ë –Ϋ–Β –Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ, ―΅―²–Ψ –≤–¥–Ψ–Μ―¨ –Ψ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–Ε–¥―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨―è –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Ι―²–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ. –î–Α–Ε–Β –Ϋ–Α ―Ä–Β–Ι–¥–Α―Ö –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ―É –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ ―¹―²–Α―²―¨ –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Ι –±–Α–Ζ–Ψ–Ι –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α, –Η –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Α―Ö –Κ –Ϋ–Β–Φ―É, ―²–Α–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Β –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –Φ–Η–Ϋ, –Η ―²―É–¥–Α –Β―â―ë –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―¹―²–Η –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η.
–£―Ä–Α–≥, –≤―΄―²–Β―¹–Ϋ―è–Β–Φ―΄–Ι –Η–Ζ –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–±–Ψ―²–Η–Μ―¹―è, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ζ–Α–Μ–Η–≤ –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Β–Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄–Φ –¥–Μ―è –Ϋ–Α―à–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ. –¦–Β―²–Ψ–Φ 1944 –≥–Ψ–¥–Α –Κ ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–≤―à–Η–Φ –Ζ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è–Φ –±―΄–Μ–Η –¥–Ψ–±–Α–≤–Μ–Β–Ϋ―΄ –Β―â―ë ―²―΄―¹―è―΅–Η –Φ–Η–Ϋ. –ù–Α–¥ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Φ–Η ―É―΅–Α―¹―²–Κ–Α–Φ–Η –ù–Α―Ä–≥–Β–Ϋ-–ü–Ψ―Ä–Κ–Κ–Α–Μ–Α―É–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä―É–±–Β–Ε–Α –Ω–Ψ–≤–Η―¹–Μ–Η –≤ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Β –Α―ç―Ä–Ψ―¹―²–Α―²―΄, βÄî –Ω–Ψ–Φ–Β―Ö–Α –¥–Μ―è ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―²–Ψ–≤, –Β―¹–Μ–Η –±―΄ –Ψ–Ϋ–Η –Ω–Ψ–Ω―΄―²–Α–Μ–Η―¹―¨ –±–Ψ–Φ–±–Η―²―¨ ―¹–Β―²–Η ―¹ –Φ–Α–Μ–Ψ–Ι –≤―΄―¹–Ψ―²―΄.
–£ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Β –Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö –Φ–Η–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Κ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –≤–Ψ–Ζ―Ä–Ψ―¹–Μ–Α –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α –£–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Φ –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω–Μ―ë―¹–Β, βÄî ¬Ϊ–Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ―¨–Β¬Μ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä―É–±–Β–Ε–Α. –£ ―ç―²–Ψ–Φ –Φ―΄ ―É–¥–Ψ―¹―²–Ψ–≤–Β―Ä–Η–Μ–Η―¹―¨, –Ω―Ä–Β–¥–Ω―Ä–Η–Ϋ―è–≤ –≤ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Β ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä―è ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ―É ¬Ϊ–€–Α–Μ―é―²–Κ–Α–Φ–Η¬Μ –Φ–Β–Ε–¥―É –¦–Α–≤–Β–Ϋ―¹–Α―Ä–Η –Η –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥–Ψ–Φ. –¦–Η―à―¨ –Ψ–¥–Ϋ–Α –Η–Ζ ―²―Ä―ë―Ö –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, βÄî –€-90 –Ω–Ψ–¥ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α –°.–Γ.–†―É―¹―¹–Η–Ϋ–Α, –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ–Α ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥―΄–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥ –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω–Ψ–Μ―É―΅–Ϋ–Ψ.
–î―Ä―É–≥–Α―è ¬Ϊ–€–Α–Μ―é―²–Κ–Α¬Μ –€-102 –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Α―¹―¨ ―¹ ―¹–Β―Ä―¨―ë–Ζ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η.
–ê ―²―Ä–Β―²―¨―è, –€-96, –Ω–Ψ–≥–Η–±–Μ–Α ―¹–Ψ –≤―¹–Β–Φ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Φ. –ï―é –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –ê.–‰.–€–Α―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ, –Ω–Β―Ä–Β–≤–Β–¥―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Α –Γ-13, –Α ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –ù.–‰.–ö–Α―Ä―²–Α―à–Ψ–≤. –ü―É―²―¨ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ―³–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Β ―à―Ö–Β―Ä―΄ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―² –ù–Ψ –≤–Ψ―¹–Ω―Ä–Β–Ω―è―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤―΄―Ö–Ψ–¥―É –Ϋ–Α―à–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –≥–Η―²–Μ–Β―Ä–Ψ–≤―Ü―΄ –≤―¹―ë ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Φ–Ψ–≥–Μ–Η. –ü–Ψ–¥ ―É–¥–Α―Ä–Α–Φ–Η ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η―Ö –≤–Ψ–Ι―¹–Κ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ ―Ä–Α–Ζ–≤–Α–Μ–Η–≤–Α―²―¨―¹―è –±–Μ–Ψ–Κ –Α–≥―Ä–Β―¹―¹–Ψ―Ä–Ψ–≤. –ü―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Μ–Ψ –Ζ–Α –±–Μ–Α–≥–Ψ –Ω–Ψ―Ä–≤–Α―²―¨ ―¹ ―³–Α―à–Η―¹―²―¹–Κ–Ψ–Ι –™–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ–Η–Β–Ι –Η –≤―΄–Ι―²–Η –Η–Ζ –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –Ω―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ –Λ–Η–Ϋ–Μ―è–Ϋ–¥–Η–Η. 19 ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä―è, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α ―é–Ε–Ϋ–Ψ–Φ –±–Β―Ä–Β–≥―É –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α –Β―â―ë ―à–Μ–Η –±–Ψ–Η –Ζ–Α –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ, ―¹ ―³–Η–Ϋ–Ϋ–Α–Φ–Η –±―΄–Μ–Ψ –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Φ–Η―Ä–Η–Β.
–ï–≥–Ψ ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è –Ω―Ä–Β–¥―É―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α–Μ–Η, –≤ ―΅–Α―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –±–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Φ―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α –≤ –Ω–Ψ―Ä―²–Α―Ö –Ξ–Β–Μ―¨―¹–Η–Ϋ–Κ–Η, –Δ ―É―Ä–Κ―É –Η –Ξ–Α–Ϋ–Κ–Ψ, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Α―Ä–Β–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Φ –Γ–Ψ―é–Ζ–Ψ–Φ ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Η –¥–Μ―è –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –±–Α–Ζ―΄ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ―É–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Β –ü–Ψ―Ä–Κ–Κ–Α–Μ–Α-–Θ–¥–¥. –£–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α–Φ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –≤ –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Β, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥, ―¹ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Β―â―ë –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –≤―΄–±–Η–≤–Α―²―¨ –Ω―΄―²–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è –Ζ–Α–Κ―Ä–Β–Ω–Η―²―¨―¹―è ―²–Α–Φ –Ϋ–Β–Φ―Ü–Β–≤. –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Β–¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Ψ –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Γ–Ψ―é–Ζ―É –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ψ –Φ–Η–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Α―Ö, –Ψ ―¹–Η―¹―²–Β–Φ–Β ―³–Α―Ä–≤–Α―²–Β―Ä–Ψ–≤. –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Β ―¹–Η–Μ―΄ –Λ–Η–Ϋ–Μ―è–Ϋ–¥–Η–Η –Ϋ–Β–Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η―¹―²―É–Ω–Α–Μ–Η –Κ ―²―Ä–Α–Μ–Β–Ϋ–Η―é –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α –Η –ê–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è.
–Δ–Α–Κ –Ψ―²–Κ―Ä―΄–Μ―¹―è –¥–Μ―è –Ϋ–Α―¹ –Ω―É―²―¨ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –≤–Ψ–¥―΄ –Λ–Η–Ϋ–Μ―è–Ϋ–¥–Η–Η, –≤―΅–Β―Ä–Α―à–Ϋ–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α, –≤ –Ψ–±―Ö–Ψ–¥ –Ω–Β―Ä–Β–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Η–≤―à–Η―Ö –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Ζ–Α–Μ–Η–≤ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö ―Ä―É–±–Β–Ε–Β–Ι. –Γ―Ä–Α–Ζ―É –¥–Β―¹―è―²―¨ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –≤―΄―à–Μ–Η –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –î–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Β –±―΄–Μ–Η ―¹ ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ–Β–Ϋ―΄ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Α–Φ ―¹―É―Ö–Ψ–Ω―É―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Α, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ―΄ –Ϋ–Α ―¹―Ä―΄–≤ –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–Ζ–Ψ–Κ –¥–Μ―è ―³–Α―à–Η―¹―²―¹–Κ–Η―Ö –Α―Ä–Φ–Η–Ι. –ê ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ω–Ψ–±–Β–¥―΄ –Ϋ–Α―à–Η―Ö –≤–Ψ–Ι―¹–Κ –Ϋ–Α ―¹―É―à–Β –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–Μ–Η –±–Α–Μ―²–Η–Ι―Ü–Α–Φ ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –≤―΄–Ι―²–Η –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Η –Ψ–Ω―è―²―¨ –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α―²―¨ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²―É.
–î–Β―¹―è―²―¨ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, βÄî –Ϋ–Α―à –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι ―ç―à–Β–Μ–Ψ–Ϋ, –±―΄–Μ–Η –≤ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Κ –±–Ψ–Β–≤―΄–Φ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α–Φ, –Η –≤―΄–≤–Ψ–¥ –Η―Ö –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¹―è –±–Β–Ζ–Ψ―²–Μ–Α–≥–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ. –Δ―Ä–Η ¬Ϊ–©―É–Κ–Η¬Μ βÄî –©-310, –©-318 –Η –©-407 βÄî –≤―΄―à–Μ–Η –Η–Ζ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Α ―É–Ε–Β 28 ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä―è. –ü–Ψ–≤―ë–Μ ―ç―²―É –≥―Ä―É–Ω–Ω―É –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Γ.–ë.–£–Β―Ä―Ö–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι. –û―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―¹–Β–Φ―¨ –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Η ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ζ–Α –Ϋ–Η–Φ–Η –¥–≤―É–Φ―è –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α–Φ–Η ―¹ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–≤–Α–Μ–Α–Φ–Η –≤ –¥–≤–Α-―²―Ä–Η –¥–Ϋ―è.
–£ –Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö –Ω―É―²―¨ –≤ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä–Β –Ω―Ä–Ψ–Μ–Β–≥–Α–Μ ―²–Α–Κ. –û―² –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Α, –Κ–Α–Κ –Η –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β –Κ –¦–Α–≤–Β–Ϋ―¹–Α―Ä–Η, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ βÄî –Ϋ–Α ―¹–Β–≤–Β―Ä, –¥–Ψ –≤―Ö–Ψ–¥–Α –≤ –Ξ–Α–Α–Ω―¹–Α―Ä―¹–Κ–Η–Β ―à―Ö–Β―Ä―΄, –Ψ―²–Κ―É–¥–Α –Β―â―ë –Ϋ–Β–¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Κ –Ϋ–Α―à–Η–Φ ―³–Α―Ä–≤–Α―²–Β―Ä–Α–Φ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―è―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η–Β ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄–Β –Κ–Α―²–Β―Ä–Α. –ù–Α ―Ä–Β–Ι–¥–Β –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –Θ–Μ―¨–Κ–Ψ―²–Α–Φ–Η–Ψ –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―² ―³–Η–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Μ–Ψ―Ü–Φ–Α–Ϋ–Ψ–≤, –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–≤–Α―²―¨ –Η―Ö –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Κ―É –≤–Ϋ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Φ–Η ―à―Ö–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ–Η ―³–Α―Ä–≤–Α―²–Β―Ä–Α–Φ–Η –¥–Α–Μ―¨―à–Β –¥–Ψ ―Ä–Β–Ι–¥–Α –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –Θ―²―ç. –Δ –Ψ–≥–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Β–Ι–¥–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ –≤–Α–Ε–Ϋ―΄–Φ ―É–Ζ–Μ–Ψ–Φ –Ϋ–Α –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η–Κ–Α―Ü–Η―è―Ö –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α, –Η –Κ―É–¥–Α ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Ω―Ä–Β–≥―Ä–Α–¥―΄ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –≤ ―¹–Ψ―Ä–Ψ–Κ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –≥–Ψ–¥―É.
–Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ ―Ä–Β–Ι–¥ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –Θ―²―ç ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ―¹―è –¥–Μ―è –Ϋ–Α―à–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ ―²–Β–Φ, ―΅–Β–Φ –±―΄–Μ –¥–Μ―è –Ϋ–Η―Ö ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Μ―ë―¹. –û―²―¹―é–¥–Α –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Η―Ö ―¹–Α–Φ–Ψ―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Β –≤ –Μ―é–±―΄–Β ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ―΄ –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Η.
–ü―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Κ–Α –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö ―²―Ä―ë―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –¥–Ψ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –Θ―²―ç –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Α –±–Β–Ζ –Ψ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι. 3 –Ψ–Κ―²―è–±―Ä―è –Ψ–Ϋ–Η ―É–Ε–Β –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β. –ù–Ψ–≤―΄–Β –±–Ψ–Β–≤―΄–Β ―É―¹–Ω–Β―Ö–Η –±–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –£―²–Ψ―Ä–Α―è –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α –Β―â―ë ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α –Η–Ζ ―³–Η–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö ―à―Ö–Β―Ä, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –©-310 –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –Γ.–ù.–ë–Ψ–≥–Ψ―Ä–Α–¥ ―Ä–Α–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ, ―΅―²–Ψ 6 –Ψ–Κ―²―è–±―Ä―è –Η–Φ –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –£–Η–Ϋ–¥–Α–≤―΄ –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η–Ι ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―². –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –©-310 –Γ–Β–Φ―ë–Ϋ –ù–Α―É–Φ–Ψ–≤–Η―΅ –ë–Ψ–≥–Ψ―Ä–Α–¥–≠―²–Ψ –±―΄–Μ–Α –Ω–Β―Ä–≤–Α―è –Ω–Ψ–±–Β–¥–Α –±–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ―¹–Β–Ϋ–Η 1942 –≥–Ψ–¥–Α, –Ψ―²–Κ―Ä―΄–≤―à–Α―è –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―¹―΅―ë―² –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –≤ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Κ–Α–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η. –û–Ϋ–Α –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤ –Ϋ–Β–Ψ–±―΄―΅–Ϋ―΄–Β –¥–Μ―è –±–Α–Μ―²–Η–Ι―Ü–Β–≤ –Κ–Α–Μ–Β–Ϋ–¥–Α―Ä–Ϋ―΄–Β ―¹―Ä–Ψ–Κ–Η, –Ϋ–Ψ ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–≤ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –±–Α–Ζ―΄ –≤ –Λ–Η–Ϋ–Μ―è–Ϋ–¥–Η–Η, –Ϋ–Α―à–Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –Η –Ζ–Η–Φ–Ψ–Ι. –û–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Α –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Β –Ψ―¹–Β–Ϋ―¨―é 1944 –≥–Ψ–¥–Α –ü―Ä–Β–Ε–¥–Β ―΅–Β–Φ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―²―¨ –Ψ –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –¥–Β–Μ–Α―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Κ–Α―¹–Ϋ―É―¹―¨ –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Η, ―¹–Μ–Ψ–Ε–Η–≤―à–Β–Ι―¹―è –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Β –≤ –Ψ–Κ―²―è–±―Ä–Β 1944 –≥–Ψ–¥–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α―à–Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ζ–Α –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Α–Φ–Η –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –©-310 –Γ–Β–Φ―ë–Ϋ –ù–Α―É–Φ–Ψ–≤–Η―΅ –ë–Ψ–≥–Ψ―Ä–Α–¥–≠―²–Ψ –±―΄–Μ–Α –Ω–Β―Ä–≤–Α―è –Ω–Ψ–±–Β–¥–Α –±–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ―¹–Β–Ϋ–Η 1942 –≥–Ψ–¥–Α, –Ψ―²–Κ―Ä―΄–≤―à–Α―è –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―¹―΅―ë―² –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –≤ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Κ–Α–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η. –û–Ϋ–Α –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤ –Ϋ–Β–Ψ–±―΄―΅–Ϋ―΄–Β –¥–Μ―è –±–Α–Μ―²–Η–Ι―Ü–Β–≤ –Κ–Α–Μ–Β–Ϋ–¥–Α―Ä–Ϋ―΄–Β ―¹―Ä–Ψ–Κ–Η, –Ϋ–Ψ ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–≤ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –±–Α–Ζ―΄ –≤ –Λ–Η–Ϋ–Μ―è–Ϋ–¥–Η–Η, –Ϋ–Α―à–Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –Η –Ζ–Η–Φ–Ψ–Ι. –û–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Α –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Β –Ψ―¹–Β–Ϋ―¨―é 1944 –≥–Ψ–¥–Α –ü―Ä–Β–Ε–¥–Β ―΅–Β–Φ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―²―¨ –Ψ –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –¥–Β–Μ–Α―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Κ–Α―¹–Ϋ―É―¹―¨ –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Η, ―¹–Μ–Ψ–Ε–Η–≤―à–Β–Ι―¹―è –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Β –≤ –Ψ–Κ―²―è–±―Ä–Β 1944 –≥–Ψ–¥–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α―à–Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ζ–Α –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Α–Φ–Η –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α.
–û―΅–Η―¹―²–Η–≤ –Ψ―² –≤―Ä–Α–≥–Α –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Κ–Ψ–≤―É―é ―΅–Α―¹―²―¨ –≠―¹―²–Ψ–Ϋ–Η–Η, –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Α –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η –≤–Ψ –≤–Ζ–Α–Η–Φ–Ψ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Η ―¹ ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η―é –Ω–Ψ –Ψ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―é –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Ψ–≤ –€–Ψ–Ψ–Ϋ–Ζ―É–Ϋ–¥–Α. –ë―΄–Μ–Α ―É–Ε–Β –Ψ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Α –≤–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Α―è ―΅–Α―¹―²―¨ –¦–Α―²–≤–Η–Η, –Ζ–Α–≤―è–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –±–Ψ–Η –Ζ–Α –†–Η–≥―É. –Δ–Β–Φ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Β–Φ 1-–Ι –ü―Ä–Η–±–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι ―³―Ä–Ψ–Ϋ―² –≤―΄―à–Β–Μ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨–Β ―é–Ε–Ϋ–Β–Β –¦–Η–±–Α–≤―΄, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ –Ϋ–Α –¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ ―É―΅–Α―¹―²–Κ–Β βÄî ―é–Ε–Ϋ–Β–Β –ö–Μ–Α–Ι–Ω–Β–¥―΄, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ ―É –Ϋ–Β–Φ―Ü–Β–≤ –€–Β–Φ–Β–Μ–Β–Φ.
–ù–Α –ö―É―Ä–Μ―è–Ϋ–¥―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ―É–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Β, –Φ–Β–Ε–¥―É –†–Η–Ε―¹–Κ–Η–Φ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Ψ–Φ –Η –Φ–Ψ―Ä–Β–Φ, –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ψ―²―Ä–Β–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ–Α―è –≥―Ä―É–Ω–Ω–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Α –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Ψ-―³–Α―à–Η―¹―²―¹–Κ–Η―Ö –≤–Ψ–Ι―¹–Κ, –≤–Κ–Μ―é―΅–Α–≤―à–Α―è –Η ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è, ―¹―²–Ψ―è–≤―à–Η–Β –Β―â―ë –Ϋ–Β–¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Ψ–Φ. –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Β –Ω―É―²–Η ―¹―²–Α–Μ–Η –Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η, ―¹–≤―è–Ζ―΄–≤–Α―é―â–Η–Φ–Η –Β―ë ―¹ –£–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –ü―Ä―É―¹―¹–Η–Β–Ι –Η –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –™–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ–Η–Β–Ι.
–£ ―²–Α–Κ–Η―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö –Ω―Ä–Η–Ψ–±―Ä–Β–Μ–Ψ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α―Ä―É―à–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–Ζ–Ψ–Κ –Φ–Β–Ε–¥―É –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η–Φ–Η ―²―΄–Μ–Α–Φ–Η –Η –¦–Η–±–Α–≤–Ψ–Ι, –£–Η–Ϋ–¥–Α–≤–Ψ–Ι –Η –Β―â―ë ―É–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Β–Φ―΄–Φ –≥–Η―²–Μ–Β―Ä–Ψ–≤―Ü–Α–Φ–Η –€–Β–Φ–Β–Μ–Β–Φ, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α–Φ–Η –€–Ψ–Ψ–Ϋ–Ζ―É–Ϋ–¥–Α –Η –†–Η–≥–Ψ–Ι. –£ –±–Ψ―Ä―¨–±―É –Ϋ–Α –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η–Κ–Α―Ü–Η―è―Ö –≤―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Η ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–Ι –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Η, –Ω–Β―Ä–Β–±–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–≤―à–Η–Β―¹―è –≤ –ü―Ä–Η–±–Α–Μ―²–Η–Κ―É. –ö–Α–Κ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α―à–Η –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α –≤―΄―à–Μ–Η –Ϋ–Α –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨–Β –¦–Η―²–≤―΄, ―²–Α–Φ, –Β―â―ë –¥–Ψ –Ψ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –ü–Α–Μ–Α–Ϋ–≥–Η, –Ψ―²–±–Η―²–Ψ–Ι ―É –≤―Ä–Α–≥–Α 10 –Ψ–Κ―²―è–±―Ä―è, –±―΄–Μ–Ψ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ψ –±–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ–Α―²–Β―Ä–Ψ–≤.
–ù–Ψ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ω–Ψ–¥–Ψ–Μ–≥―É –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨―¹―è –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Η –±–Μ–Ψ–Κ–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É–Β–Φ―΄–Β –≤―Ä–Α–≥–Ψ–Φ –Ω–Ψ―Ä―²―΄, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β ―³–Μ–Ψ―²–Α –≤–Ψ–Ζ–Μ–Α–≥–Α–Μ–Ψ –Ψ―¹–Ψ–±―΄–Β –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–¥―΄. –ü–Ψ―²–Ψ–Φ―É –Η ―³–Ψ―Ä―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è –Η―Ö –≤―΄―Ö–Ψ–¥ –Η–Ζ –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α, –Κ–Α–Κ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ―²–Κ―Ä―΄–Μ―¹―è –¥–Μ―è ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ω―É―²―¨.
–Δ―Ä–Η ¬Ϊ–©―É–Κ–Η¬Μ, –≤―΄–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Ω–Β―Ä–≤―΄–Φ–Η, –Ω–Ψ―¹―΄–Μ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Κ ¬Ϊ–Κ―É―Ä–Μ―è–Ϋ–¥―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Κ–Ψ―²–Μ―É¬Μ ―¹ –Ζ–Α–¥–Α―΅–Β–Ι ―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Α―²―¨ ―¹―É–¥–Α –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α, ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Β –Η–Ζ –¦–Η–±–Α–≤―΄, –£–Η–Ϋ–¥–Α–≤―΄, –€–Β–Φ–Β–Μ―è –Η–Μ–Η –≤ ―ç―²–Η –Ω–Ψ―Ä―²―΄, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ω―Ä–Β―¹–Β–Κ–Α―²―¨ –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–Ζ–Κ–Η –Η–Ζ –†–Η–≥–Η ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –‰―Ä–±–Β–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤. –ö–Α–Ε–¥–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¹―è ―¹–≤–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι, –≤ –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Α―Ö –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Ϋ–Α –Φ–Ψ–≥–Μ–Α –≤–Β―¹―²–Η –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–Η―¹–Κ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α. –ë–Ψ–≥–Ψ―Ä–Α–¥ –¥–Ψ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Μ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Β –Ζ–Α–¥–Α–Ϋ–Η–Β –Δ―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―², –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ¬Ϊ–©―É–Κ–Ψ–Ι¬Μ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ë–Ψ–≥–Ψ―Ä–Α–¥–Α 6 –Ψ–Κ―²―è–±―Ä―è (–Κ–Α–Κ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Η βÄî ¬Ϊ–ù–Ψ―Ä–¥―à―²–Β―Ä–Ϋ¬Μ), –±―΄–Μ –Α―²–Α–Κ–Ψ–≤–Α–Ϋ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Α―Ö –Κ –‰―Ä–±–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤―É. –û–Ϋ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Μ―¹―è –Η–Μ–Η –Κ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤―É –Γ–Α–Α―Ä–Β–Φ–Α–Α, –≥–¥–Β –≤―ë–Μ –±–Ψ–Η –Ϋ–Α―à –¥–Β―¹–Α–Ϋ―², –Η–Μ–Η, –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, –≤ –†–Η–≥―É.
–ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –©-310 ―É–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤ –Φ–Ψ–Η―Ö –Ζ–Α–Ω–Η―¹–Κ–Α―Ö, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―Ä–Β―΅―¨ ―à–Μ–Α –Ψ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α―Ö 1942 –≥–Ψ–¥–Α. –Δ–Ψ–≥–¥–Α –Β―é –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ –î.–ö.–·―Ä–Ψ―à–Β–≤–Η―΅, –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–≤―à–Η–Ι―¹―è ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –≤―΄–≤–Β―¹―²–Η –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Ψ–≤. –ù–Ψ–≤―΄–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ¬Ϊ–©―É–Κ–Η¬Μ –Γ–Β–Φ―ë–Ϋ –ù–Α―É–Φ–Ψ–≤–Η―΅ –ë–Ψ–≥–Ψ―Ä–Α–¥, –≤ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ ―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α, –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―¹–Κ–Η–Β –Κ–Μ–Α―¹―¹―΄ –Θ―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²―Ä―è–¥–Α –Ω–Ψ–¥–Ω–Μ–Α–≤–Α –Ω–Β―Ä–Β–¥ ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ–Ι, –Ϋ–Ψ –≤ –¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ψ–Ϋ ―É–Ε–Β –Ω–Ψ –Ω―Ä–Α–≤―É ―¹―΅–Η―²–Α–Μ―¹―è –Ψ–Ω―΄―²–Ϋ―΄–Φ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ. –ü–Μ–Α–≤–Α–Μ –Ϋ–Α –î-2 –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α ―É –†.–£.–¦–Η–Ϋ–¥–Β–Ϋ–±–Β―Ä–≥–Α, –Α –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥―΄ ―ç―²–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –±―΄–Μ–Η ―²–Α–Κ–Η–Φ–Η, ―΅―²–Ψ –Β―ë –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Η –Ϋ–Β ―à–Κ–Ψ–Μ―É –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄, –Α, –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―Ü–Β–Μ―΄–Ι ―É–Ϋ–Η–≤–Β―Ä―¹–Η―²–Β―². –‰ –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ω–Ψ–Ϋ–Α–¥–Ψ–±–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ–Α –·―Ä–Ψ―à–Β–≤–Η―΅―É, –ë–Ψ–≥–Ψ―Ä–Α–¥―É –±–Β–Ζ –Κ–Ψ–Μ–Β–±–Α–Ϋ–Η–Ι –≤–≤–Β―Ä–Η–Μ–Η ¬Ϊ–©―É–Κ―É¬Μ ―¹ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Φ, ―¹–Ω–Μ–Ψ―΅―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Φ, ―¹ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Ψ―à―ë–Μ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Ι –Κ―É―Ä―¹ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η –Ϋ–Α –¦–Α–¥–Ψ–≥–Β.
–û–Κ―²―è–±―Ä―¨―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ―³–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Β ―à―Ö–Β―Ä―΄ –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ –£–Η–Ϋ–¥–Α–≤–ΑβÄ™–‰―Ä–±–Β–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤ –±―΄–Μ –Β–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Φ –Ϋ–Β―É―΅–Β–±–Ϋ―΄–Φ ―¹–Α–Φ–Ψ―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ. –ê ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Α―è ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ–Α―è –Α―²–Α–Κ–Α –Ϋ–Α –≤―²–Ψ―Ä―΄–Β ―¹―É―²–Κ–Η –Ω–Ψ –Ω―Ä–Η–±―΄―²–Η–Η ―²―É–¥–Α, βÄî –Β–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―¹–Κ–Η–Φ –±–Ψ–Β–≤―΄–Φ –Κ―Ä–Β―â–Β–Ϋ–Η–Β–Φ.
–ü―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ –Β―â―ë –¥–≤–Ψ–Β ―¹―É―²–Ψ–Κ, –Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –©-310, –Κ―É―Ä―¹–Η―Ä―É―è –Ϋ–Ψ―΅―¨―é –≤–¥–Ψ–Μ―¨ –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨―è –±–Μ–Η–Ζ –£–Η–Ϋ–¥–Α–≤―΄, –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–Μ ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―è–Β–Φ―΄–Ι –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α. –ü–Μ–Ψ―Ö–Α―è –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨ –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ–Η–Μ–Α ―¹–Κ―Ä―΄―²–Ϋ–Ψ ―¹–±–Μ–Η–Ζ–Η―²―¨―¹―è ―¹ –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Β–Φ –≤ –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η. –Δ–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Α–Φ–Η ¬Ϊ–©―É–Κ–Η¬Μ –±―΄–Μ–Η –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ―΄ ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―² –Η –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –±―É–Κ―¹–Η―Ä. –ö–Α–Κ –Ζ–Α―²–Β–Φ –≤―΄―è―¹–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨, –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―²―É ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Α –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ–Μ―²–Ψ―Ä―΄ ―²―΄―¹―è―΅–Η –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η―Ö ―¹–Ψ–Μ–¥–Α―² –Η –≥―Ä―É–Ζ –±–Ψ–Β–Ω―Ä–Η–Ω–Α―¹–Ψ–≤, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Β –Φ–Α–≥–Ϋ–Η―²–Ϋ–Ψ-–Α–Κ―É―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Φ–Η–Ϋ―΄.
–ü–Ψ―¹–Μ–Β –Α―²–Α–Κ–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α, –Η–Ζ–±–Β–Ε–Α–≤ –Ω―Ä–Β―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è, –Ψ―²–Ψ―à–Μ–Α –Φ–Ψ―Ä–Η―¹―²–Β–Β. –Δ ―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ –≥–Η―²–Μ–Β―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Ψ –Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–≤―à–Β–Φ―¹―è ―Ä–Α–Ζ–≤―ë―Ä―²―΄–≤–Α–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Α―à–Η―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Β―¹–Μ–Η ―É―΅–Β―¹―²―¨, –Κ–Α–Κ–Η–Φ –Ω―É―²―ë–Φ ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ψ–Ϋ–Η –≤―΄–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –Η–Ζ –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α. –Δ–Β–Φ –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β, –Ω–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β ¬Ϊ–©―É–Κ–Η¬Μ –ë–Ψ–≥–Ψ―Ä–Α–¥–Α –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η–Κ–Α―Ü–Η–Η, –≥–¥–Β ―à–Μ–Η –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Η–Ϋ―²–Β–Ϋ―¹–Η–≤–Ϋ―΄–Β –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–Ζ–Κ–Η, ―¹―É–¥―è –Ω–Ψ –≤―¹–Β–Φ―É, –Ζ–Α―¹―²–Α–Μ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –≤―Ä–Α―¹–Ω–Μ–Ψ―Ö.
–Δ–Β–Φ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Β–Φ –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Η ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ψ ―¹–Κ–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η―Ö ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–≤ –Η –¥―Ä―É–≥–Η―Ö ―¹―É–¥–Ψ–≤ –≤ –£–Η–Ϋ–¥–Α–≤–Β. 12 –Ψ–Κ―²―è–±―Ä―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É –©-310 –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ψ –¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨―¹―è –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―Ä―²–Α. –ù–Α―Ö–Ψ–¥―è―¹―¨ ―²–Α–Φ, –ë–Ψ–≥–Ψ―Ä–Α–¥ –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–Μ –≤―΄―à–Β–¥―à–Η–Ι –Η–Ζ –£–Η–Ϋ–¥–Α–≤―΄ –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Ι –Η –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤―ë–Μ –Β―â―ë –Ψ–¥–Ϋ―É ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ―É―é –Α―²–Α–Κ―É, –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Η–≤ ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―² ¬Ϊ–ö–Α―Ä–Μ –Π–Β–Ι―¹¬Μ. –î–Ψ–Ϋ–Ψ―¹―è –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ, –Ψ–Ϋ ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Η–Ζ―Ä–Α―¹―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤–Α–Μ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Β ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥―΄ –Η –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α–Β―²―¹―è –≤ –±–Α–Ζ―É. –ü―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ψ –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η―²―¨ –©-310 –î–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α―²―¨―¹―è, –Φ―΄ –Ϋ–Β –Ψ–Ε–Η–¥–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Η–Ζ –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –≤―΄–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –≤ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β –Ψ–Κ―²―è–±―Ä―è ―¹ –Ζ–Α–Ω–Α―¹–Α–Φ–Η –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Ι ―¹―Ä–Ψ–Κ –Α–≤―²–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ψ–Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è ―²–Α–Κ–Η–Φ –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Η–Φ. –£ ―³–Η–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä―²–Α―Ö, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ–Η –Φ―΄ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ–Η –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è, –Β―â―ë –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Η –Ϋ–Α―à–Η―Ö –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–≤–Α―é―â–Η―Ö ―¹–Μ―É–Ε–±, –Ϋ–Η –Ω–Μ–Α–≤–±–Α–Ζ. –£ –Ξ–Β–Μ―¨―¹–Η–Ϋ–Κ–Η, –Κ–Α–Κ –Φ―΄ –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η, –Ω–Β―Ä–Β―à–Μ–Α –Ω–Ψ–Κ–Α –Μ–Η―à―¨ –Κ–Α–Ϋ–Ψ–Ϋ–Β―Ä―¹–Κ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α ¬Ϊ–ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Β –½–Ϋ–Α–Φ―è¬Μ, –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―ë–Φ-―¹―²–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α―Ä–Ψ–Φ –Ω―Ä–Η –Γ–Ψ―é–Ζ–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η–Η –Ω–Ψ ―¹–Ψ–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η―é ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η–Ι –Ω–Β―Ä–Β–Φ–Η―Ä–Η―è. –î–Α –Η –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Α –Β―â―ë –Ψ―²–Μ–Α–Ε–Β–Ϋ–Α –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―è –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Η –Η –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Β–Ι –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Κ–Η –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α―é―â–Η―Ö―¹―è ―¹ –Φ–Ψ―Ä―è.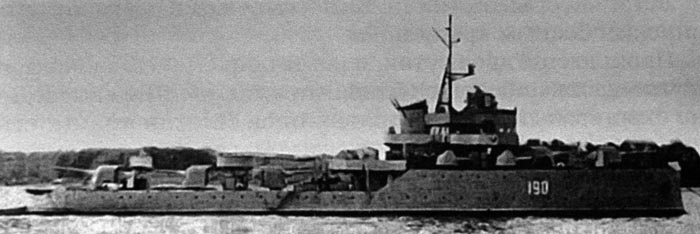 –ö–Α–Ϋ–Ψ–Ϋ–Β―Ä―¹–Κ―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α ¬Ϊ–ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Β –½–Ϋ–Α–Φ―è¬Μ. –Λ–Η–Ϋ–Μ―è–Ϋ–¥–Η―è, –Ψ―¹–Β–Ϋ―¨ 1944 –≥–Ψ–¥–Α–û–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α―à–Η―Ö –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ψ–≤ –Η –Ϋ―É–Ε–¥ –≤ –Ω–Ψ―Ä―²–Α―Ö –Η –≤–Ψ–¥–Α―Ö –≤―΅–Β―Ä–Α―à–Ϋ–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―¹―É–Φ–Β–Μ –≤―΄–Ι―²–Η –Η–Ζ –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄, ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–≤ ―¹–≤–Ψ–Ι –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Η―²–Β―², –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β –≤―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ –≤ –Κ–Ψ–Φ–Ω–Β―²–Β–Ϋ―Ü–Η―é –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄. –ù–Ψ –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α―²―¨ –Ψ –Ζ–Α―²―Ä―É–¥–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è―Ö –Η –Ϋ–Β―è―¹–Ϋ–Ψ―¹―²―è―Ö, –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Α–≤―à–Η―Ö –≤ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Β–¥–≤–Η–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –±―΄―¹―²―Ä―΄–Φ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ¬Ϊ–©―É–Κ–Η¬Μ –Η–Ζ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α, –Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ―É –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ϋ–Α–¥–Ψ–±–Η–Μ–Ψ―¹―¨: ―ç―²–Η–Φ ―É–Ε–Β –Ζ–Α–Ϋ―è–Μ―¹―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ. –ö–Α–Ϋ–Ψ–Ϋ–Β―Ä―¹–Κ―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α ¬Ϊ–ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Β –½–Ϋ–Α–Φ―è¬Μ. –Λ–Η–Ϋ–Μ―è–Ϋ–¥–Η―è, –Ψ―¹–Β–Ϋ―¨ 1944 –≥–Ψ–¥–Α–û–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α―à–Η―Ö –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ψ–≤ –Η –Ϋ―É–Ε–¥ –≤ –Ω–Ψ―Ä―²–Α―Ö –Η –≤–Ψ–¥–Α―Ö –≤―΅–Β―Ä–Α―à–Ϋ–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―¹―É–Φ–Β–Μ –≤―΄–Ι―²–Η –Η–Ζ –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄, ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–≤ ―¹–≤–Ψ–Ι –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Η―²–Β―², –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β –≤―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ –≤ –Κ–Ψ–Φ–Ω–Β―²–Β–Ϋ―Ü–Η―é –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄. –ù–Ψ –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α―²―¨ –Ψ –Ζ–Α―²―Ä―É–¥–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è―Ö –Η –Ϋ–Β―è―¹–Ϋ–Ψ―¹―²―è―Ö, –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Α–≤―à–Η―Ö –≤ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Β–¥–≤–Η–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –±―΄―¹―²―Ä―΄–Φ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ¬Ϊ–©―É–Κ–Η¬Μ –Η–Ζ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α, –Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ―É –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ϋ–Α–¥–Ψ–±–Η–Μ–Ψ―¹―¨: ―ç―²–Η–Φ ―É–Ε–Β –Ζ–Α–Ϋ―è–Μ―¹―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ.
–ö–Α–Κ –±―΄–≤–Α–Μ–Ψ –Η –≤ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –¥―Ä―É–≥–Η―Ö ―¹–Μ―É―΅–Α―è―Ö, –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –£.–Λ.–Δ―Ä–Η–±―É―Ü –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Ϋ–Η–Μ –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―² –Ω―Ä―è–Φ–Ψ –Φ–Ϋ–Β.
βÄî –î–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²–Β ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É –Κ–Ψ–Φ–±―Ä–Η–≥―É, ―΅―²–Ψ ―è –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –≤–Α–Φ ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Ε–Β –≤―΄–Μ–Β―²–Β―²―¨ –≤ –Ξ–Β–Μ―¨―¹–Η–Ϋ–Κ–Η, βÄî ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –Λ–Η–Μ–Η–Ω–Ω–Ψ–≤–Η―΅. βÄî –£–Α–Φ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –±―É–¥–Β―² ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ―É –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η―²―¨ –ë–Ψ–≥–Ψ―Ä–Α–¥–Α ―É –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –Θ―²―ç, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Η―Ö –Ϋ–Α–Κ–Μ–Α–¥–Ψ–Κ. –ü–Ψ–Ι–¥―ë―²–Β –Ϋ–Α ―³–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Κ–Α―²–Β―Ä–Β. –½–Α –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨―é –Ω–Ψ –≤―¹–Β–Φ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Α–Φ –Ψ–±―Ä–Α―â–Α–Ι―²–Β―¹―¨ –≤ –ö–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ―¨–Ϋ―É―é –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η―é.
–û–±―ä―è―¹–Ϋ–Η–≤ –Φ–Ψ―é –Ζ–Α–¥–Α―΅―É, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –¥–Ψ–±–Α–≤–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η–Β –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²―¨ –¥–Μ―è –Φ–Β–Ϋ―è ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―² ―É–Ε–Β –Ψ―²–¥–Α–Ϋ–Ψ.
–£―΄–Μ–Β―²–Β–Μ–Η –Φ―΄ ―¹ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Α―ç―Ä–Ψ–¥―Ä–Ψ–Φ–Α –ë―΄―΅―¨–Β –ü–Ψ–Μ–Β, –Ψ―²–Κ―É–¥–Α ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β –¥–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Μ–Β―²–Α―²―¨ –Μ–Η―à―¨ –Ϋ–Α –±–Μ–Η–Ε–Ϋ–Η–Β –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α. –€–Β–Ϋ―è –Ω–Ψ―¹–Α–¥–Η–Μ–Η –≤ –Η―¹―²―Ä–Β–±–Η―²–Β–Μ―¨ –¦–Α-5, –Η–Φ–Β–≤―à–Η–Ι –≤―²–Ψ―Ä―É―é –Κ–Α–±–Η–Ϋ―É. –î―Ä―É–≥–Ψ–Ι –Η―¹―²―Ä–Β–±–Η―²–Β–Μ―¨, –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ–Β―¹―²–Ϋ―΄–Ι, –Ϋ–Α―¹ ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Α–Μ. –î–Ψ–Μ–Β―²–Β–≤ –¥–Ψ ―¹–Β―Ä–Β–¥–Η–Ϋ―΄ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α, ―¹–Β–Μ–Η –Ϋ–Α ―é–Ε–Ϋ–Ψ–Φ –±–Β―Ä–Β–≥―É –≥–¥–Β-―²–Ψ –Ω–Ψ–¥ –Δ –Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Ψ–Φ –Η –¥–Ψ–Ζ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η―¹―¨, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Μ―ë―²―΅–Η–Κ–Α–Φ ―Ö–≤–Α―²–Η–Μ–Ψ –≥–Ψ―Ä―é―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α –Ψ–±―Ä–Α―²–Ϋ―΄–Ι –Ω―É―²―¨. –ê –Ψ―²―²―É–¥–Α βÄî –Ω―Ä―è–Φ–Ψ –Ϋ–Α ―¹–Β–≤–Β―Ä, –≤ –Λ–Η–Ϋ–Μ―è–Ϋ–¥–Η―é. –‰―¹―²―Ä–Β–±–Η―²–Β–Μ―¨ –¦–Α-5–ù–Α –Α―ç―Ä–Ψ–¥―Ä–Ψ–Φ–Β –±–Μ–Η–Ζ –Ξ–Β–Μ―¨―¹–Η–Ϋ–Κ–Η ―É ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―²–Α ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ―¹―è ―³–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ. –ö–Ψ―Ä―Ä–Β–Κ―²–Ϋ–Ψ –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –Ω–Ψ-―Ä―É―¹―¹–Κ–Η, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ ¬Ϊ–≤―¹―²―Ä–Β―²–Η―²―¨ –Η ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Α―²―¨ –≥–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥–Η–Ϋ–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α¬Μ. –•–¥–Α–Μ–Α –Η –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Α. –ï―Ö–Α–Μ–Η –Φ–Ψ–Μ―΅–Α. –Γ–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Α―é―â–Η–Ι ―¹ ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Α–Φ–Η –Ϋ–Β –Ϋ–Α–≤―è–Ζ―΄–≤–Α–Μ―¹―è, –Α ―è –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Μ, –Ψ ―΅―ë–Φ ―¹ –Ϋ–Η–Φ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨. –Γ–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ –Ϋ–Α –Α–Κ–Κ―É―Ä–Α―²–Ϋ–Β–Ϋ―¨–Κ–Η–Β –Ω―Ä–Η–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―΄, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ βÄî –Ϋ–Α ―É–¥–Η–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―΅–Η―¹―²―΄–Β ―É–Μ–Η―Ü―΄ –Ξ–Β–Μ―¨―¹–Η–Ϋ–Κ–Η, –Ω–Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ ―Ä–Α―¹―Ö–Α–Ε–Η–≤–Α–Μ–Η –Ω―Ä–Η–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ –Ψ–¥–Β―²―΄–Β –Μ―é–¥–Η, –≥–¥–Β ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η―²―¨ ―¹–Μ–Β–¥―΄ ―Ä–Α–Ζ―Ä―É―à–Β–Ϋ–Η–Ι. –ê –¥―É–Φ–Α–Μ –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ ―É ―³–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–≤ ―Ö–≤–Α―²–Η–Μ–Ψ ―É–Φ–Α –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ–Η―²―¨ ―¹―É–¥―¨–±―É –™–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ–Η–Η, –≤―΄–Ι―²–Η –Η–Ζ –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄, –Ϋ–Β –¥–Ψ–≤–Ψ–¥―è –¥–Β–Μ–Ψ –¥–Ψ –±–Ψ―ë–≤ –Ζ–Α ―¹–≤–Ψ―é ―¹―²–Ψ–Μ–Η―Ü―É. –‰ –Β―â―ë –¥―É–Φ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Β―¹–Ψ–Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Φ–Ψ ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ζ–¥–Β―¹―¨, ―¹ ―Ä–Α–Ϋ–Α–Φ–Η, –Ϋ–Α–Ϋ–Β―¹―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―É, ―¹ –Β–≥–Ψ ―¹―²―Ä–Α–¥–Α–Ϋ–Η―è–Φ–Η. –‰―¹―²―Ä–Β–±–Η―²–Β–Μ―¨ –¦–Α-5–ù–Α –Α―ç―Ä–Ψ–¥―Ä–Ψ–Φ–Β –±–Μ–Η–Ζ –Ξ–Β–Μ―¨―¹–Η–Ϋ–Κ–Η ―É ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―²–Α ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ―¹―è ―³–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ. –ö–Ψ―Ä―Ä–Β–Κ―²–Ϋ–Ψ –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –Ω–Ψ-―Ä―É―¹―¹–Κ–Η, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ ¬Ϊ–≤―¹―²―Ä–Β―²–Η―²―¨ –Η ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Α―²―¨ –≥–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥–Η–Ϋ–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α¬Μ. –•–¥–Α–Μ–Α –Η –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Α. –ï―Ö–Α–Μ–Η –Φ–Ψ–Μ―΅–Α. –Γ–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Α―é―â–Η–Ι ―¹ ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Α–Φ–Η –Ϋ–Β –Ϋ–Α–≤―è–Ζ―΄–≤–Α–Μ―¹―è, –Α ―è –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Μ, –Ψ ―΅―ë–Φ ―¹ –Ϋ–Η–Φ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨. –Γ–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ –Ϋ–Α –Α–Κ–Κ―É―Ä–Α―²–Ϋ–Β–Ϋ―¨–Κ–Η–Β –Ω―Ä–Η–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―΄, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ βÄî –Ϋ–Α ―É–¥–Η–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―΅–Η―¹―²―΄–Β ―É–Μ–Η―Ü―΄ –Ξ–Β–Μ―¨―¹–Η–Ϋ–Κ–Η, –Ω–Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ ―Ä–Α―¹―Ö–Α–Ε–Η–≤–Α–Μ–Η –Ω―Ä–Η–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ –Ψ–¥–Β―²―΄–Β –Μ―é–¥–Η, –≥–¥–Β ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η―²―¨ ―¹–Μ–Β–¥―΄ ―Ä–Α–Ζ―Ä―É―à–Β–Ϋ–Η–Ι. –ê –¥―É–Φ–Α–Μ –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ ―É ―³–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–≤ ―Ö–≤–Α―²–Η–Μ–Ψ ―É–Φ–Α –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ–Η―²―¨ ―¹―É–¥―¨–±―É –™–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ–Η–Η, –≤―΄–Ι―²–Η –Η–Ζ –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄, –Ϋ–Β –¥–Ψ–≤–Ψ–¥―è –¥–Β–Μ–Ψ –¥–Ψ –±–Ψ―ë–≤ –Ζ–Α ―¹–≤–Ψ―é ―¹―²–Ψ–Μ–Η―Ü―É. –‰ –Β―â―ë –¥―É–Φ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Β―¹–Ψ–Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Φ–Ψ ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ζ–¥–Β―¹―¨, ―¹ ―Ä–Α–Ϋ–Α–Φ–Η, –Ϋ–Α–Ϋ–Β―¹―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―É, ―¹ –Β–≥–Ψ ―¹―²―Ä–Α–¥–Α–Ϋ–Η―è–Φ–Η.
–ü–Β―Ä–Β–Ϋ–Ψ―΅–Β–≤–Α–≤ –Ϋ–Α –Ψ―à–≤–Α―Ä―²–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤ –≥–Α–≤–Α–Ϋ–Η –Κ–Α–Ϋ–Μ–Ψ–¥–Κ–Β ¬Ϊ–ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Β –½–Ϋ–Α–Φ―è¬Μ, ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Φ ―É―²―Ä–Ψ–Φ –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ―¹―è –Ϋ–Α ―³–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β–≤–Ψ–Ι –Κ–Α―²–Β―Ä, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ –Η–¥―²–Η –Κ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤―É –Θ―²―ç.
–Γ―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –Β–≥–Ψ –±–Ψ―Ä―²―É: –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Μ–Η ―ç―²–Ψ―² –Κ–Α―²–Β―Ä ―¹ ―²–Ψ–Ι –Ε–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–Ι, –Ω–Ψ–¥ ―²–Β–Φ –Ε–Β ―³–Μ–Α–≥–Ψ–Φ, –Ψ―Ö–Ψ―²–Η–Μ―¹―è –Ζ–Α –Ϋ–Α―à–Η–Φ–Η –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Α–Φ–Η! –ê ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ –¥–Μ―è –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö –Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Κ–Η –Β―ë –≤ –±–Α–Ζ―É. –£ –Ω–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄ ―è –Ϋ–Β –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α–Μ ―è–≤–Ϋ–Ψ–Ι –≤―Ä–Α–Ε–¥–Β–±–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Κ–Ψ –Φ–Ϋ–Β. –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Β ―à―Ö–Β―Ä―΄ –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Β ―à―Ö–Β―Ä―΄ –£ ―à―Ö–Β―Ä–Α―Ö –Λ–Η–Ϋ–Μ―è–Ϋ–¥–Η–Η –Ϋ–Β―² –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –≤―΄–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ –Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―É―é –Ω–Ψ―΅―²–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Η –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²―¨ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ζ–Α–¥–Α–Ϋ–Η–Β. –£ ―à―Ö–Β―Ä–Α―Ö –Λ–Η–Ϋ–Μ―è–Ϋ–¥–Η–Η –Ϋ–Β―² –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –≤―΄–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ –Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―É―é –Ω–Ψ―΅―²–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Η –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²―¨ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ζ–Α–¥–Α–Ϋ–Η–Β.
–£―΄–Μ–Β―²–Α―è –Η–Ζ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Α, ―è –Ζ–Α―Ö–≤–Α―²–Η–Μ –Ω–Α―Ä―É –±–Α–Ϋ–Ψ–Κ –Κ–Ψ–Ϋ―¹–Β―Ä–≤–Ψ–≤. –†–Α–Ζ ―É–Ε –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ–Φ –Κ–Α―²–Β―Ä–Β, –Ϋ–Α–¥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Α–¥–Η―²―¨―¹―è –Ζ–Α ―¹―²–Ψ–Μ ―¹ –Β–≥–Ψ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α–Φ–Η. –ù–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è―Ö –Η–Ϋ–Α―΅–Β –Ϋ–Β –±―΄–≤–Α–Β―². –ë–Α–Ϋ–Κ―É ―²―É―à―ë–Ϋ–Κ–Η –Ψ―²–¥–Α–Μ –≤ –Ψ–±―â–Η–Ι –Κ–Ψ―²―ë–Μ. –ü―Ä–Η–Ϋ―è–Μ–Η –Ψ―Ö–Ψ―²–Ϋ–Ψ, βÄî ―¹ –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―²–Α–Φ–Η, –Κ–Α–Κ ―è –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ, ―²―É―² –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β–±–Ψ–≥–Α―²–Ψ. –‰–Ζ ―²―É―à―ë–Ϋ–Κ–Η –Ω―Ä–Η–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Η ―¹ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ –¥–Ψ–±–Α–≤–Κ–Ψ–Ι –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –±–Μ―é–¥–Ψ.
–£–Β―¹―¨ –¥–Β–Ϋ―¨ ―à–Μ–Η ―à―Ö–Β―Ä–Α–Φ–Η –Ω–Ψ –Ω―Ä–Η―΅―É–¥–Μ–Η–≤–Ψ –Η–Ζ–≤–Η–Μ–Η―¹―²―΄–Φ –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤–Α–Φ –Φ–Β–Ε–¥―É –±–Β―¹―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α–Φ–Η, –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Κ―Ä–Α―¹–Η–≤―΄–Φ–Η –¥–Α–Ε–Β –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Ψ–Ι –Ψ―¹–Β–Ϋ―¨―é.
–ù–Α ―³–Ψ–Ϋ–Β ―¹–Κ–Α–Μ –Η ―²―ë–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ζ–Β–Μ–Β–Ϋ–Η ―¹–Ψ―¹–Β–Ϋ –≤―΄–¥–Β–Μ―è–Μ–Η―¹―¨ ―è―Ä–Κ–Η–Β ―΅–Β―Ä–Β–Ω–Η―΅–Ϋ―΄–Β –Κ―Ä―΄―à–Η ―É―Ö–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –¥–Ψ–Φ–Η–Κ–Ψ–≤. –£–Ϋ–Ψ–≤―¨ –Η –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ–Ψ –Κ–Α–Ζ–Α―²―¨―¹―è, ―΅―²–Ψ –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄. –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―²
07.04.201401:3907.04.2014 01:39:27
0
07.04.201401:3007.04.2014 01:30:32
–†–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄ –Ϋ–Β–Ω–Μ–Ψ―Ö–Η, ―è –Ϋ–Α–¥ –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ –Ψ―² –¥―É―à–Η –Ω–Ψ―¹–Φ–Β―è–Μ―¹―è. –£–Ψ–Ψ–±―â–Β ―é–Φ–Ψ―Ä –Ϋ–Β–Ω–Μ–Ψ―Ö. –ù–Ψ –≤–Ψ―² –Ω–Ψ–≤–Β―¹―²―¨ –≤–Α―à–Β–≥–Ψ –¥–≤–Ψ―é―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±―Ä–Α―²―Ü–Α, –ö–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η–Ϋ-–≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι. –£ ―ç―²–Ψ–Ι –Ω–Ψ–≤–Β―¹―²–Η –Ϋ–Β–Ζ–Α―¹–Μ―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ―à–Β–Μ―¨–Φ–Ψ–≤–Α–Ϋ –≤–Α―à –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ―¨. –£―΄ –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α–Μ–Η, –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β ―΅–Β–Φ ―ç―²–Ψ―² –Ω–Α―¹–Κ–≤–Η–Μ―¨ –Ω–Β―΅–Α―²–Α―²―¨? –ß―²–Ψ –≤―΄ –Ζ–Ϋ–Α–Β―²–Β –Ψ ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Β –ö–Η―Ä―¹–Α–Ϋ–Ψ–≤–Β? –£―΄ –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Β―²–Β, –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ –≤–Ψ–Β–≤–Α–Μ, –Κ–Α–Κ ―É–±–Η–Μ–Η –Β–≥–Ψ ―¹―΄–Ϋ–Α –Η –¥–Ψ―΅―¨, –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ–≥–Η–±–Μ–Α –Ε–Β–Ϋ–Α, –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ –Ψ―²–¥–Α–Μ ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Β –Η –¥―É―à―É –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η―é –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β–Ε–Η. –†–Α–Ζ–≤–Β ―²–Α–Κ–Ψ–≤ –Ψ–Ϋ –Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –¥–Β–Μ–Β, –Κ–Α–Κ–Η–Φ –Ψ–Ω–Η―¹–Α–Ϋ –ö–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η–Ϋ―΄–Φ-–Ω–Β―Ä–≤―΄–Φ? ¬Ϊ–Γ―²―Ä–Ψ–≥–Α―΅¬Μ! –î–Α, –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Ι –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Η―΅ ―¹―²―Ä–Ψ–≥. –ö–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η–Ϋ –£–Α–Μ–Β―Ä–Η–Ι –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ –≤ –Ψ–±–Η–¥–Β. ¬Ϊ–ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ϋ–Ψ―¹¬Μ. –î–Α, ―É –ö–Η―Ä―¹–Α–Ϋ–Ψ–≤–Α –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Ψ―¹. –û―² –Κ–Ψ–Ϋ―²―É–Ζ–Η–Η. ¬Ϊ–ö–Ψ–Μ―΅–Β–Ϋ–Ψ–≥–Η–Ι¬Μ. –û–Ϋ ―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ. –· ―¹―΅–Η―²–Α―é, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ –¥–Β―à–Β–≤–Α―è –Φ–Β―¹―²―¨. –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Ι –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Η―΅ –Ω―Ä–Ψ―΅–Β–Μ –Ω–Ψ–≤–Β―¹―²―É―à–Κ―É. –£―΄ –Ζ–Ϋ–Α–Β―²–Β, –Ζ–Μ–Ψ–±–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Β―² ―¹―Ä–Α–Ζ–Η―²―¨ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α. –û–Ϋ –±–Ψ–Μ–Β–Ϋ.
–€–Ϋ–Β ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¹―è ―¹―²―΄–¥–Ϋ–Ψ. –û–±–Η–¥–Β–Μ–Η ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–≥–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α.
βÄî –£―΄ ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ―΄ –Ω–Ψ–Ι―²–Η –Η–Ζ–≤–Η–Ϋ–Η―²―¨―¹―è?
βÄî –€―΄ –Ω–Ψ–Ι–¥–Β–Φ, ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α. –Γ –≤–Α―à–Β–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―è, ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Ε–Β. –†–Α–Ζ―Ä–Β―à–Η―²–Β –Η–¥―²–Η?
βÄî –î–Α.βÄî –ë–Β–Ϋ–Η–Ϋ –Ψ―²–¥–Α–Β―² –Ϋ–Α–Φ –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ. βÄî –ö―¹―²–Α―²–Η,βÄî ―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α–Β―² –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Φ―΄ –Ω–Β―Ä–Β―¹―²―É–Ω–Α–Β–Φ –Ω–Ψ―Ä–Ψ–≥ –Κ–Α–±–Η–Ϋ–Β―²–Α,βÄî –≤―΄ ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Μ–Η –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ –Ϋ–Α –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Α?
–£–Α–¥–Η–Φ –≤―¹–Ω―΄―Ö–Η–≤–Α–Β―²:
βÄî –· –¥―É–Φ–Α–Μ, ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α, ―΅―²–Ψ ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä–Α –Ϋ–Β –±―É–¥–Β―².
βÄî –û―²―΅–Β–≥–Ψ –Ε–Β?
–€–Α–Ι–Ψ―Ä –ï―Ä–Φ–Α–Κ–Ψ–≤ –Ω–Ψ–¥―¹–Κ–Α–Κ–Η–≤–Α–Β―² –Ϋ–Α ―¹―²―É–Μ–Β. βÄî –î–Α –±―Ä–Ψ―¹―¨―²–Β –≤―΄, –ê―³–Α–Ϋ–Α―¹–Η–Ι –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅! βÄî –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α. βÄî –†–Β–±―è―²–Α–Φ ―¹–Η–Μ –¥–Β–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Β–Κ―É–¥–Α. –Γ–Φ–Ψ―²―Ä–Η―²–Β βÄî ―²–Α–Μ–Α–Ϋ―² –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö ―²–Α–Κ –Η –Ω―Ä–Β―². –ù–Α–¥–Ψ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Η―²―¨ ―ç―²–Η ―²–Α–Μ–Α–Ϋ―²―΄ –≤ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β ―Ä―É―¹–Μ–Ψ... –£–Ψ―² ―΅―²–Ψ, –ö―É–Μ–Η–Κ–Ψ–≤. –£–Α―à –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ –±―΄–Μ –Ω–Ψ–Κ–Α ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Α―²–Η―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ –Η –Κ―Ä–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ. –ê –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É –±―΄ –Ϋ–Β ―¹―²–Α―²―¨ –Β–Φ―É –Η –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ? –Δ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι ―¹–Η–Μ–Ψ–Ι ―¹―²–Α–Ϋ–Β―². –‰ –Ζ–Ϋ–Α–Β―²–Β ―΅―²–Ψ? –ü–Ψ―΅–Β–Φ―É –Ψ–Ϋ –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―΄―²―¨ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ζ–Μ―΄–Φ? –û–Ϋ –±―΄ –Φ–Ψ–≥ ―¹―²–Α―²―¨ –Η –¥–Ψ–±―Ä―΄–Φ. –‰, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Μ–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Ϋ–Ψ-―Ö―É–¥–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ. –Ξ―É–¥–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ!βÄî –Ω–Ψ–¥―΅–Β―Ä–Κ–Η–≤–Α–Β―² –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅.βÄî –≠―²–Ψ –≤–Α―¹ –Κ–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Φ―É –Ψ–±―è–Ε–Β―². –†–Α–Ζ–±–Ψ―Ä―΅–Η–≤–Β–Β –±―É–¥–Β―²–Β, ―é–Ϋ―΄–Β ―Ä–Β–¥–Α–Κ―²–Ψ―Ä―΄. –ü–Ψ―΅–Α―â–Β –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ι―²–Β –Δ–Ψ–Μ―¹―²–Ψ–≥–Ψ, –ü―É―à–Κ–Η–Ϋ–Α, –ß–Β―Ö–Ψ–≤–Α... –î–Ψ–±―Ä–Ψ! βÄî –î–Α –±―Ä–Ψ―¹―¨―²–Β –≤―΄, –ê―³–Α–Ϋ–Α―¹–Η–Ι –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅! βÄî –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α. βÄî –†–Β–±―è―²–Α–Φ ―¹–Η–Μ –¥–Β–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Β–Κ―É–¥–Α. –Γ–Φ–Ψ―²―Ä–Η―²–Β βÄî ―²–Α–Μ–Α–Ϋ―² –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö ―²–Α–Κ –Η –Ω―Ä–Β―². –ù–Α–¥–Ψ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Η―²―¨ ―ç―²–Η ―²–Α–Μ–Α–Ϋ―²―΄ –≤ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β ―Ä―É―¹–Μ–Ψ... –£–Ψ―² ―΅―²–Ψ, –ö―É–Μ–Η–Κ–Ψ–≤. –£–Α―à –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ –±―΄–Μ –Ω–Ψ–Κ–Α ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Α―²–Η―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ –Η –Κ―Ä–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ. –ê –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É –±―΄ –Ϋ–Β ―¹―²–Α―²―¨ –Β–Φ―É –Η –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ? –Δ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι ―¹–Η–Μ–Ψ–Ι ―¹―²–Α–Ϋ–Β―². –‰ –Ζ–Ϋ–Α–Β―²–Β ―΅―²–Ψ? –ü–Ψ―΅–Β–Φ―É –Ψ–Ϋ –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―΄―²―¨ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ζ–Μ―΄–Φ? –û–Ϋ –±―΄ –Φ–Ψ–≥ ―¹―²–Α―²―¨ –Η –¥–Ψ–±―Ä―΄–Φ. –‰, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Μ–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Ϋ–Ψ-―Ö―É–¥–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ. –Ξ―É–¥–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ!βÄî –Ω–Ψ–¥―΅–Β―Ä–Κ–Η–≤–Α–Β―² –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅.βÄî –≠―²–Ψ –≤–Α―¹ –Κ–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Φ―É –Ψ–±―è–Ε–Β―². –†–Α–Ζ–±–Ψ―Ä―΅–Η–≤–Β–Β –±―É–¥–Β―²–Β, ―é–Ϋ―΄–Β ―Ä–Β–¥–Α–Κ―²–Ψ―Ä―΄. –ü–Ψ―΅–Α―â–Β –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ι―²–Β –Δ–Ψ–Μ―¹―²–Ψ–≥–Ψ, –ü―É―à–Κ–Η–Ϋ–Α, –ß–Β―Ö–Ψ–≤–Α... –î–Ψ–±―Ä–Ψ!
βÄî –ù―É ―΅―²–Ψ? βÄî ―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α―é―² ―¹ ―²―Ä–Β–≤–Ψ–≥–Ψ–Ι ―Ä–Β–±―è―²–Α. –û–Ϋ–Η –Ε–¥―É―² –Ϋ–Α―¹ –≤ –Κ–Ψ―Ä–Η–¥–Ψ―Ä–Β.βÄî –ü―Ä–Ψ–Ω–Β―¹–Ψ―΅–Η–Μ–Η?
βÄî –†–Α–Ζ―Ä–Β―à–Η–Μ–Η!
βÄî –ß―²–Ψ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Η–Μ–Η?
βÄî –•―É―Ä–Ϋ–Α–Μ. –ü–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι, ―¹–Α―²–Η―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Η –Κ―Ä–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι. –‰ –Μ–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Ϋ–Ψ-―Ö―É–¥–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι. ***–£ ―²–Ψ―² –Ε–Β –¥–Β–Ϋ―¨ –Φ―΄ –Β–¥–Β–Φ –Κ –î–Φ–Η―²―Ä–Η―é –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Η―΅―É. –ù–Β ―²–Α–Κ-―²–Ψ –Μ–Β–≥–Κ–Ψ ―¹–Β–±―è ―΅―É–≤―¹―²–≤―É–Β―à―¨, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ζ–Ϋ–Α–Β―à―¨, ―΅―²–Ψ ―²―΄ –Κ―Ä―É–≥–Ψ–Φ –≤–Η–Ϋ–Ψ–≤–Α―². –€―΄ ―¹–≤–Ψ―é –≤–Η–Ϋ―É –Ϋ–Α –£–Α–Μ–Β―Ä–Κ―É –Ϋ–Β –≤–Ζ–≤–Α–Μ–Η–≤–Α–Β–Φ. –ü–Η―¹–Α―²―¨ ―΅―²–Ψ ―É–≥–Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Ψ –Ω–Β―΅–Α―²–Α―²―¨?..
–ü–Β―΅–Α―²–Α―²―¨ –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è! –£ ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –¥–Β–Μ–Β, –Ψ–±–Η–¥–Β–Μ–Η ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α. –û–Ϋ ―¹―²―Ä–Ψ–Ε–Β –¥―Ä―É–≥–Η―Ö, –Ϋ–Α ―¹–¥–Β–Μ–Κ―É ―¹ ―¹–Ψ–≤–Β―¹―²―¨―é –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ι–¥–Β―²: –Μ―é–±–Η―²–Β–Μ–Η –≤―΄–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α―²―¨ ―¹–Ϋ–Η―¹―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β ―É―¹–Ω–Β―Ö–Α ―É –î–Φ–Η―²―Ä–Η―è –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Η―΅–Α –Ϋ–Β –Η–Φ–Β―é―². –‰ –Ζ–Μ―è―²―¹―è. –û―²―²–Ψ–≥–Ψ ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β–Φ–Α–Μ–Ψ –Ϋ–Β–¥–Ψ–±―Ä–Ψ–Ε–Β–Μ–Α―²–Β–Μ–Β–Ι... –ë―É―à―É–Β―² –≤―¨―é–≥–Α, ―¹–Ϋ–Β–≥ –Ζ–Α–Ϋ–Ψ―¹–Η―² ―²―Ä–Α–Φ–≤–Α–Ι–Ϋ―΄–Β –Ω―É―²–Η. –ü–Β―Ä–Β―¹–Β–Κ–Α–Β–Φ . –Θ–Ε–Β ―¹–Φ–Β―Ä–Κ–Α–Β―²―¹―è, –≤ –Ψ–Κ–Ϋ–Α―Ö ―²―Ä–Α–Φ–≤–Α–Β–≤ –Ζ–Α–Ε–≥–Μ–Η―¹―¨ –Ψ–≥–Ϋ–Η. –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Ι –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Η―΅ –Ε–Η–≤–Β―² –≤ –¥–Ψ–Φ–Β, –≥–¥–Β –Ε–Η–Μ –Κ–Ψ–≥–¥–Α-―²–Ψ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Ι –€–Α–Κ―¹–Η–Φ–Ψ–≤–Η―΅ –™–Ψ―Ä―¨–Κ–Η–Ι. –Γ―²–Α―Ä―΄–Ι, ―É–Ϋ―΄–Μ―΄–Ι –¥–Ψ–Φ ―¹ –Ω–Ψ–Μ―É―²–Β–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ―Ä–Ψ―²–Ϋ–Β–Ι –Η –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ –Ψ―¹–≤–Β―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Μ–Β―¹―²–Ϋ–Η―Ü–Α–Φ–Η. –ü–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ–Α–Β–Φ―¹―è –Ϋ–Α ―²―Ä–Β―²–Η–Ι ―ç―²–Α–Ε, ―¹―²―Ä―è―Ö–Η–≤–Α–Β–Φ ―¹ ―à–Η–Ϋ–Β–Μ–Β–Ι ―¹–Ϋ–Β–≥, –Ϋ–Β ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ζ–≤–Ψ–Ϋ–Η–Φ. –û―²–Κ―Ä―΄–≤–Α–Β―² ―¹–Β―Ä–¥–Η―²–Α―è ―¹―²–Α―Ä―É―Ö–Α: –ë―É―à―É–Β―² –≤―¨―é–≥–Α, ―¹–Ϋ–Β–≥ –Ζ–Α–Ϋ–Ψ―¹–Η―² ―²―Ä–Α–Φ–≤–Α–Ι–Ϋ―΄–Β –Ω―É―²–Η. –ü–Β―Ä–Β―¹–Β–Κ–Α–Β–Φ . –Θ–Ε–Β ―¹–Φ–Β―Ä–Κ–Α–Β―²―¹―è, –≤ –Ψ–Κ–Ϋ–Α―Ö ―²―Ä–Α–Φ–≤–Α–Β–≤ –Ζ–Α–Ε–≥–Μ–Η―¹―¨ –Ψ–≥–Ϋ–Η. –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Ι –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Η―΅ –Ε–Η–≤–Β―² –≤ –¥–Ψ–Φ–Β, –≥–¥–Β –Ε–Η–Μ –Κ–Ψ–≥–¥–Α-―²–Ψ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Ι –€–Α–Κ―¹–Η–Φ–Ψ–≤–Η―΅ –™–Ψ―Ä―¨–Κ–Η–Ι. –Γ―²–Α―Ä―΄–Ι, ―É–Ϋ―΄–Μ―΄–Ι –¥–Ψ–Φ ―¹ –Ω–Ψ–Μ―É―²–Β–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ―Ä–Ψ―²–Ϋ–Β–Ι –Η –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ –Ψ―¹–≤–Β―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Μ–Β―¹―²–Ϋ–Η―Ü–Α–Φ–Η. –ü–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ–Α–Β–Φ―¹―è –Ϋ–Α ―²―Ä–Β―²–Η–Ι ―ç―²–Α–Ε, ―¹―²―Ä―è―Ö–Η–≤–Α–Β–Φ ―¹ ―à–Η–Ϋ–Β–Μ–Β–Ι ―¹–Ϋ–Β–≥, –Ϋ–Β ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ζ–≤–Ψ–Ϋ–Η–Φ. –û―²–Κ―Ä―΄–≤–Α–Β―² ―¹–Β―Ä–¥–Η―²–Α―è ―¹―²–Α―Ä―É―Ö–Α:
βÄî –£–Α–Φ –Κ–Ψ–≥–Ψ?
βÄî –î–Φ–Η―²―Ä–Η―è –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Η―΅–Α. .:
βÄî –ü―Ä–Ψ–Ι–¥–Η―²–Β –≤ –Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü –Κ–Ψ―Ä–Η–¥–Ψ―Ä–Α. –î–Α –Ϋ–Ψ–≥–Η –±―΄ –≤―΄―²–Β―Ä–Μ–Η, –Ϋ–Α―¹–Μ–Β–¥–Η―²–Β!
–ö–Η―Ä―¹–Α–Ϋ–Ψ–≤ ―¹–Η–¥–Η―², –Ω–Ψ–¥–Ε–Α–≤ –Ϋ–Ψ–≥―É, –≤ –Κ―Ä–Β―¹–Μ–Β ―¹ –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–Ι ―¹–Ω–Η–Ϋ–Κ–Ψ–Ι βÄî –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è, ―²–Α–Κ–Η–Β –Κ―Ä–Β―¹–Μ–Α –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é―²―¹―è –≤–Ψ–Μ―¨―²–Β―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Φ–Η. –Γ–Η–¥–Η―² –≤ –Ω–Η–Ε–Α–Φ–Β, –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ―è―Ö –Α–Μ―¨–±–Ψ–Φ, –≤ ―Ä―É–Κ–Β βÄî –Ω–Η–Ϋ―Ü–Β―².
βÄî –ß―²–Ψ –Ε–Β –≤―΄? –†–Α–Ζ–¥–Β–≤–Α–Ι―²–Β―¹―¨, ―¹–Α–¥–Η―²–Β―¹―¨! –û―΅–Β–Ϋ―¨ ―Ä–Α–¥, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η―à–Μ–Η. –ù–Α –¥–≤–Ψ―Ä–Β –Ω―É―Ä–≥–Α? –ê ―è –≤–Ψ―² ―Ä–Α―¹―Ö–Μ―é–Ω–Α–Μ―¹―è. –Γ–Β―Ä–¥―Ü–Β –Ω–Ψ―à–Α–Μ–Η–≤–Α–Β―²... –î–Α ―¹–Α–¥–Η―²–Β―¹―¨, ―¹–Α–¥–Η―²–Β―¹―¨!
–û–Ϋ ―Ä–Α–¥―É―à–Ϋ―΄–Ι ―Ö–Ψ–Ζ―è–Η–Ϋ.
βÄî –· ―É–Ε–Β –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ–Β―² –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α―é―¹―¨ . –Θ–≤–Μ–Β–Κ–Α–Μ―¹―è –≤ –¥–Β―²―¹―²–≤–Β, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Ζ–Α–±―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –Α–Μ―¨–±–Ψ–Φ―΄ –Ζ–Α ―à–Κ–Α―³. –ê ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –Ψ–Ω―è―²―¨ –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ―¹―è –Κ –Ϋ–Η–Φ. –Γ–Η–¥–Η―à―¨ –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ψ–¥–Η–Ϋ –≤ –Κ―Ä–Β―¹–Μ–Β –Η –Ω―É―²–Β―à–Β―¹―²–≤―É–Β―à―¨ –Ω–Ψ –≤―¹–Β–Φ―É –Φ–Η―Ä―É. –ß–Α―é –≤―΄–Ω―¨–Β―²–Β ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ? –ù–Α–Μ–Η–≤–Α–Ι―²–Β. –ß–Α–Ι–Ϋ–Η–Κ βÄî ―²–Α–Φ, –Ϋ–Α ―¹―²–Ψ–Μ–Β.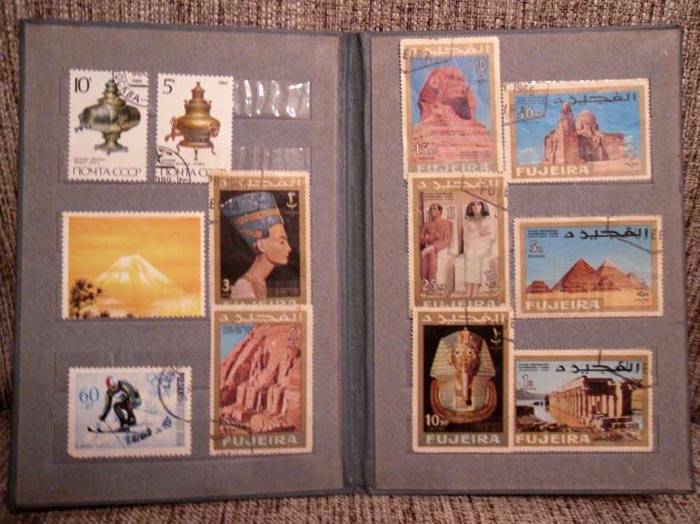 –‰ ―²―É―² ―è –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α―é ―É ―¹―²–Β–Ϋ―΄ ―΅―²–Ψ-―²–Ψ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β: ―ç―²–Ψ –Ϋ–Ψ–≥–Α, –Η―¹–Κ―É―¹―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ϋ–Ψ–≥–Α. –ù–Η–Κ―²–Ψ ―É –Ϋ–Α―¹ –≤ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Β –Η –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Μ, ―΅―²–Ψ –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Ι –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Η―΅ –Ω–Β―Ä–Β–¥–≤–Η–≥–Α–Β―²―¹―è –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―²–Β–Ζ–Β! –£–Η–Ε―É, ―΅―²–Ψ –Η –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥ –£–Α–¥–Η–Φ–Α –Ω―Ä–Η–Κ–Ψ–≤–Α–Ϋ –Κ ―ç―²–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ–Ψ–Ι, –Ψ–¥–Η–Ϋ–Ψ–Κ–Ψ ―¹―²–Ψ―è―â–Β–Ι –Ϋ–Ψ–≥–Β. –‰ ―²―É―² ―è –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α―é ―É ―¹―²–Β–Ϋ―΄ ―΅―²–Ψ-―²–Ψ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β: ―ç―²–Ψ –Ϋ–Ψ–≥–Α, –Η―¹–Κ―É―¹―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ϋ–Ψ–≥–Α. –ù–Η–Κ―²–Ψ ―É –Ϋ–Α―¹ –≤ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Β –Η –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Μ, ―΅―²–Ψ –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Ι –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Η―΅ –Ω–Β―Ä–Β–¥–≤–Η–≥–Α–Β―²―¹―è –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―²–Β–Ζ–Β! –£–Η–Ε―É, ―΅―²–Ψ –Η –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥ –£–Α–¥–Η–Φ–Α –Ω―Ä–Η–Κ–Ψ–≤–Α–Ϋ –Κ ―ç―²–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ–Ψ–Ι, –Ψ–¥–Η–Ϋ–Ψ–Κ–Ψ ―¹―²–Ψ―è―â–Β–Ι –Ϋ–Ψ–≥–Β.
βÄî –ï―à―¨―²–Β –Ω–Β―΅–Β–Ϋ―¨–Β, ―Ä–Β–±―è―²–Α. –û―²–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Β, –Ω–Ψ-–Φ–Ψ–Β–Φ―É, –Ω–Β―΅–Β–Ϋ―¨–Β!
–½–Α–Φ–Β―²–Η–Μ –Μ–Η –Ψ–Ϋ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α―¹ –Ω–Ψ―²―Ä―è―¹–Μ–Α –Β–≥–Ψ –Η―¹–Κ―É―¹―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ϋ–Ψ–≥–Α? –· ―¹―²–Α―Ä–Α―é―¹―¨ –Ϋ–Β –≥–Μ―è–¥–Β―²―¨ –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Β. –û―²–≤–Ψ–Ε―É –≥–Μ–Α–Ζ–Α. –ù–Ψ –Ψ–Ϋ–Η, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ, ―¹–Κ–Α―à–Η–≤–Α―é―²―¹―è –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―²–Β–Ζ βÄî –Ψ–Ϋ –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹―²―Ä–Α―à–Β–Ϋ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―¹―²–Ψ–Η―² –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ―² ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α.
–€―΄ –Ω―¨–Β–Φ ―΅–Α–Ι, –Η –Ω–Β―΅–Β–Ϋ―¨–Β –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤–Κ―É―¹–Ϋ–Ψ–Β. –‰ –Φ–Α―Ä–Ψ–Κ ―É –î–Φ–Η―²―Ä–Η―è –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Η―΅–Α ―²―΄―¹―è―΅–Η, –Η –Ψ–Ϋ –Η–Φ–Η –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –≥–Ψ―Ä–¥–Η―²―¹―è. –ù–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü –£–Α–¥–Η–Φ ―Ä–Β―à–Α–Β―²―¹―è ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, –Ζ–Α―΅–Β–Φ –Φ―΄ –Ω―Ä–Η―à–Μ–Η. –ß―²–Ψ ―è... ―΅―²–Ψ –≤―¹–Β –Φ―΄... ―΅―²–Ψ –≤–Β―¹―¨ –Κ–Μ–Α―¹―¹ –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α―ë―², ―΅―²–Ψ –Φ―΄ ―¹–Α―²–Η―Ä―É –Ϋ–Α―Ü–Β–Μ–Η–Μ–Η –Ϋ–Β ―²―É–¥–Α, –Κ―É–¥–Α –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ, ―¹–Ψ–Μ–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Κ―É –Φ―΄ ―É–≤–Η–¥–Β–Μ–Η, –Α –±―Ä–Β–≤–Ϋ–Α –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ –≥–Μ–Α–Ζ―É –Ϋ–Β –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η–Μ–Η. –ß―²–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –≤―¹–Β―Ö, ―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Β–Β―²―¹―è, –Ψ–Ϋ –≤–Η–Ϋ–Ψ–≤–Α―². –ö–Α–Κ ―Ä–Β–¥–Α–Κ―²–Ψ―Ä. –‰ –Β―¹–Μ–Η –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Ι –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Η―΅ ―¹–Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ζ–Α–±―΄―²―¨ –Η –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Η―²―¨...
βÄî –£―΄ –Ζ–Ϋ–Α–Β―²–Β,βÄî –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² –Ψ–Ϋ, –Ω–Ψ–Φ–Β―à–Η–≤–Α―è –Μ–Ψ–Ε–Β―΅–Κ–Ψ–Ι ―΅–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι ―΅–Α–Ι,βÄî –Φ―΄ –≤ ―é–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―΅–Α―¹―²–Ψ –±―΄–≤–Α–Β–Φ –Ϋ–Β―¹–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Μ–Η–≤―΄ –Κ –Μ―é–¥―è–Φ ―¹―²–Α―Ä―à–Β ―¹–Β–±―è. –€―΄ –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ –Η―Ö –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Β–Φ; ―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Ϋ–Α―è ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Ψ―¹―²―¨ –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è –Ϋ–Α–Φ ―É―â–Β–Φ–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ϋ–Α―à–Η―Ö –Ω―Ä–Α–≤ –Η –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Η–Ϋ―¹―²–≤–Α. –Γ–Α–Φ –±―΄–≤–Α–Μ –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –≥―Ä–Β―à–Β–Ϋ. –· –±―É–Ϋ―²–Ψ–≤–Α–Μ, –Α –≤–Ζ―Ä–Ψ―¹–Μ―΄–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―΅―É–≤―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄. –û–Ϋ–Η –Ϋ–Α –Φ–Β–Ϋ―è –Ψ–±–Η–Ε–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ζ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ ―è –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ―¹―è –Κ –Ϋ–Η–Φ ―¹ –Ω―Ä–Β–Ϋ–Β–±―Ä–Β–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ, ―¹–Κ–Η–¥―΄–≤–Α–Μ ―¹–Ψ ―¹―΅–Β―²–Ψ–≤ –≥–Ψ–¥―΄, –Ω―Ä–Ψ–Ε–Η―²―΄–Β –Η–Φ–Η –≤ –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Β. –ê ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ ―è, –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―è ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ–Β–Ι –Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä―é –Η―Ö –Ζ–Α –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η–Φ–Η―Ä–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨, –Ζ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ψ–¥–Β―Ä–≥–Η–≤–Α–Μ–Η, –≤–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Μ–Η –Φ–Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ζ–≥–Η. –ë–Β–Ζ –Ϋ–Η―Ö –Φ–Ϋ–Β –±―΄ –±―΄–Μ–Α –≥―Ä–Ψ―à ―Ü–Β–Ϋ–Α...
–· ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―É –î–Φ–Η―²―Ä–Η―è –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Η―΅–Α –≤–Η–Ε―É –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ–Ψ―΅–Κ–Β ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―é –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Ι –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ―΄ ―É–¥–Η–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Κ―Ä–Α―¹–Ψ―²―΄; ―Ä―è–¥–Ψ–Φ βÄî –¥–≤–Ψ–Β ―Ä–Β–±―è―²: –≤–Η―Ö―Ä–Α―¹―²―΄–Ι –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η―à–Κ–Α –Η ―²–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Μ–Α–Ζ–Α―è –¥–Β–≤–Ψ―΅–Κ–Α ―¹ –±–Α–Ϋ―²–Ψ–Φ –≤ –≤–Ψ–Μ–Ψ―¹–Α―Ö. –ï–≥–Ψ ―¹–Β–Φ―¨―è. –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Β–Β –Ϋ–Β―². –û–Ϋ –Η–Ϋ–≤–Α–Μ–Η–¥, –Ψ–¥–Η–Ϋ–Ψ–Κ, –Η –Ω–Ψ―΅―²–Ψ–≤―΄–Β –Φ–Α―Ä–Κ–Η βÄî –Β–≥–Ψ ―É―²–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β.
¬Ϊ–Γ―²―Ä–Ψ–≥–Α―΅¬Μ! ¬Ϊ–ö–Ψ–Μ―΅–Β–Ϋ–Ψ–≥–Η–Ι¬Μ! –ö–Α–Κ–Η–Β –Φ―΄ –≤ ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –¥–Β–Μ–Β –Ψ–¥―Ä―΄!
–€–Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤ –±–Η–±–Μ–Η–Ψ―²–Β–Κ–Β –Κ–Ϋ–Η–Ε–Ψ–Ϋ–Κ–Α, –Ω–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Α―è –Κ–Α–Κ –¥–≤–Β –Κ–Α–Ω–Μ–Η –≤–Ψ–¥―΄ –Ϋ–Α –£–Α–Μ–Β―Ä–Κ–Η–Ϋ–Ψ ―Ä―É–Κ–Ψ–¥–Β–Μ–Η–Β. –ö–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ –±―΄–≤―à–Η–Ι –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤–Β―Ü, ―²–Α–Κ –Η –Ϋ–Β ―¹―²–Α–≤―à–Η–Ι –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–Φ, ―¹–≤–Ψ–¥–Η–Μ ―¹―΅–Β―²―΄ ―¹ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Φ: –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ–Β–Ι –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ ¬Ϊ–î―É–±–Ψ–Ϋ–Ψ―¹–Α–Φ–Η¬Μ –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Φ–Η –Ϋ–Β–±–Μ–Α–≥–Ψ–Ζ–≤―É―΅–Ϋ―΄–Φ–Η –Κ–Μ–Η―΅–Κ–Α–Φ–Η. –£―¹–Β –Ψ–Ϋ–Η –Ψ–±–Μ–Α–¥–Α–Μ–Η –Ψ―²–≤―Ä–Α―²–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Α–Φ–Η –Η ―¹–Η–Φ–Ω–Α―²–Η–Η –≤―΄–Ζ–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η. –€–Ϋ–Β –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ –Ζ–Μ–Ψ–±–Ϋ―΄–Ι ¬Ϊ–Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―¨¬Μ –Ϋ–Β―΅–Η―¹―² ―¹–Α–Φ –¥―É―à–Ψ–Ι.
–½–Α―΅–Β–Φ –Ε–Β –Φ―΄ –≤―΄–Ω―É―¹―²–Η–Μ–Η –≤ ―¹–≤–Β―², ―Ö–Ψ―²―è –Η –≤―¹–Β–≥–Ψ –≤ –¥–Β―¹―è―²–Η ―ç–Κ–Ζ–Β–Φ–Ω–Μ―è―Ä–Α―Ö, –£–Α–Μ–Β―Ä–Κ–Η–Ϋ―É ¬Ϊ–Ω–Ψ–≤–Β―¹―²―¨¬Μ? –£–Β–¥―¨ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ε–Β –Φ―΄ –Ϋ–Β –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η―²―¨ ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η–Μ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Ψ―²–¥–Β–Μ–Α? –£ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Β–Φ –Φ―΄ –Ψ–Ω―É–±–Μ–Η–Κ―É–Β–Φ –Η ―ç―²―É –Κ–Ϋ–Η–≥―É, –≤ –≤―΄ ―¹–Α–Φ–Η ―¹–Φ–Ψ–Ε–Β―²–Β ―Ä–Β―à–Η―²―¨, –Ω―Ä–Α–≤ –Μ–Η –Α–≤―²–Ψ―Ä –≤ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Κ–Α―Ö.¬Ϊ–€―΄ –Ζ–Α –≤–Α―¹ –≤–Ψ–Β–≤–Α–Μ–Η¬Μ, - –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² ¬Ϊ–Γ―²―Ä–Ψ–≥–Α―΅¬Μ –≤ –Ω–Ψ–≤–Β―¹―²–Η. –£ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Β–Φ –Φ―΄ –Ψ–Ω―É–±–Μ–Η–Κ―É–Β–Φ –Η ―ç―²―É –Κ–Ϋ–Η–≥―É, –≤ –≤―΄ ―¹–Α–Φ–Η ―¹–Φ–Ψ–Ε–Β―²–Β ―Ä–Β―à–Η―²―¨, –Ω―Ä–Α–≤ –Μ–Η –Α–≤―²–Ψ―Ä –≤ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Κ–Α―Ö.¬Ϊ–€―΄ –Ζ–Α –≤–Α―¹ –≤–Ψ–Β–≤–Α–Μ–Η¬Μ, - –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² ¬Ϊ–Γ―²―Ä–Ψ–≥–Α―΅¬Μ –≤ –Ω–Ψ–≤–Β―¹―²–Η.
¬Ϊ–ê –Ϋ–Α―¹ ―²–Ψ–≥–¥–Α –Η –≤ –Ε–Η–≤―΄―Ö –≤–Ψ–≤―¹–Β –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ¬Μ,βÄî –Ψ―²–≤–Β―΅–Α–Β―² –ö–Α–Μ–Β―Ä–Η–Ι –£–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Ϋ, –£–Α–Μ–Β―Ä–Κ–Η–Ϋ –≥–Β―Ä–Ψ–Ι. –ù–Α–Φ, –Φ–Ψ–Μ, –Ϋ–Α–Ω–Μ–Β–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –≤―΄ –≤–Ψ–Β–≤–Α–Μ–Η.
–£–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Ϋ ―¹―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Η ―²–Β–Φ ―²–Η–Ω–Α–Φ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―¹―΅–Η―²–Α―é―² ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Ι ¬Ϊ–≤―΄–Φ–Η―Ä–Α―é―â–Η–Φ –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ¬Μ; –≤–Ψ–Ι–Ϋ―É –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―²―¨ –Η–Φ –¥–Ψ ―¹–Φ–Β―Ä―²–Η ―¹–Κ―É―΅–Ϋ–Ψ. –½–Α―²–Ψ –≤ –±―É–≥–Η-–≤―É–≥–Η –Ψ–Ϋ–Η –≤–Μ―é–±–Μ–Β–Ϋ―΄. ***–™–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Η –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä. –£–Α–¥–Η–Φ –Ψ–Ω–Η―¹–Α–Μ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –≤–Β―¹–Β–Μ–Ψ, –Κ–Α–Κ –Φ―΄ –Μ–Ψ–≤–Η–Μ–Η –≥–Η–≥–Α–Ϋ―²―¹–Κ―É―é ―â―É–Κ―É, –Κ–Α–Κ ―²―é–Μ–Β–Ϋ―è –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ–Η –Φ―΄ –Ζ–Α –¥–Η–≤–Β―Ä―¹–Α–Ϋ―²–Α –Η –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β –≤―¹–Β –Ϋ–Α―à–Η –Ω–Ψ―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –≤ –ö–Η–≤–Η―Ä–Α–Ϋ–¥–Β. –£–Α–Μ–Β―Ä–Κ–Α –Ψ―²–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –Ψ―² ―É―΅–Α―¹―²–Η―è –≤ –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Β. –ù–Ψ –Η –±–Β–Ζ –Ϋ–Β–≥–Ψ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ–Α ―Ö–≤–Α―²–Α–Μ–Ψ βÄî ―¹―²–Η―Ö–Η, –Ω–Ψ―ç–Φ―΄, ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄, –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è –ë―É–Ϋ―΅–Η–Κ–Ψ–≤–Α –Ψ –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Α―Ö...
–ü―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –Κ―Ä–Β–Ω–Κ–Ψ ―¹―Ü–Β–Ω–Η―²―¨―¹―è ―¹ –ê―Ä–Κ–Α―à–Κ–Ψ–Ι –Δ–Α―Ä–Μ–Β―Ü–Κ–Η–Φ. –û–Ϋ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Β―¹ ―¹–Β―Ä–Η―é ―à–Α―Ä–Ε–Β–Ι.
–û―²–≤―Ä–Α―²–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Ζ–Φ–Β―è ―¹ –Ϋ–Α–≥–Μ–Ψ–Ι ―Ä–Ψ–Ε–Β–Ι –Ψ–±–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ –Κ–Ψ–Μ―¨―Ü–Ψ–Φ –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥ –Ω–Ψ–Φ–Β―Ä―²–≤–Β–≤―à–Β–Ι –¥–Β–≤―΅–Ψ–Ϋ–Κ–Η. –ü–Ψ–¥–Ω–Η―¹―¨: ¬Ϊ–ü–Η―²–Ψ–Ϋ ―Ä–Α–Ζ–≤–Μ–Β–Κ–Α–Β―²―¹―è¬Μ. –ê –Ϋ–Α –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Β ―É –Ω–Η―²–Ψ–Ϋ–Α βÄî –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α–Ι―²–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ! βÄî–±–Β―¹–Κ–Ψ–Ζ―΄―Ä–Κ–Α ―¹ –Μ–Β–Ϋ―²–Ψ―΅–Κ–Ψ–Ι: ¬Ϊ–ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β¬Μ.
¬Ϊ–ü–Η―²–Ψ–Ϋ –Ω–Μ–Α―΅–Β―²¬Μ. –Δ–Α –Ε–Β –Ζ–Φ–Β―è –≤ –±–Β―¹–Κ–Ψ–Ζ―΄―Ä–Κ–Β –≤ –Ζ―É–±–Α―Ö –¥–Β―Ä–Ε–Η―² –¥–≤–Ψ–Ι–Κ―É. –‰–Ζ –≥–Μ–Α–Ζ ―²–Β–Κ―É―² ―¹–Μ–Β–Ζ―΄.
¬Ϊ–ü–Η―²–Ψ–Ϋ –Ψ―²―ä–Β–¥–Α–Β―²―¹―è¬Μ. –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ ―É –Ζ–Φ–Β–Η ―³–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η―è –€–Α―¹–Μ―é–Κ–Ψ–≤–Α. –û–Ϋ –Ω―Ä–Η–Ω–Α–Μ –Κ –Φ–Η―¹–Κ–Β –Η –Ω–Ψ–Ε–Η―Ä–Α–Β―² –Κ–Α―à―É. –ù–Α ―³–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η–Η –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Β –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ. –‰ –Ψ–Ω―è―²―¨ –Ε–Β –Ϋ–Α –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Β –±–Β―¹–Κ–Ψ–Ζ―΄―Ä–Κ–Α!
¬Ϊ–ü–Η―²–Ψ–Ϋ―΄, ―¹–Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ!¬Μ βÄî ―Ü–Β–Μ―΄–Ι ―¹―²―Ä–Ψ–Ι –Ζ–Φ–Β–Ι –≤ –±–Β―¹–Κ–Ψ–Ζ―΄―Ä–Κ–Α―Ö. –‰ –Κ―Ä–Ψ–Κ–Ψ–¥–Η–Μ –≤ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―³―É―Ä–Α–Ε–Κ–Β ―¹―²–Ψ–Η―² –Ω–Β―Ä–Β–¥ ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Φ, –Ψ―¹–Κ–Α–Μ–Η–≤ –Ψ―¹―²―Ä―΄–Β –Ζ―É–±―΄.
βÄî –ü―Ä–Η ―΅–Β–Φ ―²―É―² –Ζ–Φ–Β–Η? βÄî ―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α―é ―è –ê―Ä–Κ–Α―à―É. –û –≤–Β―΅–Ϋ–Ψ–Φ. –°―Ä–Η–Ι –°―Ä―¨–Β–≤, –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤–Β―Ü –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Α 1968 –≥.–û–Ϋ –Ω–Ψ―è―¹–Ϋ–Η–Μ: –Κ–Ψ–≥–¥–Α-―²–Ψ ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ –≤ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Ζ–Φ–Β―è–Φ–Η –Ω–Α―Ö–Ϋ―É―â–Β–Β ―¹–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Κ–Ψ ¬Ϊ–Ω–Η―²–Ψ–Ϋ¬Μ (–Ψ―² ―¹–Μ–Ψ–≤–Α ¬Ϊ–≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ¬Μ, –Α ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η ¬Ϊ–ü–Η―²–Ψ–Ϋ–Η–Β–Ι¬Μ). –û –≤–Β―΅–Ϋ–Ψ–Φ. –°―Ä–Η–Ι –°―Ä―¨–Β–≤, –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤–Β―Ü –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Α 1968 –≥.–û–Ϋ –Ω–Ψ―è―¹–Ϋ–Η–Μ: –Κ–Ψ–≥–¥–Α-―²–Ψ ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ –≤ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Ζ–Φ–Β―è–Φ–Η –Ω–Α―Ö–Ϋ―É―â–Β–Β ―¹–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Κ–Ψ ¬Ϊ–Ω–Η―²–Ψ–Ϋ¬Μ (–Ψ―² ―¹–Μ–Ψ–≤–Α ¬Ϊ–≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ¬Μ, –Α ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η ¬Ϊ–ü–Η―²–Ψ–Ϋ–Η–Β–Ι¬Μ).
–ù―É –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α–Ι―²–Β, –Β―¹–Μ–Η ―à–Α―Ä–Ε –¥―Ä―É–Ε–Β―¹–Κ–Η–Ι, ―²–Ψ –Κ–Ψ–Φ―É –Ε–Β –Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ –Ψ–±–Β―Ä–Ϋ―É―²―¨―¹―è ―ç–¥–Α–Κ–Ψ–Ι –Φ–Β―Ä–Ζ–Κ–Ψ–Ι –Ζ–Φ–Β–Β–Ι? –ö―Ä–Ψ–Κ–Ψ–¥–Η–Μ βÄî –Β―â–Β ―²―É–¥–Α-―¹―é–¥–Α, –Α –Ζ–Φ–Β―è... –±―Ä―Ä, ―É–≤–Ψ–Μ―¨―²–Β! –ê―Ä–Κ–Α―à–Κ–Α –Ϋ–Α―¹―²–Α–Η–≤–Α–Μ. –· –≤–Ψ–Ζ–Φ―É―â–Α–Μ―¹―è. –ü–Ψ–Ζ–≤–Α–Μ–Η ―Ä–Β–±―è―², –Ψ–±―¹―É–¥–Η–Μ–Η. –†–Β―à–Η–Μ–Η: –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ι ―ç―²–Η―Ö –Ζ–Φ–Β–Ι! –ê―Ä–Κ–Α―à–Κ–Α –Ψ–±–Η–¥–Β–Μ―¹―è, –¥―É–Μ―¹―è –¥–Ϋ―è –¥–≤–Α –Η–Μ–Η ―²―Ä–Η, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ ―¹–Α–Φ ―¹–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –Ζ–Α―Ä–≤–Α–Μ―¹―è. –‰ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Β―¹ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β ―à–Α―Ä–Ε–Η.
–ö―É―Ä–Η–Μ―¨―â–Η–Κ, –Η―¹―Ö―É–¥–Α–Μ―΄–Ι, –Η―¹―²–Ψ―à–Ϋ–Ψ –Κ–Α―à–Μ―è–Β―² –Ϋ–Α–¥ ―É―Ä–Ϋ–Ψ–Ι, –Η –Β–≥–Ψ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Η―² ―¹–Φ–Β―Ä―²―¨ ―¹ –Κ–Ψ―¹–Ψ–Ι. –ê –Ϋ–Β–Κ―É―Ä―è―â–Η–Ι, –Ζ–Α–Μ–Ψ–Ε–Η–≤ ―Ä―É–Κ–Η –≤ –Κ–Α―Ä–Φ–Α–Ϋ―΄, –±–Ψ–¥―Ä–Ψ–Ι –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Κ–Ψ–Ι, ―¹ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–≤–Α―é―â–Β–Ι―¹―è –±–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ψ–Ι –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Α–Β―² –Ϋ–Α ―¹–Φ–Β―Ä―²―¨. –û–Ϋ–Α –±–Β–Ε–Η―² –Ψ―² ―¹―²–Ψ–Μ–Β―²–Ϋ–Β–≥–Ψ –±–Ψ–¥―Ä―è―΅–Κ–Α, –Ω–Ψ–¥–Ψ–±―Ä–Α–≤ ―³–Α–Μ–¥―΄.
–‰ –Β―â–Β: ¬Ϊ–£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―² –≤ ―É–Φ―΄–≤–Α–Μ–Κ–Β¬Μ. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ―Ä–Ψ―²―΄ –ö–Η―Ä―¹–Α–Ϋ–Ψ–≤ –Η –¥–Μ–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ –Ψ–±–Ϋ―é―Ö–Η–≤–Α―é―² –Ϋ–Α–Ι–¥–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –≤ ―É–Φ―΄–≤–Α–Μ–Κ–Β –±―É―²―΄–Μ–Κ―É. –ù–Α ―ç―²–Η–Κ–Β―²–Κ–Β –Ϋ–Α―Ö–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ψ: ¬Ϊ–‰–Ϋ –≤–Η–Ϋ–Ψ –≤–Β―Ä–Η―²–Α―¹¬Μ (–≤ –≤–Η–Ϋ–Β, –Φ–Ψ–Μ, –Η―¹―²–Η–Ϋ–Α!). –ü–Ψ–¥–Ω–Η―¹―¨: ¬Ϊ–ö―²–Ψ –Ψ–Ω–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ–Η–Μ?¬Μ –‰ –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Ι –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹. –Γ –≤–Η–Ϋ–Ψ–Φ –Ϋ–Β ―à―É―²―è―² –≤ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β. –£―΄–Ω―¨–Β―à―¨ βÄî –≤―΄–Μ–Β―²–Η―à―¨ –≤ –Ψ―²―΅–Η–Ι –¥–Ψ–Φ, –Κ–Α–Κ ―Ä–Α–Κ–Β―²–Α.
–ö–Ψ–≥–¥–Α –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ –±―΄–Μ –≥–Ψ―²–Ψ–≤, ―è –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –£–Α–Μ–Β―Ä–Η―è ―¹–Ϋ–Β―¹―²–Η –Β–≥–Ψ –Κ –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Η―¹―²–Κ–Β. –û–Ϋ –≤–Ζ―è–Μ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ, –Ϋ–Ψ –≤―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ–Β―¹ –Ψ–±―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ.
βÄî –û–Ϋ–Α –Ϋ–Β –±―É–¥–Β―² –Ω–Β―΅–Α―²–Α―²―¨.
βÄî –ü–Ψ―΅–Β–Φ―É?
βÄî –½–Α–±–Ψ–Μ–Β–Μ–Α.
βÄî –ù–Α–¥–Ψ–Μ–≥–Ψ?
βÄî –ù–Α–¥–Ψ–Μ–≥–Ψ.
βÄî –‰ –Ϋ–Β –≤―΄–Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Β–Β―²?
βÄî –ù–Β –≤―΄–Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Β–Β―². –°―Ä–Η–Ι –°―Ä―¨–Β–≤.βÄî –Δ―΄ ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –Κ―Ä―É―²–Η―à―¨. –°―Ä–Η–Ι –°―Ä―¨–Β–≤.βÄî –Δ―΄ ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –Κ―Ä―É―²–Η―à―¨.
βÄî –ê ―΅–Β–≥–Ψ ―²―É―² –Κ―Ä―É―²–Η―²―¨? –ù–Β –±―É–¥–Β―² –Ω–Β―΅–Α―²–Α―²―¨ βÄî –Η –≤―¹–Β!
βÄî –Δ―΄ –Ζ–Ϋ–Α–Β―à―¨, –£–Α–Μ–Β―Ä–Κ–Α, –Φ–Ϋ–Β –Ϋ–Β–±–Β–Ζ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ, ―¹ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι ¬Ϊ–Κ–Ψ–Φ–Ω–Α―à–Κ–Ψ–Ι¬Μ ―²―΄ –≤–Ψ–¥–Η―à―¨―¹―è. –£―΄–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Ι!
βÄî –ß―²–Ψ?
βÄî –£―¹–Β –≤―΄–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Ι! –€–Η–≥–Ψ–Φ...
βÄî –ß–Β–≥–Ψ –Ζ–Α―Ö–Ψ―²–Β–Μ!
–· ―¹―Ö–≤–Α―²–Η–Μ –Β–≥–Ψ –Ζ–Α –Ω–Μ–Β―΅–Η –Η –Ω–Ψ―²―Ä―è―¹. –‰ –≤–¥―Ä―É–≥ ―è –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ, ―΅―²–Ψ ―è ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Β–Β –£–Α–Μ–Β―Ä–Κ–Η –Η –Φ–Ψ–≥―É –≤―΄―²―Ä―è―Ö–Ϋ―É―²―¨ –Η–Ζ –Ϋ–Β–≥–Ψ –¥―É―à―É.
βÄî –Δ–Α–Κ –Κ –Κ–Ψ–Φ―É ―²―΄ ―à–Μ―è–Β―à―¨―¹―è –≤ –¥–Ϋ–Η ―É–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è?
βÄî –ö –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ―É ―Ö―É...―Ö―É–¥–Ψ–Ε–Ϋ–Η–Κ―É.
βÄî –ö―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―ç―²–Ψ―² ―Ö―É–¥–Ψ–Ε–Ϋ–Η–Κ?
βÄî –€–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Ι –Η ―²–Α–Μ–Α–Ϋ―²–Μ–Η–≤―΄–Ι. –Δ―΄ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹―É–Β―à―¨―¹―è –Κ–Α–Κ –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ―Ä–≥ –Η–Μ–Η –Κ–Α–Κ ―Ä–Ψ–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ?
βÄî –ï―¹–Μ–Η ―Ö–Ψ―΅–Β―à―¨, –Κ–Α–Κ ―Ä–Ψ–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ.
βÄî –€–Ψ–≥―É –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Η―²―¨. –ù–Α –¥–Ϋ―è―Ö –Ψ―²–Κ―Ä―΄–≤–Α–Β―²―¹―è –≤―΄―¹―²–Α–≤–Κ–Α.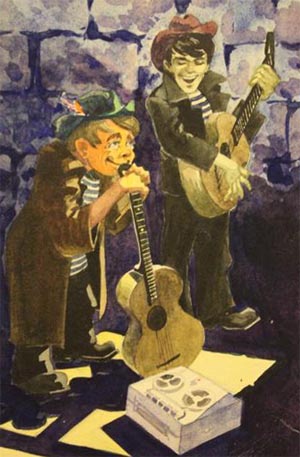 –°―Ä–Η–Ι –°―Ä―¨–Β–≤.βÄî –ö–Α–Κ ―³–Α–Φ–Η–Μ–Η―è? –°―Ä–Η–Ι –°―Ä―¨–Β–≤.βÄî –ö–Α–Κ ―³–Α–Φ–Η–Μ–Η―è?
βÄî –£–Α―¹–Η–Μ–Η–Ι –Λ–Α–Ζ–Α–Ϋ.
βÄî –ù–Β ―¹–Μ―΄―Ö–Α–Μ.
βÄî –û―΅–Β–Ϋ―¨ –Ε–Α–Μ―¨. –û―²―¹―²–Α–Β―à―¨ –Ψ―² –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η, –€–Α–Κ―¹–Η–Φ. –û–Ϋ –Ω–Ψ―΅―²–Η –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²–Ψ―¹―²―¨.
βÄî –£―΄―Ö–Ψ–¥–Η―², –Ψ―²―¹―²–Α–Μ...
–· –Ω–Ψ―à–Β–Μ –Κ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ―É –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Ψ―²–¥–Β–Μ–Α –Η ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ψ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Ζ–Α―²―Ä―É–¥–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è―Ö ―¹ –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Η―¹―²–Κ–Ψ–Ι.
βÄî –ù―É, ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β –±–Β–¥–Α,βÄî ―É–Μ―΄–±–Ϋ―É–Μ―¹―è –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅. βÄî –ü―Ä–Ψ–Ι–¥–Η―²–Β –≤ –Κ–Α–Ϋ―Ü–Β–Μ―è―Ä–Η―é –Κ –€–Α―Ä–Η–Η –Λ–Β–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Β –Η ―¹–Κ–Α–Ε–Η―²–Β, ―΅―²–Ψ ―è –Ω―Ä–Ψ―à―É –Β–Β –Ψ―²–Ω–Β―΅–Α―²–Α―²―¨ –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ. –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―².

–£–Β―Ä―é–Ε―¹–Κ–Η–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–£–ù–ê), –™–Ψ―Ä–Μ–Ψ–≤ –û–Μ–Β–≥ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–û–ê–™), –€–Α–Κ―¹–Η–Φ–Ψ–≤ –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–€–£–£), –ö–Γ–£.
198188. –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥, ―É–Μ. –€–Α―Ä―à–Α–Μ–Α –™–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α, –¥–Ψ–Φ 11/3, –Κ–≤. 70. –ö–Α―Ä–Α―¹–Β–≤ –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅, –Α―Ä―Ö–Η–≤–Α―Ä–Η―É―¹.
07.04.201401:3007.04.2014 01:30:32
0
06.04.201400:2406.04.2014 00:24:06
–ë–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä―è –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―Ö–Η―²―Ä–Ψ―¹―²–Η –û―²―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Β ―¹–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Ι –Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ï . –·. –û―¹–Η–Ω–Ψ–≤–Α –Ω―Ä–Η–≤–Β–Μ–Ψ –Κ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―é –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –Ψ―²–Φ–Β–Ϋ–Η―²―¨ –¥–Ψ –Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―è –≤―΄―Ö–Ψ–¥―΄ –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ. –Γ-12 –±―΄–Μ–Α –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Α ―¹ –¦–Α–≤–Β–Ϋ―¹–Α―Ä–Η –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―².
–£ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β ―Ä―è–¥–Α –¥–Ϋ–Β–Ι –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ―¨―à―É―é ―²―Ä–Β–≤–Ψ–≥―É, ―΅–Β–Φ ―¹―É–¥―¨–±–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –û―¹–Η–Ω–Ψ–≤–Α, –≤―΄–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Α –Η ―¹―É–¥―¨–±–Α ¬Ϊ–©―É–Κ–Η¬Μ –Δ―Ä–Α–≤–Κ–Η–Ϋ–Α. –ü–Ψ―¹–Μ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Α–Κ –Β–Ι –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ψ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α―²―¨―¹―è –≤ –±–Α–Ζ―É, –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ –Ϋ–Α–¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –Ζ–Α–Φ–Ψ–Μ―΅–Α–Μ–Α. –‰ –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Φ–Ψ–≥ –±―΄ –Ω–Ψ―Ä―É―΅–Η―²―¨―¹―è, ―΅―²–Ψ ―¹ –Ϋ–Β–Ι –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Α ―¹―É―â–Β―¹―²–≤―É–Β―².
–ö–Α–Κ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –Ϋ–Β–Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²―¨ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ –Ψ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Η –Η –¥–Α–Ε–Β –Ψ―²–Ψ–Ι―²–Η –Η–Ζ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α –ù–Α―Ä–≥–Β–Ϋ-–ü–Ψ―Ä–Κ–Κ–Α–Μ–Α―É–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –¥–Μ―è –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –Δ―Ä–Α–≤–Κ–Η–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–Ζ―Ä―è–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ –±–Α―²–Α―Ä–Β―è. –£―¹–Ω–Μ―΄―²―¨ –Ε–Β –¥–Μ―è –Ζ–Α―Ä―è–¥–Κ–Η –Ϋ–Β –¥–Α–≤–Α–Μ–Η –≤―Ä–Α–Ε–Β―¹–Κ–Η–Β –Κ–Α―²–Β―Ä–Α –Η ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―²―΄.
–ü–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Η ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α –Φ–Ψ–≥–Μ–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨―¹―è –±–Β–Ζ–≤―΄―Ö–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ. –ù–Ψ –‰–≤–Α–Ϋ–Α –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅–Α –Δ―Ä–Α–≤–Κ–Η–Ϋ–Α –Β―â―ë ―Ä–Α–Ζ –≤―΄―Ä―É―΅–Η–Μ–Α ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Α―è ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Κ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―Ö–Η―²―Ä–Ψ―¹―²–Η. –ü–Ψ–±–Μ–Η–Ζ–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤, ―É –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Φ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–Β –Φ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ–Μ–Β, –Ω―Ä–Η―΅―ë–Φ, –Ϋ–Α―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ―΄ –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η, ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ –Ψ–Ϋ–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Η–Ζ ¬Ϊ–Κ–Μ–Α―¹―¹–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö¬Μ –≥–Α–Μ―¨–≤–Α–Ϋ–Ψ―É–¥–Α―Ä–Ϋ―΄―Ö –Φ–Η–Ϋ, –Ω―Ä–Β–¥–Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö, –Κ–Α–Κ –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Ζ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥–Α –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄, –¥–Μ―è –Ϋ–Α―à–Η―Ö –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι.
–î–Ψ―²―è–Ϋ―É―²―¨ –¥–Ψ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Φ–Β―¹―²–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Κ–Ψ–Β-–Κ–Α–Κ –Φ–Ψ–≥–Μ–Α. –‰ –Δ―Ä–Α–≤–Κ–Η–Ϋ –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ, ―΅―²–Ψ –Ζ–Α―Ä―è–¥–Η―²―¨ –±–Α―²–Α―Ä–Β―é, –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, ―É–¥–Α―¹―²―¹―è ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―è―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Φ –Φ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Β, –Η–±–Ψ –Ω―Ä–Β―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Β ¬Ϊ–©―É–Κ―É¬Μ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –≤―Ä―è–¥ –Μ–Η ―¹―É–Ϋ―É―²―¹―è –≤ –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―΄.
–ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Η –¥–Μ―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ―ç―²–Ψ –Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ –Ϋ–Β–Φ–Α–Μ―΄–Ι ―Ä–Η―¹–Κ. –ù–Ψ –Δ―Ä–Α–≤–Κ–Η–Ϋ―É, –Κ–Α–Κ –Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Ϋ―¹―²–≤―É –Ϋ–Α―à–Η―Ö –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤, –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Β―Ä–Β―¹–Β–Κ–Α―²―¨ –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è, –¥–Β―Ä–Ε–Α―¹―¨ –Ϋ–Α ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Β, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Φ–Η–Ϋ―΄ –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α–¥ –Μ–Ψ–¥–Κ–Ψ–Ι. –Θ–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―ç―²–Ψ –Η ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹. –ö–Ψ―¹–Ϋ―É–≤―à–Η―¹―¨ –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Φ–Η–Ϋ―Ä–Β–Ω–Ψ–≤, ¬Ϊ–©―É–Κ–Α¬Μ –±―É–Κ–≤–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η –±–Ψ―Ä―²–Α–Φ–Η –Ϋ–Α―â―É–Ω–Α–Μ–Α –Α–Κ–≤–Α―²–Ψ―Ä–Η―é –≤–Ϋ―É―²―Ä–Η –Ζ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è, –≥–¥–Β –Φ–Η–Ϋ, –Ω–Ψ-–≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ–Φ―É, –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ. –û–Κ–Ψ–Μ–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É–Ϋ–Ψ―΅–Η, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Η –Μ―ë–≥–Κ–Η–Β ―¹―É–Φ–Β―Ä–Κ–Η, –Η –±–Β–Μ–Α―è –Ϋ–Ψ―΅―¨ ―¹―²–Α–Μ–Α –Ϋ–Β ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–Ζ―Ä–Α―΅–Ϋ–Ψ–Ι, –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –≤―¹–Ω–Μ―΄–Μ–Α ―²–Α–Φ –≤ –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β.
–ü―Ä–Ψ–±―΄―²―¨ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥―è –Ζ–Α―Ä―è–¥–Κ―É –±–Α―²–Α―Ä–Β–Η, ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Μ–Η―à―¨ –Ω–Ψ–Μ―²–Ψ―Ä–Α ―΅–Α―¹–Α. –ü–Ψ―¹–Μ–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ζ–Η―²―¨―¹―è –Η–Ζ-–Ζ–Α –Ω–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –≤―Ä–Α–Ε–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―²–Α. –½–Α―Ä―è–¥–Κ–Α –±―΄–Μ–Α –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Α ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–Ι –Ϋ–Ψ―΅―¨―é –Η ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –±―΄–Μ–Α –Ω―Ä–Β―Ä–≤–Α–Ϋ–Α –Ω–Ψ ―²–Ψ–Ι –Ε–Β –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Β. –Δ–Α–Κ ―à–Μ–Ψ –Η –¥–Α–Μ―¨―à–Β. –‰–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –¥–Η–Ζ–Β–Μ―è –Φ–Ψ–≥–Μ–Η ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ –Ϋ–Α –Ζ–Α―Ä―è–¥–Κ―É –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ―΅–Α―¹–Α, –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α βÄî ―΅–Α―¹.
–î–Μ―è ―²–Ψ–≥–Ψ ―΅―²–Ψ–±―΄ –Η–Φ–Β―²―¨ –±–Α―²–Α―Ä–Β―é, –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è―é―â―É―é –Ϋ–Ψ―Ä–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Φ–Α–Ϋ–Β–≤―Ä–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ω–Ψ–¥ –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι, –Ω–Ψ–Ϋ–Α–¥–Ψ–±–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≤―¹–Ω–Μ―΄–≤–Α―²―¨ –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –¥–Β―¹―è―²–Η –Ϋ–Ψ―΅–Β–Ι. –ù–Ψ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ―΄–Β –Κ–Α―²–Β―Ä–Α ―¹―é–¥–Α –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η, βÄî ―Ä–Α―¹―΅―ë―² –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ψ–Ω―Ä–Α–≤–¥–Α–Μ―¹―è. –ê ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β –¥–Ψ–Ω―É―¹―²–Η―²―¨ ―¹–Ϋ–Ψ―¹–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ―¹ –Β―ë ¬Ϊ–Ω―è―²–Α―΅–Κ–Α¬Μ –Ϋ–Α –Φ–Η–Ϋ―΄, ―¹–±―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Η –≥―Ä―É–Ζ –Ϋ–Α ―²―Ä–Ψ―¹–Β, –Ω–Ψ –Ϋ–Α―²―è–Ε–Β–Ϋ–Η―é –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―è–Μ–Η –¥―Ä–Β–Ι―³. –î–Μ―è –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ―è –±―Ä–Α–Μ–Η ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ω–Β–Μ–Β–Ϋ–≥–Α –Ϋ–Α –≤–Η–¥–Ϋ–Β–≤―à―É―é―¹―è –±–Α―à–Β–Ϋ–Κ―É –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Α―è–Κ–Α.
–‰ ―Ö–Ψ―²―è –Δ―Ä–Α–≤–Κ–Η–Ϋ ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–≤–Α–Μ, –Κ–Α–Κ ―²―Ä–Β–≤–Ψ–Ε–Α―²―¹―è –Ζ–Α –Ϋ–Β–≥–Ψ –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Α –Η ―à―²–Α–± ―³–Μ–Ψ―²–Α, –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β ―¹―΅–Η―²–Α–Μ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Φ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –≤ ―ç―³–Η―Ä ―¹ ―ç―²–Ψ–Ι –Ϋ–Β–Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Η. –û–Ϋ –¥–Α–Μ –Ζ–Ϋ–Α―²―¨ –Ψ ―¹–Β–±–Β –Μ–Η―à―¨ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Α–Κ –©-303 –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω–Ψ–Μ―É―΅–Ϋ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β―¹–Β–Κ–Μ–Α –≤ –Ψ–±―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ–Φ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Η–Ι ―Ä―É–±–Β–Ε. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –±–Α―²–Α―Ä–Β―è –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ ―Ä–Α–Ζ―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Α –¥–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Α –Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –±―É–¥–Β―² –¥–Ψ –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α―à–Η―Ö –Κ–Α―²–Β―Ä–Ψ–≤ –Μ–Β–Ε–Α―²―¨ –Ϋ–Α –≥―Ä―É–Ϋ―²–Β –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –±–Α–Ϋ–Κ–Η –ù–Α–Φ―¹–Η.
–î–Μ―è –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Η ¬Ϊ–©―É–Κ–Η¬Μ –Η ―ç―¹–Κ–Ψ―Ä―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Β―ë –Ϋ–Α –¦–Α–≤–Β–Ϋ―¹–Α―Ä–Η –±―΄–Μ–Η ―¹―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ―΄ –¥–≤–Β –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β–≤―΄―Ö –Κ–Α―²–Β―Ä–Ψ–≤, ―΅–Α―¹―²―¨ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Η–Φ–Β–Μ–Α ―²―Ä–Α–Μ―΄. –Γ–Β–Φ―¨ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ–Α―²–Β―Ä–Ψ–≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Η –≥―Ä―É–Ω–Ω―É –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²–Η―è. –™–Ψ―²–Ψ–≤―΄ –±―΄–Μ–Η, –Β―¹–Μ–Η –Ω–Ψ–Ϋ–Α–¥–Ψ–±–Η―²―¹―è, –≤―΄–Ι―²–Η –Ϋ–Α –£–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Μ―ë―¹ ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Η–Β―¹―è ―É –¦–Α–≤–Β–Ϋ―¹–Α―Ä–Η –Κ–Α–Ϋ–Ψ–Ϋ–Β―Ä―¹–Κ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α ¬Ϊ–ö–Α–Φ–Α¬Μ –Η –¥–≤–Α ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β–≤–Η–Κ–Α –Η–Ζ –Ψ―²―Ä―è–¥–Α ―à―Ö–Β―Ä–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –î.–î.–£–¥–Ψ–≤–Η―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ –Κ–Ψ–Ψ―Ä–¥–Η–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –≤―¹–Β―Ö ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―ç―²–Ψ–Ι –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η. –Γ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Η–Μ –Ω―Ä–Η–≤–Μ–Β–Κ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Α ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι, –Β―¹–Μ–Η –Ω–Ψ–Ϋ–Α–¥–Ψ–±–Η―²―¹―è –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄–≤–Α―²―¨ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α–≤―à―É―é―¹―è –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ―É –Ψ―² –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ –≤―Ä–Α–Ε–Β―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Α―²–Β―Ä–Ψ–≤. –Γ–≤–Β–Ε–Α –±―΄–Μ–Α –Ω–Α–Φ―è―²―¨ –Ψ ―²–Ψ–Φ, –Κ–Α–Κ ―Ü–Β–Μ–Α―è ¬Ϊ―΅―ë―Ä―²–Ψ–≤–Α –¥―é–Ε–Η–Ϋ–Α¬Μ –Η―Ö –Α―²–Α–Κ–Ψ–≤–Α–Μ–Α –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ϋ–Α―à –¥–Ψ–Ζ–Ψ―Ä.
–£―¹―²―Ä–Β―΅–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ―É, –Ϋ–Α―à–Η –Κ–Α―²–Β―Ä–Α –Ω–Ψ–¥―¹–Β–Κ–Μ–Η –Η ―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Η–Μ–Η –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Η–Ϋ, –Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ψ―Ä–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –¥–≤–Α –Κ–Α―²–Β―Ä–Α. –‰ –Ϋ–Β ―¹ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Α –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–Μ–Η –Κ–Α―²–Β―Ä–Ϋ–Η–Κ–Η ¬Ϊ–©―É–Κ―É¬Μ –Ψ―²―΅–Α―¹―²–Η –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ –Δ―Ä–Α–≤–Κ–Η–Ϋ –¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ―¹―è –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η ―¹–Ω–Β―Ä–≤–Α –Ω–Ψ―¹―΅–Η―²–Α–Μ –Ω―Ä–Η–±–Μ–Η–Ε–Α–≤―à–Η–Β―¹―è –Κ–Α―²–Β―Ä–Α ―΅―É–Ε–Η–Φ–Η, –Α –Ω―Ä–Β–¥―à–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–≤―à–Η–Β ―ç―²–Ψ–Φ―É –≤–Ζ―Ä―΄–≤―΄ –Φ–Η–Ϋ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ –Ζ–Α –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ –±–Ψ–Φ–±―ë–Ε–Κ–Η. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –©-303 –ù.–£.–Δ―Ä–Α–≤–Κ–Η–Ϋ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―² ―¹–Ψ–≤–Β―â–Α–Ϋ–Η–Β ―¹ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ϋ―΄–Φ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Ψ–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è. –û–Ϋ ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Α. –£ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Β –Ζ–Α–Φ–Ω–Ψ–Μ–Η―² –€.–‰.–Π–Β–Ι―à–Β―Ä, –Μ–Β–≤–Β–Β ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ –™.–ù.–€–Α–≥―Ä–Η–Μ–Ψ–≤ –Η –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä-–Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ –ü.–€.–‰–Μ―¨–Η–Ϋ –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –©-303 –ù.–£.–Δ―Ä–Α–≤–Κ–Η–Ϋ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―² ―¹–Ψ–≤–Β―â–Α–Ϋ–Η–Β ―¹ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ϋ―΄–Φ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Ψ–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è. –û–Ϋ ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Α. –£ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Β –Ζ–Α–Φ–Ω–Ψ–Μ–Η―² –€.–‰.–Π–Β–Ι―à–Β―Ä, –Μ–Β–≤–Β–Β ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ –™.–ù.–€–Α–≥―Ä–Η–Μ–Ψ–≤ –Η –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä-–Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ –ü.–€.–‰–Μ―¨–Η–Ϋ –½–Α–Φ–Ω–Ψ–Μ–Η―² –€.–‰.–Π–Β–Ι―à–Β―Ä –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―² –±–Β―¹–Β–¥―É ―¹ –Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Φ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Ψ–Φ –≤ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η–£ –Ϋ–Ψ―΅―¨ –Ϋ–Α 9 –Η―é–Ϋ―è –©-303 –≤–Ψ―à–Μ–Α –≤ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Ϋ―É―é –±―É―Ö―²–Ψ―΅–Κ―É, –±–Β–Ζ –Φ–Α–Μ–Ψ–≥–Ψ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Φ–Β―¹―è―Ü –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ–Α –Ψ―²―²―É–¥–Α –≤―΄―à–Μ–Α. –ï ―â―ë ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –¥–≤–Ψ–Β ―¹―É―²–Ψ–Κ –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Ψ―à–≤–Α―Ä―²–Ψ–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤ –Κ―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²―¹–Κ–Ψ–Ι –ö―É–Ω–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –≥–Α–≤–Α–Ϋ–Η. –û–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Α –≤ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Β –±―΄–Μ–Α ―²–Α–Κ–Ψ–Ι, ―΅―²–Ψ –Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Κ–Α –Β―ë –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―² –¥–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Β–Μ–Β–≥–Κ–Ψ. –ö–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ―²―Ä–Α–Ε–Α―²―¨ –Α―²–Α–Κ–Η –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è –Κ ―³–Α―Ä–≤–Α―²–Β―Ä―É –≤―Ä–Α–Ε–Β―¹–Κ–Η―Ö ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ–Α―²–Β―Ä–Ψ–≤, –Α –Η―¹―²―Ä–Β–±–Η―²–Β–Μ–Η –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²–Η―è ―¹–±–Η–Μ–Η –¥–≤–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―²–Α, –Ω―΄―²–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è –±–Ψ–Φ–±–Η―²―¨ –Μ–Ψ–¥–Κ―É. –ë―΄–Μ –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥―ë–Ϋ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Α–≤―à–Η―Ö –Β―ë ―²―Ä–Α–Μ―¨―â–Η–Κ–Ψ–≤. –½–Α–Φ–Ω–Ψ–Μ–Η―² –€.–‰.–Π–Β–Ι―à–Β―Ä –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―² –±–Β―¹–Β–¥―É ―¹ –Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Φ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Ψ–Φ –≤ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η–£ –Ϋ–Ψ―΅―¨ –Ϋ–Α 9 –Η―é–Ϋ―è –©-303 –≤–Ψ―à–Μ–Α –≤ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Ϋ―É―é –±―É―Ö―²–Ψ―΅–Κ―É, –±–Β–Ζ –Φ–Α–Μ–Ψ–≥–Ψ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Φ–Β―¹―è―Ü –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ–Α –Ψ―²―²―É–¥–Α –≤―΄―à–Μ–Α. –ï ―â―ë ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –¥–≤–Ψ–Β ―¹―É―²–Ψ–Κ –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Ψ―à–≤–Α―Ä―²–Ψ–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤ –Κ―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²―¹–Κ–Ψ–Ι –ö―É–Ω–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –≥–Α–≤–Α–Ϋ–Η. –û–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Α –≤ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Β –±―΄–Μ–Α ―²–Α–Κ–Ψ–Ι, ―΅―²–Ψ –Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Κ–Α –Β―ë –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―² –¥–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Β–Μ–Β–≥–Κ–Ψ. –ö–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ―²―Ä–Α–Ε–Α―²―¨ –Α―²–Α–Κ–Η –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è –Κ ―³–Α―Ä–≤–Α―²–Β―Ä―É –≤―Ä–Α–Ε–Β―¹–Κ–Η―Ö ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ–Α―²–Β―Ä–Ψ–≤, –Α –Η―¹―²―Ä–Β–±–Η―²–Β–Μ–Η –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²–Η―è ―¹–±–Η–Μ–Η –¥–≤–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―²–Α, –Ω―΄―²–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è –±–Ψ–Φ–±–Η―²―¨ –Μ–Ψ–¥–Κ―É. –ë―΄–Μ –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥―ë–Ϋ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Α–≤―à–Η―Ö –Β―ë ―²―Ä–Α–Μ―¨―â–Η–Κ–Ψ–≤.
–î–≤–Α–Ε–¥―΄ –Ζ–Α ―ç―²–Ψ―² –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –Ψ–±―ä―è–≤–Μ―è–Μ–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―É―é –Μ–Ψ–¥–Κ―É ―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι. –û―²–Φ–Β―²–Κ–Η –Ψ –Β―ë –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –Φ―΄ –≤–Η–¥–Β–Μ–Η –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Ϋ–Α ―²―Ä–Ψ―³–Β–Ι–Ϋ―΄―Ö ―à―²–Α–±–Ϋ―΄―Ö –Κ–Α―Ä―²–Α―Ö, –Ψ―²–Κ―É–¥–Α ―ç―²–Η –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω–Β―Ä–Β―à–Μ–Η –≤ ―²―Ä―É–¥―΄ –Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Ψ–≥–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Κ–Ψ–≤.
–ö–Ψ–≥–¥–Α ¬Ϊ–©―É–Κ–Α¬Μ –Ζ–Α―¹―²―Ä–Β–≤–Α–Μ–Α –≤ ―¹–Β―²―è―Ö, –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Β―ë –±―΄–≤–Α–Μ–Ψ ―²–Α–Κ–Η–Φ, ―΅―²–Ψ –≤–Ψ –Η–Ζ–±–Β–Ε–Α–Ϋ–Η–Β –Ζ–Α―Ö–≤–Α―²–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, –Η–Ζ–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ―è–Μ―¹―è –Κ –≤–Ζ―Ä―΄–≤―É –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Ψ–≥―Ä–Β–±, –Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Α –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Α –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ, –£ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è―Ö, –Ζ–Α―΅–Α―¹―²―É―é –Ϋ–Β–Ψ–±―΄―΅–Ϋ―΄―Ö, –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―è–≤―à–Η―Ö―¹―è ―΅―Ä–Β–Ζ–≤―΄―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Η, –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –Δ―Ä–Α–≤–Κ–Η–Ϋ –≤―¹–Β–≥–¥–Α ―¹―²–Α―Ä–Α–Μ―¹―è –Ψ–Ω–Β―Ä–Β―²―¨―¹―è –Ϋ–Α ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Κ―É ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –©-303 –‰–≤–Α–Ϋ –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅ –Δ―Ä–Α–≤–Κ–Η–Ϋ–ï―¹–Μ–Η –Κ–Α–Κ–Ψ–Β-―²–Ψ ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ–Β ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Β –Φ–≥–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Η –±―΄–Μ–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω–Ψ―Ä–Α–Ζ–Φ―΄―¹–Μ–Η―²―¨, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–Μ –≤ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ―¹―²―É ¬Ϊ–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―²¬Μ ―¹ ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β–Φ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ –Η ―΅–Μ–Β–Ϋ–Ψ–≤ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α. –≠―²–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α–Μ–Ψ –Β–Φ―É –Ψ―â―É―²–Η―²―¨ –Ϋ–Α―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –≥–≤–Α―Ä–¥–Β–Ι―Ü–Β–≤, –Ω–Ψ–Ϋ―è―²―¨, –Ϋ–Α ―΅―²–Ψ ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ –Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –©-303 –‰–≤–Α–Ϋ –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅ –Δ―Ä–Α–≤–Κ–Η–Ϋ–ï―¹–Μ–Η –Κ–Α–Κ–Ψ–Β-―²–Ψ ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ–Β ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Β –Φ–≥–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Η –±―΄–Μ–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω–Ψ―Ä–Α–Ζ–Φ―΄―¹–Μ–Η―²―¨, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–Μ –≤ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ―¹―²―É ¬Ϊ–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―²¬Μ ―¹ ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β–Φ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ –Η ―΅–Μ–Β–Ϋ–Ψ–≤ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α. –≠―²–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α–Μ–Ψ –Β–Φ―É –Ψ―â―É―²–Η―²―¨ –Ϋ–Α―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –≥–≤–Α―Ä–¥–Β–Ι―Ü–Β–≤, –Ω–Ψ–Ϋ―è―²―¨, –Ϋ–Α ―΅―²–Ψ ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ –Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤.
–‰–≤–Α–Ϋ –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅ –Ϋ–Β –±―΄–Μ ―Ä–Β―΅–Η―¹―², –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ϋ–Ψ―¹–Η―²―¨ –≥―Ä–Ψ–Φ–Κ–Η–Β, ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹–Μ–Ψ–≤–Α –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ϋ–Β ―É–Φ–Β–Μ, –Ϋ–Ψ –Φ–Ψ–≥ –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨ –¥―É―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι –Ψ–±―΄–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι, –±–Β–Ζ –≤―¹―è–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Α―³–Ψ―¹–Α ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―³―Ä–Α–Ζ–Ψ–Ι.
βÄî –£―¹―ë ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ –≤―΄―Ä–≤–Β–Φ―¹―è! βÄî –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ –Ψ–Ϋ, –Ψ–±―ä―è–≤–Μ―è―è –Ω–Μ–Α–Ϋ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι, –≤–Κ–Μ―é―΅–Α–≤―à–Η–Ι, –Β―¹–Μ–Η –Ϋ–Β –±―É–¥–Β―² –≤―΄–±–Ψ―Ä–Α, –Η ―¹–Α–Φ―΄–Β –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Η–Β.
–û ―²–Ψ–Φ, –Κ–Α–Κ –≤–Β―Ä–Η–Μ–Η –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹―΄ ―ç―²–Ψ–Φ―É ¬Ϊ–≤―΄―Ä–≤–Β–Φ―¹―è¬Μ, –Κ–Α–Κ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–Μ–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―¹–Κ–Ψ–Β ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ, ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η –Ζ–Α–Φ–Ω–Ψ–Μ–Η―² –Π–Β–Ι―à–Β―Ä –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄. –‰ ―ç―²–Ψ –Μ–Β–≥–Κ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨. –½–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –©-303 –Ω–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Η―²―΅–Α―¹―²–Η –€.–‰.–Π–Β–Ι―à–Β―Ä–ü–Ψ―¹–Μ–Β–Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α–Ζ–±–Ψ―Ä―΄ ―É –Ϋ–Α―¹ –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –≤–Β―¹―¨–Φ–Α –Κ―Ä–Η―²–Η―΅–Ϋ–Ψ. –ë―΄–Μ–Ψ ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–Κ―Ä–Η―²–Η–Κ–Ψ–≤–Α―²―¨ –Η –≤ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è―Ö –Δ ―Ä–Α–≤–Κ–Η–Ϋ–Α. –ù–Ψ –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ―² ―Ä–Α–Ζ ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Η ―Ä–Α–Ζ–±–Ψ―Ä–Α, ―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ ―¹–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–≤―à–Η―¹―¨, –Ω–Ψ―΅―²–Η –Ϋ–Β –Κ–Α―¹–Α–Μ–Η―¹―¨ ―΅–Α―¹―²–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Ψ―¹―΅―ë―²–Ψ–≤ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ψ–Ϋ –Η ―¹–Α–Φ ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–≤–Α–Μ. –¦–Ψ–¥–Κ–Α –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Α –≤ ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö –Ω–Ψ―΅―²–Η –Ϋ–Β–Ω―Ä–Β―Ä―΄–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Β―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ. –î–Μ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ω–Ψ–¥–Ζ–Α―Ä―è–¥–Η―²―¨ –±–Α―²–Α―Ä–Β―é –Η –¥–Α–Ε–Β –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–Ϋ―²–Η–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Η, ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤–Α–Μ–Α –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β ―²―è–Ε–Β–Μ–Β–Ι―à―É―é –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ―É. –ù–Ψ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε –≤―¹―ë –≤―΄–¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ, –Η ―ç―²–Ψ ―è–≤–Μ―è–Μ–Ψ―¹―¨ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Φ. –£―΄―Ö–Ψ–¥―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Ψ―²–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ―΄ –î–Ψ–Κ–Μ–Α–¥ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –©-303 –Ψ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Α―Ö ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Η –ù–Α―Ä–≥–Β–Ϋ-–ü–Ψ―Ä–Κ–Κ–Α–Μ–Α―É–¥―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Η, –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η―è –Η –≤―΄–≤–Ψ–¥―΄, –Ψ―²–Μ–Η―΅–Α–≤―à–Η–Β―¹―è –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é, –±―΄–Μ–Η –Φ–Α–Μ–Ψ―É―²–Β―à–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η. –Δ―Ä–Α–≤–Κ–Η–Ϋ, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥ –Ψ–±―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤–Β―¹―¨ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―² ―¹–Β―²–Β–≤―΄―Ö –Ζ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Ι. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ ―É–Ε–Β ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―Ä―É–±–Β–Ε–Α ―¹–Ψ―¹―Ä–Β–¥–Ψ―²–Ψ―΅–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Β–±―΄–≤–Α–Μ–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ―΄–Β ―¹–Η–Μ―΄, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ϋ–Β –¥–Α―²―¨ –Μ–Ψ–¥–Κ–Α–Φ –Ζ–Α―Ä―è–Ε–Α―²―¨ –±–Α―²–Α―Ä–Β–Η, –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Ϋ–Β –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ ―à–Α–Ϋ―¹–Ψ–≤ ―³–Ψ―Ä―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Ζ–Α–Μ–Η–≤, –Ω–Ψ–Κ–Α –Ϋ–Α –Ϋ―ë–Φ ―¹―²–Ψ―è―² –±–Β–Μ―΄–Β –Ϋ–Ψ―΅–Η. –ö―Ä–Ψ–Φ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –ù–Α―Ä–≥–Β–Ϋ-–ü–Ψ―Ä–Κ–Κ–Α–Μ–Α―É–¥―¹–Κ–Α―è –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ–Α―è –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η―è –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ζ–Α –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Α–Φ–Η –¥–Ψ―¹―è–≥–Α–Β–Φ–Ψ―¹―²–Η –¥–Μ―è –Ϋ–Α―à–Β–Ι –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Η. –½–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –©-303 –Ω–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Η―²―΅–Α―¹―²–Η –€.–‰.–Π–Β–Ι―à–Β―Ä–ü–Ψ―¹–Μ–Β–Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α–Ζ–±–Ψ―Ä―΄ ―É –Ϋ–Α―¹ –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –≤–Β―¹―¨–Φ–Α –Κ―Ä–Η―²–Η―΅–Ϋ–Ψ. –ë―΄–Μ–Ψ ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–Κ―Ä–Η―²–Η–Κ–Ψ–≤–Α―²―¨ –Η –≤ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è―Ö –Δ ―Ä–Α–≤–Κ–Η–Ϋ–Α. –ù–Ψ –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ―² ―Ä–Α–Ζ ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Η ―Ä–Α–Ζ–±–Ψ―Ä–Α, ―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ ―¹–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–≤―à–Η―¹―¨, –Ω–Ψ―΅―²–Η –Ϋ–Β –Κ–Α―¹–Α–Μ–Η―¹―¨ ―΅–Α―¹―²–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Ψ―¹―΅―ë―²–Ψ–≤ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ψ–Ϋ –Η ―¹–Α–Φ ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–≤–Α–Μ. –¦–Ψ–¥–Κ–Α –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Α –≤ ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö –Ω–Ψ―΅―²–Η –Ϋ–Β–Ω―Ä–Β―Ä―΄–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Β―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ. –î–Μ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ω–Ψ–¥–Ζ–Α―Ä―è–¥–Η―²―¨ –±–Α―²–Α―Ä–Β―é –Η –¥–Α–Ε–Β –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–Ϋ―²–Η–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Η, ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤–Α–Μ–Α –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β ―²―è–Ε–Β–Μ–Β–Ι―à―É―é –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ―É. –ù–Ψ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε –≤―¹―ë –≤―΄–¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ, –Η ―ç―²–Ψ ―è–≤–Μ―è–Μ–Ψ―¹―¨ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Φ. –£―΄―Ö–Ψ–¥―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Ψ―²–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ―΄ –î–Ψ–Κ–Μ–Α–¥ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –©-303 –Ψ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Α―Ö ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Η –ù–Α―Ä–≥–Β–Ϋ-–ü–Ψ―Ä–Κ–Κ–Α–Μ–Α―É–¥―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Η, –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η―è –Η –≤―΄–≤–Ψ–¥―΄, –Ψ―²–Μ–Η―΅–Α–≤―à–Η–Β―¹―è –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é, –±―΄–Μ–Η –Φ–Α–Μ–Ψ―É―²–Β―à–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η. –Δ―Ä–Α–≤–Κ–Η–Ϋ, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥ –Ψ–±―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤–Β―¹―¨ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―² ―¹–Β―²–Β–≤―΄―Ö –Ζ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Ι. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ ―É–Ε–Β ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―Ä―É–±–Β–Ε–Α ―¹–Ψ―¹―Ä–Β–¥–Ψ―²–Ψ―΅–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Β–±―΄–≤–Α–Μ–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ―΄–Β ―¹–Η–Μ―΄, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ϋ–Β –¥–Α―²―¨ –Μ–Ψ–¥–Κ–Α–Φ –Ζ–Α―Ä―è–Ε–Α―²―¨ –±–Α―²–Α―Ä–Β–Η, –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Ϋ–Β –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ ―à–Α–Ϋ―¹–Ψ–≤ ―³–Ψ―Ä―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Ζ–Α–Μ–Η–≤, –Ω–Ψ–Κ–Α –Ϋ–Α –Ϋ―ë–Φ ―¹―²–Ψ―è―² –±–Β–Μ―΄–Β –Ϋ–Ψ―΅–Η. –ö―Ä–Ψ–Φ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –ù–Α―Ä–≥–Β–Ϋ-–ü–Ψ―Ä–Κ–Κ–Α–Μ–Α―É–¥―¹–Κ–Α―è –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ–Α―è –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η―è –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ζ–Α –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Α–Φ–Η –¥–Ψ―¹―è–≥–Α–Β–Φ–Ψ―¹―²–Η –¥–Μ―è –Ϋ–Α―à–Β–Ι –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Η.
–£–Η–¥–Η–Φ–Ψ, ―¹ ―É―΅―ë―²–Ψ–Φ –≤―¹–Β–≥–Ψ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–¥–Η–Μ ―¹–≤–Ψ―ë ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β: –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Ω–Ψ–Κ–Α –Ϋ–Β –Ω–Ψ―¹―΄–Μ–Α―²―¨. –û–±–Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―è –±―΄–Μ–Α –Ψ―΅–Β–≤–Η–¥–Ϋ–Ψ–Ι, –Η –Ψ–Ϋ–Ψ –≤―΄–Ζ–≤–Α–Μ–Ψ ―É –Ϋ–Α―¹ –≤ ―à―²–Α–±–Β ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ –Ψ–±–Μ–Β–≥―΅–Β–Ϋ–Η―è. –€―΄ –±―΄–Μ–Η –Ψ―Ä–Η–Β–Ϋ―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ―΄ –Ϋ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤–Ψ–Ζ–Ψ–±–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¨ –Ω–Ψ–Ω―΄―²–Κ–Η –≤―΄–≤–Β―¹―²–Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Κ―É, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤ ―¹―É―²–Κ–Α―Ö –Ω–Ψ―è–≤―è―²―¹―è –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―²―ë–Φ–Ϋ―΄―Ö ―΅–Α―¹–Ψ–≤. –Δ –Ψ–≥–¥–Α –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ –±―΄, –Ω–Ψ –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Β–Ι –Φ–Β―Ä–Β, –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥–Η―²―¨ –Ζ–Α―Ä―è–¥–Κ―É –Α–Κ–Κ―É–Φ―É–Μ―è―²–Ψ―Ä–Ϋ―΄―Ö –±–Α―²–Α―Ä–Β–Ι, –Α –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Β –±–Ψ–Φ–±–Α―Ä–¥–Η―Ä–Ψ–≤―â–Η–Κ–Η ―¹–Φ–Ψ–≥–Μ–Η –±―΄ –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α―²―¨ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ϋ–Α –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Φ ―É–¥–Α–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –Ψ―² ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Α―ç―Ä–Ψ–¥―Ä–Ψ–Φ–Ψ–≤, –≤―΄–Μ–Β―²–Α―è –≤ ―²―ë–Φ–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –±–Β–Ζ ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Η―¹―²―Ä–Β–±–Η―²–Β–Μ–Β–Ι. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –≤ –Ω–Ψ–Η―¹–Κ–Α―Ö –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Α –Η–Ζ –Ζ–Α―²―Ä―É–¥–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è. –Γ–Μ–Β–≤–Α –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Ψ: –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –£.–ê.–ü–Ψ–Μ–Β―â―É–Κ –Η –™.–ê.–™–Ψ–Μ―¨–¥–±–Β―Ä–≥, –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ ―à―²–Α–±–Α –¦.–ê.–ö―É―Ä–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Γ.–ë.–£–Β―Ä―Ö–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ü–¦ –¦.–ê.–¦–Ψ―à–Κ–Α―Ä―ë–≤, –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Ψ―²–¥–Β–Μ–Α –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –€.–ï.–ö–Α–±–Α–Ϋ–Ψ–≤. –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―², –Μ–Β―²–Ψ 1943 –≥–Ψ–¥–Α–Δ–Α–Κ–Η–Β ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η –±―΄ ―¹–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –Ϋ–Α―à–Β–Φ ―²–Β–Α―²―Ä–Β –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Η―é–Μ―è, –Α –≤ –Α–≤–≥―É―¹―²–Β, ―¹ ―É–≤–Β–Μ–Η―΅–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Ψ―΅–Β–Ι, –Ψ–Ϋ–Η ―¹―²–Α–Μ–Η –±―΄ –Ψ―â―É―²–Η–Φ―΄ –Ω–Ψ-–Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–Φ―É. –Θ―΅–Η―²―΄–≤–Α―è –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ―É –Ϋ–Α ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Α―Ö –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –≤―΄―Ö–Ψ–¥―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –±―΄–Μ–Η –≤–Ψ–Ζ–Ψ–±–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ―΄ –≤―¹―ë-―²–Α–Κ–Η –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β. –£ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β –Η―é–Μ―è ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ –Ψ―² –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è ―³–Μ–Ψ―²–Α –Ϋ–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ –£–€–Λ, ―è–≤–Μ―è–≤―à–Η–Ι―¹―è ―΅–Μ–Β–Ϋ–Ψ–Φ –Γ―²–Α–≤–Κ–Η –£–Β―Ä―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –≤ –Ω–Ψ–Η―¹–Κ–Α―Ö –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Α –Η–Ζ –Ζ–Α―²―Ä―É–¥–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è. –Γ–Μ–Β–≤–Α –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Ψ: –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –£.–ê.–ü–Ψ–Μ–Β―â―É–Κ –Η –™.–ê.–™–Ψ–Μ―¨–¥–±–Β―Ä–≥, –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ ―à―²–Α–±–Α –¦.–ê.–ö―É―Ä–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Γ.–ë.–£–Β―Ä―Ö–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ü–¦ –¦.–ê.–¦–Ψ―à–Κ–Α―Ä―ë–≤, –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Ψ―²–¥–Β–Μ–Α –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –€.–ï.–ö–Α–±–Α–Ϋ–Ψ–≤. –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―², –Μ–Β―²–Ψ 1943 –≥–Ψ–¥–Α–Δ–Α–Κ–Η–Β ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η –±―΄ ―¹–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –Ϋ–Α―à–Β–Φ ―²–Β–Α―²―Ä–Β –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Η―é–Μ―è, –Α –≤ –Α–≤–≥―É―¹―²–Β, ―¹ ―É–≤–Β–Μ–Η―΅–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Ψ―΅–Β–Ι, –Ψ–Ϋ–Η ―¹―²–Α–Μ–Η –±―΄ –Ψ―â―É―²–Η–Φ―΄ –Ω–Ψ-–Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–Φ―É. –Θ―΅–Η―²―΄–≤–Α―è –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ―É –Ϋ–Α ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Α―Ö –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –≤―΄―Ö–Ψ–¥―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –±―΄–Μ–Η –≤–Ψ–Ζ–Ψ–±–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ―΄ –≤―¹―ë-―²–Α–Κ–Η –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β. –£ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β –Η―é–Μ―è ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ –Ψ―² –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è ―³–Μ–Ψ―²–Α –Ϋ–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ –£–€–Λ, ―è–≤–Μ―è–≤―à–Η–Ι―¹―è ―΅–Μ–Β–Ϋ–Ψ–Φ –Γ―²–Α–≤–Κ–Η –£–Β―Ä―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è.
–Δ―É―² ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è –Ϋ–Β –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¨ ―²–Ψ–≥–¥–Α―à–Ϋ–Β–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ-–≥–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Β. –ù–Α―à–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Ψ, ―΅―²–Ψ –≤―Ä–Α–≥ ―¹–Ψ―¹―Ä–Β–¥–Ψ―²–Ψ―΅–Η–Μ –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Β ―¹–Η–Μ―΄ –≤ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Β–≥–Ψ ―΅–Α―¹―²–Η –Η –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―² ―¹―²―Ä–Α―²–Β–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β, –Ϋ–Α–¥–Β―è―¹―¨ –≤–Ζ―è―²―¨ ―Ä–Β–≤–Α–Ϋ―à –Ζ–Α –Γ―²–Α–Μ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥, –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Η―²―¨ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Η–Ι ―Ö–Ψ–¥ –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –≤ ―¹–≤–Ψ―é –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É.
–ù–Α–Ζ―Ä–Β–≤–Α–Μ–Ψ, –Α 5 –Η―é–Μ―è –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –≥―Ä–Α–Ϋ–¥–Η–Ψ–Ζ–Ϋ–Ψ–Β ―¹―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α –ö―É―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –¥―É–≥–Β. –£ ―¹–≤–Β―²–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Η–Ψ–±―Ä–Β―²–Α–Μ–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–Β –Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α―Ä―É―à–Β–Ϋ–Η–Β –Μ―é–±―΄―Ö –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η–Κ–Α―Ü–Η–Ι, –Ω–Η―²–Α―é―â–Η―Ö ―³–Α―à–Η―¹―²―¹–Κ–Η–Β –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α –Ϋ–Α –£–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Φ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Β, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö, –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥―è―â–Η―Ö ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ―é–Ε–Ϋ―É―é ―΅–Α―¹―²―¨ –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Η. –ê –≤–Ψ–Ζ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Α –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Β –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η–Κ–Α―Ü–Η–Η –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Η–Ζ –≤―¹–Β―Ö ―¹–Η–Μ ―³–Μ–Ψ―²–Α ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η. 10 –Η―é–Μ―è –Ϋ–Α –±―Ä–Η–≥–Α–¥―É –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Α –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Η–≤–Α –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―²–Α ―³–Μ–Ψ―²–Α, –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Η―¹―΄–≤–Α–≤―à–Α―è –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²―¨ –Κ 25 –Η―é–Μ―è –Κ –≤―΄―Ö–Ψ–¥―É –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –¥–≤–Β –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Η. –ü–Β―Ä–≤–Ψ–Ι –Η―Ö –Ζ–Α–¥–Α―΅–Β–Ι –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Η ―¹―²–Α―²―¨ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Α –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Β–Ε–Η–Φ–Α –Ϋ–Α –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Η –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α, ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ –Ϋ–Α –ù–Α―Ä–≥–Β–Ϋ-–ü–Ψ―Ä–Κ–Κ–Α–Μ–Α―É–¥―¹–Κ–Ψ–Φ ―Ä―É–±–Β–Ε–Β, –Η –≤―΄―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄―Ö –Ω―É―²–Β–Ι ―³–Ψ―Ä―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è ―ç―²–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Η. –£ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Β―ë –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α, –Μ–Ψ–¥–Κ–Α–Φ –Ϋ–Α–¥–Μ–Β–Ε–Α–Μ–Ψ –Η–¥―²–Η –≤ ―é–Ε–Ϋ―É―é ―΅–Α―¹―²―¨ –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Η –Η –Ϋ–Α―Ä―É―à–Α―²―¨ ―²–Α–Φ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―è―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η–Β –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Β –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–Ζ–Κ–Η.
–ö –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥―É –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Β –Γ-12 –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ê. –ê. –ë–Α―â–Β–Ϋ–Κ–Ψ (―É–Ε–Β –≤―΄–≤–Ψ–¥–Η–≤―à–Α―è―¹―è –Ϋ–Α –¦–Α–≤–Β–Ϋ―¹–Α―Ä–Η –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Φ–Α―è) –Η –Γ-9 –Ω–Ψ–¥ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ê.–‰.–€―΄–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤–Α.
–î–Ψ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Α ―ç―²–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –±―΄–Μ–Α –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Α –Ω–Ψ –Η–Ϋ–Η―Ü–Η–Α―²–Η–≤–Β –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–±―Ä–Η–≥–Α –Γ.–ë.–£–Β―Ä―Ö–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Α –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ι –Ϋ–Α –Ω―É―²–Η –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Η –¥–≤―É–Φ―è ¬Ϊ–€–Α–Μ―é―²–Κ–Α–Φ–Η¬Μ. –ù–Β–Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –≤―΄―Ö–Ψ–¥―΄ –≤ ―ç―²–Ψ―² ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –€-96 (–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä βÄî –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –ù.–‰.–ö–Α―Ä―²–Α―à–Ψ–≤) –Η –€-102 (–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä βÄî –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –ü.–£.–™–Μ–Α–¥–Η–Μ–Η–Ϋ) –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ–Η―¹―¨ –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω–Ψ–Μ―É―΅–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Ψ –Φ–Α–Μ–Ψ ―΅–Β–Φ –¥–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Μ–Η –Ϋ–Α―à–Η ―¹–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ψ–± –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Β –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥ –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥–Α. –ß―²–Ψ ―ç―²–Ψ―² ―Ä―É–±–Β–Ε –Ω―Ä–Β–Ψ–¥–Ψ–Μ–Η–Φ, ―É–Ε–Β –¥–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η ―²―Ä–Η –Ω―Ä–Β–Ψ–¥–Ψ–Μ–Β–≤―à–Η–Β –Β–≥–Ψ ¬Ϊ–©―É–Κ–Η¬Μ. –™–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Β–Ω―è―²―¹―²–≤–Η―è –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ–Η―¹―¨ –¥–Α–Μ―¨―à–Β. –ü―ë―²―Ä –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅ –™–Μ–Α–¥–Η–Μ–Η–Ϋ–ù–Α–Φ –±―΄–Μ–Ψ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Β –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Η, ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–≤―à–Η–Β ―É―¹–Κ–Ψ―Ä–Η―²―¨ –≤―΄–≤–Ψ–¥ –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Κ―É, –™–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―à―²–Α–±, –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Η―¹―΄–≤–Α–Μ–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―é ―³–Μ–Ψ―²–Α –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤―¹–Β –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Β ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α –¥–Μ―è ―¹–Ψ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ –≤ ―³–Ψ―Ä―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α. –Γ―²–Α–≤–Η–Μ―¹―è, –≤ ―΅–Α―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ –Ψ –±–Ψ–Μ–Β–Β ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Η–≤–Μ–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Η –Κ ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –≤–Ω–Μ–Ψ―²―¨ –¥–Ψ ―ç―¹–Φ–Η–Ϋ―Ü–Β–≤. –ß―²–Ψ –Η –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨, ―É ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Η–Ϋ–Ψ–Ϋ–Ψ―¹―Ü–Α, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―Ä–Α–Ζ–Ψ–≥–Ϋ–Α―²―¨ ―Ü–Β–Μ―É―é ―³–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η―é –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö –Κ–Α―²–Β―Ä–Ψ–≤. –ù–Ψ –Κ–Α–Κ –±―΄–Μ–Ψ ―É–±–Β―Ä–Β―΅―¨ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –Ψ―² –Ω–Ψ–¥―Ä―΄–≤–Α –Ϋ–Α –Φ–Η–Ϋ–Α―Ö ―É–Ε–Β –Ϋ–Α –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Μ―ë―¹–Α―Ö, –¥–Α –Η –Ψ―² ―É–¥–Α―Ä–Ψ–≤ ―¹ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Α? –ê –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η, –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä―è―é, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ―É–Ε–¥–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Φ –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Β –Ϋ–Α –±–Μ–Η–Ε–Ϋ–Β–Φ ―Ä―É–±–Β–Ε–Β, –Α –Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Β–Β, βÄî –Ϋ–Α –ù–Α―Ä–≥–Β–Ϋ-–ü–Ψ―Ä–Κ–Κ–Α–Μ–Α―É–¥―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Β―²–Β–≤–Ψ–Φ –Η –Φ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ζ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Η. –ü―ë―²―Ä –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅ –™–Μ–Α–¥–Η–Μ–Η–Ϋ–ù–Α–Φ –±―΄–Μ–Ψ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Β –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Η, ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–≤―à–Η–Β ―É―¹–Κ–Ψ―Ä–Η―²―¨ –≤―΄–≤–Ψ–¥ –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Κ―É, –™–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―à―²–Α–±, –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Η―¹―΄–≤–Α–Μ–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―é ―³–Μ–Ψ―²–Α –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤―¹–Β –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Β ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α –¥–Μ―è ―¹–Ψ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ –≤ ―³–Ψ―Ä―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α. –Γ―²–Α–≤–Η–Μ―¹―è, –≤ ―΅–Α―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ –Ψ –±–Ψ–Μ–Β–Β ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Η–≤–Μ–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Η –Κ ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –≤–Ω–Μ–Ψ―²―¨ –¥–Ψ ―ç―¹–Φ–Η–Ϋ―Ü–Β–≤. –ß―²–Ψ –Η –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨, ―É ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Η–Ϋ–Ψ–Ϋ–Ψ―¹―Ü–Α, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―Ä–Α–Ζ–Ψ–≥–Ϋ–Α―²―¨ ―Ü–Β–Μ―É―é ―³–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η―é –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö –Κ–Α―²–Β―Ä–Ψ–≤. –ù–Ψ –Κ–Α–Κ –±―΄–Μ–Ψ ―É–±–Β―Ä–Β―΅―¨ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –Ψ―² –Ω–Ψ–¥―Ä―΄–≤–Α –Ϋ–Α –Φ–Η–Ϋ–Α―Ö ―É–Ε–Β –Ϋ–Α –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Μ―ë―¹–Α―Ö, –¥–Α –Η –Ψ―² ―É–¥–Α―Ä–Ψ–≤ ―¹ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Α? –ê –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η, –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä―è―é, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ―É–Ε–¥–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Φ –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Β –Ϋ–Α –±–Μ–Η–Ε–Ϋ–Β–Φ ―Ä―É–±–Β–Ε–Β, –Α –Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Β–Β, βÄî –Ϋ–Α –ù–Α―Ä–≥–Β–Ϋ-–ü–Ψ―Ä–Κ–Κ–Α–Μ–Α―É–¥―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Β―²–Β–≤–Ψ–Φ –Η –Φ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ζ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Η. –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –ö–Α―Ä―²–Α―à–Ψ–≤–Δ–Α–Φ, –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É―è –Ϋ–Β–¥–Ψ–Μ–≥–Ψ–Β –Ω–Ψ–Κ–Α ―²―ë–Φ–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹―É―²–Ψ–Κ, –≤ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ –Φ–Β―Ä–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Α –Ω–Ψ–Φ–Ψ―΅―¨ –Μ–Η―à―¨ –Α–≤–Η–Α―Ü–Η―è. –ë―΄–Μ–Ψ, –Ψ–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ, –Ϋ–Β–Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Α―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ–¥–¥–Α―é―²―¹―è –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ―΄–Β ―¹–Β―²–Η ―Ä–Α–Ζ―Ä―É―à–Β–Ϋ–Η―é –±–Ψ–Φ–±―ë–Ε–Κ–Ψ–Ι ―¹ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Α. –£ –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–¥–Β, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –¥–Α―¹―², –Ω–Ψ –Ζ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è–Φ –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Α–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ―΄, –Ϋ–Α ―²–Β―Ö ―É―΅–Α―¹―²–Κ–Α―Ö, –≥–¥–Β –Ϋ–Α–Φ–Β―΅–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Η―Ö ―³–Ψ―Ä―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨, –¥–≤–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –±–Ψ–Φ–±–Ψ–≤―΄―Ö ―É–¥–Α―Ä–Α –¥–≤–Β–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²―¨―é ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―²–Α–Φ–Η –î–ë-3, ―²–Α–Κ–Η–Φ–Η –Ε–Β, –Κ–Α–Κ–Η–Β –≤ 1941 –≥–Ψ–¥―É, –Ω–Ψ–Κ–Α ―³–Μ–Ψ―² –Η–Φ–Β–Μ –Α―ç―Ä–Ψ–¥―Ä–Ψ–Φ―΄ –Ϋ–Α –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α―Ö –€–Ψ–Ψ–Ϋ–Ζ―É–Ϋ–¥–Α, ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Α–Μ–Η –Ψ―²―²―É–¥–Α –Ϋ–Α–Μ―ë―²―΄ –Ϋ–Α –ë–Β―Ä–Μ–Η–Ϋ. –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –ö–Α―Ä―²–Α―à–Ψ–≤–Δ–Α–Φ, –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É―è –Ϋ–Β–¥–Ψ–Μ–≥–Ψ–Β –Ω–Ψ–Κ–Α ―²―ë–Φ–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹―É―²–Ψ–Κ, –≤ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ –Φ–Β―Ä–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Α –Ω–Ψ–Φ–Ψ―΅―¨ –Μ–Η―à―¨ –Α–≤–Η–Α―Ü–Η―è. –ë―΄–Μ–Ψ, –Ψ–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ, –Ϋ–Β–Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Α―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ–¥–¥–Α―é―²―¹―è –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ―΄–Β ―¹–Β―²–Η ―Ä–Α–Ζ―Ä―É―à–Β–Ϋ–Η―é –±–Ψ–Φ–±―ë–Ε–Κ–Ψ–Ι ―¹ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Α. –£ –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–¥–Β, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –¥–Α―¹―², –Ω–Ψ –Ζ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è–Φ –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Α–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ―΄, –Ϋ–Α ―²–Β―Ö ―É―΅–Α―¹―²–Κ–Α―Ö, –≥–¥–Β –Ϋ–Α–Φ–Β―΅–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Η―Ö ―³–Ψ―Ä―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨, –¥–≤–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –±–Ψ–Φ–±–Ψ–≤―΄―Ö ―É–¥–Α―Ä–Α –¥–≤–Β–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²―¨―é ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―²–Α–Φ–Η –î–ë-3, ―²–Α–Κ–Η–Φ–Η –Ε–Β, –Κ–Α–Κ–Η–Β –≤ 1941 –≥–Ψ–¥―É, –Ω–Ψ–Κ–Α ―³–Μ–Ψ―² –Η–Φ–Β–Μ –Α―ç―Ä–Ψ–¥―Ä–Ψ–Φ―΄ –Ϋ–Α –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α―Ö –€–Ψ–Ψ–Ϋ–Ζ―É–Ϋ–¥–Α, ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Α–Μ–Η –Ψ―²―²―É–¥–Α –Ϋ–Α–Μ―ë―²―΄ –Ϋ–Α –ë–Β―Ä–Μ–Η–Ϋ.
–Γ–Ϋ–Η–Ε–Α―è―¹―¨ –¥–Ψ 1000βÄ™500 –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤, –Ψ–Ϋ–Η ―¹–±―Ä–Α―¹―΄–≤–Α–Μ–Η 200-–Κ–Η–Μ–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Ψ–≤―΄–Β –±–Ψ–Φ–±―΄ –Ϋ–Α –Μ–Η–Ϋ–Η–Η ―¹–Β―²–Β–Ι, –Ψ―Ä–Η–Β–Ϋ―²–Η―Ä―É―è―¹―¨ –Ω–Ψ –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α―é―â–Η–Φ –Η―Ö –±―É–Ι–Κ–Α–Φ. –ë―΄–Μ–Η –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è ―Ä–Α―¹―¹―΅–Η―²―΄–≤–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ ―²–Α–Κ–Η–Φ ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–Φ ―É–¥–Α―¹―²―¹―è ―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Η―²―¨ –Η –Κ–Α–Κ―É―é-―²–Ψ ―΅–Α―¹―²―¨ –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β ―¹–Β―²–Β–Ι –Φ–Η–Ϋ.
–≠―²–Η –±–Ψ–Φ–±–Ψ–≤―΄–Β ―É–¥–Α―Ä―΄ –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―à–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η –≤―΄―Ö–Ψ–¥―É –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ. –Δ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è ―à–Μ–Α –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ι, –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Α –≤―΄―è―¹–Ϋ–Η―²―¨ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²―΄ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Η. –ü–Μ–Α–Ϋ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α –Ω―Ä–Β–¥―É―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Φ–Ψ–Ε–Β―², –Β―¹–Μ–Η –Ϋ–Α–Ι–¥―ë―² ―Ü–Β–Μ–Β―¹–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Φ, –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨ –¥–Μ―è ―Ä–Α–Ζ―Ä―É―à–Β–Ϋ–Η―è ―¹–Β―²–Β–Ι ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥―΄. –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –≥–Ψ―²–Ψ–≤―΄ –Κ –Ω–Ψ–¥–≤–Η–≥―É. –ü–Ψ–≥–Η–±–Μ–Η –Γ-12 –Η –Γ-9 –½–Α–¥–Α―΅–Α, ―¹―²–Α–≤–Η–≤―à–Α―è―¹―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α–Φ –Η ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α–Φ –¥–≤―É―Ö ¬Ϊ―ç―¹–Ψ–Κ¬Μ, –±―΄–Μ–Α –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Ι, –Α ―Ä–Η―¹–Κ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ―É –Ψ–Ϋ–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Β―Ä–≥–Α–Μ–Η―¹―¨, –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Φ. –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ―É –≤ –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Β, –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Η, –Ϋ–Α ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –Η–¥―É―². –ü―Ä–Η―Ö–Ψ–¥―è –Ϋ–Α ―ç―²–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η, ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Α―Ä–Η–≤–Α―è ―¹ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α–Φ–Η –Η –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Α–Φ–Η, ―è –Ϋ–Β –Ψ―â―É―â–Α–Μ –Ϋ–Β―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ϋ–Β―²–≤―ë―Ä–¥–Ψ―¹―²–Η –¥―É―Ö–Α. –ù–Η–Κ―²–Ψ –Ϋ–Β –Ε–Α–Μ–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―¨–Β. –¦―é–¥–Η ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–≤–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Η―²―¨ –Ω–Ψ–¥–≤–Η–≥, –Η –±―΄–Μ–Η –Κ –Ϋ–Β–Φ―É –≥–Ψ―²–Ψ–≤―΄.
26 –Η―é–Μ―è –Ψ–±–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ω–Β―Ä–Β―à–Μ–Η –Ϋ–Α –¦–Α–≤–Β–Ϋ―¹–Α―Ä–Η. 28-–≥–Ψ –Γ-12 –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ι ―É―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α –¥–Α–Μ―¨―à–Β. –û–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Α, –Κ–Α–Κ –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ, –Ω―Ä–Ψ―ç―¹–Κ–Ψ―Ä―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Α –≤ –Ϋ–Α–Η–±–Ψ–Μ–Β–Β ―²―ë–Φ–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ϋ–Α –£–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Μ―ë―¹ –Η –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ζ–Η–Μ–Α―¹―¨. –ö–Α–Κ ―É–Ε–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Ψ―¹―¨, –Β―ë –≤―ë–Μ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 3- –Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –ê―Ä–Κ–Α–¥―¨–Β–≤–Η―΅ –ë–Α―â–Β–Ϋ–Κ–Ψ, –Ψ–Ω―΄―²–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ, ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–≤―à–Η–Ι –±–Ψ–Β–≤―΄–Β –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ ―²–Η–Ω–Α ¬Ϊ–Γ¬Μ. –Γ–Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –Ψ–Ω―΄―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –Ω―Ä–Η–Ψ–±―Ä–Β―²―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≤ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ―É―é –Κ–Α–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η―é, –Ψ―²–Μ–Η―΅–Α–Μ–Η ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε ―ç―²–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η. 29 –Η―é–Μ―è –ë–Α―â–Β–Ϋ–Κ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–Μ ―¹–Η–≥–Ϋ–Α–Μ, –Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–≤―à–Η–Ι, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω–Ψ–Μ―É―΅–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Β–Ψ–¥–Ψ–Μ–Β–Μ –Ζ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä―É–±–Β–Ε–Α. –½–Α―²–Β–Φ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ –¥–Ψ–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –≤ –Ϋ–Ψ―΅―¨ –Ϋ–Α 30 –Η―é–Μ―è –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –ö―ç―Ä–Η –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Α –±–Β–Ζ –Ω–Ψ–Φ–Β―Ö –Ζ–Α―Ä―è–¥–Κ–Α –±–Α―²–Α―Ä–Β–Η. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ–Η ―É–Ε–Β –±–Μ–Η–Ε–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ–¥―¹―²―É–Ω―΄ –Κ –ù–Α―Ä–≥–Β–Ϋ-–ü–Ψ―Ä–Κ–Κ–Α–Μ–Α―É–¥―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Η. –Δ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ζ–Α―Ä―è–¥–Κ–Α ―¹―²–Α–Μ–Α –Ζ–¥–Β―¹―¨ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Ι, –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Ψ, –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α–Β―² –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ –¥–Α–Ε–Β –Β―â―ë –Ϋ–Β–¥–Ψ–Μ–≥–Α―è –Ω–Ψ–Κ–Α –Ϋ–Ψ―΅–Ϋ–Α―è ―²–Β–Φ–Ϋ–Ψ―²–Α. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Γ-12 –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –ê―Ä–Κ–Α–¥―¨–Β–≤–Η―΅ –ë–Α―â–Β–Ϋ–Κ–Ψ–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Γ-12 –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–¥–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –±―É–¥–Β―² –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α―²―¨―¹―è ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Φ–Β―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω–Μ–Α–Ϋ―É, ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ –Ϋ–Α ―É―΅–Α―¹―²–Κ–Β ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Β–Β –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –ù–Α―Ä–≥–Β–Ϋ. –‰–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―²–Α–Φ –Ω–Ψ –Ζ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―é –Ϋ–Α–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η―¹―¨ –±–Ψ–Φ–±–Ψ–≤―΄–Β ―É–¥–Α―Ä―΄ ―¹ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Α, –Α ―Ä–Β–Μ―¨–Β―³ –≥―Ä―É–Ϋ―²–Α –Η–Φ–Β–Μ 80-–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤―É―é –≤–Ω–Α–¥–Η–Ϋ―É. –‰ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ–¥ ―¹–Β―²―è–Φ–Η –Φ–Ψ–≥ –Ψ―¹―²–Α–≤–Α―²―¨―¹―è –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Γ-12 –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –ê―Ä–Κ–Α–¥―¨–Β–≤–Η―΅ –ë–Α―â–Β–Ϋ–Κ–Ψ–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Γ-12 –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–¥–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –±―É–¥–Β―² –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α―²―¨―¹―è ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Φ–Β―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω–Μ–Α–Ϋ―É, ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ –Ϋ–Α ―É―΅–Α―¹―²–Κ–Β ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Β–Β –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –ù–Α―Ä–≥–Β–Ϋ. –‰–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―²–Α–Φ –Ω–Ψ –Ζ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―é –Ϋ–Α–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η―¹―¨ –±–Ψ–Φ–±–Ψ–≤―΄–Β ―É–¥–Α―Ä―΄ ―¹ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Α, –Α ―Ä–Β–Μ―¨–Β―³ –≥―Ä―É–Ϋ―²–Α –Η–Φ–Β–Μ 80-–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤―É―é –≤–Ω–Α–¥–Η–Ϋ―É. –‰ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ–¥ ―¹–Β―²―è–Φ–Η –Φ–Ψ–≥ –Ψ―¹―²–Α–≤–Α―²―¨―¹―è –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥.
–≠―²–Α ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Α –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Ι, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹ –±–Ψ―Ä―²–Α –Γ-12. –ë–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ψ–Ϋ–Α –≤ ―ç―³–Η―Ä –Ϋ–Β –≤―΄―à–Μ–Α. –ß―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Ψ ―¹ –Μ–Ψ–¥–Κ–Ψ–Ι –ë–Α―â–Β–Ϋ–Κ–Ψ, –Ω―Ä–Η –Κ–Α–Κ–Η―Ö –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α―Ö –Ψ–Ϋ–Α –Ω–Ψ–≥–Η–±–Μ–Α (–Α ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ ―²–Α–Κ, –≤―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–≤–Α―²―¨―¹―è), –Φ―΄ –Ϋ–Β ―É–Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η. –û―¹―²–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ϋ–Β–Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄–Φ, –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–Μ –Μ–Η –ë–Α―â–Β–Ϋ–Κ–Ψ –Κ–Α–Κ–Η–Β-―²–Ψ ―¹–Μ–Β–¥―΄ –≤–Ψ–Ζ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ―΄–Β ―¹–Β―²–Η –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –±–Ψ–Φ–±. –€–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ, –Ϋ–Β –Ϋ–Α–Ι–¥―è –≤ ―¹–Β―²―è―Ö –±―Ä–Β―à–Η, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–Ω―΄―²–Α–Μ―¹―è –Ω―Ä–Ψ–Ι―²–Η –Ω–Ψ–¥ –Ϋ–Η–Φ–Η –Ϋ–Α –Φ–Α–Κ―¹–Η–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Β, –Α ―ç―²–Ψ –≤―¹–Β–≥–¥–Α ―¹–Ψ–Ω―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Ψ ―¹ ―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–¥–Ψ―Ä–≤–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –¥–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Β–Κ–Ψ–Ϋ―²–Α–Κ―²–Ϋ―΄―Ö –Φ–Η–Ϋ–Α―Ö.
–£ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹―Ä–Ψ–Κ, ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –¥–≤–Α –¥–Ϋ―è –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Γ-12, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―¹ –Ϋ–Β―é –Β―â―ë –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨, –≤―΄―à–Μ–Α –≤ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Γ-9. –· ―É–Ε–Β ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ –Ψ –Β―ë –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Β –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Β 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ê.–‰.–€―΄–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤–Β, –Η –Ψ ―²–Ψ–Φ, –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ –Ψ―¹–Β–Ϋ―¨―é 1941 –≥–Ψ–¥–Α, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―è ―²–Ψ–≥–¥–Α ¬Ϊ–€–Α–Μ―é―²–Κ–Ψ–Ι¬Μ, –Ω―Ä–Ψ―Ä–≤–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α ―Ä–Β–Ι–¥ –Ζ–Α―Ö–≤–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≥–Η―²–Μ–Β―Ä–Ψ–≤―Ü–Α–Φ–Η –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α, –¥–Β―Ä–Ζ–Κ–Ψ –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Η–≤ ―²–Α–Φ ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―², –Η –Ψ ―²–Ψ–Φ, –≤ –Κ–Α–Κ―É―é –Ω–Β―Ä–Β–¥–Β–Μ–Κ―É –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ –Ψ–Ϋ ―É–Ε–Β –Ϋ–Α –Γ-9 –Ω―Ä–Η –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–≥–Ψ–¥–Ϋ–Β–Φ ―Ä–Β–Ι–¥–Β –≤ –ë–Ψ―²–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Ζ–Α–Μ–Η–≤.
–£–Β―¹―ë–Μ―΄–Ι –Η –Ψ―²–≤–Α–Ε–Ϋ―΄–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –Κ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ―É –≤―¹–Β –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Α―é―â–Η–Β –Η―¹–Ω―΄―²―΄–≤–Α–Μ–Η –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ―É―é ―¹–Η–Φ–Ω–Α―²–Η―é, –Ψ–Ϋ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―¹–Β―Ä―¨―ë–Ζ–Ϋ–Ψ, ―¹―²–Α―Ä–Α―è―¹―¨ –≤―¹―ë –Ω―Ä–Β–¥―É―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨, –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ ―¹–Β–±―è –Η –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ―ë–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Κ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ –±–Ψ–Β–≤―΄–Φ –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η―è–Φ. –ü―Ä–Ψ–≤–Β–¥―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―à―²–Α–±–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Κ–Η ―É–±–Β–Ε–¥–Α–Μ–Η: –¥–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è, –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–≤―à–Β–Β―¹―è –≤ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ―²―¹―Ä–Ψ―΅–Κ–Η –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤, –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ψ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ.
–ö–Α–Κ –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, –Γ-9 ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Β–Ψ–¥–Ψ–Μ–Β–Μ–Α –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Η–Ι ―Ä―É–±–Β–Ε. –ù–Ψ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ, –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, ―É–Ε–Β –Ϋ–Α–Ω–Α–≤―à–Η–Ι –Ϋ–Α ―¹–Μ–Β–¥ –Γ-12, βÄî –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, –Ω–Ψ―è–≤–Η–≤―à–Β–Ι―¹―è –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Α―É–Ζ―΄, –±―΄–Μ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β. –£―Ä–Α–Ε–Β―¹–Κ–Η–Β –Κ–Α―²–Β―Ä–Α –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–Μ–Η –Μ–Ψ–¥–Κ―É –€―΄–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤–Α –Η –Ϋ–Β–Ψ―²―¹―²―É–Ω–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Β―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Β―ë –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹―É―²–Ψ–Κ, –Ϋ–Β –¥–Α–≤–Α―è –≤―¹–Ω–Μ―΄―²―¨ –¥–Μ―è –Ζ–Α―Ä―è–¥–Κ–Η –±–Α―²–Α―Ä–Β–Η. –¦–Ψ–¥–Κ–Α –Ϋ–Β–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Β―Ä–≥–Α–Μ–Α―¹―¨ –±–Ψ–Φ–±―ë–Ε–Κ–Α–Φ. –û–± ―ç―²–Ψ–Φ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –€―΄–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ψ―²–≤–Β―΅–Α–≤―à–Η–Ι –Ϋ–Α –Ϋ–Α―à–Η –Ζ–Α–Ω―Ä–Ψ―¹―΄, ―¹–Φ–Ψ–≥ ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Η―²―¨ –Μ–Η―à―¨ 5 –Α–≤–≥―É―¹―²–Α. –û–Ϋ –¥–Ψ–Ϋ―ë―¹, ―΅―²–Ψ –Ψ―²–Ψ―Ä–≤–Α–Μ―¹―è, –Ϋ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü, –Ψ―² –Κ–Α―²–Β―Ä–Ψ–≤, –Ζ–Α―Ä―è–¥–Η–Μ –±–Α―²–Α―Ä–Β–Η –Η –Ω―Ä–Η―¹―²―É–Ω–Α–Β―² –Κ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Β –ù–Α―Ä–≥–Β–Ϋ-–ü–Ψ―Ä–Κ–Κ–Α–Μ–Α―É–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä―É–±–Β–Ε–Α. –Γ–Β―Ä―¨―ë–Ζ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Α, –Ω–Ψ-–≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ–Φ―É, –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Μ–Α, –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –≤ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Β –Ψ –Ϋ–Η―Ö –Ϋ–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Ψ―¹―¨.
–£ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Β –¥–Ϋ–Η ―à―²–Α–± –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –Ψ―² –€―΄–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤–Α ―Ä―è–¥ ―¹–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Ι –Ψ–± –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Β ―É –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤ –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Β –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä―É–±–Β–Ε–Α. –û–Ϋ –≤―΄―è–≤–Η–Μ ―É―΅–Α―¹―²–Κ–Η, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ω–Β―Ä–Β–¥ ―¹–Β―²―è–Φ–Η ―¹―²–Ψ―è–Μ–Η ―è–Κ–Ψ―Ä–Ϋ―΄–Β –≥–Α–Μ―¨–≤–Α–Ϋ–Ψ―É–¥–Α―Ä–Ϋ―΄–Β –Φ–Η–Ϋ―΄. –¦–Ψ–¥–Κ–Α, –Φ–Α–Ϋ–Β–≤―Ä–Η―Ä―É―è –Ω–Ψ–¥ –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι, –Ζ–Α–¥–Β–≤–Α–Μ–Α –Η―Ö –Φ–Η–Ϋ―Ä–Β–Ω―΄. –ë―΄–Μ–Ψ ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Κ–Α―²–Β―Ä–Ϋ―΄–Β –¥–Ψ–Ζ–Ψ―Ä―΄ ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―â–Β–Ϋ―΄ –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β ―¹–Β―²–Β–Ι –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Κ–Α–Ε–¥―΄–Β –¥–≤–Β –Φ–Η–Μ–Η. –ü–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Ι ―¹–Β―²–Β–≤―΄―Ö –Ζ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Ι –≤ ―²–Β―Ö –Φ–Β―¹―²–Α―Ö, –≥–¥–Β –Η―Ö –±–Ψ–Φ–±–Η–Μ–Α –Ϋ–Α―à–Α –Α–≤–Η–Α―Ü–Η―è, –€―΄–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ϋ–Β –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–Μ. –ù–Β –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ –±―΄–Μ –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Η –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ―è―²―¨ –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹–Β–Κ―Ü–Η–Η –Ζ–Α–Ω–Α―¹–Ϋ―΄–Φ–Η. –ù–Β –¥–Α–Μ–Α ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Ψ–≤ –Ω–Ψ–Ω―΄―²–Κ–Α ―Ä–Α–Ζ―Ä―É―à–Η―²―¨ ―¹–Β―²–Β–≤―É―é –Ω―Ä–Β–≥―Ä–Α–¥―É ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Α–Φ–Η. –£–Ζ―Ä―΄–≤―΄ –Η―Ö –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Β ―¹–Μ―΄―à–Α–Μ–Η, –Ψ–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –±―Ä–Β―à–Η, –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è―é―â–Β–Ι –Ω―Ä–Ψ–Ι―²–Η ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ―¹–Β―²―¨, –Ϋ–Α―â―É–Ω–Α―²―¨ –Ϋ–Β ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨.
–Γ-9 –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ ―É –ù–Α―Ä–≥–Β–Ϋ-–ü–Ψ―Ä–Κ–Κ–Α–Μ–Α―É–¥―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Η ―É–Ε–Β –Ω–Ψ―΅―²–Η –¥–Β―¹―è―²―¨ ―¹―É―²–Ψ–Κ. –ë–Β―¹–Ω–Β―Ä―¹–Ω–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Η―Ö –Ω–Ψ–Ω―΄―²–Ψ–Κ ―³–Ψ―Ä―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –Β―ë ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ –≤―¹―ë –±–Ψ–Μ–Β–Β –Ψ―΅–Β–≤–Η–¥–Ϋ–Ψ–Ι. –†–Η―¹–Κ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Β–±―΄–≤–Α–Ϋ–Η―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –≤ ―ç―²–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ―¹―è –Ϋ–Β–Ψ–Ω―Ä–Α–≤–¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ. –ë―΄–Μ–Ψ ―É–Ε–Β ―è―¹–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –±–Β―¹―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Ψ –Η―¹―΅–Β–Ζ–Ϋ―É–≤―à―É―é –Γ-12 –Φ―΄ –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–Μ–Η. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Γ-9 –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –€―΄–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤–£ ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è, –Κ–Α–Κ –Η –≤ 1941 –≥–Ψ–¥―É, –≤―¹–Β –≤–Α–Ε–Ϋ―΄–Β ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―è, –Κ–Α―¹–Α―é―â–Η–Β―¹―è –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Ι –≤―΄―à–Β–¥―à–Β–Ι –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Η, –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Α, –Α –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Α –Μ–Η―à―¨ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ–Α –Η―Ö. –£–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Η–Ζ ―²–Α–Κ–Η―Ö ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Ι ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Ψ–≤―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Η ―¹ –±–Ψ–Μ–Β–Β –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η–Φ–Η –Η–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―è–Φ–Η, –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –≤―΄–≤–Ψ–¥―É –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Κ―É –Ω―Ä–Η–¥–Α–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Β –Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Β. –Δ –Α–Κ –Η–Μ–Η –Η–Ϋ–Α―΅–Β, –Φ―΄ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Η ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –ê.–€.–Γ―²–Β―Ü–Β–Ϋ–Κ–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η–Β –≤–Β―Ä–Ϋ―É―²―¨ –Γ-9 –≤ –±–Α–Ζ―É. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Γ-9 –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –€―΄–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤–£ ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è, –Κ–Α–Κ –Η –≤ 1941 –≥–Ψ–¥―É, –≤―¹–Β –≤–Α–Ε–Ϋ―΄–Β ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―è, –Κ–Α―¹–Α―é―â–Η–Β―¹―è –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Ι –≤―΄―à–Β–¥―à–Β–Ι –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Η, –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Α, –Α –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Α –Μ–Η―à―¨ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ–Α –Η―Ö. –£–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Η–Ζ ―²–Α–Κ–Η―Ö ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Ι ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Ψ–≤―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Η ―¹ –±–Ψ–Μ–Β–Β –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η–Φ–Η –Η–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―è–Φ–Η, –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –≤―΄–≤–Ψ–¥―É –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Κ―É –Ω―Ä–Η–¥–Α–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Β –Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Β. –Δ –Α–Κ –Η–Μ–Η –Η–Ϋ–Α―΅–Β, –Φ―΄ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Η ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –ê.–€.–Γ―²–Β―Ü–Β–Ϋ–Κ–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η–Β –≤–Β―Ä–Ϋ―É―²―¨ –Γ-9 –≤ –±–Α–Ζ―É.
12 –Α–≤–≥―É―¹―²–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –€―΄–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤―ë–Μ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ―É―é –Ζ–Α―Ä―è–¥–Κ―É –±–Α―²–Α―Ä–Β–Η –Η –Μ–Ψ–Ε–Η―²―¹―è –Ϋ–Α –Ψ–±―Ä–Α―²–Ϋ―΄–Ι –Κ―É―Ä―¹. –¦–Ψ–¥–Κ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Ψ –Φ–Β―¹―²–Ψ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Η ―¹–Ψ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β–≤―΄–Φ–Η –Κ–Α―²–Β―Ä–Α–Φ–Η. –£―¹―²―Ä–Β―΅–Α –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Μ–Α―¹―¨ 14 –Α–≤–≥―É―¹―²–Α, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ –Β―ë –Ω–Β―Ä–Β–Ϋ–Β―¹–Μ–Η –Η–Ζ-–Ζ–Α ―à―²–Ψ―Ä–Φ–Α –Ϋ–Α 15-–Β. –£ ―²–Α–Κ–Η―Ö ―¹–Μ―É―΅–Α―è―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Α―¹―¨ –¥–Ψ –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Α –Κ–Α―²–Β―Ä–Ψ–≤ –Ϋ–Α –≥―Ä―É–Ϋ―². –™―Ä―É–Ω–Ω―΄ –Κ–Α―²–Β―Ä–Ψ–≤ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η ―¹ –¦–Α–≤–Β–Ϋ―¹–Α―Ä–Η –≤ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö –Ϋ–Ψ―΅–Β–Ι. –ù–Ψ –Μ–Ψ–¥–Κ–Α ―²―É–¥–Α –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―à–Μ–Α. –‰ –≤ ―ç―³–Η―Ä –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Β –≤―΄―à–Μ–Α...
–Δ–Α–Κ –±―΄–Μ –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–Ϋ –Β―â―ë –Ψ–¥–Η–Ϋ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ ―¹ –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Φ–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –Η ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Φ.
–ù–Α ―ç―²–Ψ―² ―Ä–Α–Ζ –Φ―΄ –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ ―É–Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η –Ω―Ä–Η–±–Μ–Η–Ζ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ –≥–Η–±–Β–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ–Ω–Α–≤―à–Β–Ι –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Η. –£ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä―è –¥–Ψ–Ζ–Ψ―Ä–Ϋ―΄–Β –Κ–Α―²–Β―Ä–Α –Ω–Ψ–¥–Ψ–±―Ä–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –£–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Φ –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω–Μ―ë―¹–Β ―²–Β–Μ–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Α. –ü–Ψ –Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä―É –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Α –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –½–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η –Ϋ–Α –Β–≥–Ψ –Ψ–±–Φ―É–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η –±―΄–Μ–Ψ ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ ―Ä―É–Μ–Β–≤–Ψ–Ι ―¹ –Γ-9 ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ–Α 2-–Ι ―¹―²–Α―²―¨–Η –ö–Η―Ä–Η–Μ–Μ –î–Η–Κ–Η–Ι. –Δ–Α–Κ –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β, ―΅―²–Ψ –Μ–Ψ–¥–Κ–Α, –≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Ψ, –Ω–Ψ–¥–Ψ―Ä–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α –Φ–Η–Ϋ–Α―Ö, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ζ–Α–≤–Β―Ä―à–Α–Μ–Α ―³–Ψ―Ä―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α –Ψ–±―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ–Φ –Ω―É―²–Η –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä―É–±–Β–Ε–Α.
–ö–Α–Κ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―²–Β–Μ–Ψ ―Ä―É–Μ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β? –‰–Μ–Η –≤–Ζ―Ä―΄–≤ –±―΄–Μ ―²–Α–Κ–Η–Φ ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Η –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Η–Φ, ―΅―²–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≤–Ψ―Ä–Ψ―²–Η–Μ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹, –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ –±–Ψ–Μ―¨―à―É―é –Ω―Ä–Ψ–±–Ψ–Η–Ϋ―É. –‰–Μ–Η, –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ–Α –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –Η–Ζ –Ζ–Α―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Α ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄–Ι –Α–Ω–Ω–Α―Ä–Α―², –Η –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ –Ω–Ψ–≥–Η–±βÄΠ –£―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ–Ω―΄―²–Ψ–Κ 14 –Α–≤–≥―É―¹―²–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Φ―΄ –Β―â―ë –Ϋ–Α–¥–Β―è–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Β –Γ-9, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 1-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –Γ.–ë.–£–Β―Ä―Ö–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤―΄–Ζ–≤–Α–Μ–Η –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥ –Ϋ–Α –Ζ–Α―¹–Β–¥–Α–Ϋ–Η–Β –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―²–Α ―³–Μ–Ψ―²–Α. –Δ –Α–Φ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Η –Ψ–±―¹―É–Ε–¥–Α―²―¨―¹―è –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Η–Β –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è.
–ö ―²–Ψ–Φ―É –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –ë–Ψ―Ä–Η―¹–Ψ–≤–Η―΅ –Ω―Ä–Η―à―ë–Μ –Κ ―É–±–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―é (–≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ―è–≤―à–Β–Φ―É―¹―è –Φ–Ϋ–Ψ―é), ―΅―²–Ψ –≤ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Η–≤―à–Η―Ö―¹―è ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β –Ω–Ψ–Ω―΄―²–Κ–Η –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α―²―¨ –ù–Α―Ä–≥–Β–Ϋ-–ü–Ψ―Ä–Κ–Κ–Α–Μ–Α―É–¥―¹–Κ―É―é –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ―É―é –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η―é –Κ ―É―¹–Ω–Β―Ö―É –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–≤–Β–¥―É―². –€―΄ –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ –Φ–Ψ―â–Ϋ–Ψ–Φ –Ζ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Η, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–¥–Α–≤–Α―²―¨―¹―è –Η–Μ–Μ―é–Ζ–Η―è–Φ. –ù–Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Β, –Κ–Α–Ε–¥―É―é –Η–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –≤―ë–Μ –Ψ–Ω―΄―²–Ϋ―΄–Ι –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä, –Ϋ–Β ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω―Ä–Β–Ψ–¥–Ψ–Μ–Β―²―¨ –¥–Α–Ε–Β –Ω–Β―Ä–≤―É―é –Μ–Η–Ϋ–Η―é ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―¹–Β―²–Β–Ι. –ê –Ζ–Α –Ϋ–Β–Ι –±―΄–Μ–Α –Β―â―ë ―²–Α–Κ–Α―è –Ε–Β –≤―²–Ψ―Ä–Α―è.
–ù–Α―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Ϋ–Β –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, –Γ.–ë.–£–Β―Ä―Ö–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι ―²–≤―ë―Ä–¥–Ψ –Η–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –Ϋ–Α –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Ψ–≤–Β―²–Β ―²–Β –≤―΄–≤–Ψ–¥―΄, –Κ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –Ω―Ä–Η―à―ë–Μ, –Ω―Ä–Α–≤–¥–Α, –Ψ―²―¹―²–Α–Η–≤–Α―²―¨ –Η―Ö ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ϋ–Α–¥–Ψ–±–Η–Μ–Ψ―¹―¨, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ ―²–Α–Κ ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ –Ϋ–Α –¥–Β–Μ–Ψ –Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ.
–û–¥–Ϋ–Η–Φ –Η–Ζ ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ζ–Α―¹–Β–¥–Α–Ϋ–Η―è –±―΄–Μ–Ψ –≤―΄―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ψ ―¹―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤ –Μ–Ψ–¥–Κ–Α–Φ–Η –ù–Α―Ä–≥–Β–Ϋ-–ü–Ψ―Ä–Κ–Κ–Α–Μ–Α―É–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä―É–±–Β–Ε–Α, –±―΄―²―¨ –Φ–Ψ–Ε–Β―², –Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Η–Φ –≤ ―²―ë–Φ–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –≤ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η, –Ϋ–Ψ ―ç―²–Α –Η–¥–Β―è (–Ϋ–Α –Φ–Ψ–Ι –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β―Ä–Β–Α–Μ–Η―¹―²–Η―΅–Ϋ–Α―è) –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Κ–Η –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Α. –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―² ―Ä–Β―à–Η–Μ –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―²–Η―²―¨ –Ω–Ψ–Ω―΄―²–Κ–Η –≤―΄–≤–Ψ–¥–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Η–Ζ –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α. –ö–Α–Κ ―²–Ψ–≥–¥–Α ―¹―΅–Η―²–Α–Μ–Ψ―¹―¨, βÄî –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ.
–ß―²–Ψ–±―΄ ―²–Α–Κ–Ψ–Β ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ–±―Ä–Β–Μ–Ψ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é ―¹–Η–Μ―É, ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ―É ―³–Μ–Ψ―² –Ω–Ψ-–Ω―Ä–Β–Ε–Ϋ–Β–Φ―É –±―΄–Μ –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ―ë–Ϋ –≤ –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Η. –ö–Α–Κ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ –≤–Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Η –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –£.–Λ.–Δ―Ä–Η–±―É―Ü, –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É ―¹–Ψ–≤–Β―²―É ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Α –±―΄–Μ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥ –Ψ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤―à–Β–Ι―¹―è ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η–Η, –Η –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Ι –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ. –ù–Β –Ϋ–Α―¹―²–Α–Η–≤–Α–Μ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Α –≤―΄–≤–Ψ–¥–Β –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Η –™–Μ–Α–≤–Φ–Ψ―Ä―à―²–Α–±. –½–Α―¹–Β–¥–Α–Ϋ–Η–Β –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ–≤–Β―²–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α. –£ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Β –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –£.–Λ.–Δ―Ä–Η–±―É―Ü, ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Α –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –ù.–ö.–Γ–Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–≤, ―¹–Μ–Β–≤–Α –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–Φ–Α–Ι–Ψ―Ä –ê.–î.–£–Β―Ä–±–Η―Ü–Κ–Η–Ι. –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥, 14 –Α–≤–≥―É―¹―²–Α 1943 –≥–Ψ–¥–Α–®–Μ–Α –≤―²–Ψ―Ä–Α―è –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Α –Α–≤–≥―É―¹―²–Α, –Η –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ-–≥–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Β –±―΄–Μ–Ψ ―É–Ε–Β –Ϋ–Β ―²–Α–Κ–Η–Φ, –Κ–Α–Κ –Φ–Β―¹―è―Ü –Η–Μ–Η –¥–Α–Ε–Β –¥–≤–Β –Ϋ–Β–¥–Β–Μ–Η –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥. –ü–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ―è―è –Ω–Ψ–Ω―΄―²–Κ–Α –™–Η―²–Μ–Β―Ä–Α –≤–Β―Ä–Ϋ―É―²―¨ ―¹–Β–±–Β ―¹―²―Ä–Α―²–Β–≥–Η―΅–Β―¹–Κ―É―é –Η–Ϋ–Η―Ü–Η–Α―²–Η–≤―É –Ω―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η–Μ–Α―¹―¨. –û–¥–Ψ–Μ–Β–≤ –≤―Ä–Α–≥–Α –≤ –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –±–Η―²–≤–Β –Ϋ–Α –ö―É―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –¥―É–≥–Β, –Ϋ–Α―à–Η –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α –Ψ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Η–Μ–Η ―É–Ε–Β –ö―É―Ä―¹–Κ –Η –ë–Β–Μ–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥, –≤ ―΅–Β―¹―²―¨ ―΅–Β–≥–Ψ –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Β–Φ–Β–Μ–Η –Ω–Ψ–±–Β–¥–Ϋ―΄–Β ―¹–Α–Μ―é―²―΄. –½–Α―¹–Β–¥–Α–Ϋ–Η–Β –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ–≤–Β―²–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α. –£ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Β –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –£.–Λ.–Δ―Ä–Η–±―É―Ü, ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Α –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –ù.–ö.–Γ–Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–≤, ―¹–Μ–Β–≤–Α –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–Φ–Α–Ι–Ψ―Ä –ê.–î.–£–Β―Ä–±–Η―Ü–Κ–Η–Ι. –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥, 14 –Α–≤–≥―É―¹―²–Α 1943 –≥–Ψ–¥–Α–®–Μ–Α –≤―²–Ψ―Ä–Α―è –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Α –Α–≤–≥―É―¹―²–Α, –Η –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ-–≥–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Β –±―΄–Μ–Ψ ―É–Ε–Β –Ϋ–Β ―²–Α–Κ–Η–Φ, –Κ–Α–Κ –Φ–Β―¹―è―Ü –Η–Μ–Η –¥–Α–Ε–Β –¥–≤–Β –Ϋ–Β–¥–Β–Μ–Η –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥. –ü–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ―è―è –Ω–Ψ–Ω―΄―²–Κ–Α –™–Η―²–Μ–Β―Ä–Α –≤–Β―Ä–Ϋ―É―²―¨ ―¹–Β–±–Β ―¹―²―Ä–Α―²–Β–≥–Η―΅–Β―¹–Κ―É―é –Η–Ϋ–Η―Ü–Η–Α―²–Η–≤―É –Ω―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η–Μ–Α―¹―¨. –û–¥–Ψ–Μ–Β–≤ –≤―Ä–Α–≥–Α –≤ –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –±–Η―²–≤–Β –Ϋ–Α –ö―É―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –¥―É–≥–Β, –Ϋ–Α―à–Η –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α –Ψ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Η–Μ–Η ―É–Ε–Β –ö―É―Ä―¹–Κ –Η –ë–Β–Μ–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥, –≤ ―΅–Β―¹―²―¨ ―΅–Β–≥–Ψ –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Β–Φ–Β–Μ–Η –Ω–Ψ–±–Β–¥–Ϋ―΄–Β ―¹–Α–Μ―é―²―΄. –ü–Β―Ä–≤―΄–Ι ―¹–Α–Μ―é―² –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β 5 –Α–≤–≥―É―¹―²–Α 1943 –≥–Ψ–¥–Α –≤ ―΅–Β―¹―²―¨ –Ω–Ψ–±–Β–¥―΄ –≤ –±–Η―²–≤–Β –Ω–Ψ–¥ –ö―É―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ –Η –ë–Β–Μ–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ψ–Φ–ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Α―è –ê―Ä–Φ–Η―è –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Α–Μ–Α –Ϋ–Α ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Ψ–Φ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Β, –Ω―Ä–Ψ–¥–≤–Η–≥–Α―è―¹―¨ –≤―¹―ë –¥–Α–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Α –Ζ–Α–Ω–Α–¥. –ü–Β―Ä–≤―΄–Ι ―¹–Α–Μ―é―² –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β 5 –Α–≤–≥―É―¹―²–Α 1943 –≥–Ψ–¥–Α –≤ ―΅–Β―¹―²―¨ –Ω–Ψ–±–Β–¥―΄ –≤ –±–Η―²–≤–Β –Ω–Ψ–¥ –ö―É―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ –Η –ë–Β–Μ–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ψ–Φ–ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Α―è –ê―Ä–Φ–Η―è –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Α–Μ–Α –Ϋ–Α ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Ψ–Φ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Β, –Ω―Ä–Ψ–¥–≤–Η–≥–Α―è―¹―¨ –≤―¹―ë –¥–Α–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Α –Ζ–Α–Ω–Α–¥.
–†–Α–Ζ―É–Φ–Β–Β―²―¹―è, –Ϋ–Α―Ä―É―à–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―è―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η–Κ–Α―Ü–Η–Ι –≤ –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β –Η ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–Μ–Ψ –±―΄ –¥–Μ―è ―¹―É―Ö–Ψ–Ω―É―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Α. –ù–Ψ –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ ―É–Ε–Β –Ϋ–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≤ –Κ–Α―²–Β–≥–Ψ―Ä–Η―è―Ö ¬Ϊ–Μ―é–±–Ψ–Ι ―Ü–Β–Ϋ–Ψ–Ι¬Μ, ¬Ϊ–≤–Ψ ―΅―²–Ψ –±―΄ ―²–Ψ –Ϋ–Η ―¹―²–Α–Μ–Ψ¬Μ. –ù–Α―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Ψ –Ψ–±―â–Β–Β, –Ψ―² –Κ–Ψ–≥–Ψ ―ç―²–Ψ –Ζ–Α–≤–Η―¹–Β–Μ–Ψ, ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η–Β –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² –±–Ψ–Μ―¨―à–Β ―²–Α–Κ ―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―É –Ϋ–Α―¹ ―É–Ε–Β –Ϋ–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Β―â―ë –Ω―Ä–Η–≥–Ψ–¥―è―²―¹―è –Ω―Ä–Η –Ζ–Α–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Η–Η –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄. –ö―Ä–Α―²–Κ–Η–Ι –Α–Ϋ–Α–Μ–Η–Ζ –Κ–Α–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η 1943 –≥–Ψ–¥–Α –†–Α–Ζ–Φ―΄―à–Μ―è―è –Ψ–± ―É―Ä–Ψ–Κ–Α―Ö –¥―Ä–Α–Φ–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Α–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η ―¹–Ψ―Ä–Ψ–Κ ―²―Ä–Β―²―¨–Β–≥–Ψ –≥–Ψ–¥–Α, ―Ö–Ψ―΅–Β―²―¹―è ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―è, –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–≤―à–Η–Β―¹―è ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ―è―Ö, –≤–Μ–Η―è–Μ–Α, –Ψ―΅–Β–≤–Η–¥–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Α –Ϋ–Α ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Β, –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Ω―Ä―è–Ε―ë–Ϋ–Ϋ–Α―è –¥–Ψ ―¹–Β―Ä–Β–¥–Η–Ϋ―΄ –Μ–Β―²–Α. –Θ―¹–Ω–Β―Ö–Η –±–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –≤ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ―É―é –Κ–Α–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η―é, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α―à–Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α―è –≤―¹–Β ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤–Α–≤―à–Η–Β―¹―è –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Β–≥―Ä–Α–¥―΄, –Ϋ–Α–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η ―É–¥–Α―Ä―΄ –Ω–Ψ –Β–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η–Κ–Α―Ü–Η―è–Φ –Ϋ–Α –≤―¹―ë–Φ –Η―Ö –Ω―Ä–Ψ―²―è–Ε–Β–Ϋ–Η–Η (–Η –Ϋ–Β―¹–Μ–Η, –≤–Ψ –≤―¹―è–Κ–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β, –≤ –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö –¥–≤―É―Ö ―ç―à–Β–Μ–Ψ–Ϋ–Α―Ö, –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Β –Ω–Ψ―²–Β―Ä–Η), –Ω―Ä–Η–≤–Β–Μ–Η –Κ –Ζ–Α–≤―΄―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Κ–Β –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―Ä―É–Ε–Η―è –Η –Ϋ–Β–¥–Ψ–Ψ―Ü–Β–Ϋ–Κ–Β –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Β–Φ―É –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨. –ù–Α―΅–Α–Μ–Η, –Φ–Ϋ–Β –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è, ―¹–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α―²―¨―¹―è –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è, –±―É–¥―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ, ―΅―²–Ψ –±―΄ –Ψ–Ϋ –Ϋ–Η –Ω―Ä–Β–¥–Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ, –Ω–Ψ–Φ–Β―à–Α―²―¨ –≤―΄―Ö–Ψ–¥―É –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Ϋ–Β ―¹–Φ–Ψ–Ε–Β―². –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –ö–ë–Λ –Γ.–ë.–£–Β―Ä―Ö–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι–ù–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, –Κ–Α–Κ –Η –Μ―é–±–Ψ–Ι –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι ―Ä–Ψ–¥ ―¹–Η–Μ ―³–Μ–Ψ―²–Α, –Η–Φ–Β―é―² –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι –Η ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ―΄ ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ ―Ä–Β―à–Α―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Ι―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Η–Φ –Ζ–Α–¥–Α―΅–Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö, –Ω―Ä–Η –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Φ, –Α –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β, βÄî ―¹–≤–Ψ–Β–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Η –Η―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι –¥―Ä―É–≥–Η–Φ–Η ―¹–Η–Μ–Α–Φ–Η ―³–Μ–Ψ―²–Α. –ö ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Ϋ–Η―é, –≤ –Κ–Α–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η―é 1943 –≥–Ψ–¥–Α ―ç―²–Η ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è ―¹–Ψ–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ―΄ –±―΄―²―¨ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η, –Φ–Β―Ä―΄ –Ω–Ψ –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η―é –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Α –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Η–Ζ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α –Ϋ–Β ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Β –Η ―è–≤–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Ω–Α–Ζ–¥―΄–≤–Α–Μ–Η. –ê ―¹–Α–Φ–Ψ―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Β–Ψ–¥–Ψ–Μ–Β―²―¨ ―²–Α–Κ–Ψ–Β –Ω―Ä–Β–Ω―è―²―¹―²–≤–Η–Β, –Κ–Α–Κ –ù–Α―Ä–≥–Β–Ϋ-–ü–Ψ―Ä–Κ–Κ–Α–Μ–Α―É–¥―¹–Κ–Α―è –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ–Α―è –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η―è, ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è –≤―Ä–Α–≥–Ψ–Φ –≤ –¥–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Κ –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Ψ–Φ―É ―Ä―É–±–Β–Ε―É, –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –ö–ë–Λ –Γ.–ë.–£–Β―Ä―Ö–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι–ù–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, –Κ–Α–Κ –Η –Μ―é–±–Ψ–Ι –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι ―Ä–Ψ–¥ ―¹–Η–Μ ―³–Μ–Ψ―²–Α, –Η–Φ–Β―é―² –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι –Η ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ―΄ ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ ―Ä–Β―à–Α―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Ι―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Η–Φ –Ζ–Α–¥–Α―΅–Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö, –Ω―Ä–Η –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Φ, –Α –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β, βÄî ―¹–≤–Ψ–Β–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Η –Η―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι –¥―Ä―É–≥–Η–Φ–Η ―¹–Η–Μ–Α–Φ–Η ―³–Μ–Ψ―²–Α. –ö ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Ϋ–Η―é, –≤ –Κ–Α–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η―é 1943 –≥–Ψ–¥–Α ―ç―²–Η ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è ―¹–Ψ–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ―΄ –±―΄―²―¨ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η, –Φ–Β―Ä―΄ –Ω–Ψ –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η―é –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Α –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Η–Ζ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α –Ϋ–Β ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Β –Η ―è–≤–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Ω–Α–Ζ–¥―΄–≤–Α–Μ–Η. –ê ―¹–Α–Φ–Ψ―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Β–Ψ–¥–Ψ–Μ–Β―²―¨ ―²–Α–Κ–Ψ–Β –Ω―Ä–Β–Ω―è―²―¹―²–≤–Η–Β, –Κ–Α–Κ –ù–Α―Ä–≥–Β–Ϋ-–ü–Ψ―Ä–Κ–Κ–Α–Μ–Α―É–¥―¹–Κ–Α―è –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ–Α―è –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η―è, ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è –≤―Ä–Α–≥–Ψ–Φ –≤ –¥–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Κ –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Ψ–Φ―É ―Ä―É–±–Β–Ε―É, –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η.
–Δ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Ψ ―²–Β–Φ –Μ–Β―²–Ψ–Φ, –≤ ―¹―É―â–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Ψ –Β―â―ë ―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Β–Ι –≤–Β―¹–Ϋ–Ψ–Ι, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ, –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É―è –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Β –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι, –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―¹―É–¥–Ψ–≤ –Η –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Ω–Μ–Α–≤―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤, –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –±–Β―¹–Ω―Ä–Β–Ω―è―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –±–Β–Ζ ―¹–Β―Ä―¨―ë–Ζ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è ―¹ –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄, ―¹–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Α–Μ –Ζ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è, ―Ä–Α–Ζ―Ä―É―à–Η―²―¨ –Η–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ―Ä–≤–Α―²―¨ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ.
–Γ―Ä–Β–¥–Ϋ–Η–Β –Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Β –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Η –≤ 1943 –≥–Ψ–¥―É –≤ –Ζ–Α–Μ–Η–≤ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Β –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η. –¦―é–¥―è–Φ, –¥–Α–Μ―ë–Κ–Η–Φ –Ψ―² ―³–Μ–Ψ―²–Α, –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, –Φ–Ψ–≥–Μ–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨―¹―è, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Β –Ψ–Ϋ–Η –Η –Ϋ–Β –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ–Η –Κ–Α–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η―é. –£–Β–¥―¨ –≤ –Ω–Β―΅–Α―²–Η, –≤ ―¹–≤–Ψ–¥–Κ–Α―Ö –Γ–Ψ–≤–Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–±―é―Ä–Ψ, –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Ψ ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Α―²―¨ –Μ–Η―à―¨ –Ψ –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –≤―Ä–Α–Ε–Β―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι, –Ψ–± –Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α –Φ–Ψ―Ä–Β –Ω–Ψ–±–Β–¥–Α―Ö. –ê –Ω–Ψ–±–Β–¥ ―É –±–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –≤ ―²–Ψ―² –≥–Ψ–¥ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ. –ê –Ψ ―²–Ψ–Φ, –Κ–Α–Κ–Η–Β –≥–Β―Ä–Ψ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β ―É―¹–Η–Μ–Η―è –Ω―Ä–Η–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Η ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤―΄―Ä–≤–Α―²―¨―¹―è –≤ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä–Β, –Η –Κ–Α–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ―²–Β―Ä―¨ ―ç―²–Ψ ―¹―²–Ψ–Η–Μ–Ψ, ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―²―¨ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è. –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―²
06.04.201400:2406.04.2014 00:24:06
0
06.04.201400:1506.04.2014 00:15:17
–Γ–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―² ―¹–Α–¥–Η–Μ―¹―è. –ù–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α ―É–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―΄ ―¹―²―é–Α―Ä–¥–Β―¹―¹, –Ω–Α―¹―¹–Α–Ε–Η―Ä―΄ –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹ –Κ―Ä–Β―¹–Β–Μ, ―¹―É–Β―²–Η–Μ–Η―¹―¨, ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α―è ―²–Α–Κ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ―É―é ―Ä―É―΅–Ϋ―É―é –Κ–Μ–Α–¥―¨. –£―¹–Β–Φ –Η–Φ –±―΄–Μ–Ψ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α―à –ê―ç―Ä–Ψ―³–Μ–Ψ―² ―É–Φ–Β–Β―² –¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨ –Ω–Α―É–Ζ―΄ –Ψ―² –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―²–Α –Ω–Ψ―¹–Α–¥–Κ–Η –¥–Ψ –Ω–Ψ–¥–Α―΅–Η ―²―Ä–Α–Ω–Α –Κ ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²―É, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β―²–Β―Ä–Ω–Β–Ϋ–Η–Β –Η ―É―¹―²–Α–Μ–Ψ―¹―²―¨ –Ψ―² –¥–Β–≤―è―²–Η―΅–Α―¹–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ ―¹–Η–¥–Β–Ϋ–Η―è –≤ –Κ―Ä–Β―¹–Μ–Β –±―Ä–Α–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Β. –· –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ, ―΅―²–Ψ –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ –Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ―¹―è. –€–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Β –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è –Ψ ―¹–≤–Α–¥―¨–±–Β ―¹–Β―¹―²―Ä―΄, –±–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Η –Φ–Α―²–Β―Ä–Η, ―²–Β–Α―²―Ä–Α―Ö, –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β―Ä―²–Α―Ö, ―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è―Ö –≤ –≥–Ψ―¹―²–Η –Κ ―Ä–Ψ–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ –Η –¥―Ä―É–Ζ―¨―è–Φ –Ψ―²―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Η –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ. –Γ―²–Ψ―è –≤ –Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Η–Η ―΅–Β–Φ–Ψ–¥–Α–Ϋ–Α ―É –±–Α–≥–Α–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è , ―è –Φ―΄―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―É–Ε–Β –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –Ψ –Ω―Ä–Η–±―΄―²–Η–Η –Η–Ζ –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Α –Η –Ψ –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²―¨ –Μ―é–±―É―é –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Ϋ–Η–Φ –Ζ–Α–¥–Α―΅―É (―ç–Κ, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α―¹ ―¹–Μ―É–Ε–±–Α –Ϋ–Α―É―΅–Η–Μ–Α –≤―΄―Ä–Α–Ε–Α―²―¨―¹―è!). –ü―Ä–Β–¥―΅―É–≤―¹―²–≤–Η―è –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α―é―²―¹―è –½–Α ―²―Ä–Η–¥―Ü–Α―²―¨ –Φ–Η–Ϋ―É―² –¥–Ψ –Ω–Ψ–¥―ä–Β–Φ–Α ―³–Μ–Α–≥–Α ―è –±―΄–Μ ―É–Ε–Β –Ϋ–Α –Ω–Μ–Α–≤–Κ–Α–Ζ–Α―Ä–Φ–Β, –≥–¥–Β –≤ –Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Η–Η –Ω―Ä–Η–Β–Φ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –Ψ―² –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α ―²–Ψ–Φ–Η–Μ―¹―è –Φ–Ψ–Ι ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε. –Γ―²–Ψ―è –≤ –Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Η–Η ―΅–Β–Φ–Ψ–¥–Α–Ϋ–Α ―É –±–Α–≥–Α–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è , ―è –Φ―΄―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―É–Ε–Β –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –Ψ –Ω―Ä–Η–±―΄―²–Η–Η –Η–Ζ –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Α –Η –Ψ –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²―¨ –Μ―é–±―É―é –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Ϋ–Η–Φ –Ζ–Α–¥–Α―΅―É (―ç–Κ, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α―¹ ―¹–Μ―É–Ε–±–Α –Ϋ–Α―É―΅–Η–Μ–Α –≤―΄―Ä–Α–Ε–Α―²―¨―¹―è!). –ü―Ä–Β–¥―΅―É–≤―¹―²–≤–Η―è –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α―é―²―¹―è –½–Α ―²―Ä–Η–¥―Ü–Α―²―¨ –Φ–Η–Ϋ―É―² –¥–Ψ –Ω–Ψ–¥―ä–Β–Φ–Α ―³–Μ–Α–≥–Α ―è –±―΄–Μ ―É–Ε–Β –Ϋ–Α –Ω–Μ–Α–≤–Κ–Α–Ζ–Α―Ä–Φ–Β, –≥–¥–Β –≤ –Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Η–Η –Ω―Ä–Η–Β–Φ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –Ψ―² –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α ―²–Ψ–Φ–Η–Μ―¹―è –Φ–Ψ–Ι ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε.
–ö–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ ―¹–Ψ ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Ψ–Φ, –Ζ–Α–Φ–Ω–Ψ–Μ–Η―²–Ψ–Φ, –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ, –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α–Φ–Η. –£―΄―è―¹–Ϋ–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –≤―¹–Β, –Κ–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ψ, –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Α (–Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄ –Η –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ–Α βÄî –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ―΄–Β, ―Ä–Α–Ϋ–Β–Β –Ω–Ψ–Ψ―â―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹―΄ –Η ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ―΄ βÄî –Ω–Ψ –Ω–Ψ–Ψ―â―Ä–Β–Ϋ–Η―é).
–ü–Β―Ä–Β–¥ ―Ü–Β―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ–Η–Β–Ι –Ω–Ψ–¥―ä–Β–Φ–Α ―³–Μ–Α–≥–Α –Ω–Ψ–Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è ―¹ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Φ, –≤―΄―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ϋ–Α –Ω–Α–Μ―É–±–Β –Ω–Μ–Α–≤–Κ–Α–Ζ–Α―Ä–Φ―΄, ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ϋ–Β―¹ –Ω―Ä–Η–≤―΄―΅–Ϋ–Ψ –±–Ψ–¥―Ä–Ψ–Β: ¬Ϊ–½–¥―Ä–Α–≤―¹―²–≤―É–Ι―²–Β, ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η!¬Μ* –Α –≤ –Ψ―²–≤–Β―² –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –≥―Ä–Ψ–Φ–Κ–Ψ–Β –Η ―Ä–Α―¹–Κ–Α―²–Η―¹―²–Ψ–Β ¬Ϊ–½–¥―Ä–Α–≤–Η―è –Ε–Β–Μ–Α–Β–Φ, ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä!¬Μ.
–ù–Α ―¹―²–Ψ―è―â–Η―Ö ―É –Κ–Α–Ζ–Α―Ä–Φ―΄ –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö –Η –Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι –Ω–Μ–Α–≤–Κ–Α–Ζ–Α―Ä–Φ–Β ―³–Μ–Α–≥–Η –±―΄–Μ–Η –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è―²―΄ –Η ―è –Ω–Β―Ä–Β―¹―²―É–Ω–Η–Μ –Κ–Ψ–Φ–Η–Ϋ–≥―¹ –Κ–Α―é―²―΄ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η.
–ö–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ö–Α–Ι–Φ–Α–Κ - –Ϋ–Α―à –Ϋ–Ψ–≤―΄–Ι, ―¹–Φ–Β–Ϋ–Η–≤―à–Η–Ι –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –î―΄–≥–Α–Μ–Ψ, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –Η –Ϋ–Ψ–≤―΄–Ι –Ε–Β –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ ―à―²–Α–±–Α –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η - –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –€–Α―²–≤–Η–Β–≤―¹–Κ–Η–Ι - ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Β–¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ–Η ―¹ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α. –Γ–≤–Ψ–Η–Φ–Η –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η –Ϋ–Α –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι ―³–Μ–Ψ―² –Ψ–Ϋ–Η –±―΄–Μ–Η –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ―΄ –Ω–Μ–Α–Ϋ―É –Ψ–±–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Η ¬Ϊ–Ψ–Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è¬Μ –Κ–Α–¥―Ä–Ψ–≤ ―¹―²–Α―Ä―à–Β–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β–¥–Α–≤–Ϋ–Β–Ι ―²―Ä–Α–≥–Β–¥–Η–Η: –≥–Η–±–Β–Μ–Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ϋ–Α―à–Β–Ι –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η ¬Ϊ–ö-129¬Μ –Ω–Ψ–¥ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Φ–Ψ–Β–≥–Ψ ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Α βÄî –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ö–Ψ–±–Ζ–Α―Ä―è. –™–Β–Ϋ–Ϋ–Α–¥–Η–Ι –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –ö–Α–Ι–Φ–Α–Κ –Η –û–Μ–Β–≥ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –€–Α―²–≤–Η–Β–≤―¹–Κ–Η–Ι. - –Γ–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –≤―΄–Ω―É―¹–Κ –Α–Μ―¨–Φ–Α–Ϋ–Α―Ö ¬Ϊ–Δ–Α–Ι―³―É–Ϋ¬Μ, 2007 –≥., ⳕ 13, 2011 –≥.–û–±–Α βÄî –Κ–Ψ–Φ–¥–Η–≤ –Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ ―à―²–Α–±–Α –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ω―Ä–Η–≤–Β―²–Μ–Η–≤―΄–Φ–Η –Μ―é–¥―¨–Φ–Η, ―΅―²–Ψ, –≤–Ω―Ä–Ψ―΅–Β–Φ, –Κ–Α–Κ ―è –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η–Μ, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹–≤–Ψ–Ι―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ψ–Φ–Ψ―Ä―Ü–Α–Φ. –ö–Ψ–Φ–¥–Η–≤, –Ω―Ä–Α–≤–¥–Α, –±―΄–Μ –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹―É―Ö–Ψ–≤–Α―², –Ζ–Α―²–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ ―à―²–Α–±–Α ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Μ –Κ ―¹–Β–±–Β ―É–≤–Α–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Η –≤ ―²–Ψ –Ε–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω–Ψ―΅―²–Η ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Β―¹–Κ–Η–Φ –Ψ–±―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Β–Φ. –· –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Η ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α –Η –Ψ –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Κ –Ω―Ä–Η–Β–Φ―É –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η. ¬Ϊ–ö–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Ι―²–Β ―¹ ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è―à–Ϋ–Β–≥–Ψ –¥–Ϋ―è, –Ϋ–Ψ ―É―΅―²–Η―²–Β, ―΅―²–Ψ ―²–Α–Φ –Ϋ–Β –≤―¹―ë –≤ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Β¬Μ, βÄî –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Κ–Ψ–Φ–¥–Η–≤. –™–Β–Ϋ–Ϋ–Α–¥–Η–Ι –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –ö–Α–Ι–Φ–Α–Κ –Η –û–Μ–Β–≥ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –€–Α―²–≤–Η–Β–≤―¹–Κ–Η–Ι. - –Γ–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –≤―΄–Ω―É―¹–Κ –Α–Μ―¨–Φ–Α–Ϋ–Α―Ö ¬Ϊ–Δ–Α–Ι―³―É–Ϋ¬Μ, 2007 –≥., ⳕ 13, 2011 –≥.–û–±–Α βÄî –Κ–Ψ–Φ–¥–Η–≤ –Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ ―à―²–Α–±–Α –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ω―Ä–Η–≤–Β―²–Μ–Η–≤―΄–Φ–Η –Μ―é–¥―¨–Φ–Η, ―΅―²–Ψ, –≤–Ω―Ä–Ψ―΅–Β–Φ, –Κ–Α–Κ ―è –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η–Μ, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹–≤–Ψ–Ι―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ψ–Φ–Ψ―Ä―Ü–Α–Φ. –ö–Ψ–Φ–¥–Η–≤, –Ω―Ä–Α–≤–¥–Α, –±―΄–Μ –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹―É―Ö–Ψ–≤–Α―², –Ζ–Α―²–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ ―à―²–Α–±–Α ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Μ –Κ ―¹–Β–±–Β ―É–≤–Α–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Η –≤ ―²–Ψ –Ε–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω–Ψ―΅―²–Η ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Β―¹–Κ–Η–Φ –Ψ–±―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Β–Φ. –· –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Η ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α –Η –Ψ –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Κ –Ω―Ä–Η–Β–Φ―É –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η. ¬Ϊ–ö–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Ι―²–Β ―¹ ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è―à–Ϋ–Β–≥–Ψ –¥–Ϋ―è, –Ϋ–Ψ ―É―΅―²–Η―²–Β, ―΅―²–Ψ ―²–Α–Φ –Ϋ–Β –≤―¹―ë –≤ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Β¬Μ, βÄî –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Κ–Ψ–Φ–¥–Η–≤.
–Γ–Β―Ä–¥―Ü–Β –Ζ–Α–Φ–Β―Ä–Μ–Ψ... –Δ–Α–Κ –Η –Β―¹―²―¨: –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η –Ω–Ψ–¥―ä–Β–Φ–Β –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω–Α –Α―¹―²―Ä–Ψ–Ϋ–Α–≤–Η–≥–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Η―¹―²–Β–Φ―΄ ¬Ϊ–Γ–Β–≥–Φ–Β–Ϋ―²¬Μ, –Η–Ζ-–Ζ–Α –Ϋ–Β–≥―Ä–Α–Φ–Ψ―²–Ϋ―΄―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Η ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Η–Κ–Α –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α, –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω –≤―΄―à–Β–Μ –Η–Ζ ―¹―²―Ä–Ψ―è. –û–Ϋ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ-–Ϋ–Α–Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ ―É–Ω–Α–Μ –≤ ―²―Ä―é–Φ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Α, –Β–≥–Ψ ―Ö–Η―²―Ä–Ψ ―¹–Κ–Ψ–Φ–Ω–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è ―¹–Η―¹―²–Β–Φ–Α –Μ–Η–Ϋ–Ζ –Η –Ζ–Β―Ä–Κ–Α–Μ –Ψ―¹―΄–Ω–Α–Μ–Α―¹―¨ –Η ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –≤–Φ–Β―¹―²–Ψ –Ζ–≤–Β–Ζ–¥ –≤ –Β–≥–Ψ –Ψ–Κ―É–Μ―è―Ä–Α―Ö –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α–Μ―¹―è ―Ä–Η―¹―É–Ϋ–Ψ–Κ, –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―é―â–Η–Ι –Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ–Κ―É –Ψ―²–Κ―Ä―΄–≤–Α―é―â―É―é―¹―è –Ω–Β―Ä–Β–¥ ―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Κ–Ψ–Φ –≤ –Η–≥―Ä―É―à–Κ–Β-–Κ–Α–Μ–Β–Ι–¥–Ψ―¹–Κ–Ψ–Ω–Β. –Γ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Φ, ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²―É ―ç―²–Ψ―² –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω ―É–Ε–Β –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–Μ–Β–Ε–Α–Μ, –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α–¥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Φ–Β–Ϋ―è―²―¨. –î–Β–Μ–Ψ –Ψ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ―è–Μ–Ψ―¹―¨ ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω―΄ ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ ―²–Η–Ω–Α –±―΄–Μ–Η ―É–Ε–Β ―¹–Ϋ―è―²―΄ ―¹ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Α. –Λ–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η, –Ω―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–≤―à–Η–Ι –Ω―Ä–Η ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Β, ―É―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Η–Μ –Φ–Β–Ϋ―è, ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α–≤, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ –≤―¹–Β–Φ―É –Γ–Ψ―é–Ζ―É –±―΄–Μ –Ψ–±―ä―è–≤–Μ–Β–Ϋ ―Ä–Ψ–Ζ―΄―¹–Κ –Η –≥–¥–Β-―²–Ψ –Ϋ–Α ―¹–Κ–Μ–Α–¥–Β, –≤ –Β–≤―Ä–Ψ–Ω–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄ –Ϋ–Α―à–Μ–Η-―²–Α–Κ–Η –Ψ–¥–Η–Ϋ ―ç–Κ–Ζ–Β–Φ–Ω–Μ―è―Ä. –Γ–Β–Ι―΅–Α―¹-–¥–Β –Β–≥–Ψ ―É–Ε–Β –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è―é―² –Ϋ–Α –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ―É. –£―΄–Ζ–≤–Α–Ϋ―΄ –Η –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Β ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²―΄ –¥–Μ―è –Φ–Ψ–Ϋ―²–Α–Ε–Α.
–Γ–Μ–Β–¥―É–Β―² –Ω–Ψ―è―¹–Ϋ–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ –±–Β–Ζ ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Η–±–Ψ―Ä–Α, –Κ–Α–Κ –Α―¹―²―Ä–Ψ–Ϋ–Α–≤–Η–≥–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω, –Ϋ–Α―à –≥―Ä–Ψ–Ζ–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ψ–Ϋ–Ψ―¹–Β―Ü –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―É―²―Ä–Α―΅–Η–≤–Α–Μ ―¹–≤–Ψ―é –±–Ψ–Β―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –î–Β–Μ–Ψ –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –¥–Μ―è –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–±―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Α ―¹ –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–Ι ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ―¨―é ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ζ–Ϋ–Α―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ –≤ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Β. –û―à–Η–±–Κ–Η –≤ –Κ–Ψ–Ψ―Ä–¥–Η–Ϋ–Α―²–Α―Ö –Φ–Β―¹―²–Α, –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β –¥–Ψ–Ω―É―¹―²–Η–Φ―΄–Β –Ϋ–Α –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β, –Ϋ–Β –¥–Ψ–Ω―É―¹–Κ–Α―é―²―¹―è –Ϋ–Α ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ψ–Ϋ–Ψ―¹―Ü–Β. –ë–Β–Ζ ―²–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ–Ψ―Ä–¥–Η–Ϋ–Α―², –≤―΄–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –¥–Ψ –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤, ―Ä–Α–Κ–Β―²―΄, –≤―΄–Ω―É―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è–Φ –Η ―Ä–Α―¹―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η―è–Φ, ―É–Ι–¥―É―² –≤ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―É –Ψ―² ―Ü–Β–Μ–Β–Ι –Η –Η―Ö –¥―¨―è–≤–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Η –Φ–Ψ―â–Ϋ―΄–Β ―è–¥–Β―Ä–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α―Ä―è–¥―΄ –Ω–Ψ―Ä–Α–Ζ―è―² –Ϋ–Β ―¹―²―Ä–Α―²–Β–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –≤–Α–Ε–Ϋ―΄–Β –Ψ–±―ä–Β–Κ―²―΄, –Α –Ϋ–Β–Ω―Ä–Β–¥―É―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Κ ―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―é ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Η –Η–Μ–Η –≤–Ψ–≤―¹–Β –≤–Ζ–Ψ―Ä–≤―É―²―¹―è –Ϋ–Α–¥ –Ω―É―¹―²―΄–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Ψ–Φ.
–£ –Ψ–Ω–Η―¹―΄–≤–Α–Β–Φ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Α―è ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Φ–Β―¹―²–Α –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –¥–Ψ―¹―²–Η–≥–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ζ–Α ―¹―΅–Β―² –Α―¹―²―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η–Ι. –ê―¹―²―Ä–Ψ–Ϋ–Α–≤–Η–≥–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–Μ –Η–Ζ–Φ–Β―Ä―è―²―¨ –≤―΄―¹–Ψ―²―΄ –Η –Α–Ζ–Η–Φ―É―²―΄ ―¹–≤–Β―²–Η–Μ –±–Β–Ζ –≤―¹–Ω–Μ―΄―²–Η―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ϋ–Α –Ω–Ψ–≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ–Κ―Ä–Α―â–Α–Μ –≤―Ä–Β–Φ―è –Α―²–Α–Κ–Η –Η –≤ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β–Ι ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Η ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―è–Μ ―¹–Κ―Ä―΄―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Μ–Ψ–¥–Κ–Η. –ö―Ä–Ψ–Φ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–Μ ¬Ϊ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨¬Μ ―¹–Ψ ―¹–≤–Β―²–Η–Μ–Α–Φ–Η –≤ ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Μ–Η–Ϋ–Η―è –≥–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ψ–Ϋ―²–Α –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α–Μ–Α―¹―¨, ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è –Η―¹–Κ―É―¹―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≥–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ψ–Ϋ―².  –ë–Β–Ζ ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―¹―²―Ä–Ψ–Ι―¹―²–≤–Α –¥–Μ―è –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Φ–Β―¹―²–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –≤―¹–Ω–Μ―΄–≤–Α―²―¨ –Η ¬Ϊ¬Μ ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–Φ ―¹ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨―é –≤―΄―à–Β–¥―à–Η―Ö –Ϋ–Α–≤–Β―Ä―Ö –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α―²–Β–Μ–Β–Ι ―¹–Β–Κ―¹―²–Α–Ϋ–Α–Φ–Η ¬Ϊ―¹–Α–Ε–Α―²―¨¬Μ –Ζ–≤―ë–Ζ–¥―΄ –Η –Ω–Μ–Α–Ϋ–Β―²―΄ –Ϋ–Α ―΅–Β―²–Κ–Ψ –≤–Η–¥–Η–Φ―΄–Ι –≥–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ψ–Ϋ―², ―΅―²–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ –Ω–Ψ ―¹–Β–±–Β –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –Ϋ–Β –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨. –ö―Ä–Ψ–Φ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, ―É–≤–Β–Μ–Η―΅–Η–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –≤―Ä–Β–Φ―è ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ–Ψ–Ι –Α―²–Α–Κ–Η –Η, ―¹–Α–Φ–Ψ–Β –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β, –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–Ϋ–Η–Ε–Α–Μ–Α―¹―¨ ―¹–Κ―Ä―΄―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Μ–Ψ–¥–Κ–Η. –ü–Η―à―É –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ ―¹―²–Ψ–Μ―¨ –Ω–Ψ–¥―Ä–Ψ–±–Ϋ–Ψ, ―É―΅–Η―²―΄–≤–Α―è, ―΅―²–Ψ ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ―¨, –¥–Α–Ε–Β –Φ–Ψ―Ä―è–Κ, –Ϋ–Β –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―², –Κ–Α–Κ –≤ ―¹–Β–Φ–Η–¥–Β―¹―è―²―΄–Β –≥–Ψ–¥―΄ –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–±―΄ –±–Α–Μ–Μ–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ–Η ―Ä–Α–Κ–Β―²–Α–Φ–Η ―¹ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ. –ù–Β ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö –Η–Ϋ–Β―Ä―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α–≤–Η–≥–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―¹–Ψ–≤ –Η ―¹–Ω―É―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤―΄―Ö ―¹–Η―¹―²–Β–Φ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Φ–Β―¹―²–Α, ―¹―²–Ψ–Μ―¨ –Ω―Ä–Η–≤―΄―΅–Ϋ―΄―Ö ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹. –Δ–Α–Κ–Η–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ, –≤―¹–Β –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Η–Β ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è –≤ –Φ–Ψ–Β–Ι ―¹―É–¥―¨–±–Β –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η―¹―¨ ―²–Β―¹–Ϋ–Ψ ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹ ―ç―²–Η–Φ –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω–Ψ–Φ, –±―É–¥―¨ –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β–Μ–Α–¥–Β–Ϋ! –ë–Β–Ζ ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―¹―²―Ä–Ψ–Ι―¹―²–≤–Α –¥–Μ―è –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Φ–Β―¹―²–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –≤―¹–Ω–Μ―΄–≤–Α―²―¨ –Η ¬Ϊ¬Μ ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–Φ ―¹ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨―é –≤―΄―à–Β–¥―à–Η―Ö –Ϋ–Α–≤–Β―Ä―Ö –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α―²–Β–Μ–Β–Ι ―¹–Β–Κ―¹―²–Α–Ϋ–Α–Φ–Η ¬Ϊ―¹–Α–Ε–Α―²―¨¬Μ –Ζ–≤―ë–Ζ–¥―΄ –Η –Ω–Μ–Α–Ϋ–Β―²―΄ –Ϋ–Α ―΅–Β―²–Κ–Ψ –≤–Η–¥–Η–Φ―΄–Ι –≥–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ψ–Ϋ―², ―΅―²–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ –Ω–Ψ ―¹–Β–±–Β –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –Ϋ–Β –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨. –ö―Ä–Ψ–Φ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, ―É–≤–Β–Μ–Η―΅–Η–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –≤―Ä–Β–Φ―è ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ–Ψ–Ι –Α―²–Α–Κ–Η –Η, ―¹–Α–Φ–Ψ–Β –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β, –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–Ϋ–Η–Ε–Α–Μ–Α―¹―¨ ―¹–Κ―Ä―΄―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Μ–Ψ–¥–Κ–Η. –ü–Η―à―É –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ ―¹―²–Ψ–Μ―¨ –Ω–Ψ–¥―Ä–Ψ–±–Ϋ–Ψ, ―É―΅–Η―²―΄–≤–Α―è, ―΅―²–Ψ ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ―¨, –¥–Α–Ε–Β –Φ–Ψ―Ä―è–Κ, –Ϋ–Β –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―², –Κ–Α–Κ –≤ ―¹–Β–Φ–Η–¥–Β―¹―è―²―΄–Β –≥–Ψ–¥―΄ –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–±―΄ –±–Α–Μ–Μ–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ–Η ―Ä–Α–Κ–Β―²–Α–Φ–Η ―¹ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ. –ù–Β ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö –Η–Ϋ–Β―Ä―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α–≤–Η–≥–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―¹–Ψ–≤ –Η ―¹–Ω―É―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤―΄―Ö ―¹–Η―¹―²–Β–Φ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Φ–Β―¹―²–Α, ―¹―²–Ψ–Μ―¨ –Ω―Ä–Η–≤―΄―΅–Ϋ―΄―Ö ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹. –Δ–Α–Κ–Η–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ, –≤―¹–Β –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Η–Β ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è –≤ –Φ–Ψ–Β–Ι ―¹―É–¥―¨–±–Β –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η―¹―¨ ―²–Β―¹–Ϋ–Ψ ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹ ―ç―²–Η–Φ –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω–Ψ–Φ, –±―É–¥―¨ –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β–Μ–Α–¥–Β–Ϋ!
–û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ, –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―¹―²―¨ –Β―¹―²―¨ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―¹―²―¨ –Η ―è –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –±―΄―¹―²―Ä–Ψ ―É―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Η–Μ―¹―è, –≤―΄―¹–Μ―É―à–Α–≤ ―³–Μ–Α–≥―à―²―É―Ä–Α. –ù–Α―΅–Α–Μ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –Η ―²–Β―Ä–Ω–Β–Μ–Η–≤–Ψ –Ψ–Ε–Η–¥–Α―²―¨ –Ω―Ä–Η–±―΄―²–Η―è ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Ψ–≤-–Φ–Ψ–Ϋ―²–Α–Ε–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –≤–Ψ―¹―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω–Α.
–£ –Κ―Ä–Α―²―΅–Α–Ι―à–Β–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –±―΄–Μ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―². –≠–Κ–Η–Ω–Α–Ε –Ω―Ä–Η―¹―²―É–Ω–Η–Μ –Κ –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ–Ι –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Β. –ü―Ä–Η–≤–Β–Ζ–Μ–Η, –Ϋ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü, –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω. –ü―Ä–Η–±―΄–Μ–Η –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Β ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²―΄ –Η ―²―É―² –≤―΄―è―¹–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ –Φ–Ψ–Ϋ―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ ―ç―²–Ψ―² ―²―Ä–Β–Κ–Μ―è―²―΄–Ι –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ ―¹―²–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α―Ä–Ϋ–Ψ–Φ ¬Ϊ―¹―É―Ö–Ψ–Φ¬Μ, ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ –Ϋ–Β –Ω–Μ–Α–≤―É―΅–Β–Φ, –¥–Ψ–Κ–Β. –€–Ψ–Ϋ―²–Α–Ε–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄, –Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è, –Ϋ–Β –¥–Ψ–Ω―É―¹–Κ–Α―é―² –Α–±―¹–Ψ–Μ―é―²–Ϋ–Ψ –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Ψ–Ι –Κ–Α―΅–Κ–Η. –ü–Μ–Α–≤―É―΅–Η–Β –Ε–Β –¥–Ψ–Κ–Η, –Η–Φ–Β–≤―à–Η–Β―¹―è –Ϋ–Α –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ–Β, ―Ö–Ψ―²―è –Η ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―â–Α―é―²―¹―è –≤ ―²–Η―Ö–Η―Ö, ―É–Κ―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄―Ö –±―É―Ö―²–Α―Ö, –Ω–Ψ―΅―²–Η –Η–Ζ–Ψ–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ψ―² –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Μ–Ϋ―΄, –≤―¹–Β-―²–Α–Κ–Η ―¹–Μ–Β–≥–Κ–Α –Ω–Ψ–Κ–Α―΅–Η–≤–Α–Β―².
–Δ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ―²–Α ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Ι –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Ϋ–Β –Ψ–Ε–Η–¥–Α–Μ. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β ―³–Μ–Ψ―²–Α –Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –≤–Ψ –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ –Η –Μ–Ψ–Φ–Α–Μ–Ψ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―É –Ϋ–Α–¥ –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ–Ψ–Ι –≤–Ϋ–Β–Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ–Κ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Η–Ζ ¬Ϊ―¹―É―Ö–Η―Ö¬Μ –¥–Ψ–Κ–Ψ–≤ ―²–Α–Φ–Ψ―à–Ϋ–Η―Ö –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Ψ–≤. –½–Α–¥–Α―΅–Α ―ç―²–Α –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Α―è, ―É―΅–Η―²―΄–≤–Α―è –Ϋ–Α―à–Η –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η –≥―Ä–Α―³–Η–Κ–Η –¥–Ψ–Κ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η ―¹―É–¥–Ψ–≤ –î–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–≤–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±–Α―¹―¹–Β–Ι–Ϋ–Α. –ù–Α―΅–Α–Μ–Η –Μ–Η―Ö–Ψ―Ä–Α–¥–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²―¨―¹―è –Κ –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥―É –≤ –™–Μ–Α–≤–Ϋ―É―é –±–Α–Ζ―É ―³–Μ–Ψ―²–Α. –£―΄―è―¹–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ ―΅–Β―²–Κ–Ψ ―¹–Ω–Μ–Α–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –€–Ψ―¹–Κ–≤–Ψ–Ι –Η ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –≥―Ä–Α―³–Η–Κ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –Ω–Ψ–¥ ―É–≥―Ä–Ψ–Ζ–Ψ–Ι, ―²–Β–Φ –±–Ψ–Μ–Β–Β, ―΅―²–Ψ ¬Ϊ–ö-126¬Μ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–Μ–Α―¹―¨ –≤ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Α―Ö ―³–Μ–Ψ―²–Α –Κ–Α–Κ ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η―Ü–Α –≤–Ψ ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–Φ ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Η –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Μ–Β―²–Α. –£―΄―Ö–Ψ–¥ –Ϋ–Α –±–Ψ–Β–≤―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―΄–Μ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è―²―¨―¹―è –Ψ―¹–Β–Ϋ―¨―é...
–û–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Α –Ϋ–Α–Κ–Α–Μ―è–Μ–Α―¹―¨. –£―¹–Β ¬Ϊ–≤ ―²–Β–Φ–Ω–Β¬Μ –£ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Φ–Α―è, ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Η–≤ –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥ –Φ–Α–Κ―¹–Η–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²―¨―é, ¬Ϊ–ö-126¬Μ ―É–Ε–Β ―²–Β―Ä–Μ–Α―¹―¨ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –±–Ψ―Ä―²–Ψ–Φ –Ψ –Ω–Η―Ä―¹ –≤–Ψ –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Β. –ö–Α–Κ –≤–Ψ–¥–Η―²―¹―è, –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ–Η –≤–Ψ –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ ―Ä–Α–Ϋ–Ψ–≤–Α―²–Ψ: –¥–Ψ–Κ, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Ϋ–Α–Φ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨, –±―΄–Μ –Ω―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Ϋ―è―² –¥―Ä―É–≥–Η–Φ–Η ―¹―É–¥–Α–Φ–Η. –ù–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²–Η –≤ –Ϋ–Α―à–Β–Φ –Ω–Ψ―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ–Φ –≤―΄–Ζ–Ψ–≤–Β –≤ –™–Μ–Α–≤–Ϋ―É―é –±–Α–Ζ―É –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Ψ–Ι, –Ϋ–Ψ ―É –Ϋ–Α―¹ –≤―¹―ë –¥–Β–Μ–Α–Β―²―¹―è ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ... –· –Ω―Ä–Η–≤―΄–Κ –Κ ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Ψ–¥–Α ¬Ϊ―à―²―É―΅–Κ–Α–Φ¬Μ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―²–Β–±―è –Κ―É–¥–Α-―²–Ψ –±―É–Κ–≤–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≥–Ψ–Ϋ―è―², –Α ―²–Α–Φ, –Κ―É–¥–Α ―²―΄ ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ω–Η―à―¨―¹―è, ―²–Β–±―è –≤–Ψ–≤―¹–Β –Η –Ϋ–Β –Ε–¥―É―². –£―¹―ë ―ç―²–Ψ –≤ –¥―É―Ö–Β –Ϋ–Α―à–Β–Ι –Ψ–±―â–Β–≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Β―Ä–Α–Ζ–±–Β―Ä–Η―Ö–Η, –Ϋ–Β –Ψ–±–Ψ―à–Β–¥―à–Β–Ι –Η ―³–Μ–Ψ―². –ö–Α–Κ –≤–Ψ–¥–Η―²―¹―è, –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ–Η –≤–Ψ –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ ―Ä–Α–Ϋ–Ψ–≤–Α―²–Ψ: –¥–Ψ–Κ, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Ϋ–Α–Φ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨, –±―΄–Μ –Ω―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Ϋ―è―² –¥―Ä―É–≥–Η–Φ–Η ―¹―É–¥–Α–Φ–Η. –ù–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²–Η –≤ –Ϋ–Α―à–Β–Φ –Ω–Ψ―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ–Φ –≤―΄–Ζ–Ψ–≤–Β –≤ –™–Μ–Α–≤–Ϋ―É―é –±–Α–Ζ―É –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Ψ–Ι, –Ϋ–Ψ ―É –Ϋ–Α―¹ –≤―¹―ë –¥–Β–Μ–Α–Β―²―¹―è ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ... –· –Ω―Ä–Η–≤―΄–Κ –Κ ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Ψ–¥–Α ¬Ϊ―à―²―É―΅–Κ–Α–Φ¬Μ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―²–Β–±―è –Κ―É–¥–Α-―²–Ψ –±―É–Κ–≤–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≥–Ψ–Ϋ―è―², –Α ―²–Α–Φ, –Κ―É–¥–Α ―²―΄ ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ω–Η―à―¨―¹―è, ―²–Β–±―è –≤–Ψ–≤―¹–Β –Η –Ϋ–Β –Ε–¥―É―². –£―¹―ë ―ç―²–Ψ –≤ –¥―É―Ö–Β –Ϋ–Α―à–Β–Ι –Ψ–±―â–Β–≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Β―Ä–Α–Ζ–±–Β―Ä–Η―Ö–Η, –Ϋ–Β –Ψ–±–Ψ―à–Β–¥―à–Β–Ι –Η ―³–Μ–Ψ―².
–ë―΄–Μ–Α ―΅―É–¥–Β―¹–Ϋ–Α―è –Ω–Ψ―Ä–Α –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü―΄ ―²–Β–Ω–Μ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Β―¹–Ϋ―΄ –Η –Μ–Β―²–Α. –¦–Β―²–Ψ ―¹ –¥–Ψ–Ε–¥―è–Φ–Η –Η ―²―É–Φ–Α–Ϋ–Α–Φ–Η, ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ–Η –¥–Μ―è –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Α, –Β―â–Β –Ϋ–Β –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Ψ, –Α ―¹―É―Ö–Α―è, –≤–Β―²―Ä–Β–Ϋ–Α―è –Ω―Ä–Η–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Α―è –Ζ–Η–Φ–Α ―É―à–Μ–Α. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –Φ―è–≥–Κ–Ψ–Ι, –Ϋ–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–Ι, –Α –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ–Ι, –Κ–Α–Φ―΅–Α―²―¹–Κ–Ψ–Ι –Ζ–Η–Φ―΄, –Φ―΄ –±–Β–Ζ –Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –Α–Κ–Κ–Μ–Η–Φ–Α―²–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ–Η –Ω–Ψ―΅―²–Η –≤ ―¹―É–±―²―Ä–Ψ–Ω–Η–Κ–Η. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Ϋ–Α―¹–Μ–Α–Ε–¥–Α―²―¨―¹―è –Ω–Ψ–≥–Ψ–¥–Ψ–Ι –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨. –£―΄―è―¹–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Α –Φ―΄ –±―É–¥–Β–Φ –¥–Ψ–Κ–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è –Η ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤ ―É―΅–Β–Ϋ–Η―è―Ö, –Ϋ–Α―à–Α –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η―è ―¹ –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ–Η –Ω–Β―Ä–Β–¥–Η―¹–Μ–Ψ―Ü–Η―Ä―É–Β―²―¹―è –≤ –ü―Ä–Η–Φ–Ψ―Ä―¨–Β. –‰―²–Α–Κ, –Ϋ–Α –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ―É, –≥–¥–Β ―É –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ –Η –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ–Ψ–≤ –Ψ―¹―²–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹–Β–Φ―¨–Η, –Φ―΄ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Β –≤–Β―Ä–Ϋ–Β–Φ―¹―è. –ß―²–Ψ –±―É–¥–Β―² ―¹ ―¹–Β–Φ―¨―è–Φ–Η? –ö―É–¥–Α –Η –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ–Η ―¹–Φ–Ψ–≥―É―² –Ω–Β―Ä–Β–Β―Ö–Α―²―¨? –ë―É–¥–Β―² –Μ–Η –Ε–Η–Μ―¨―ë –Ϋ–Α –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Φ –Φ–Β―¹―²–Β ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ βÄî –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ –Ψ―²–¥–Α–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –±―É―Ö―² –ü―Ä–Η–Φ–Ψ―Ä―¨―è? –ö–Ψ–≥–¥–Α –Φ―΄ ―²―É–¥–Α –Ω–Ψ–Ω–Α–¥–Β–Φ?
–ö―Ä–Ψ–Φ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Α –Κ –≤―΄―Ö–Ψ–¥―É –Ϋ–Α –±–Ψ–Β–≤―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É –≤ ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è ―Ö–Ψ―²―è –±―΄ –Η –Ϋ–Α –™–Μ–Α–≤–Ϋ―É―é –±–Α–Ζ―É ―³–Μ–Ψ―²–Α, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Ϋ–Α –±–Α–Ζ―É ¬Ϊ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ¬Μ ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è, –¥–Β–Μ–Ψ ―²–Ψ–Ε–Β –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ–Β. –ù–Α ―¹–Ϋ–Α–±–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α―¹ –≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄–Φ, –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α―è ―¹ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η―è, ―²–Ψ–Ω–Μ–Η–≤–Α, –≤–Ψ–¥―΄ –Η –Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α―è –Ψ–±–Φ―É–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ, ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Η–Β ―²―΄–Μ–Ψ–≤―΄–Β ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ ―à–Μ–Η ¬Ϊ―¹–Ψ ―¹–Κ―Ä–Η–Ω–Ψ–Φ¬Μ βÄî –≤–Β–¥―¨ –≤―¹―ë ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ζ–Α–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ψ –¥–Μ―è –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Α –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ–Β! –£–Ω―Ä–Ψ―΅–Β–Φ, –Ζ–Α –≥–Ψ–¥―΄ ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ ―è –Κ ―ç―²–Ψ–Φ―É ―É–Ε–Β –Ω―Ä–Η–≤―΄–Κ. –ü―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ ¬Ϊ–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ ―ç―²–Η ―Ä–Η―³―΄¬Μ, ―¹―²―É―΅–Α―¹―¨ –≤ –Κ–Α–±–Η–Ϋ–Β―²―΄ ―¹―²–Α―Ä―à–Η―Ö ―²―΄–Μ–Ψ–≤―΄―Ö –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤. –û–±―΄―΅–Ϋ–Ψ –Φ–Ψ–Η –¥–Ψ–≤–Ψ–¥―΄ –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Ω―Ä–Η―à–Μ–Α –Ϋ–Β –≤ –Κ–Α–Κ―É―é-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –±–Α–Ζ―É 6 ―³–Μ–Ψ―²–Α –Γ–®–ê, –Α –≤ ―¹–≤–Ψ―é ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―É―é –≤―¹–Β-―²–Α–Κ–Η –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η. –£–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –≤ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ –Φ–Β―Ä–Β, ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Α–Φ –Η–Ζ –Η–Ϋ―²–Β–Ϋ–¥–Α–Ϋ―²―¹―²–≤–Α –Μ―¨―¹―²–Η–Μ–Ψ –Η ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Κ –Ϋ–Η–Φ –Ψ–±―Ä–Α―â–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Β –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä, –≤–Β–¥–Α―é―â–Η–Ι ―¹–Ϋ–Α–±–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ, –Α ―¹–Α–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ―¹―²―Ä–Α―²–Β–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ψ–Ϋ–Ψ―¹―Ü–Α. –£–Ψ –≤―¹―è–Κ–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β, ―Ö―É–¥–Ψ-–±–Β–¥–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Ψ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹―΄ ―¹–Ϋ–Α–±–Ε–Β–Ϋ–Η―è ―Ä–Β―à–Α–Μ–Η―¹―¨. –Ξ―É–Ε–Β –±―΄–Μ–Ψ ―¹ –Φ–Ψ―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Β–Φ –Ψ―²–Ψ―Ä–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹―Ä–Ψ–Κ –Ψ―² ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―¹–Β–Φ–Β–Ι –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ –Η –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ–Ψ–≤. –ü–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ζ ―¹–Μ―É―Ö, ―΅―²–Ψ –Η –±–Α–Ζ–Α –≤ –ü―Ä–Η–Φ–Ψ―Ä―¨–Β –±―É–¥–Β―² –¥–Μ―è –Ϋ–Α―à–Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Ϋ–Β –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι, ―΅―²–Ψ, –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ―è–≤ ―²–Α–Φ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Β―¹―è―Ü–Β–≤, –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ω–Β―Ä–Β–Ι–¥―É―² –Β―â–Β –≤ –Κ–Α–Κ―É―é-―²–Ψ –±–Α–Ζ―É (―²–Α–Κ, –Κ―¹―²–Α―²–Η, –Ψ–Ϋ–Ψ –Η –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≤–Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Η). –ö–Α–Κ –Φ–Ψ–≥–Μ–Η, –Φ―΄ ―¹ –Ζ–Α–Φ–Ω–Ψ–Μ–Η―²–Ψ–Φ ―É―¹–Ω–Ψ–Κ–Α–Η–≤–Α–Μ–Η –Μ―é–¥–Β–Ι, ―Ö–Ψ―²―è ―¹–Α–Φ–Η –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Η –¥–Α–Ε–Β ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―ç–Μ–Β–Φ–Β–Ϋ―²–Α―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Β―â–Η, –Κ–Α–Κ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―è –Ω–Β―Ä–Β–Β–Ζ–¥–Α ―¹–Β–Φ–Β–Ι ―¹ –¥–Ψ–Φ–Α―à–Ϋ–Η–Φ ―¹–Κ–Α―Ä–±–Ψ–Φ –Κ –Ϋ–Α―à–Β–Φ―É –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Φ―É –Φ–Β―¹―²―É ―¹–Μ―É–Ε–±―΄. –î–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ–Α –Η –≤―ä–Β–≤―à–Α―è―¹―è –≤ –Ω–Μ–Ψ―²―¨ –Η –Κ―Ä–Ψ–≤―¨ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ –Ω―Ä–Η–≤―΄―΅–Κ–Α ¬Ϊ―¹―²–Ψ–Ι–Κ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Ϋ–Ψ―¹–Η―²―¨ ―²―è–≥–Ψ―²―΄ ―¹–Μ―É–Ε–±―΄¬Μ –≤―¹–Β-―²–Α–Κ–Η –±―Ä–Α–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Β. –ù–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ϋ–Α―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η–Β, –Ψ–Ϋ–Η ―΅–Β―¹―²–Ϋ–Ψ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Ι –¥–Ψ–Μ–≥; –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Α –Κ –¥–Ψ–Κ–Ψ–≤―΄–Φ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Φ, –Κ ―É―΅–Α―¹―²–Η―é –≤ ―É―΅–Β–Ϋ–Η―è―Ö, –Κ –≤―΄―Ö–Ψ–¥―É –≤ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Φ–Β―¹―è―΅–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α –±–Ψ–Β–≤―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É –Ω–Ψ―΅―²–Η –Ϋ–Β –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Η –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ϋ–Α –Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Β –Ω–Β―Ä–Β–Ε–Η–≤–Α–Ϋ–Η―è. –Ξ―É–Ε–Β –±―΄–Μ–Ψ ―¹ –Φ–Ψ―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Β–Φ –Ψ―²–Ψ―Ä–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹―Ä–Ψ–Κ –Ψ―² ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―¹–Β–Φ–Β–Ι –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ –Η –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ–Ψ–≤. –ü–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ζ ―¹–Μ―É―Ö, ―΅―²–Ψ –Η –±–Α–Ζ–Α –≤ –ü―Ä–Η–Φ–Ψ―Ä―¨–Β –±―É–¥–Β―² –¥–Μ―è –Ϋ–Α―à–Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Ϋ–Β –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι, ―΅―²–Ψ, –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ―è–≤ ―²–Α–Φ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Β―¹―è―Ü–Β–≤, –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ω–Β―Ä–Β–Ι–¥―É―² –Β―â–Β –≤ –Κ–Α–Κ―É―é-―²–Ψ –±–Α–Ζ―É (―²–Α–Κ, –Κ―¹―²–Α―²–Η, –Ψ–Ϋ–Ψ –Η –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≤–Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Η). –ö–Α–Κ –Φ–Ψ–≥–Μ–Η, –Φ―΄ ―¹ –Ζ–Α–Φ–Ω–Ψ–Μ–Η―²–Ψ–Φ ―É―¹–Ω–Ψ–Κ–Α–Η–≤–Α–Μ–Η –Μ―é–¥–Β–Ι, ―Ö–Ψ―²―è ―¹–Α–Φ–Η –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Η –¥–Α–Ε–Β ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―ç–Μ–Β–Φ–Β–Ϋ―²–Α―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Β―â–Η, –Κ–Α–Κ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―è –Ω–Β―Ä–Β–Β–Ζ–¥–Α ―¹–Β–Φ–Β–Ι ―¹ –¥–Ψ–Φ–Α―à–Ϋ–Η–Φ ―¹–Κ–Α―Ä–±–Ψ–Φ –Κ –Ϋ–Α―à–Β–Φ―É –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Φ―É –Φ–Β―¹―²―É ―¹–Μ―É–Ε–±―΄. –î–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ–Α –Η –≤―ä–Β–≤―à–Α―è―¹―è –≤ –Ω–Μ–Ψ―²―¨ –Η –Κ―Ä–Ψ–≤―¨ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ –Ω―Ä–Η–≤―΄―΅–Κ–Α ¬Ϊ―¹―²–Ψ–Ι–Κ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Ϋ–Ψ―¹–Η―²―¨ ―²―è–≥–Ψ―²―΄ ―¹–Μ―É–Ε–±―΄¬Μ –≤―¹–Β-―²–Α–Κ–Η –±―Ä–Α–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Β. –ù–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ϋ–Α―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η–Β, –Ψ–Ϋ–Η ―΅–Β―¹―²–Ϋ–Ψ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Ι –¥–Ψ–Μ–≥; –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Α –Κ –¥–Ψ–Κ–Ψ–≤―΄–Φ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Φ, –Κ ―É―΅–Α―¹―²–Η―é –≤ ―É―΅–Β–Ϋ–Η―è―Ö, –Κ –≤―΄―Ö–Ψ–¥―É –≤ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Φ–Β―¹―è―΅–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α –±–Ψ–Β–≤―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É –Ω–Ψ―΅―²–Η –Ϋ–Β –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Η –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ϋ–Α –Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Β –Ω–Β―Ä–Β–Ε–Η–≤–Α–Ϋ–Η―è.
–€–Η―΅–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Ε–Β ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤, –Α –Ω–Ψ―΅―²–Η –≤―¹–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥ –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –±―΄–Μ–Η ―É–Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―²–Ψ–≤–Α–Ϋ―΄ –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ–Α–Φ–Η, –Ϋ–Α―΅–Α–Μ –Ω–Ψ―²–Η―Ö–Ψ–Ϋ―¨–Κ―É ¬Ϊ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ζ–Α―²―¨―¹―è¬Μ. –ü–Ψ ―¹―Ä–Α–≤–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é ―¹ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–Φ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―¹–Μ―É–Ε–Η―² ―²–Α–Φ, –≥–¥–Β –Β–Φ―É –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ε―É―², –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ –Η–Φ–Β–Β―² –Ω―Ä–Α–≤–Ψ ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ψ―² –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α –Φ–Β―¹―²–Ψ ―¹–Μ―É–Ε–±―΄, ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –≤ –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―¹ –Ϋ–Η–Φ –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Α–Κ―²–Β. –û–¥–Ϋ–Η–Φ ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ–Φ, –Κ –Α–≤–≥―É―¹―²―É –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –Ϋ–Β –Ψ―¹―²–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ–Α. –î–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥ –±―΄–Μ–Η ―É–Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―²–Ψ–≤–Α–Ϋ―΄ ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Α―â–Η–Φ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β, –Κ―¹―²–Α―²–Η, ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Μ–Η―¹―¨ ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―è–Φ–Η –≤ ―Ü–Β–Μ–Ψ–Φ –Ϋ–Β ―Ö―É–Ε–Β –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ–Ψ–≤. –ù–Β ―Ö–Ψ―΅―É, –≤–Ω―Ä–Ψ―΅–Β–Φ, ―ç―²–Η–Φ –Ψ–±–Η–¥–Β―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –±―΄–≤―à–Η―Ö –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ–Ψ–≤: –≤–Β–¥―¨ –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ–Η ―²–Α–Κ―É―é –Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ―É, –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η―Ö –Ω―Ä–Β–¥―΄–¥―É―â–Α―è ―¹–Μ―É–Ε–±–Α –Ζ–Α–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Α –¥–Ψ–±―Ä―΄–Β ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è. –£―Ä–Β–Φ―è –¥–Α―Ä–Ψ–Φ –Ϋ–Β ―²–Β―Ä―è–Μ–Ψ―¹―¨, –≤―¹–Β, –Ψ―² –≤–Β―¹―²–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β –Ψ―² ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η ―³–Μ–Ψ―² –¥–Β–Μ–Α–Β―² ―¹―²–Α–≤–Κ―É –Ϋ–Α ―²–Α–Κ–Η–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α―à–Α. ¬Ϊ–£–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ¬Μ –Ϋ–Β –¥―Ä–Β–Φ–Α–Μ. –Ξ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Α –≤ ―Ä–Α–Ζ–≥–Α―Ä–Β. –≠―²–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è, ―΅―²–Ψ –≤―¹–Β –Ϋ–Α―à–Η ―É―¹–Η–Μ–Η―è –±―΄–Μ–Η –Φ―΄―à–Η–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Β–Ι. –ë–Β–Ζ –Ω―Ä–Β―É–≤–Β–Μ–Η―΅–Β–Ϋ–Η―è ―¹–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤―É―é, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Α ―¹–Α–Φ–Α―è –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Α―è –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Α –±–Β–Ζ –≤―΄―¹―²―Ä–Β–Μ–Ψ–≤, –Ϋ–Ψ ―¹ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ–Η –Φ–Ψ―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ-―³–Η–Ζ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ–Η –Ε–Β―Ä―²–≤–Α–Φ–Η.
–†–Β―à–Α―è ―΅–Η―¹―²–Ψ ―¹–Ϋ–Α–±–Ε–Β–Ϋ―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Ζ–Α–¥–Α―΅–Η, –Φ―΄ –Ϋ–Η –Ϋ–Α –¥–Β–Ϋ―¨ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―â–Α–Μ–Η –±–Ψ–Β–≤―É―é –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ―É. –≠–Κ–Η–Ω–Α–Ε –Ϋ–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―΄–Μ ―Ä–Α―¹―²–Β―Ä―è―²―¨ ―¹ ―²–Α–Κ–Η–Φ ―²―Ä―É–¥–Ψ–Φ –Ω―Ä–Η–Ψ–±―Ä–Β―²–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Α–≤―΄–Κ–Η –Η –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Α, –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è―é―â–Η–Β –Β–Φ―É ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è―²―¨ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Φ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ ―è–¥―Ä–Α ―³–Μ–Ψ―²–Α. –ö ―΅–Β―¹―²–Η –Μ―é–¥–Β–Ι ―¹–Κ–Α–Ε―É, ―΅―²–Ψ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β–≤ –Ϋ–Β―Ä–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Η –Η ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α―Ä―É―à–Β–Ϋ–Η–Ι –¥–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ―΄ (–Α ―¹–Ψ–±–Μ–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–≤ –≤ ―²–Α–Κ–Ψ–Φ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β, –Κ–Α–Κ –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ, ―Ö–Ψ―²―¨ –Ψ―²–±–Α–≤–Μ―è–Ι), –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ.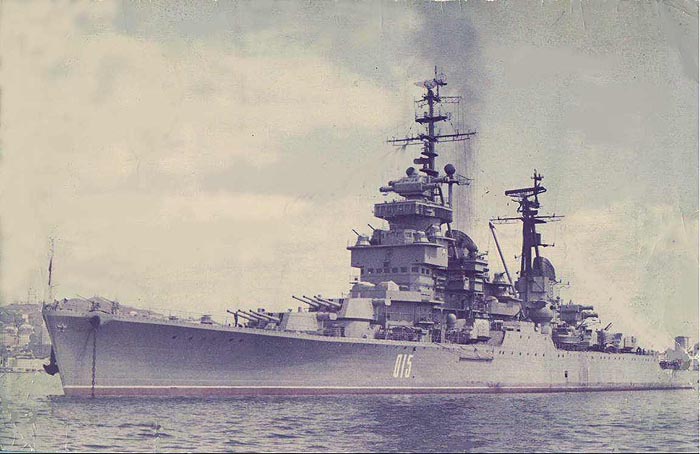 –ù–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü, –¥–Ψ–Κ –Ψ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è. –¦–Ψ–¥–Κ–Α –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ–Η, –≤―¹―²–Α–Μ–Α –Ϋ–Α –Κ–Η–Μ―¨–±–Μ–Ψ–Κ–Η –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Φ, –Ω–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Β–Φ –Ϋ–Α –≤―΄―²―è–Ϋ―É―²―΄–Ι –≤ –¥–Μ–Η–Ϋ―É –ö–Ψ–Μ–Η–Ζ–Β–Ι, ―¹–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Η. –Γ–Ψ―¹–Β–¥–Ψ–Φ –Ϋ–Α―à–Η–Φ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä ¬Ϊ¬Μ. –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η ―¹ –Μ―é–±–Ψ–Ω―΄―²―¹―²–≤–Ψ–Φ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α–Μ–Η –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Α (–Φ―΄ –Ε–Β βÄî ―²–Ψ–Ε–Β –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä, –Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι). –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄, ―¹–Η–≥–Ϋ–Α–Μ―΄, ―¹–≤–Η―¹―²–Κ–Η, –Ψ–±―ä―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ –≥―Ä–Ψ–Φ–Κ–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―â–Β–Ι ―¹–≤―è–Ζ–Η, –Β–Ε–Β–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α–Ζ–≤–Ψ–¥―΄ –Ϋ–Α―Ä―è–¥–Ψ–≤ –Ω–Ψ–¥ –Ψ―Ä–Κ–Β―¹―²―Ä, –Ϋ–Α –Φ–Ψ–Ι –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥, –±–Μ–Α–≥–Ψ―²–≤–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –Ϋ–Α―à―É –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―É―é –≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Η―Ü―É. –¦―é–¥–Η –Ζ–Α–Φ–Β―²–Ϋ–Ψ . –· –±―΄–Μ ―ç―²–Ψ–Φ―É ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ä–Α–¥. –ù–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü, –¥–Ψ–Κ –Ψ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è. –¦–Ψ–¥–Κ–Α –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ–Η, –≤―¹―²–Α–Μ–Α –Ϋ–Α –Κ–Η–Μ―¨–±–Μ–Ψ–Κ–Η –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Φ, –Ω–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Β–Φ –Ϋ–Α –≤―΄―²―è–Ϋ―É―²―΄–Ι –≤ –¥–Μ–Η–Ϋ―É –ö–Ψ–Μ–Η–Ζ–Β–Ι, ―¹–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Η. –Γ–Ψ―¹–Β–¥–Ψ–Φ –Ϋ–Α―à–Η–Φ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä ¬Ϊ¬Μ. –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η ―¹ –Μ―é–±–Ψ–Ω―΄―²―¹―²–≤–Ψ–Φ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α–Μ–Η –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Α (–Φ―΄ –Ε–Β βÄî ―²–Ψ–Ε–Β –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä, –Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι). –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄, ―¹–Η–≥–Ϋ–Α–Μ―΄, ―¹–≤–Η―¹―²–Κ–Η, –Ψ–±―ä―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ –≥―Ä–Ψ–Φ–Κ–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―â–Β–Ι ―¹–≤―è–Ζ–Η, –Β–Ε–Β–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α–Ζ–≤–Ψ–¥―΄ –Ϋ–Α―Ä―è–¥–Ψ–≤ –Ω–Ψ–¥ –Ψ―Ä–Κ–Β―¹―²―Ä, –Ϋ–Α –Φ–Ψ–Ι –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥, –±–Μ–Α–≥–Ψ―²–≤–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –Ϋ–Α―à―É –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―É―é –≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Η―Ü―É. –¦―é–¥–Η –Ζ–Α–Φ–Β―²–Ϋ–Ψ . –· –±―΄–Μ ―ç―²–Ψ–Φ―É ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ä–Α–¥.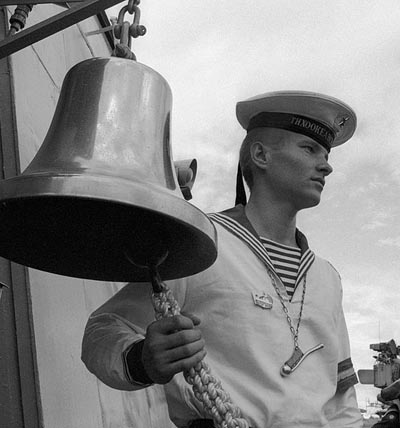 –Γ–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²―΄-–Φ–Ψ–Ϋ―²–Α–Ε–Ϋ–Η–Κ–Η –Η –Ψ–±–Α –Φ–Ψ–Η―Ö ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Α –Κ―Ä―É―²–Η–Μ–Η―¹―¨ ¬Ϊ–≤–Ψ–Μ―΅–Κ–Α–Φ–Η¬Μ, –Ϋ–Ψ –¥–Β–Μ–Ψ ―¹ –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω–Ψ–Φ –¥–≤–Η–≥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ. –û–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β ―²–Α–Κ–Η–Φ ―É–Ε –Ω―Ä–Ψ―¹―²―΄–Φ. –Δ–Ψ –Μ–Η ―É –Φ–Ψ–Ϋ―²–Α–Ε–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ϋ–Β ―Ö–≤–Α―²–Α–Μ–Ψ –Ϋ–Α–≤―΄–Κ–Ψ–≤ –≤ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Β, ―²–Ψ –Μ–Η –Ϋ–Ψ–≤―΄–Ι –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω –≤ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Β –Β–≥–Ψ ―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Κ–Η –Ϋ–Α –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ―É (–Α –≤–Β–Ζ–Μ–Η –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α –≤―¹–Β―Ö –≤–Η–¥–Α―Ö ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Α, –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β –≥―É–Ε–Β–≤–Ψ–≥–Ψ), –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ –Ω–Ψ–¥–¥–Α–≤–Α–Μ―¹―è ―Ä–Β–≥―É–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Β, –Ϋ–Ψ –Β–Ε–Β–≤–Β―΅–Β―Ä–Ϋ–Η–Β –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΄ ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Α –Φ–Β–Ϋ―è –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ–≥–Ψ―Ä―΅–Α–Μ–Η. –£―Ä–Β–Φ―è –Ε–Β –¥–≤–Η–≥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Β―É–Φ–Ψ–Μ–Η–Φ–Ψ. –Γ―Ä–Ψ–Κ–Η –Ω―Ä–Β–±―΄–≤–Α–Ϋ–Η―è –≤ –¥–Ψ–Κ–Β, ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ –Ϋ–Α ―²–≤–Β―Ä–¥–Ψ–Ι –Ω–Μ–Α―²―³–Ψ―Ä–Φ–Β, ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Β–Ϋ―΄. –€―΄ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ζ–Α–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α―²―¨ –¥–Ψ–Κ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β ―¹―²–Ψ―è–≤―à–Η―Ö –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Ϋ–Α–Φ–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η ―¹―É–¥–Ψ–≤. –û–±–Α ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Α, ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Η–Κ –Η –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Β ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²―΄ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Η –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Κ―Ä―É–≥–Μ–Ψ―¹―É―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–¥–≤–Η–≥–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥ ―΅–Β―Ä–Β–Ω–Α―à―¨–Η–Φ–Η ―à–Α–≥–Α–Φ–Η. –Γ–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²―΄-–Φ–Ψ–Ϋ―²–Α–Ε–Ϋ–Η–Κ–Η –Η –Ψ–±–Α –Φ–Ψ–Η―Ö ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Α –Κ―Ä―É―²–Η–Μ–Η―¹―¨ ¬Ϊ–≤–Ψ–Μ―΅–Κ–Α–Φ–Η¬Μ, –Ϋ–Ψ –¥–Β–Μ–Ψ ―¹ –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω–Ψ–Φ –¥–≤–Η–≥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ. –û–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β ―²–Α–Κ–Η–Φ ―É–Ε –Ω―Ä–Ψ―¹―²―΄–Φ. –Δ–Ψ –Μ–Η ―É –Φ–Ψ–Ϋ―²–Α–Ε–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ϋ–Β ―Ö–≤–Α―²–Α–Μ–Ψ –Ϋ–Α–≤―΄–Κ–Ψ–≤ –≤ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Β, ―²–Ψ –Μ–Η –Ϋ–Ψ–≤―΄–Ι –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω –≤ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Β –Β–≥–Ψ ―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Κ–Η –Ϋ–Α –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ―É (–Α –≤–Β–Ζ–Μ–Η –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α –≤―¹–Β―Ö –≤–Η–¥–Α―Ö ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Α, –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β –≥―É–Ε–Β–≤–Ψ–≥–Ψ), –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ –Ω–Ψ–¥–¥–Α–≤–Α–Μ―¹―è ―Ä–Β–≥―É–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Β, –Ϋ–Ψ –Β–Ε–Β–≤–Β―΅–Β―Ä–Ϋ–Η–Β –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΄ ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Α –Φ–Β–Ϋ―è –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ–≥–Ψ―Ä―΅–Α–Μ–Η. –£―Ä–Β–Φ―è –Ε–Β –¥–≤–Η–≥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Β―É–Φ–Ψ–Μ–Η–Φ–Ψ. –Γ―Ä–Ψ–Κ–Η –Ω―Ä–Β–±―΄–≤–Α–Ϋ–Η―è –≤ –¥–Ψ–Κ–Β, ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ –Ϋ–Α ―²–≤–Β―Ä–¥–Ψ–Ι –Ω–Μ–Α―²―³–Ψ―Ä–Φ–Β, ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Β–Ϋ―΄. –€―΄ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ζ–Α–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α―²―¨ –¥–Ψ–Κ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β ―¹―²–Ψ―è–≤―à–Η―Ö –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Ϋ–Α–Φ–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η ―¹―É–¥–Ψ–≤. –û–±–Α ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Α, ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Η–Κ –Η –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Β ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²―΄ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Η –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Κ―Ä―É–≥–Μ–Ψ―¹―É―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–¥–≤–Η–≥–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥ ―΅–Β―Ä–Β–Ω–Α―à―¨–Η–Φ–Η ―à–Α–≥–Α–Φ–Η.
–ö –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α–Φ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η –Ω―Ä–Η–Β–Ζ–Ε–Α―²―¨ ―¹ –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ–Η –Ε―ë–Ϋ―΄ ―¹ –¥–Β―²―¨–Φ–Η. –ï―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, ¬Ϊ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ¬Μ –≤–Ψ –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Β –Ε–Η–Μ―¨―è –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ. –ù–Β –Η–Φ–Β–Μ –Κ–≤–Α―Ä―²–Η―Ä―΄ –Η ―è. –î–Η–≤–Η–Ζ–Η―è –Ω–Β―Ä–Β―à–Μ–Α-―²–Α–Κ–Η –≤ –ü―Ä–Η–Φ–Ψ―Ä―¨–Β, –Η ―¹–Β–Φ―¨–Η –Ϋ–Α―à–Η―Ö –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä―΄ ―²–Α–Κ―²–Η―΅–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Ι―΅–Η–≤–Ψ –≤―΄–Ε–Η–≤–Α–Μ–Ψ –Η–Ζ –Κ–Α–Φ―΅–Α―²―¹–Κ–Η―Ö –Κ–≤–Α―Ä―²–Η―Ä. –£–Ω―Ä–Ψ―΅–Β–Φ, –Ω―Ä–Η –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Φ –¥–Β―³–Η―Ü–Η―²–Β –Ε–Η–Μ―¨―è ―ç―²–Η –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ–Ϋ―è―²―¨. –û―³–Η―Ü–Β―Ä―΄ –≤―΄–Ϋ―É–Ε–¥–Β–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Η ―É―Ä―΄–≤–Α―²―¨ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ψ―² ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Η –Ψ―²–¥―΄―Ö–Α –¥–Μ―è –Ω–Ψ–Η―¹–Κ–Α ―Ö–Ψ―²―¨ –Κ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ-―²–Ψ –Ε–Η–Μ―¨―è –≤ ¬Ϊ―΅–Α―¹―²–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Β¬Μ –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Α, –Ϋ–Β –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Α–≤–Μ–Η–≤–Α―è―¹―¨ –Ω–Β―Ä–Β–¥ –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–Β―Ä―¨―ë–Ζ–Ϋ–Ψ ¬Ϊ–Κ―É―¹–Α―é―â–Η–Φ–Η―¹―è¬Μ ―Ü–Β–Ϋ–Α–Φ–Η, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ, –Ϋ–Β ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤―É―é―â–Η–Φ–Η ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ―é –Κ–Ψ–Φ―³–Ψ―Ä―²–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Κ–≤–Α―Ä―²–Η―Ä –Η –Κ–Ψ–Φ–Ϋ–Α―².
–ö–Ψ–Β-–Κ–Α–Κ ―¹–Ψ–±―Ä–Α–≤ –Ϋ–Β―΅―²–Ψ –≤―Ä–Ψ–¥–Β –Κ–Ψ–Ϋ―²–Β–Ι–Ϋ–Β―Ä–Α, –Φ–Ψ―è –Ε–Β–Ϋ–Α –Ζ–Α–≥―Ä―É–Ζ–Η–Μ–Α –¥–Ψ–Φ–Α―à–Ϋ–Η–Ι ―¹–Κ–Α―Ä–± –Ϋ–Α ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ –Ζ–Α―à–Β–¥―à―É―é –≤ –ü–Β―²―Ä–Ψ–Ω–Α–≤–Μ–Ψ–≤―¹–Κ –Ω–Μ–Α–≤–±–Α–Ζ―É –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ ¬Ϊ―΅―É–Ε–Ψ–≥–Ψ¬Μ ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è (–Ω–Μ–Α–≤–±–Α–Ζ–Α ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Β―¹―è―Ü–Β–≤ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è –≤ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Α –Ω―Ä–Η–Ι―²–Η –≤–Ψ –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ) –Η –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Ω–Ψ–Μ―É―²–Ψ―Ä–Α–≥–Ψ–¥–Ψ–≤–Α–Μ―΄–Φ ―¹―΄–Ϋ–Ψ–Φ ―²–Ψ–Ε–Β –Ω―Ä–Η–Μ–Β―²–Β–Μ–Α –Κ–Ψ –Φ–Ϋ–Β. –ü―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹–Ϋ―è―²―¨ –Κ―Ä–Ψ―à–Β―΅–Ϋ―É―é –Κ–Ψ–Φ–Ϋ–Α―²―É –≤ –¥–Ψ–Φ–Β ¬Ϊ¬Μ –Η ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―¹―²–Η―²―¨ ―²–Α–Φ ―¹–≤–Ψ―é, ―¹–Μ–Α–≤–Α –±–Ψ–≥―É, –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―É―é ―¹–Β–Φ―¨―é. –ß―²–Ψ –¥–Β–Μ–Α―²―¨, –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Α―è, –Ϋ–Β –Ω–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Α―è –Ϋ–Α ¬Ϊ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ―É―é¬Μ, –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Α―è –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨. –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―²
06.04.201400:1506.04.2014 00:15:17
–Γ―²―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü―΄:
–ü―Ä–Β–¥.
|
1
|
...
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
–Γ–Μ–Β–¥.
|


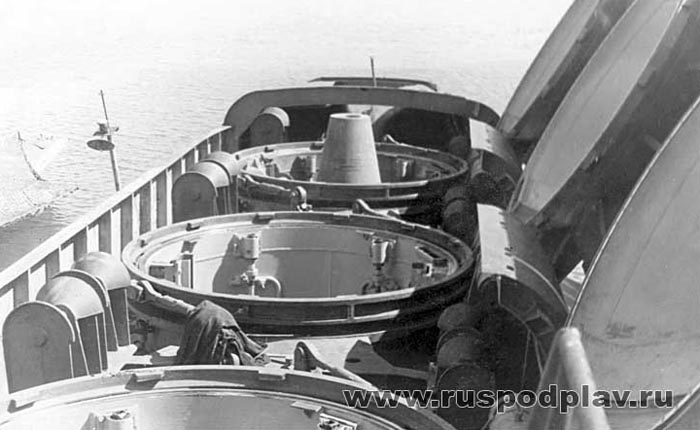











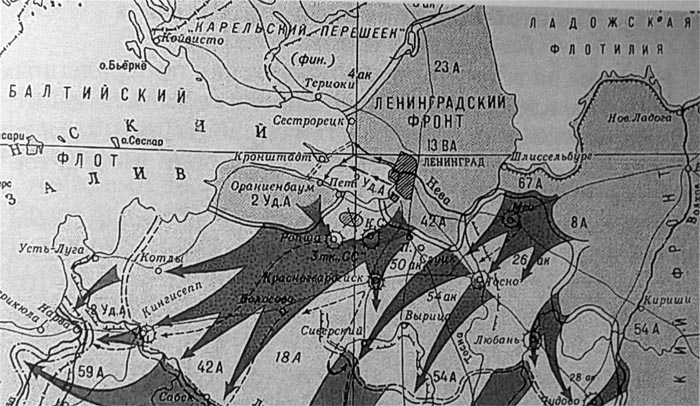

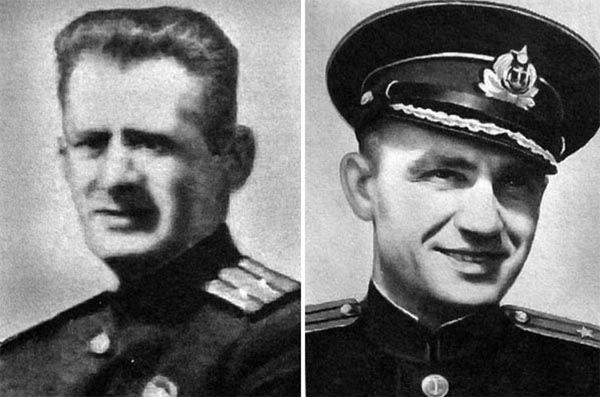


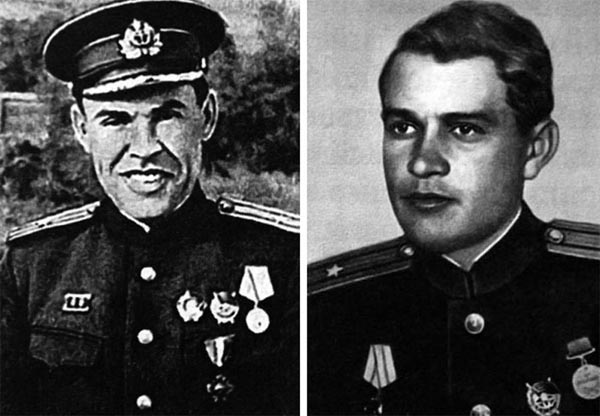

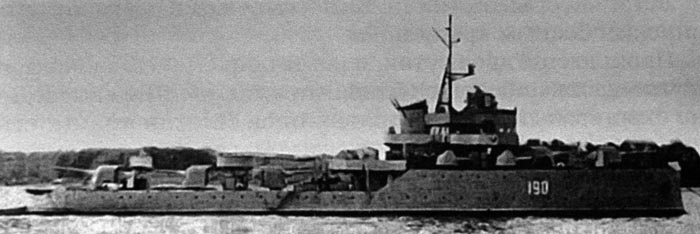





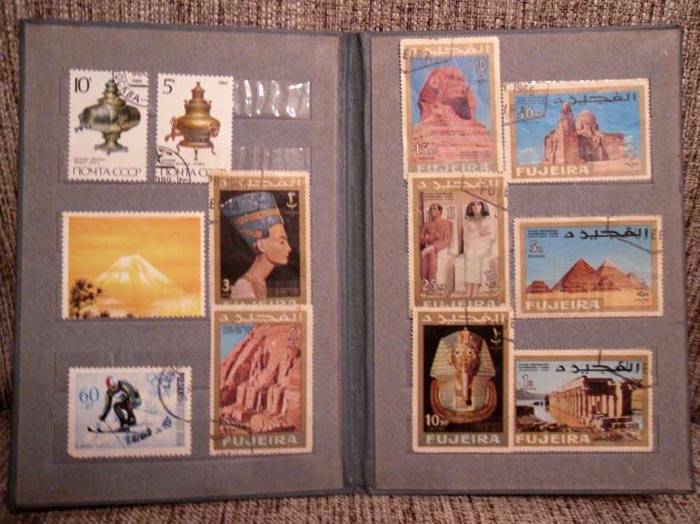



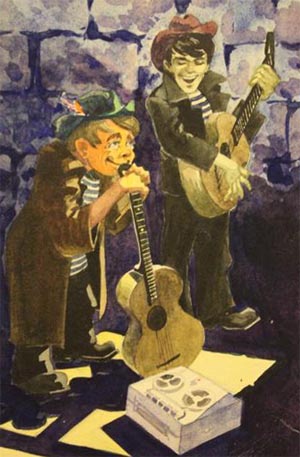


















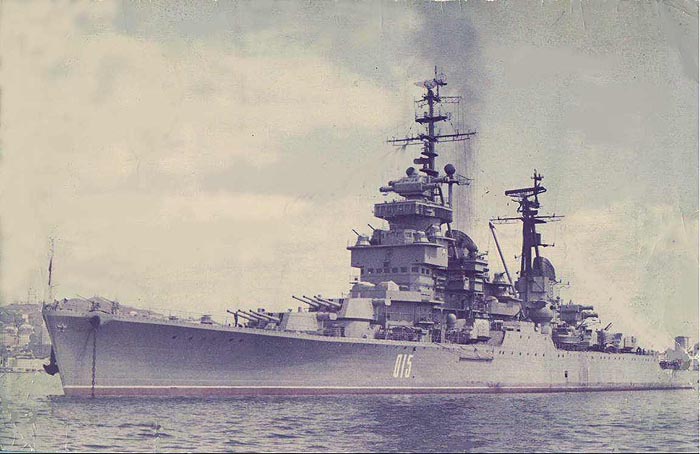
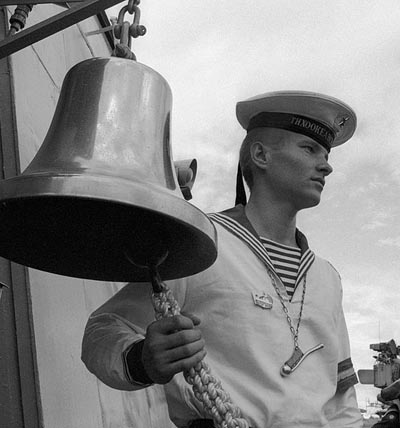

.jpg)


