–ë–Α–Ϋ–Ϋ–Β―Ä

–ö–Α–Κ –Ω–Β―Ä–Β–Ψ―¹–Ϋ–Α―¹―²–Η―²―¨ –Ω―Ä–Ψ–Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ –Ω–Ψ–¥ –Κ–Μ―é―΅
|
–£―¹–Κ–Ψ―Ä–Φ–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹ –Κ–Ψ–Ω―¨―è - –Γ–Ψ–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Α 28.05.2014
0
28.05.201400:3628.05.2014 00:36:36
 –ù–Α―¹ –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É-―²–Ψ ―¹―É–¥―¨–±―΄ –Ϋ–Β ―Ä–Ψ–Ζ–Ϋ―è―², –ù–Α―¹ –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É-―²–Ψ ―¹―É–¥―¨–±―΄ –Ϋ–Β ―Ä–Ψ–Ζ–Ϋ―è―²,
–Ξ–Ψ―²―è –Ϋ–Β –≤―¹–Β –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Η―¹―¨ –Η–Ζ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α
–€–Ψ–Β–Ι –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ–Ι ―é–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –¥―Ä―É–Ζ―¨―è,
–ü–Η―²–Ψ–Ϋ―΄ ―à–Β―¹―²―¨–¥–Β―¹―è―² ―à–Β―¹―²–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ–¥–Α.–· –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―é –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ –Ϋ–Α―¹,
–ö–Α–Κ –±―É–¥―²–Ψ –Φ―΄ ―¹―²–Ψ–Η–Φ –≤ –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Φ ―Ö–Ψ―Ä–Β,
–‰ –ö–Ψ―΅–Β―²–Ψ–≤–Ψ–Ι ―¹–≤–Β―² –Η–Ζ –¥–Ψ–±―Ä―΄―Ö –≥–Μ–Α–Ζ,
–‰ ―É–≥–Ψ–Μ―¨ –Η–Μ–Η –±–Α–Ϋ―é –Ϋ–Α ¬Ϊ–ê–≤―Ä–Ψ―Ä–Β¬Μ.–‰ ―²–Ψ, –Κ–Α–Κ –ë–Ψ―Ä―è –ë–Μ–Ψ―à–Κ–Η–Ϋ –Ϋ–Α–±–Η–≤–Α–Μ
–Δ–Α–±–Α–Κ –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Μ–Β–Ω–Ϋ―΄–Ι –≤ –Ω–Α–Ω–Η―Ä–Ψ―¹―΄,
–‰ –Κ–Α–Κ ¬Ϊ–±–Α―Ä―Ä―Ä―Ä–Α–Ϋ!¬Μ –Ϋ–Β–Ζ–Μ–Ψ–±–Ϋ–Ψ ―²–Α–Κ –Ψ―Ä–Α–Μ
–‰–Ζ –Γ―²―Ä–Β–Μ―¨–Ϋ―΄ –Ω―Ä–Η–Β–Ζ–Ε–Α–≤―à–Η–Ι –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ –ö–Ψ―¹–Ψ–≤.–ë―É–Μ―¨–Ψ–Ϋ –Κ―É―Ä–Η–Ϋ―΄–Ι, ―Ä–Η―¹–Ψ–≤―΄–Ι –Ω–Η―Ä–Ψ–≥
–ù–Α –Κ–Α–Φ–±―É–Ζ–Β –Ϋ–Α―¹ –Ε–¥–Α–Μ –≤ –Μ―é–±―É―é ―¹―Ä–Β–¥―É.
–£ –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η, ―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α –Ω–Ψ―Ä–Ψ–≥,
–ù–Α–¥ ―Ü–Β–Μ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨―é ―΅―É–≤―¹―²–≤―É―è –Ω–Ψ–±–Β–¥―É.–ù–Α–Φ –ê–Κ–≤–Η–Μ–Ψ–Ϋ–Ψ–≤, - –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹―²―É –ü―²–Β–Ϋ–Β―Ü, −
–ö–Α–Κ ―΅―É–¥–Ψ, –Ψ―²–Κ―Ä―΄–≤–Α–Μ ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ,
–‰–≤–Α–Ϋ –‰–≥–Ϋ–Α―²―¨–Η―΅ –±―΄–Μ –Ϋ–Α–Φ, –Κ–Α–Κ –Ψ―²–Β―Ü,
–‰ –Ϋ–Α–Φ –Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨: –Φ―΄ –Ϋ–Α –≤―¹―ë –≥–Ψ―²–Ψ–≤―΄.–Θ–Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η ―Ä–Α–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β ―¹―²―Ä–Ψ–Ι,
–Γ –Η–Ζ–¥–Β–≤–Κ–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Φ ―à–Μ–Η –Ω–Ψ―Ä–Ψ–Ι, ¬Ϊ―Ö―Ä–Ψ–Φ–Α―è¬Μ.
–ù–Α–Φ ―ç―²–Ψ –¥–Β―²―¹―²–≤–Ψ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Η–≥―Ä–Ψ–Ι −
–ü–Α―Ä–Α–¥–Ψ–Φ –û–Κ―²―è–±―Ä―è –Η –ü–Β―Ä–≤–Ψ–Φ–Α―è.–ö–Α–Κ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Α―¹, –Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ö–Ψ―΅―É –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α―²―¨!
–ö–Α–Κ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Α―¹ − –±–Ψ–Μ―¨―à–Η―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι –Η ―¹―É–¥–Β–±!
–ù–Ψ –Β―¹–Μ–Η –Ϋ–Β –Ϋ–Α―à–Μ–Η―¹―¨ –¥–Μ―è –≤–Α―¹ ―¹–Μ–Ψ–≤–Α,
–Δ–Ψ –Ω―É―¹―²―¨ –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Ζ–Α ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β –Ψ―¹―É–¥–Η―².–Δ–Β―΅–Β―², –Κ–Α–Κ –≤―Ä–Β–Φ―è, –Ϋ–Β–≤―¹–Κ–Α―è –≤–Ψ–¥–Α,
–ù–Β –≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Α–Φ ―¹―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Ψ ―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –≥–Β―Ä–Ψ–Β–Φ,
–ù–Ψ –≤ ―²–Β―Ö –≥–Ψ–¥–Α―Ö ―é–Ϋ―΄ –Φ―΄ –Ϋ–Α–≤―¹–Β–≥–¥–Α,
–£―¹―²–Α–Β–Φ ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Ω–Ψ―Ä–Β–¥–Β–≤―à–Η–Φ ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Φ.26 –Φ–Α―è 2014 –≥.
28.05.201400:3628.05.2014 00:36:36
0
28.05.201400:3228.05.2014 00:32:48
 25 –Φ–Α―è –≤ –ö–Ψ―¹–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ –Κ–Μ―É–±–Β ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β ―¹–Ω―É―¹–Κ–Α –±–Ψ―²–Η–Κ–Α –ü–Β―²―Ä–Α –ü–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α –≤–Ψ–¥―É. –ü–Ψ–¥ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ―Ä–Α –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Α –€–Η―Ö–Α–Η–Μ–Α –®–Α–¥―Ä–Η–Ϋ–Α ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ―¹―è –¥–Β–Ϋ―¨ –Ψ―²–¥―΄―Ö–Α –Η ―Ä–Α–Ζ–≤–Μ–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Ι ―É –≤–Ψ–¥―΄. –£ 12.00 ―΅–Α―¹–Ψ–≤ ―¹–Ψ ―¹―²–Α–Ω–Β–Μ―è –±―΄–Μ ―¹–Ω―É―â–Β–Ϋ –±–Ψ―²–Η–Κ –ü–Β―²―Ä–Α –ü–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α –≤–Ψ–¥―É. –ü–Ψ–¥ –≥―Ä–Ψ–Φ –Ω―É―à–Β–Κ –Η –Α–Ω–Μ–Ψ–¥–Η―¹–Φ–Β–Ϋ―²―΄. –Γ–Α–Φ –‰–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä –ü―ë―²―Ä –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅ ―¹ –ï–Κ–Α―²–Β―Ä–Η–Ϋ–Ψ–Ι –Η –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α―à–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ―¹–Β―²–Η–Μ–Η –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β. 25 –Φ–Α―è –≤ –ö–Ψ―¹–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ –Κ–Μ―É–±–Β ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β ―¹–Ω―É―¹–Κ–Α –±–Ψ―²–Η–Κ–Α –ü–Β―²―Ä–Α –ü–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α –≤–Ψ–¥―É. –ü–Ψ–¥ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ―Ä–Α –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Α –€–Η―Ö–Α–Η–Μ–Α –®–Α–¥―Ä–Η–Ϋ–Α ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ―¹―è –¥–Β–Ϋ―¨ –Ψ―²–¥―΄―Ö–Α –Η ―Ä–Α–Ζ–≤–Μ–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Ι ―É –≤–Ψ–¥―΄. –£ 12.00 ―΅–Α―¹–Ψ–≤ ―¹–Ψ ―¹―²–Α–Ω–Β–Μ―è –±―΄–Μ ―¹–Ω―É―â–Β–Ϋ –±–Ψ―²–Η–Κ –ü–Β―²―Ä–Α –ü–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α –≤–Ψ–¥―É. –ü–Ψ–¥ –≥―Ä–Ψ–Φ –Ω―É―à–Β–Κ –Η –Α–Ω–Μ–Ψ–¥–Η―¹–Φ–Β–Ϋ―²―΄. –Γ–Α–Φ –‰–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä –ü―ë―²―Ä –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅ ―¹ –ï–Κ–Α―²–Β―Ä–Η–Ϋ–Ψ–Ι –Η –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α―à–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ―¹–Β―²–Η–Μ–Η –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β.
–£ –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ–Η ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–Κ―²–Η–≤―΄, –Α–Κ―Ä–Ψ–±–Α―²―΄, ―²–Α–Ϋ―Ü–Β–≤–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–Κ―²–Η–≤.
–Γ–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ–Η―¹―¨ ―¹–Ψ―Ä–Β–≤–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ –≥―Ä–Β–±–Μ–Β –Ϋ–Α ―è–Μ–Α―Ö, ―¹–¥–Α–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Ψ―Ä–Φ―΄ –™–Δ–û –¥–Β―²―¨–Φ–Η –Η –≤–Ζ―Ä–Ψ―¹–Μ―΄–Φ–Η. –ü–Ψ–±–Β–¥–Η―²–Β–Μ–Η –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Η –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥―΄.
–•–Β–Μ–Α―é―â–Η–Β ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Ω–Ψ–¥ –Ω–Α―Ä―É―¹–Ψ–Φ –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö, –Ϋ–Α –¥–Ψ―¹–Κ–Α―Ö –Ω–Ψ–¥ –Ω–Α―Ä―É―¹–Ψ–Φ. –ë―΄–Μ–Η –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ―΄ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β –≤–Η–¥―΄ –Ω―Ä–Ψ–≥―É–Μ–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö –Κ–Α―²–Β―Ä–Ψ–≤ –Ϋ–Α ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Η―΅–Β―¹―²–≤–Β.
–ö―É–Ω–Α–Ϋ–Η–Β –≤ ―΅–Η―¹―²–Β–Ι―à–Β–Ι –Φ–Α–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Ψ–¥–Β (―²–Β–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Α –≤–Ψ–¥―΄ +25 –≥―Ä–Α–¥―É―¹–Ψ–≤). –ü–Ψ–Μ–Β–≤–Α―è –Κ―É―Ö–Ϋ―è –Ϋ–Α–Κ–Ψ―Ä–Φ–Η–Μ–Α –Κ–Α―à–Β–Ι –Η –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Η–Μ–Α ―΅–Α–Β–Φ. –™–Ψ―¹―²–Η –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Η ―à–Α―à–Μ―΄–Κ–Η –Η –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η ―¹–Ψ–Μ–Ϋ–Β―΅–Ϋ―΄–Β –≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄. –ë―΄–Μ–Α –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Α –Η–Κ–Ψ–Ϋ–Α ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –£–€–Λ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η, –Ω―Ä–Β–¥–Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –¥–Μ―è –Ω–Ψ–¥–Α―Ä–Κ–Α –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥―¹–Κ–Ψ–Φ―É –ù–£–€–Θ.
–Γ―É–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤―Ü―΄ –Η –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü―΄ ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η –Ε―ë–Ϋ–Α–Φ–Η, –¥–Β―²―¨–Φ–Η –Η –≤–Ϋ―É–Κ–Α–Φ–Η –Η –¥―Ä―É–Ζ―¨―è–Φ–Η, –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä―è ―Ä–Α–¥―É―à–Η―é ―Ö–Ψ–Ζ―è–Η–Ϋ–Α, ―¹ 10.00 ―΅–Α―¹–Ψ–≤ –¥–Ψ 19.00 ―΅–Α―¹–Ψ–≤ –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ –Ψ―²–¥―΄―Ö–Α–Μ–Η ―É –≤–Ψ–¥―΄. –™–Ψ―¹―²–Β–Ι –±―΄–Μ–Ψ –±–Ψ–Μ–Β–Β 200 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ. –†–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Ψ –Κ–Α―³–Β. –Γ ―É–≤–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ, –ö―É–Μ–¥―΄–Κ–Η–Ϋ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä.
28.05.201400:3228.05.2014 00:32:48
0
28.05.201400:2428.05.2014 00:24:53
 –£ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β-―¹―²–Ψ–Μ–Η―Ü–Β –Ψ–Ϋ ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è, –Η –¥–Β―²―¹―²–≤–Ψ –≤ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–Μ. –£ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β-―¹―²–Ψ–Μ–Η―Ü–Β –Ψ–Ϋ ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è, –Η –¥–Β―²―¹―²–≤–Ψ –≤ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–Μ.
–ö–Ψ–≥–¥–Α –Ε–Β –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Α βÄ™ –≤ –Κ–Ψ–Μ―Ö–Ψ–Ζ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ―à–Β–Μ.
–Δ―Ä―É–¥–Η–Μ―¹―è ―΅–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, –±–Β―¹–Κ–Ψ―Ä―΄―¹―²–Ϋ–Ψ, –Κ–Α–Κ –≤―¹–Β –Ω–Ψ–±–Β–¥―É –Ω―Ä–Η–±–Μ–Η–Ε–Α–Μ.
–£–Β―¹―¨ –¥–Β–Ϋ―¨ –±–Β–Ζ ―É―¹―²–Α–Μ–Η ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ, –Α –Ϋ–Ψ―΅―¨―é βÄ™ –Κ–Ϋ–Η–≥–Η –Η–Ζ―É―΅–Α–Μ.–†–Β―à–Η–Μ ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ ―¹―²–Α―²―¨ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ, ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―É ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―É―é –Ζ–Α―â–Η―â–Α―²―¨.
–£ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²―΄ –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ―à–Β–Μ ―É―΅–Η―²―¨―¹―è, ―΅―²–Ψ–± –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Α ―¹―²–Α―²―¨.
–£ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Α―Ö –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Η―¹―è–≥―É –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ –Ϋ–Α –≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –†–Ψ–¥–Η–Ϋ–Β ―¹–≤–Ψ–Β–Ι,
–™―Ä―΄–Ζ―è –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―² –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Α―É–Κ–Η, –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ –¥–Β–Μ–Ψ–Φ –Ζ–Α–±–Ψ–Μ–Β–Μ.–½–Α―²–Β–Φ –≤ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Ω–Ψ–¥–Ω–Μ–Α–≤–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤ –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Η–Μ,
–Δ–Α–Φ –¥–Ψ–±―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ ―É―΅–Η–Μ―¹―è, –¥–Η–Ω–Μ–Ψ–Φ –¥–Ψ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ.
–ù–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ –±―΄–Μ –Ψ–Ϋ –Ϋ–Α –ß–Λ, –≥–¥–Β –Ψ–Ω―΄―² ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Ω―Ä–Η–Ψ–±―Ä–Β–Μ,
–½–Α―²–Β–Φ –Ϋ–Α –Δ–û–Λ –Η –Ϋ–Α –Γ–Λ –Ω–Ψ–Ζ–¥–Ϋ–Β–Β –±―΄–Μ –Ω–Β―Ä–Β–≤–Β–¥–Β–Ϋ.–£―¹–Β–≥–¥–Α –Ϋ–Α ―³–Μ–Ψ―²–Β –Ψ–Ϋ ―¹―²–Α―Ä–Α–Μ―¹―è, –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Β –¥–Β–Μ–Ψ –Η–Ζ―É―΅–Α–Μ,
–£ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α―Ö –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Η―Ö ―¹–Α–Φ ―É―΅–Η–Μ―¹―è –Η –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ψ–±―É―΅–Α–Μ.
–‰ –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ –Ψ–Ϋ, ―΅―²–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Ι –Φ–Α–Μ–Ψ –Η –≤ –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η―é –Ω―Ä–Η―à–Β–Μ,
–ü–Ψ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η–Η –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ψ–Ω―è―²―¨ –Ϋ–Α ―¹–Β–≤–Β―Ä –Ψ–Ϋ ―É―à–Β–Μ.–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ –Α―²–Ψ–Φ–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ, –≤―¹–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ,
–£ ―É―΅–Β–Ϋ―¨―è―Ö, ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–±–Α―Ö –Η –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α―Ö –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ.
–ö–Ψ–≥–¥–Α –Ε–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω–Ψ–¥–Ψ―à–Μ–Ψ, ―²–Ψ –≤ ―à―²–Α–± –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–Μ–Η –Β–≥–Ψ,
–™–¥–Β ―³–Μ–Ψ―²–Α –±–Ψ–Β–≤―É―é –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ―É –≤―¹―é –≤–Ψ–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Η –Ϋ–Α –Ϋ–Β–≥–Ψ.–†–Α–±–Ψ―²–Α –≤ ―à―²–Α–±–Β –Ϋ–Β –Η–Ζ –Μ–Β–≥–Κ–Η―Ö –Η ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Α –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Η–Μ,
–û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ ―²―è–≥–Ψ―²―΄ ―¹–Β–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Ψ–Ϋ ―¹ ―΅–Β―¹―²―¨―é –≤―¹–Β –Ω–Β―Ä–Β–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ,
–½–Α ―Ä–Α―²–Ϋ―É―é ―¹–≤–Ψ―é ―Ä–Α–±–Ψ―²―É –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ
–‰ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α –Ϋ–Α –°–≥–Ψ-–Ζ–Α–Ω–Α–¥ –Ψ–Ϋ –Ψ―²–±―΄–Μ.–Δ–Α–Φ ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η―Ö ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–≤ –Β–Φ―É –Ψ―²–¥–Α–Μ–Η –Ω–Ψ–¥ –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ―¨,
–£ –Κ–Ψ–Ψ―Ä–¥–Η–Ϋ–Α―Ü–Η–Η –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Η ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ–Α –Β–≥–Ψ ―Ä–Ψ–Μ―¨.
–Γ–Μ―É–Ε–Α –Ϋ–Α ―é–≥–Β, –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ ―É―΅–Η–Μ―¹―è –Η –£–ê–™–® –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ –Ψ–Ϋ,
–‰ –≤―¹–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ζ–Ϋ–Α–Ϋ―¨―è –Ϋ–Α ―¹–Μ―É–Ε–±–Β –Ω―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ―è–Μ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ.–ü―Ä–Η―à–Μ–Α ―ç–Ω–Ψ―Ö–Α –Ω–Β―Ä–Β―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ–Η –Η –°–≥–Ψ-–Ζ–Α–Ω–Α–¥ ―¹–Ψ–Κ―Ä–Α―â–Β–Ϋ
–ù–Β –¥–Ψ–Μ–≥–Η–Φ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ―¨–Β βÄ™ –≤ –Γ–Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤―΄–Ι –±–Ψ―Ä –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ –Ψ–Ϋ.
–£ –±–Ψ―Ä―É –Γ–Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Φ –Θ―΅–Β–±–Ϋ―΄–Φ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Ψ–Φ ―¹―²–Α–Μ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²―¨,
–™–¥–Β –≤ ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Η–Β ―¹ –Θ―¹―²–Α–≤–Ψ–Φ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Ψ–Κ ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Η–Ι –Ϋ–Α–≤–Ψ–¥–Η―²―¨.–†―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―è –Θ―΅–Β–±–Ϋ―΄–Φ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Ψ–Φ, –≤ –Ϋ–Α―É–Κ―É ―¹–Φ–Β–Μ–Ψ –Ψ–Ϋ –≤–Ψ―à–Β–Μ,
–£ –Ϋ–Β–Ι –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ζ–Α―â–Η―²―΄ –Κ–Α–Ϋ–¥–Η–¥–Α―²―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–≤–Ψ–Β –Ω―Ä–Η–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α―à–Β–Μ.
–ë–Ψ–≥–Α―²―¹―²–≤ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η―Ö –Ϋ–Α ―¹–Μ―É–Ε–±–Β –Ϋ–Β ―¹–Κ–Ψ–Ω–Η–Μ, –Ζ–Α―²–Ψ –±―É–Κ–Β―² –±–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Β–Ι –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ.–Δ–Α–Κ –Ω―Ä–Ψ–Μ–Β―²–Β–Μ–Α –Β–≥–Ψ ―¹–Μ―É–Ε–±–Α, –Η ―¹–Ψ―Ä–Ψ–Κ –¥–≤–Α –Κ–Α–Μ–Β–Ϋ–¥–Α―Ä―è,
–ù–Ψ ―ç―²–Ψ―² –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ –±―΄–Μ –Ω―Ä–Ψ–Ε–Η―² –Η–Φ ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Β –Ζ―Ä―è.
–Θ–Ι–¥―è –≤ –Ζ–Α–Ω–Α―¹, –Ψ–Ϋ –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ ―²―Ä―É–¥–Η–Μ―¹―è, –Η –≤ –£–€–ê –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α–Μ,
–™–¥–Β ―¹–≤–Ψ–Ι –≥―Ä–Ψ–Φ–Α–¥–Ϋ―΄–Ι –Ψ–Ω―΄―² ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–≤–Α–Μ.–£ ―²―Ä―É–¥–Α―Ö –Η ―¹―²–Α―Ä–Ψ―¹―²―¨ –Ω–Ψ–¥–Ψ―à–Μ–ΑβÄΠ–Η –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Α ―¹–Μ–Β–Ω–Ψ―²–Α,
–ù–Ψ –Ψ–Ϋ –Ω–Α―¹―¹–Η–≤–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–≤―΄–Κ ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ βÄ™
–•–Β–Ϋ–Β ―¹―²–Α―²―¨–Η –Η –Κ–Ϋ–Η–≥–Η ―¹―²–Α–Μ –Ψ–Ϋ –¥–Η–Κ―²–Ψ–≤–Α―²―¨.
–†―É–Κ–Ψ–Ι –Ε–Β–Ϋ―΄ ―²―Ä―É–¥―΄ –Ψ–Ϋ –Ω–Η―à–Β―², –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ζ–Α ―¹–≤–Ψ–Ι –Ε–Β ―¹―΅–Β―² –Η –Η–Ζ–¥–Α–Β―².–£–Ψ –≤―¹–Β―Ö ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―¹―²–Α―²―¨―è―Ö –Η –Κ–Ϋ–Η–≥–Α―Ö –Ψ–Ϋ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Ψ–Ω―΄―² ―¹–≤–Ψ–Ι –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–Β―².
–ü―É―¹―²―¨ ―¹–Η–Μ―΄ –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Κ–Η–¥–Α―é―² –£–Α―¹
–‰ –£–Α―à–Α –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –≤―¹–Β–≥–¥–Α –±―΄–Μ–Α –± –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Ι, –Κ–Α–Κ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹.
–Γ―É–¥―¨–±–Α –Β–≥–Ψ –¥–Μ―è –≤―¹–Β―Ö –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –Ψ–Ϋ –Ω–Α―²―Ä–Η–Ψ―², –Ψ–Ϋ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä.–Γ ―É–≤–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ, ―¹–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η–≤―Ü―΄ –Ω–Ψ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η.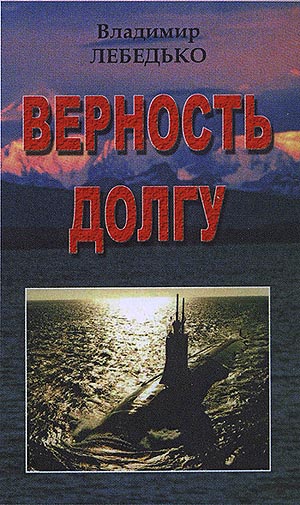 –¦–ï–ë–ï–î–§–ö–û –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –™–Β–Ψ―Ä–≥–Η–Β–≤–Η―΅ –¦–ï–ë–ï–î–§–ö–û –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –™–Β–Ψ―Ä–≥–Η–Β–≤–Η―΅
–†–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è 15 –Φ–Α―Ä―²–Α 1932 –≥.
–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –£–€–Λ, ―É―΅–Β–Ϋ―΄–Ι, –Ω–Β–¥–Α–≥–Ψ–≥, –Μ–Η―²–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä, –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ (8.5.1980). –†–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –≤ –≥.–€–Ψ―¹–Κ–≤–Β, ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–Ι, –≤ –£–€–Γ ―¹ 1949 –≥. –£ 1953 –≥. –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ 1-–Β –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Β –£–£–€–Θ, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ–Ψ–Ι –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄, –Ζ–Α―²–Β–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä
–ë–ß-2,3 –ü–¦ ¬Ϊ–Γ-68¬Μ –Ω―Ä. 613 153-–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α. –Θ―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ –≤ –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η―è―Ö ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥―΄ –Γ–ê–≠–Δ-50. –Γ –Η―é–Ϋ―è 1954–≥. –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –ü–¦ ¬Ϊ–Γ-91¬Μ, ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Η–Μ –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥ –Ω–Ψ –≤–Ϋ―É―²―Ä. –≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ –Ω―É―²―è–Φ –Η–Ζ –Γ–Β–≤–Α―¹―²–Ψ–Ω–Ψ–Μ―è –≤ –ü–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ―΄–Ι. –£ 1955 –≥. –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Β –½–û–ù ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Η–Μ –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥ –Ω–Ψ –Γ–€–ü ―¹ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α –≤ –≥. –ü–Β―²―Ä–Ψ–Ω–Α–≤–Μ–Ψ–≤―¹–Κ-–ö–Α–Φ―΅–Α―²―¹–Κ–Η–Ι. –£ 1959 –≥. ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ –≤ –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α―΅–Β –ü–¦ ¬Ϊ–Γ-91¬Μ –Η ¬Ϊ–Γ-79¬Μ –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Γ–Η–Μ –‰–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ–Β–Ζ–Η–Η. –£ –Η―é–Μ–Β 1960–≥. –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ –£–Γ–û–ö –£–€–Λ, ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –ü–¦ –Ω―Ä. 629. –Γ –Φ–Α―è 1962 –≥. –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ü–¦–ê–†–ë ¬Ϊ–ö-153¬Μ 18-–Ι –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –ü–¦ 12-–Ι ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α. –Θ―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ –≤ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Η―Ö –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α―Ö, –≤ ―².―΅. –Κ –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨―é –Γ–®–ê. –Γ –Α–≤–≥―É―¹―²–Α 1968 –≥., –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η―è –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η, –Κ–Ψ–Φ-―Ä –ü–¦–ê–†–ë ¬Ϊ–ö-33¬Μ –Ω―Ä. 658 12-–Ι ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä―΄ –ü–¦ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α. –£ –Η―é–Μ–Β 1969 –≥. –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ–Β–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α 18-–Ι –î–Η–ü–¦ –Γ–Λ. –Γ –Η―é–Ϋ―è 1970 –≥. –Ζ–Α–Φ. –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –Ψ―²–¥–Β–Μ–Α –Θ–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –ë–ü, ―¹ –Φ–Α―Ä―²–Α 1972 –≥. - –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ 1-–≥–Ψ –Ψ―²–¥–Β–Μ–Α –û–Θ ―à―²–Α–±–Α –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α. –Γ –Φ–Α―è 1975 –≥. –Ζ–Α–Φ. –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α ―à―²–Α–±–Α –Γ–Λ –Ω–Ψ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Φ―É ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―é - –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ―΄–Ι –¥–Β–Ε―É―Ä–Ϋ―΄–Ι –Γ–Λ. –Γ –Ϋ–Ψ―è–±―Ä―è 1978 –≥. –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –Θ–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η ―à―²–Α–±–Α –Γ–Λ. –£ ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä–Β 1979 –≥. –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ 149-–≥–Ψ –ö–ü ―à―²–Α–±–Α –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α, –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –Ζ–Α 20 –Μ–Β―² ―à―²–Α–± –Γ–Λ –Ω–Ψ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Κ―É ¬Ϊ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ¬Μ. –£ –Η―é–Μ–Β 1980 –≥. –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –û–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è ―à―²–Α–±–Α –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α. –£ 1984 –≥. –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ –£–ê–ö ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―è―â–Β–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –£–Γ –Γ–Γ–Γ–†. –Γ –Ψ–Κ―²―è–±―Ä―è 1984–≥. –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―¨ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α ―à―²–Α–±–Α –≤–Ψ–Ι―¹–Κ –°–≥–Ψ-–½–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è - –Ϋ–Α―΅. –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è. –£ 1986 –≥. –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ –£–ê–™–® –£–Γ –Γ–Γ–Γ–† –Η–Φ–Β–Ϋ–Η –ö. –ï. –£–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Μ–Ψ–≤–Α. –£ –Α–≤–≥―É―¹―²–Β 1988 –≥. –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Θ―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α –£–€–Λ, –≥. –Γ–Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤―΄–Ι –ë–Ψ―Ä –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±–Μ. –Γ ―è–Ϋ–≤–Α―Ä―è 1991 –≥. –≤ –Ζ–Α–Ω–Α―¹–Β; –Ϋ–Α –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –Η –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²–Β –≤ –£–€–ê –Η–Φ–Β–Ϋ–Η –ù. –™. –ö―É–Ζ–Ϋ–Β―Ü–Ψ–≤–Α. –ö–Α–Ϋ–¥–Η–¥–Α―² –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α―É–Κ (1990), –¥–Ψ―Ü–Β–Ϋ―² (1993), –Ω–Ψ―΅–Β―²–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ–Η–Κ. –ê–≤―²–Ψ―Ä –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ 200 ―²―Ä―É–¥–Ψ–≤ –Η ―Ä–Α–±–Ψ―², –≤ ―².―΅. –Κ–Ϋ–Η–≥ ¬Ϊ–ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι ―³―Ä–Ψ–Ϋ―² ¬Ϊ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄¬Μ (2002). –ù–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Α–Φ–Η –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ι –½–≤–Β–Ζ–¥―΄ (1982), ¬Ϊ–½–Α ―¹–Μ―É–Ε–±―É –†–Ψ–¥–Η–Ϋ–Β –≤ –£–Γ –Γ–Γ–Γ–†¬Μ II ―¹―². (1988 , III ―¹―². (1975), –€―É–Ε–Β―¹―²–≤–Α (1997), –Φ–Β–¥–Α–Μ―è–Φ–Η, –ü–Ψ―΅―ë―²–Ϋ―΄–Φ –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Η―²–Β―²–Α –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ–Ψ–≤ –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄. - –ù–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –£.–™.–¦–Β–±–Β–¥―¨–Κ–Ψ
-
28.05.201400:2428.05.2014 00:24:53
0
28.05.201400:1728.05.2014 00:17:22
–ü–†–‰–ö–ê–½ –ü–û –½–ê–£–û–î–Θ –Γ–Μ–Ψ–≤–Α ―¹–≤–Ψ–¥–Ψ–Κ –Ζ–≤―É―΅–Α–Μ–Η ―²―Ä–Β–≤–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, ―É–≥―Ä–Ψ–Ε–Α―é―â–Β.
–Δ―è–Ε–Β–Μ―΄–Β –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –±–Ψ–Η... –ù–Α –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Η―Ö –Ω–Ψ–¥―¹―²―É–Ω–Α―Ö... –ù–Α –±–Μ–Η–Ε–Ϋ–Η―Ö... –ù–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è ―É–≥―Ä–Ψ–Ζ–Α –Ϋ–Α–Ω–Α–¥–Β–Ϋ–Η―è... ! –£―Ä–Α–≥ ―É –≤–Ψ―Ä–Ψ―²! –ù–Α ―¹―²–Β–Ϋ–Α―Ö –Η ―²―É–Φ–±–Α―Ö-–Α―³–Η―à–Ϋ–Η―Ü–Α―Ö ―Ä–Α―¹–Κ–Μ–Β–Β–Ϋ–Ψ –≤–Ψ–Ζ–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β, –Ψ–±―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Β ¬Ϊ–ö–Ψ –≤―¹–Β–Φ ―²―Ä―É–¥―è―â–Η–Φ―¹―è –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–Α!¬Μ, –Ω–Ψ–¥–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –£–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Μ–Ψ–≤―΄–Φ, –•–¥–Α–Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ –Η –ü–Ψ–Ω–Κ–Ψ–≤―΄–Φ. –û–±―ä―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Α –≤―¹–Β–Ψ–±―â–Α―è –Φ–Ψ–±–Η–Μ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―è, –Ζ–≤―É―΅–Η―² –Ω―Ä–Η–Ζ―΄–≤ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β –Ψ―²―Ä―è–¥―΄ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Ω–Ψ–Μ―΅–Β–Ϋ–Η―è, ―É–≤–Β–Μ–Η―΅–Η–≤–Α―²―¨ –≤―΄–Ω―É―¹–Κ –Ψ―Ä―É–Ε–Η―è. –€―΄ –Ϋ–Η –Ϋ–Α –Φ–Η–Ϋ―É―²―É –Ϋ–Β –Ζ–Α–±―΄–≤–Α–Β–Φ ―¹–Μ–Ψ–≤: –±–¥–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨... –£―Ä–Α–≥ ―É –≤–Ψ―Ä–Ψ―²! –ù–Α ―¹―²–Β–Ϋ–Α―Ö –Η ―²―É–Φ–±–Α―Ö-–Α―³–Η―à–Ϋ–Η―Ü–Α―Ö ―Ä–Α―¹–Κ–Μ–Β–Β–Ϋ–Ψ –≤–Ψ–Ζ–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β, –Ψ–±―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Β ¬Ϊ–ö–Ψ –≤―¹–Β–Φ ―²―Ä―É–¥―è―â–Η–Φ―¹―è –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–Α!¬Μ, –Ω–Ψ–¥–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –£–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Μ–Ψ–≤―΄–Φ, –•–¥–Α–Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ –Η –ü–Ψ–Ω–Κ–Ψ–≤―΄–Φ. –û–±―ä―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Α –≤―¹–Β–Ψ–±―â–Α―è –Φ–Ψ–±–Η–Μ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―è, –Ζ–≤―É―΅–Η―² –Ω―Ä–Η–Ζ―΄–≤ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β –Ψ―²―Ä―è–¥―΄ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Ω–Ψ–Μ―΅–Β–Ϋ–Η―è, ―É–≤–Β–Μ–Η―΅–Η–≤–Α―²―¨ –≤―΄–Ω―É―¹–Κ –Ψ―Ä―É–Ε–Η―è. –€―΄ –Ϋ–Η –Ϋ–Α –Φ–Η–Ϋ―É―²―É –Ϋ–Β –Ζ–Α–±―΄–≤–Α–Β–Φ ―¹–Μ–Ψ–≤: –±–¥–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨...
–ß―²–Ψ–±―΄ –Ω–Ψ–Ϋ―è―²―¨ –Η –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Η―²―¨ –≤―¹–Β –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―à–Β–¥―à–Β–Β, –Ϋ–Α–¥–Ψ –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¨: –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Ψ–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ζ–Α–¥–Α―΅–Β–Ι –≤ –Ω–Ψ–Μ―²–Ψ―Ä―΄-–¥–≤–Β –Ϋ–Β–¥–Β–Μ–Η –Ζ–Α―Ö–≤–Α―²–Η―²―¨ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥. –Λ–Α―à–Η―¹―²―΄ ―¹–Ψ―¹―Ä–Β–¥–Ψ―²–Ψ―΅–Η–Μ–Η –Ζ–¥–Β―¹―¨ –±–Ψ–Μ―¨―à―É―é ―΅–Α―¹―²―¨ –≤–Ψ–Ι―¹–Κ, –Ω–Ψ–¥―²―è–Ϋ―É―²―΄―Ö –Κ ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–Ι –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü–Β. –ù–Α ―à―²―É―Ä–Φ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –±―΄–Μ–Η –±―Ä–Ψ―à–Β–Ϋ―΄ 43 –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η, –±–Ψ–Μ–Β–Β 700 ―²―΄―¹―è―΅ ―¹–Ψ–Μ–¥–Α―² –Η –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤. –Γ―²―è–≥–Η–≤–Α―è –Κ–Ψ–Μ―¨―Ü–Ψ, –Κ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―É –¥–≤–Η–≥–Α–Μ–Α―¹―¨ –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α ¬Ϊ–ù–Ψ―Ä–¥¬Μ, –¥–≤–Β –Α―Ä–Φ–Η–Η, 4-―è ―²–Α–Ϋ–Κ–Ψ–≤–Α―è –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α, –≤–Ψ–Ζ–¥―É―à–Ϋ―΄–Ι ―³–Μ–Ψ―²... –½–Ϋ–Α―è ―¹–≤–Ψ–Ι –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Ϋ―΄–Ι –Ω–Β―Ä–Β–≤–Β―¹ –≤ ―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≤–Ψ–Ι―¹–Κ, ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Β, –Ϋ–Β–Φ―Ü―΄ ―É–Ε–Β –Ϋ–Β ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Ω–Ψ–±–Β–¥–Β. –û–Ϋ–Η –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–Μ–Η ―¹―Ä–Ψ–Κ –Ω–Α―Ä–Α–¥–Α –Ϋ–Α –î–≤–Ψ―Ä―Ü–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Η, –Ζ–Α–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Η –±–Η–Μ–Β―²―΄ –Ϋ–Α –±–Α–Ϋ–Κ–Β―² –≤ ¬Ϊ–ê―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η¬Μ –Ζ–Α –Ω–Ψ–¥–Ω–Η―¹―¨―é ¬Ϊ–Κ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–¥–Α–Ϋ―² –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Α¬Μ.
–£ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Η–≤–Β –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α–Φ –™–Η―²–Μ–Β―Ä –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Η―¹―΄–≤–Α–Μ ―¹―²–Β―Ä–Β―²―¨ ―¹ –Μ–Η―Ü–Α –Ζ–Β–Φ–Μ–Η ―ç―²–Ψ―² ¬Ϊ–Ϋ–Α―¹–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω―É–Ϋ–Κ―²¬Μ βÄî ―²–Α–Κ –Ψ–Ϋ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥.
3 –Η―é–Μ―è –≥–Η―²–Μ–Β―Ä–Ψ–≤―Ü―΄ –≤―²–Ψ―Ä–≥–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―΄ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±–Μ–Α―¹―²–Η, 13 –Η―é–Μ―è –≤―΄―à–Μ–Η –Ϋ–Α ―Ä―É–±–Β–Ε –¦―É–≥–Η, –Ϋ–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ 20 –Α–≤–≥―É―¹―²–Α βÄî –Ω–Ψ–Μ―²–Ψ―Ä–Α –Φ–Β―¹―è―Ü–Α ―¹–Ω―É―¹―²―è βÄî ―Ü–Β–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ―²–Β―Ä―¨ ―¹–Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Φ–Η–Ϋ–Ψ–≤–Α―²―¨ ―ç―²–Ψ―² ―Ä―É–±–Β–Ε, –Ψ–±–Ψ–Ι―²–Η ―΅–Α―¹―²–Η –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–Ι –ê―Ä–Φ–Η–Η –Η –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Ω–Ψ–Μ―΅–Β–Ϋ–Η―è.
–Γ ―É–Μ―é–Μ―é–Κ–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Κ–Α―²–Η–Μ–Α―¹―¨ –Η –Φ―΅–Α–Μ–Α―¹―¨ ―³–Α―à–Η―¹―²―¹–Κ–Α―è –Α―Ä–Φ–Η―è. –ê―²–Α–Κ–Η ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Α–Μ–Η―¹―¨ ―²–Β–Α―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η ―ç―³―³–Β–Κ―²–Α–Φ–Η: –≤–Ζ–Μ–Β―²–Α–Μ–Η ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ―Ü–≤–Β―²–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α–Κ–Β―²―΄, –≥―Ä–Ψ–Φ–Κ–Ψ –Ζ–≤―É―΅–Α–Μ–Η ―³–Α–Ϋ―³–Α―Ä―΄, –≤―΄–Μ–Η ―¹–Η―Ä–Β–Ϋ―΄. –™–¥–Β, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤–Η–¥–Β–Μ ―è ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ–Β? –ü–Α–Φ―è―²―¨ –Η―¹–Κ–Α–Μ–Α –Η –Ϋ–Α―à–Μ–Α βÄî –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Α―è –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Α, –Ω―¹–Η―Ö–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è –Α―²–Α–Κ–Α –Κ–Α–Ω–Ω–Β–Μ–Β–≤―Ü–Β–≤.
–ù–Α–¥ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ψ–Φ –Μ–Β―²–Α–Μ–Η –Μ–Η―¹―²–Ψ–≤–Κ–Η: ¬Ϊ–ï―¹–Μ–Η –≤―΄ –¥―É–Φ–Α–Β―²–Β, ―΅―²–Ψ ―¹–Φ–Ψ–Ε–Β―²–Β –Ζ–Α―â–Η―²–Η―²―¨ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥, –≤―΄ –Ψ―à–Η–±–Α–Β―²–Β―¹―¨. –Γ–Ψ–Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Μ―è―è―¹―¨ –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η–Φ –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α–Φ, –≤―΄ –Ω–Ψ–≥–Η–±–Ϋ–Β―²–Β –Ω–Ψ–¥ ―Ä–Α–Ζ–≤–Α–Μ–Η–Ϋ–Α–Φ–Η –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Α, –Ω–Ψ–¥ ―É―Ä–Α–≥–Α–Ϋ–Ψ–Φ –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η―Ö –±–Ψ–Φ–± –Η ―¹–Ϋ–Α―Ä―è–¥–Ψ–≤. –€―΄ ―¹―Ä–Α–≤–Ϋ―è–Β–Φ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥ ―¹ –Ζ–Β–Φ–Μ–Β–Ι, –Α –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―² ―¹ –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι¬Μ. –¦–Η―¹―²–Ψ–≤–Κ–Η –Μ–Β–Ε–Α–Μ–Η –≤ –Ω–Ψ–Μ–Β, –Ω–Α–¥–Α–Μ–Η –Ϋ–Α ―É–Μ–Η―Ü―΄.
–‰ –≤–Ψ―²...
–≠―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –¥–Ϋ–Β–Φ 31 –Α–≤–≥―É―¹―²–Α. –£ 13 ―΅–Α―¹–Ψ–≤ 45 –Φ–Η–Ϋ―É―² –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤―΄–Β –±–Α―²–Α―Ä–Β–Η –Κ―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²―¹–Κ–Η―Ö ―³–Ψ―Ä―²–Ψ–≤ –Η ―³–Ψ―Ä―²–Ψ–≤ ―é–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±–Β―Ä–Β–≥–Α –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α –Ω–Ψ–≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Η –Ε–Β―Ä–Μ–Α ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–±–Ψ–Ι–Ϋ―΄―Ö –Ψ―Ä―É–¥–Η–Ι ―¹ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Α –≤ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―É ―¹―É―Ö–Ψ–Ω―É―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Α. –ù–Α –±–Ψ–Β–≤―΄–Β –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Η –≤―¹―²–Α–Μ–Η, –Ζ–Α–Ϋ―è–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Ι ―Ä―É–±–Β–Ε –Μ–Η–Ϋ–Β–Ι–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η ¬Ϊ–û–Κ―²―è–±―Ä―¨―¹–Κ–Α―è ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η―è¬Μ, ¬Ϊ–€–Α―Ä–Α―²¬Μ, –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä―΄ ¬Ϊ–ö–Η―Ä–Ψ–≤¬Μ, ¬Ϊ–€–Α–Κ―¹–Η–Φ –™–Ψ―Ä―¨–Κ–Η–Ι¬Μ, ¬Ϊ–ü–Β―²―Ä–Ψ–Ω–Α–≤–Μ–Ψ–≤―¹–Κ¬Μ, –Μ–Η–¥–Β―Ä―΄ ¬Ϊ–¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥¬Μ –Η ¬Ϊ–€–Η–Ϋ―¹–Κ¬Μ. –Δ―è–Ε–Β–Μ–Α―è –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Α―è –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η―è –¥–Α–Μ–Α ―¹–≤–Ψ–Ι –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –Ζ–Α–Μ–Ω –Ω–Ψ –≥–Η―²–Μ–Β―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Φ –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α–Φ.
–≠―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Α–≤–¥–Ψ–Ι –Ϋ–Α―à–Β–Ι –±–Ψ―Ä―¨–±―΄. –ù–Α –Ζ–Α―â–Η―²―É –Κ–Ψ–Μ―΄–±–Β–Μ–Η –û–Κ―²―è–±―Ä―è –≤―¹―²–Α–Μ–Ψ –≤―¹–Β: –Η –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α, –Η –Μ―é–¥–Η, –Η ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è βÄî –≤―¹–Β ―¹–Α–Φ–Ψ–Β ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Η –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Β, –≤―¹―²–Α–Μ–Α ―¹–Α–Φ–Α –†–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η―è. –Γ ―²–Β―Ö –Ω–Ψ―Ä –≤―¹―é –Ψ―¹–Α–¥―É –¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―² –Ψ–≥–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―â–Η―² –Ϋ–Α–¥ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ψ–Φ –Η –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄–≤–Α–Μ –Ζ–Α―â–Η―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Β–≥–Ψ. –Γ–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α―é―â–Β–Β –Κ–Ψ–Μ―¨―Ü–Ψ –Φ–Ψ–≥―É―΅–Β–≥–Ψ ―¹–Φ–Β―Ä―²–Ψ–Ϋ–Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–≥–Ϋ―è, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –Ψ–Ω–Ψ―è―¹–Α–Μ –Ψ–Ϋ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥, –Ϋ–Β –Ω―É―¹–Κ–Α–Μ–Ψ –Η –Ϋ–Β –Ω―É―¹―²–Η–Μ–Ψ –≤―Ä–Α–≥–Α.
–Γ –Κ–Α–Κ–Η–Φ –≤–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―¹–Μ―É―à–Α–Μ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥ –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Α, –≥―É–Μ –Β–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –±–Α―²–Α―Ä–Β–Ι βÄî –Ε–Η–≤–Ψ–Ι, –≥–Ψ―Ä―è―΅–Η–Ι, –Ϋ–Β–Ω–Ψ–¥–Κ―É–Ω–Ϋ―΄–Ι, –Ϋ–Β–Ω–Ψ–±–Β–¥–Η–Φ―΄–Ι –Ω―Ä–Η―Ü–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ψ–≥–Ψ–Ϋ―¨ ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α. –£–Ψ―² –≤–Α–Φ –Η ―¹―Ä–Α–≤–Ϋ―è–Μ–Η ¬Ϊ–¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥ ―¹ –Ζ–Β–Φ–Μ–Β–Ι, –Α –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―² ―¹ –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι...¬Μ! ¬Ϊ–™–Μ–Α–¥–Κ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Α –±―É–Φ–Α–≥–Β, –¥–Α –Ζ–Α–±―΄–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ –Ψ–≤―Ä–Α–≥–Η, –Α –Ω–Ψ –Ϋ–Η–Φ ―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨¬Μ βÄî ―²–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―² –≤ ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Β.
–€–Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ ―²―Ä–Η–Ε–¥―΄ –≤ ―ç―²–Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Β –¥–Ϋ–Η –Α–≤–≥―É―¹―²–Α –Η –¥–≤–Α–Ε–¥―΄ –≤ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä―è –±―΄―²―¨ –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β ―¹ –¥–Ψ–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η. –Θ–Ε–Β –Ζ–Α―Ä―è–¥–Η–Μ–Η –¥–Ψ–Ε–¥–Η. –ü–Ψ–Κ–Α –Β–¥–Β―à―¨ –Κ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―É, –≤–Η–¥–Η―à―¨ ―¹–Ψ―²–Ϋ–Η, ―²―΄―¹―è―΅–Η –Μ―é–¥–Β–Ι, ―Ä–Ψ―é―â–Η―Ö –Ψ–Κ–Ψ–Ω―΄. –®–Η―Ä–Ψ–Κ–Η–Β –‰ –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Η–Β ―Ä–≤―΄ ―²―è–Ϋ―É―²―¹―è –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α, –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ―²–Α–Ϋ–Κ–Ψ–≤―΄–Β ―Ä–≤―΄ –Η –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―²―Ä–Α–Ϋ―à–Β–Η, ―¹–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è βÄî –Ϋ–Α –≤―¹–Β–Φ –Ω―Ä–Ψ―²―è–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ–≤–Η–Μ–Η―¹―²–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ–Ψ―¹–Ψ–Ι. –£―Ä―É―΅–Ϋ―É―é, –Μ–Ψ–Ω–Α―²–Α–Φ–Η ―Ä–Ψ―é―² –Μ―é–¥–Η –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ―¹―΄ –Η –≤–Β–¥―É―² –Η―Ö –≤―¹–Β –¥–Α–Μ―¨―à–Β.
–· ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ϋ―é, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η –Κ–Ψ–Ω–Α―²―¨ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –Μ–Η–Ϋ–Η–Η ―É–Κ―Ä–Β–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι, –Κ–Α–Κ, –Ϋ–Β―¹―è –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ―²–Β―Ä–Η –Ψ―² –Α―Ä―²–Ψ–±―¹―²―Ä–Β–Μ–Ψ–≤ –Η –±–Ψ–Φ–±–Β–Ε–Β–Κ, –Η―Ö –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ–Η ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²―¨ –Ω–Ψ–¥ –Ω–Α–Μ―è―â–Η–Φ –Ζ–Ϋ–Ψ–Β–Φ. –ê ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥, –Ζ–Β–Φ–Μ―é ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–Ζ–Μ–Ψ –Ψ―² –¥–Ψ–Ε–¥–Β–Ι, –Η –Μ―é–¥–Η, –≤ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β ―¹–≤–Ψ–Β–Φ –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ―΄, ―¹―²–Ψ―è―² –Ω–Ψ ―â–Η–Κ–Ψ–Μ–Ψ―²–Κ―É, –Ω–Ψ –Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Ψ –≤ –≤–Ψ–¥–Β. –ß–Α–≤–Κ–Α–Β―², –Ζ–Α―¹―²―Ä–Β–≤–Α–Β―² –Μ–Ψ–Ω–Α―²–Α, –Ϋ–Β –Ψ―²–¥–Β―Ä–Β―à―¨ –≥–Μ–Η–Ϋ―É βÄî ―Ä–Ψ―é―² –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ―΄ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Α –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é –Μ–Η–Ϋ–Η―é, –¥–Ϋ–Β–Φ –Η –Ϋ–Ψ―΅―¨―é. –ï―¹–Μ–Η –≤ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Β–¥–Β―à―¨, –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η―à―¨ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ϋ―É―é –Κ―É―Ö–Ϋ―é: –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ ―É–Ε–Β –Ψ―â―É―â–Α–Β―² –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ–Κ –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―²–Ψ–≤, –Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―¹―΄–Μ–Α–Β―² ―¹―é–¥–Α –Ψ–±–Β–¥―΄, –≥–Ψ―Ä―è―΅―É―é –Β–¥―É ―¹–≤–Β―Ä―Ö –Ω–Α–Ι–Κ–Α. . .
–ß–Α―â–Β –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Β–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Α. –Θ –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―Ä―É–±–Β–Ε–Β–Ι –≥–Η―²–Μ–Β―Ä–Ψ–≤―Ü―΄ ―¹–Ψ―¹―Ä–Β–¥–Ψ―²–Ψ―΅–Η–≤–Α―é―² ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ψ–≥–Ψ–Ϋ―¨ –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Η, –Φ–Η–Ϋ–Ψ–Φ–Β―²–Ψ–≤, –Ω―É–Μ–Β–Φ–Β―²–Ψ–≤. –£–Φ–Β―¹―²–Β ―¹–Ψ ―¹–Ϋ–Α―Ä―è–¥–Α–Φ–Η –Η –Α–≤–Η–Α–±–Ψ–Φ–±–Α–Φ–Η ―¹–±―Ä–Α―¹―΄–≤–Α―é―² ―¹ ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Ψ–≤ –Κ―É―¹–Κ–Η –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Α, ―Ä–Β–Μ―¨―¹―΄, –Η ―²–Β, –Ω–Α–¥–Α―è, –≥―É–¥―è―², ―¹–≤–Η―¹―²―è―² –Φ–Β―Ä–Ζ–Κ–Ψ, –Ϋ–Α–¥―Ä―΄–≤–Ϋ–Ψ. –£―Ä–Α–≥ ―¹―²―Ä–Β–Φ–Η―²―¹―è ―Ä–Α–Ζ–Ψ–≥–Ϋ–Α―²―¨, –¥–Β–Φ–Ψ―Ä–Α–Μ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨, –Ζ–Α–Ω―É–≥–Α―²―¨ ―²–Β―Ö, –Κ―²–Ψ ―¹―²–Α–≤–Η―² –Ϋ–Α –Β–≥–Ψ –Ω―É―²–Η –Ϋ–Α–¥–Ψ–Μ–±―΄ –Η ―¹–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è.
–ù–Ψ ―²―΄―¹―è―΅–Η –Μ―é–¥–Β–Ι, ―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Μ―΄―à–Α―², –Ϋ–Β –≤–Η–¥―è―² βÄî –Ψ―¹―²–Α―é―²―¹―è .–Ϋ–Α –Φ–Β―¹―²–Α―Ö. –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―Ü―΄ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―é―².
–†–≤―΄, ―â–Β–Μ–Η –Η ―É–Κ―Ä―΄―²–Η―è –Ω–Ψ–¥–Ω–Ψ–Μ–Ζ–Α―é―² –≤―¹–Β –±–Μ–Η–Ε–Β –Κ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―É, –û–Κ–Ψ–Ω―΄ ―É–Ε–Β –Ϋ–Α –Ψ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ–Α―Ö, ―Ä–≤―΄ βÄî –Ϋ–Α ―É–Μ–Η―Ü–Α―Ö, –¥–Ψ―²―΄βÄî–≤ ―¹–Α–¥–Α―Ö. –ù–Α–¥ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Ψ–Φ –Ζ–Α―Ä–Β–≤–Ψ –Ω–Ψ–Ε–Α―Ä–Ψ–≤. –ü―Ä–Ψ–Ε–Β–Κ―²–Ψ―Ä―΄, ―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ ―Ä―É–Κ–Η –Η–Μ–Η –Φ–Β―΅–Η, –Η―â―É―², ―â―É–Ω–Α―é―² –Ϋ–Β–±–Ψ. –Θ―Ö–Α―é―² –Ψ―² –ù–Β–≤―΄ –Ω―É―à–Κ–Η. –ü–Α―Ä–Κ–Η –Η –Ϋ–Α–±–Β―Ä–Β–Ε–Ϋ―΄–Β ―É–Κ―Ä―΄―²―΄ –Φ–Β―à–Κ–Α–Φ–Η ―¹ –Ω–Β―¹–Κ–Ψ–Φ, –Ω–Ψ–Ω–Β―Ä–Β–Κ ―¹–Κ–≤–Β―Ä–Ψ–≤ βÄî –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Μ–Ψ―΅–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è. –‰ ―Ä–Α–Ζ –Ψ―² ―Ä–Α–Ζ–Α –≤―¹–Β ―¹―É―Ä–Ψ–≤–Β–Β ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¹―è –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ βÄî ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Φ―É―Ä–Ψ–≤―΄–≤–Α–Β―²―¹―è –Ψ–Ϋ, –Ψ–Ω―É―¹–Κ–Α–Β―² –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Β –Ζ–Α–±―Ä–Α–Μ–Ψ. –½–Α―¹―΄–Ω–Α–Ϋ―΄ –Ω–Β―¹–Κ–Ψ–Φ –Ϋ–Η–Ε–Ϋ–Η–Β ―ç―²–Α–Ε–Η, –Κ–Η―Ä–Ω–Η―΅–Α–Φ–Η –Ζ–Α–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ―΄ –Ψ–Κ–Ϋ–Α, –Ω–Β―Ä–Β–Κ―Ä–Β―¹―²–Κ–Η –Ψ–±–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–Μ–Η―¹―¨ –¥–Ζ–Ψ―²–Α–Φ–Η. –†–Β–¥–Κ–Η–Ι –¥–Ψ–Φ –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Β―² –±–Ψ–Ι–Ϋ–Η―Ü, –Ψ–Ϋ–Η –Ω―Ä–Ψ―Ä―É–±–Μ–Β–Ϋ―΄ –≤ ―É–≥–Μ–Α―Ö –Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Ι, –≤ –≤―΄―¹―²―É–Ω–Α―Ö. –ü―É―¹―²―΄–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ϋ–Α –≥–Ψ―²–Ψ–≤―΄―Ö –Κ –±–Ψ―é –Ω―Ä–Ψ―¹–Ω–Β–Κ―²–Α―Ö, –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥―è―Ö, ―É–Μ–Η―Ü–Α―Ö. –Δ–Ψ―΅–Ϋ–Ψ ―¹―²–Α―Ä–Α―è –Κ―Ä–Β–Ω–Ψ―¹―²―¨ –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―² –Φ–Ψ―¹―²―΄, –Ψ–Ω–Ψ―è―¹―΄–≤–Α–Β―²―¹―è ―Ä–≤–Α–Φ–Η, –Ψ―²–Κ―Ä―΄–≤–Α–Β―² ―â–Β–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Α–Φ–±―Ä–Α–Ζ―É―Ä –¥–Μ―è ―¹–Φ–Β―Ä―²–Ψ–Ϋ–Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–≥–Ϋ―è –Ω–Ψ –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Α―é―â–Β–Φ―É –≤―Ä–Α–≥―É.
–Δ–Ψ –Η –¥–Β–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è –Ϋ–Α –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―΄―Ö ―É–Μ–Η―Ü–Α―Ö ―¹–≤–Ψ―Ä–Α―΅–Η–≤–Α―²―¨, –Η―¹–Κ–Α―²―¨ –Ω―Ä–Ψ–Β–Ζ–¥–Α: ―É–Μ–Η―Ü―΄ –Ω–Β―Ä–Β―¹–Β–Κ–Α―é―² –±–Α―Ä―Ä–Η–Κ–Α–¥―΄. –ù–Α –Ω―Ä–Ψ―¹–Ω–Β–Κ―²–Β –Γ―²–Α―΅–Β–Κ βÄî –Κ–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Η –Ω–Β―à–Η–Ι –Ω–Α―²―Ä―É–Μ―¨. –£ –≤–Α―²–Ϋ–Η–Κ–Α―Ö, –Κ–Β–Ω–Κ–Α―Ö, ―É―à–Α–Ϋ–Κ–Α―Ö, –≤–Η–Ϋ―²–Ψ–≤–Κ–Α ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ω–Μ–Β―΅–Ψ βÄî ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η–Β –Ϋ–Β―¹―É―² –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―É. –ü–Ψ–Κ–Α –Ω–Ψ–Ω–Α–¥–Β―à―¨ –Ϋ–Α –Ζ–Α–≤–Ψ–¥, –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤―è―² –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ä–Α–Ζ. –ü―Ä–Ψ–≤–Β―Ä―è―é―² –Ω―Ä–Ψ–Ω―É―¹–Κ –Η –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²―΄: ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Ψ–≤–Α―è –Ω–Ψ–Μ–Ψ―¹–Α!
–Δ―Ä–Α–Φ–≤–Α–Ι –Ω–Ψ–≤–Ψ―Ä–Α―΅–Η–≤–Α–Β―² –Ζ–¥–Β―¹―¨. –Δ―Ä–Α–Φ–≤–Α–Ι–Ϋ―΄–Β ―Ä–Β–Μ―¨―¹―΄ –¥–Α–Μ―¨―à–Β ―É–Ε–Β –Ϋ–Η–Κ―É–¥–Α –Ϋ–Β –≤–Β–¥―É―²,, ―É–Ω–Η―Ä–Α―é―²―¹―è –≤ –Ζ–Β–Μ–Β–Ϋ―É―é –Ϋ–Α―¹―΄–Ω―¨. –ü–Ψ–Ω–Β―Ä–Β–Κ –Η―Ö βÄî –¥–Ζ–Ψ―²―΄, –Ζ–Β–Φ–Μ―è–Ϋ–Κ–Η. –î–Α–Μ―¨―à–Β ―³―Ä–Ψ–Ϋ―². –ù–Α―Ä–≤―¹–Κ–Α―è ―¹―²–Α–Μ–Α –Ω–Β―Ä–Β–¥–Ψ–≤―΄–Φ ―Ä―É–±–Β–Ε–Ψ–Φ –Μ–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄.
–½–Α―¹―²–Α–≤–Α –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²―¹―è –Κ –±–Ψ―é. –£―¹―é–¥―É –Ϋ–Α–¥–Ψ–Μ–±―΄, –Ζ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è, –±–Μ–Η–Ϋ–¥–Α–Ε–Η. –ü―Ä–Ψ―²–Η–≤ –Ζ–Α–≤–Ψ–¥―¹–Κ–Η―Ö –≤–Ψ―Ä–Ψ―² –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ―΄ ―É–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α―é―² –±–Α―Ä―Ä–Η–Κ–Α–¥―΄ βÄî ―²―Ä―É–±―΄, –Κ–Α–Φ–Ϋ–Η, –Φ–Β―²–Α–Μ–Μ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Μ–Η―¹―²―΄, –Κ–Η―Ä–Ω–Η―΅–Η.  . .
–î–Ψ–Φ –Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä―΄ –Η–Φ–Β–Ϋ–Η –™–Α–Ζ–Α –Ζ–Α―¹―΄–Ω–Α–Ϋ –Ω–Β―¹–Κ–Ψ–Φ ―É –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ε–Η―è. –û–±―Ä–Ψ―¹ –±–Β―²–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ―Ä–Ψ–±–Κ–Ψ–Ι. –Γ–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ –≥–Μ–Α–Ζ–Ϋ–Η―Ü―΄, –Ψ–Κ–Ϋ–Α –¥–Ψ–Φ–Α, –Ω―É–Μ–Β–Φ–Β―²―΄ –≥–Μ―è–¥―è―² –≤ ―â–Β–Μ–Η –Α–Φ–±―Ä–Α–Ζ―É―Ä―΄. –½–¥–Β―¹―¨ –Ϋ–Β–¥–Α–≤–Ϋ–Ψ ―à–Μ–Ψ ―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –ö–Η―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Ι –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η, –Ζ–¥–Β―¹―¨ –ù–Α―Ä–≤―¹–Κ–Α―è –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Α –Ω–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β. –½–¥–Β―¹―¨ ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ψ–±―É―΅–Α―é―²―¹―è ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η–Β βÄî –≤–Ψ–Η–Ϋ―΄ –≤–Ϋ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Β–Ι –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α.
–ë―΄–≤–Α–Β―², ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Β –Φ–Α–Μ–Ψ–Β, –Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¹―è –Ϋ–Α –≤―¹―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨. –ù–Α –≤―¹―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ ―è –Ζ–Α–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ –Ψ–¥–Η–Ϋ ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι.
–ü―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –Φ–Ϋ–Β –Ψ–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –Κ―Ä–Α―é ―É–Μ–Η―Ü―΄ –≤–Ψ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ–Ψ―¹–Β. –ö―Ä―É–≥–Ψ–Φ –Ϋ–Η –¥―É―à–Η. –î–Α–≤–Ϋ–Ψ ―É–Ε –Ψ―²―¹―é–¥–Α –≤―¹–Β―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι –Ω–Β―Ä–Β―¹–Β–Μ–Η–Μ–Η. –£–¥―Ä―É–≥ –Ϋ–Α–¥ –Φ–Ψ–Β–Ι –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η–Ψ―²–Κ―Ä―΄–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ–Κ–Ψ―à–Κ–Ψ, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Κ―²–Ψ-―²–Ψ –Ζ–Α –¥–≤–Β―Ä―¨―é –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ ―²―è–Ε–Β–Μ―΄–Ι –Κ―Ä―é–Κ. –î–≤–Β―Ä―¨ –Φ―è–≥–Κ–Ψ –Ψ―²–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Α―¹―¨. –™–Μ―è–Ε―É –Η –≥–Μ–Α–Ζ–Α–Φ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Ϋ–Β –≤–Β―Ä―é βÄî ―¹―²–Α―Ä–Η–Κ –ö–Ψ–≤–Α–Μ–Β–Ϋ–Κ–Ψ! –Γ –Ϋ–Β–Ζ–Α–Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ―΄―Ö –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Β. –ü–Ψ―΅–Β–Φ―É –Ψ–Ϋ –≤–¥―Ä―É–≥ –Ζ–¥–Β―¹―¨? –Γ–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α―é.
βÄî –ê –Κ―É–¥–Α –Φ–Ϋ–Β –Η–¥―²–Η? βÄî –Ψ―²–≤–Β―΅–Α–Β―². βÄî –ë―Ä–Α―² –≤–Ψ―², –Ψ–Ϋ-―²–Ψ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β, –≤ –Ω–Α―Ä―²–Η–Ζ–Α–Ϋ―΄ ―É―à–Β–Μ –Η –Φ–Ϋ–Β –≤–Β–Μ–Β–Μ –Ψ―²―¹―é–¥–Α ―É–Β–Ζ–Ε–Α―²―¨. –ê ―è –Ψ―¹―²–Α–Μ―¹―è. –û–¥–Ϋ–Ψ ―è –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ, –Κ–Α–Κ –±―Ä–Α―² ―É―Ö–Ψ–¥–Η–Μ, βÄî –Κ–Η–Ϋ–Ε–Α–Μ –Φ–Ϋ–Β –Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨. –î–Ψ–Φ, ―¹–Α–Φ –≤–Η–¥–Η―à―¨, ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Ι, –Β―¹–Μ–Η –Η–Φ –Φ–Η–Φ–Ψ –Η–¥―²–Η βÄî –Ϋ–Β–Ω―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤–Ψ–Ι–¥―É―². –ö–Η–Ω―è―²–Κ―É –Ω–Ψ―²―Ä–Β–±―É―é―², –≤―Ä–Β–Φ―è ―É–Ε–Β ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Β. –Γ–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Η ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤–Ω―É―â―É –Ε–Η–≤―΄―Ö, –Ψ–±–≤–Α―Ä―é –Η–Μ–Η ―É–±―¨―é...
–Γ―²–Α―Ä–Η–Κ –Ω–Ψ–Φ–Ψ–Μ―΅–Α–Μ. –Θ–Φ–Ϋ–Ψ–Β –Μ–Η―Ü–Ψ ―¹―²–Α―Ä–Ψ–≥–Ψ –Φ–Α―¹―²–Β―Ä–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ ―¹ –Κ―É―¹―²–Α–Φ–Η –≥―É―¹―²―΄―Ö –±―Ä–Ψ–≤–Β–Ι –Ϋ–Α–¥ –≥–Μ–Α–Ζ–Α–Φ–Η ―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Φ–Β―Ä–Μ–Ψ –Ϋ–Α –Φ–Η–Ϋ―É―²―É.
βÄî –€–Ψ–Μ–Ψ–¥ –Ψ–Ϋ, –±―Ä–Α―², βÄî –Ζ–Α–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α, βÄî –Ϋ–Β ―Ö–Ψ―΅–Β―² –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨. –†―É–≥–Α–Β―², ―΅―²–Ψ ―è –≤ –¥–Ψ–Φ―É –Ψ–¥–Η–Ϋ –Ζ–Α―¹–Β–Μ... –ê ―²–Ψ –Ϋ–Β–≤–¥–Ψ–Φ–Β–Κ –Β–Φ―É, ―΅―²–Ψ –Β–Ε–Β–Μ–Η ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –≤–Ψ―² ―²–Α–Κ –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ –¥–Ψ–Φ―É –Ζ–Α―¹–Β–Μ, ―²–Α–Κ ―ç―²–Ψ ―¹–Η–Μ–Α, ―΅―²–Ψ ―Ä–Ψ―²–Α ―Ü–Β–Μ–Α―è.
–Γ―²–Α―Ä–Η–Κ –Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹–≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ –±–Ψ–Μ―¨―à―É―é –Κ–Ψ–Ζ―¨―é –Ϋ–Ψ–Ε–Κ―É, –Ε–Α–¥–Ϋ–Ψ, –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Ψ –Ζ–Α―²―è–Ϋ―É–Μ―¹―è, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―è ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β–Φ―Ü―΄ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι –Ψ–±―¹―²―Ä–Β–Μ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –Η –Ω–Ψ –Ζ–Α–≤–Ψ–¥―É ―¹―²―Ä–Β–Μ―è―é―². . .
βÄî –ü―Ä―É―¹―¹–Α–Κ, ―΅―²–Ψ –¥―É―Ä–Α–Κ, βÄî ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ψ–Ϋ. βÄî –¦―é–¥–Η –Ϋ–Α ―¹–Φ–Β―Ä―²–Ϋ―΄–Ι –±–Ψ–Ι –Η–¥―É―², –Α –Ψ–Ϋ –Ω―É―à–Κ–Ψ–Ι –≥―Ä–Ψ–Ζ–Η―². –‰―à―¨, ―΅–Β–≥–Ψ –Ζ–Α―Ö–Ψ―²–Β–Μ βÄî –≤ ―΅―É–Ε–Ψ–Φ –¥–Ψ–Φ―É ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι–Ϋ–Η―΅–Α―²―¨. –ù–Ψ –Κ–Α–Κ ―ç―²–Ψ, ―¹–Κ–Α–Ε–Η –Ϋ–Α –Φ–Η–Μ–Ψ―¹―²―¨, ―¹ –Ϋ–Α–Φ–Η ―¹–Ψ–≤–Μ–Α–¥–Α―²―¨, –Β―¹–Μ–Η –≤–Β―¹―¨ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥ –Ψ–Ω–Ψ–Μ―΅–Η–Μ―¹―è?
–û–Ϋ –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ –Ϋ–Α –Ω–Ψ―Ä–Ψ–≥–Β –≤ –Ω―Ä–Ψ–Β–Φ–Β –¥–≤–Β―Ä–Β–Ι, –Ω–Ψ–Κ–Α ―è –≤–Ψ–Ζ–Η–Μ―¹―è ―¹ –Φ–Ψ―²–Ψ―Ü–Η–Κ–Μ–Ψ–Φ. –ü―Ä–Η–Κ―Ä―΄–Μ –≥–Μ–Α–Ζ–Α, –Φ–Α―Ö–Ϋ―É–Μ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ι: ¬Ϊ–ï–Ζ–Ε–Α–Ι¬Μ.
βÄî –ö–Μ–Α–Ϋ―è–Ι―¹―è –Μ―é–¥―è–Φ. –Γ–Κ–Α–Ε–Η, –ö–Ψ–≤–Α–Μ–Β–Ϋ–Κ–Ψ –Η–Ζ –ê–≤―²–Ψ–≤–Ψ –Ω―É―²–Η–Μ–Ψ–≤―Ü–Α–Φ –Ω–Ψ–Κ–Μ–Ψ–Ϋ –Ω–Ψ―¹―΄–Μ–Α–Β―².
...¬Ϊ–Γ―²–Β―Ä–Β―²―¨ ―¹ –Μ–Η―Ü–Α –Ζ–Β–Φ–Μ–Η ―ç―²–Ψ―² –Ϋ–Α―¹–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω―É–Ϋ–Κ―²...¬Μ –î–Α –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ –Μ–Η –≤―Ä–Α–≥, ―¹ ―΅–Β–Φ –Ψ–Ϋ ―¹―²–Ψ–Μ–Κ–Ϋ–Β―²―¹―è? –î―É–Φ–Α―è –Ζ–Α–Ω―É–≥–Α―²―¨, –¥–Β–Φ–Ψ―Ä–Α–Μ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨ –Μ―é–¥–Β–Ι, –≥–Η―²–Μ–Β―Ä–Ψ–≤―Ü―΄ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η –Φ–Α―¹―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Α–Μ–Β―²―΄, –Ψ―²–Κ―Ä―΄–Μ–Η –Ω―Ä–Η―Ü–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι –Ψ–±―¹―²―Ä–Β–Μ –Ω–Ψ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―É –Η–Ζ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–±–Ψ–Ι–Ϋ―΄―Ö –Ψ―Ä―É–¥–Η–Ι. –ù–Ψ, –Ϋ–Β –Ζ–Α–Ω―É–≥–Α–≤, –≤―΄–Ζ–≤–Α–Μ–Η ―²–Α–Κ―É―é ―¹–Φ–Β―Ä―²–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é –Ϋ–Β–Ϋ–Α–≤–Η―¹―²―¨ –Η –Ω―Ä–Β–Ζ―Ä–Β–Ϋ–Η–Β –Κ ―¹–Β–±–Β, ―²–Α–Κ―É―é ―Ä–Β―à–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨ ―É –Ψ―¹–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö, ―¹ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –±―΄ –Ϋ–Β ―¹–Φ–Ψ–≥–Μ–Η ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Η―²―¨―¹―è.
–€–Ψ–≥―É―² –≤–Ψ–Β–≤–Α―²―¨ –Α―Ä–Φ–Η–Η, –Η –Α―Ä–Φ–Η–Η –Φ–Ψ–≥―É―² –±―΄―²―¨ ―Ä–Α–Ζ–±–Η―²―΄. –ù–Ψ –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤–Β―¹―¨ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥ –Ψ–Ω–Ψ–Μ―΅–Α–Β―²―¹―è, –≤―Ä–Α–≥―É –Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ψ–¥–Ψ–Μ–Β―²―¨. –ù–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Β –Ψ–Ω–Ψ–Μ―΅–Β–Ϋ–Η–Β –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Α –±―΄–Μ–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅–Α―¹―²―¨―é –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –≤―¹–Β–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Β–Ϋ–Α–≤–Η―¹―²–Η –Η ―Ä–Β―à–Η–Φ–Ψ―¹―²–Η. –ù–Β –Ω–Ψ–Ϋ―è–≤ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ, –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è –Ω–Ψ–Ϋ―è―²―¨ –≤–Β―¹―¨ –±–Β–Ζ–Ζ–Α–≤–Β―²–Ϋ―΄–Ι ―¹–Φ―΄―¹–Μ, –≤―¹–Β –≤–Β–Μ–Η―΅–Η–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ ―¹–≤–Β―Ä―à–Η–Μ–Η –Ψ―²―Ä―è–¥―΄ –Ψ–Ω–Ψ–Μ―΅–Β–Ϋ―Ü–Β–≤.
–£ ―¹–Β―Ä–Β–¥–Η–Ϋ–Β ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä―è –≤―Ä–Α–Ε–Β―¹–Κ–Η–Β –Α―Ä–Φ–Η–Η –≤―΄―Ä–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Κ ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ―É –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―É. –½–Α―Ö–≤–Α―²–Η–≤ 8 ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä―è –®–Μ–Η―¹―¹–Β–Μ―¨–±―É―Ä–≥, –Ζ–Α–Φ–Κ–Ϋ―É–≤ –Ω–Ψ ―¹―É―à–Β –Κ–Ψ–Μ―¨―Ü–Ψ –±–Μ–Ψ–Κ–Α–¥―΄, –Ϋ–Β–Φ―Ü―΄ ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Η –Ϋ–Α –Ω–Μ–Ψ―²–Α―Ö –Ω–Β―Ä–Β–Ω―Ä–Α–≤–Η―²―¨―¹―è ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –ù–Β–≤―É. –ù–Ψ, –Η―¹―²–Β–Κ–Α―è –Κ―Ä–Ψ–≤―¨―é, ―²–Β―Ä―è―è –≤ –≤–Ψ–Μ–Ϋ–Α―Ö ―Ä–Β–Κ–Η ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―¹–Ψ–Μ–¥–Α―² –Η –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤, –≤―΄–Ϋ―É–Ε–¥–Β–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Η –Ψ―²–Κ–Α―²–Η―²―¨―¹―è. . .
–Δ–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Η ―¹ ¬Ϊ–≠–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ―¹–Η–Μ―΄¬Μ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η: ¬Ϊ–ë–Ψ–Η ―à–Μ–Η –≤ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –±–Μ–Η–Ζ–Ψ―¹―²–Η –Ψ―² –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Α, ―΅―²–Ψ –±―΄–Μ–Η ―¹–Μ―΄―à–Ϋ―΄ –Κ―Ä–Η–Κ–Η –Η –Ω―É–Μ–Β–Φ–Β―²–Ϋ–Α―è ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–±–Α¬Μ. –£―Ä–Α–≥ –±―΄–Μ ―É –ö–Ψ–Μ–Ω–Η–Ϋ–Ψ, –Ω–Ψ–¥–Ψ―à–Β–Μ –Κ –ü―É–Μ–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Φ –≤―΄―¹–Ψ―²–Α–Φ –Η –Ϋ–Β–Η―¹―²–Ψ–≤–Ψ ―Ä–≤–Α–Μ―¹―è –¥–Α–Μ―¨―à–Β. –£―¹–Β–≥–Ψ 5 –Κ–Η–Μ–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤ –Ψ―²–¥–Β–Μ―è–Μ–Η –Β–≥–Ψ –Ψ―² –ö–Η―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Α. –‰ ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥―¹―²―É–Ω–Α―Ö –Κ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―É, ―É ―¹―²–Β–Ϋ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Ψ–≤, –Ζ–Α–Μ–Β–≥–Μ–Η ―²―Ä―É–¥–Ψ–≤―΄–Β –Μ―é–¥–Η βÄî –Μ–Β–≥–Μ–Η ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η–Β ¬Ϊ–≠–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ―¹–Η–Μ―΄¬Μ, –Μ–Β–≥–Μ–Η –Η–Ε–Ψ―Ä―Ü―΄, –Μ–Β–≥–Μ–Η –Κ–Η―Ä–Ψ–≤―Ü―΄. –•–Η–≤–Ψ–Ι ―¹―²–Β–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –Ω―É―²–Η ―É –≤―Ä–Α–≥–Α –Κ –Κ–Ψ–Μ―΄–±–Β–Μ–Η –†–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Η, –≥―Ä―É–¥―¨―é, ―²–Β–Μ–Α–Φ–Η –Ζ–Α–≥―Ä–Α–¥–Η–Μ–Η –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ –Η –Ϋ–Β –Ω―É―¹―²–Η–Μ–Η –≤―Ä–Α–≥–Α.
–ù–Β –Ω―É―¹―²–Η–Μ–Η –≤ –ö–Ψ–Μ–Ω–Η–Ϋ–Ψ. –ù–Β ―¹–¥–Α–Μ–Η –ü―É–Μ–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö –≤―΄―¹–Ψ―² βÄî –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―¹―²―É–Ω–Ϋ―É―é –≥–Ψ―Ä–¥–Ψ―¹―²―¨ –Η ―¹–Μ–Α–≤―É ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –†–Ψ―¹―¹–Η–Η. –ü―è―²―¨―¹–Ψ―² –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ―¨―Ü–Β–≤ –≤–Ψ –≥–Μ–Α–≤–Β ―¹ ―¹–Β–Κ―Ä–Β―²–Α―Ä–Β–Φ –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η, –Κ–Α–Κ –Η―Ö –Ψ―²―Ü―΄ –Η –¥–Β–¥―΄ ―΅–Β―²–≤–Β―Ä―²―¨ –≤–Β–Κ–Α –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥, –Μ–Β–≥–Μ–Η ―¹ –Ψ―Ä―É–Ε–Η–Β–Φ ―É –±–Α―Ä―Ä–Η–Κ–Α–¥, –Ψ―²–±–Η–Μ–Η –≤―¹–Β –Α―²–Α–Κ–Η –≤―Ä–Α–≥–Α –Η, –Ζ–Α–Ϋ―è–≤ –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―É, –¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ–Η –Β–Β –¥–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Α ―Ä–Β–≥―É–Μ―è―Ä–Ϋ―΄―Ö ―΅–Α―¹―²–Β–Ι.
–£ ―¹–Β―Ä–Β–¥–Η–Ϋ–Β ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä―è ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ –Ϋ–Α –ö–Η―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Β –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ψ―²―Ä―è–¥ ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η―Ö. –ü–Β―Ä–Β–¥–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ –Ω–Ψ –Ψ―²―Ä―è–¥―É –≤ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ ―¹–Α–Φ―΄―Ö ―²―Ä–Α–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –¥–Ϋ–Β–Ι βÄî 24 ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä―è 1941 –≥–Ψ–¥–Α. –Λ–Α―à–Η―¹―²―΄ –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η ―É–Ε–Β ―΅–Α―¹―²―¨ –Θ―Ä–Η―Ü–Κ–Α βÄî –Γ―²–Α―Ä–Ψ-–ü–Α–Ϋ–Ψ–≤–Ψ. –‰ –Ψ―²―Ä―è–¥―É ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η―Ö –ö–Η―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Α –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ψ ¬Ϊ―É–Ω–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―è―²―¨ –ö–Η―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι –Ζ–Α–≤–Ψ–¥ –Η ―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Η―²―¨ ―³–Α―à–Η―¹―²–Ψ–≤ –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Ζ–Α–≤–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–≥―Ä–Α–¥–Ψ–Ι¬Μ.
–Δ–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η―è –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Α ―Ä–Α–Ζ–±–Η―²–Α –Ϋ–Α ―²―Ä–Η ―¹–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Α, –Η –Ψ–Ϋ–Η –Ψ―Ö–≤–Α―²―΄–≤–Α―é―² –≤–Η–Α–¥―É–Κ, –Ω―Ä–Ψ―¹–Ω–Β–Κ―² –Γ―²–Α―΅–Β–Κ, –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–¥–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ―É―é –Ϋ–Α―¹―΄–Ω―¨ –Η –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ϋ―É―é –Ω–Ψ ―É–Μ–Η―Ü–Β –ö–Α–Μ–Η–Ϋ–Η–Ϋ–Α. –£ ―¹–Β–Κ―²–Ψ―Ä―΄ –≤―Ö–Ψ–¥―è―² ―¹―²–Α―Ä–Ψ―΅―É–≥―É–Ϋ–Ψ–Μ–Η―²–Β–Ι–Ϋ―΄–Ι ―Ü–Β―Ö, ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Ζ–Α–≤–Ψ–¥―¹–Κ–Α―è –Μ–Α–±–Ψ―Ä–Α―²–Ψ―Ä–Η―è, –≤–Ψ–¥–Ψ–Κ–Α―΅–Κ–Α, ―²―É―Ä–±–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Η –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι ―Ü–Β―Ö–Η. –Γ–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ―É –Ω–Β―Ä–Β–¥ –≤―¹–Β–Φ–Η ―²―Ä–Β–Φ―è ―¹―²―Ä–Β–Μ–Κ–Ψ–≤―΄–Φ–Η ―Ä–Ψ―²–Α–Φ–Η –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Α –Ζ–Α–¥–Α―΅–Α βÄî ¬Ϊ―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Η―²―¨ ―³–Α―à–Η―¹―²–Ψ–≤ –Ω–Β―Ä–Β–¥ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Ω–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Η–Φ –Κ―Ä–Α–Β–Φ¬Μ. –ê –Ω–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Η–Ι –Κ―Ä–Α–Ι –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è―é―² ―Ä–Β–Κ–Α –ï–Κ–Α―²–Β―Ä–Η–Ϋ–≥–Ψ―³–Κ–Α βÄî –ï–Φ–Β–Μ―¨―è–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Α βÄî –Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Β ―Ä–Β–Φ–Β―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α ⳕ 2 βÄî –Ω―Ä–Ψ―¹–Ω–Β–Κ―² –Γ―²–Α―΅–Β–Κ βÄî –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–¥–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ–Α―è –Ϋ–Α―¹―΄–Ω―¨ βÄî –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Ω–Ψ ―É–Μ–Η―Ü–Β –ö–Α–Μ–Η–Ϋ–Η–Ϋ–Α... –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Φ–Η–Ϋ–Ψ–Φ–Β―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ζ–≤–Ψ–¥–Α –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨ –Ω–Ψ–¥ –Ψ–≥–Ϋ–Β–Φ ―É–≥–Ψ–Μ―¨–Ϋ―É―é –≥–Α–≤–Α–Ϋ―¨, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ―²–Α–Ϋ–Κ–Ψ–≤–Ψ–Ι ―Ä–Ψ―²―΄ βÄî –Ζ–Α–Ϋ―è―²―¨ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ: –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Ω–Ψ ―É–Μ–Η―Ü–Β –™–Α–Ζ–Α βÄî –Ω–Α–Μ–Η―¹–Α–¥–Ϋ–Η–Κ –Ω–Β―Ä–Β–¥ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Ϋ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι. –ê―Ä―²–¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ―É –Ω–Ψ―Ä―É―΅–Β–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Ϋ―è―²―¨ –Ψ–≥–Ϋ–Β–≤―΄–Β –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Η, ―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Α―²―¨ –≤―Ä–Α–≥–Α –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Α―Ö –Κ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Κ–Β, ―É–Μ–Η―Ü–Β –·–Κ―É–±–Β–Ϋ–Η―¹–Α, –ß―É–≥―É–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω–Β―Ä–Β―É–Μ–Κ―É, ―É–Μ–Η―Ü–Β –£–Ψ–Ζ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è... –Θ–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Α –≤ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Β –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Α –¥–Μ―è ―ç–≤–Α–Κ―É–Α―Ü–Η–Η ―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ―΄―Ö: ―É–Μ–Η―Ü–Α –ö–Α–Μ–Η–Ϋ–Η–Ϋ–Α, –ö–Α–Μ–Η–Ϋ–Κ–Η–Ϋ –Φ–Ψ―¹―². –ü–Α―²―Ä–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω―É–Ϋ–Κ―² βÄî ―à–Κ–Ψ–Μ–Α ⳕ 5, –Ω―É–Ϋ–Κ―² –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Η βÄî –Ζ–Α–≤–Ψ–¥―¹–Κ–Α―è –Ω–Ψ–Μ–Η–Κ–Μ–Η–Ϋ–Η–Κ–Α, –Φ–Β―¹―²–Ψ ―à―²–Α–±–Α –Ψ―²―Ä―è–¥–Α βÄî –Ζ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ.
–Θ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ―΄ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –Ϋ–Α ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Η –ö–Η―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Β–Φ–Ψ―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –¥–Ψ―¹–Κ–Η. –î–Μ–Η–Ϋ–Ϋ–Α―è –±―Ä–Ψ–Ϋ–Ζ–Ψ–≤–Α―è βÄî –Ϋ–Α –Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Η –¥–Ψ–Φ–Α, –≥–¥–Β –±―΄–Μ –Η –Ϋ―΄–Ϋ–Β –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Α–Β―²―¹―è –Ω–Α―Ä―²–Κ–Ψ–Φ. ¬Ϊ–£ ―ç―²–Ψ–Φ –Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Η, βÄî –≥–Μ–Α―¹–Η―² –Ϋ–Α–¥–Ω–Η―¹―¨, βÄî –≤ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –¥–Ϋ–Η –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ 1941-1945 –≥–≥. ―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –ö–Η―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Α―è –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η―è, –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–≤―à–Α―è ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β –≤ –Ψ―²―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Η ―³–Α―à–Η―¹―²―¹–Κ–Η―Ö –≤–Ψ–Ι―¹–Κ –Ϋ–Α –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Η―Ö –Ω–Ψ–¥―¹―²―É–Ω–Α―Ö –Κ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―ɬΜ.
–ù–Α–Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥―É –≤―Ä―΄―²–Α –≤ –Ζ–Β–Φ–Μ―é –¥―Ä―É–≥–Α―è –Ω–Μ–Η―²–Α. –Δ–Β –Ε–Β –¥–Α―²―΄: 1941-1945. –‰ –Ϋ–Α–¥–Ω–Η―¹―¨: ¬Ϊ–Γ–Μ–Α–≤–Α –Ζ–Α―â–Η―²–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Α. –ù–Α ―ç―²–Ψ–Φ –Φ–Β―¹―²–Β ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η–Φ–Η –ö–Η―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Α –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Ψ –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Β 2-–≥–Ψ ―ç―à–Β–Μ–Ψ–Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–Ι –Μ–Η–Ϋ–Η–Η –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ ¬Μ. –½–Α–≤–Ψ–¥ –Ϋ–Α―¹–Φ–Β―Ä―²―¨ ―¹―²–Α–Μ –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―Ä―É–±–Β–Ε–Α―Ö. –ü–Ψ –Ζ–Α–≤–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–Φ―É –¥–≤–Ψ―Ä―É –±–Α―Ä―Ä–Η–Κ–Α–¥―΄ βÄî ―¹–Ψ―²–Ϋ–Η –Η–Μ–Η ―²―΄―¹―è―΅–Η –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤?.. –½–Α ―¹–Ω–Η–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Η―Ä–Ψ–≤―Ü–Β–≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥, –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥, –≤–Ψ–Ζ–¥–≤–Η–≥–Ϋ―É―²―΄–Ι –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η –Η―Ö –Ω―Ä–Β–¥–Κ–Ψ–≤. –ù–Α –Ζ–Α―¹―²–Α–≤–Β –≤–Ψ–Ζ–≤―΄―à–Α–Μ–Α―¹―¨ –Δ―Ä–Η―É–Φ―³–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Α―Ä–Κ–Α βÄî ―¹–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ―¨ –Ω–Ψ–±–Β–¥―΄ 1812 –≥. –Θ –ù–Α―Ä–≤―¹–Κ–Η―Ö –≤–Ψ―Ä–Ψ―² –Μ–Β–Ε–Α–Μ–Α –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Α―è –±―Ä―É―¹―΅–Α―²–Κ–Α. –½–¥–Β―¹―¨ –≤ 1905 –≥–Ψ–¥―É ―Ü–Α―Ä―¹–Κ–Η–Β –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α ―Ä–Α―¹―¹―²―Ä–Β–Μ―è–Μ–Η –Ω―É―²–Η–Μ–Ψ–≤―Ü–Β–≤. –Θ―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―Ä―É–±–Β–Ε–Β–Ι –Κ–Η―Ä–Ψ–≤―Ü―΄ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η. –Θ―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β–Κ―É–¥–Α, –½–Α–≤–Ψ–¥ –Ϋ–Α―¹–Φ–Β―Ä―²―¨ ―¹―²–Α–Μ –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―Ä―É–±–Β–Ε–Α―Ö. –ü–Ψ –Ζ–Α–≤–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–Φ―É –¥–≤–Ψ―Ä―É –±–Α―Ä―Ä–Η–Κ–Α–¥―΄ βÄî ―¹–Ψ―²–Ϋ–Η –Η–Μ–Η ―²―΄―¹―è―΅–Η –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤?.. –½–Α ―¹–Ω–Η–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Η―Ä–Ψ–≤―Ü–Β–≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥, –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥, –≤–Ψ–Ζ–¥–≤–Η–≥–Ϋ―É―²―΄–Ι –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η –Η―Ö –Ω―Ä–Β–¥–Κ–Ψ–≤. –ù–Α –Ζ–Α―¹―²–Α–≤–Β –≤–Ψ–Ζ–≤―΄―à–Α–Μ–Α―¹―¨ –Δ―Ä–Η―É–Φ―³–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Α―Ä–Κ–Α βÄî ―¹–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ―¨ –Ω–Ψ–±–Β–¥―΄ 1812 –≥. –Θ –ù–Α―Ä–≤―¹–Κ–Η―Ö –≤–Ψ―Ä–Ψ―² –Μ–Β–Ε–Α–Μ–Α –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Α―è –±―Ä―É―¹―΅–Α―²–Κ–Α. –½–¥–Β―¹―¨ –≤ 1905 –≥–Ψ–¥―É ―Ü–Α―Ä―¹–Κ–Η–Β –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α ―Ä–Α―¹―¹―²―Ä–Β–Μ―è–Μ–Η –Ω―É―²–Η–Μ–Ψ–≤―Ü–Β–≤. –Θ―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―Ä―É–±–Β–Ε–Β–Ι –Κ–Η―Ä–Ψ–≤―Ü―΄ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η. –Θ―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β–Κ―É–¥–Α,
–ù–Α –Ω–Ψ–¥―¹―²―É–Ω–Α―Ö –Κ –ö–Η―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ―É, –≤ ―²―Ä–Β―Ö-―΅–Β―²―΄―Ä–Β―Ö –Κ–Η–Μ–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Α―Ö –Ψ―² –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Α, –Ω–Ψ–Ϋ–Β―¹―è –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Β –Ω–Ψ―²–Β―Ä–Η –≤ –Ε–Η–≤–Ψ–Ι ―¹–Η–Μ–Β, –≤―Ä–Α–≥ –Ψ–Κ–Ψ–Ω–Α–Μ―¹―è, –Ζ–Α―Ä―΄–Μ―¹―è –≤ –Ζ–Β–Φ–Μ―é. –£―¹―é –±–Μ–Ψ–Κ–Α–¥―É ―¹ –≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Η―Ö ―ç―²–Α–Ε–Β–Ι ―Ü–Β―Ö–Ψ–≤ –±―΄–Μ–Η –≤–Η–¥–Ϋ―΄ –Ψ–Κ–Ψ–Ω―΄ –Ω–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–≥–Ψ –Κ―Ä–Α―è, ―¹–Μ―΄―à–Ϋ–Α –Ω―É–Μ–Β–Φ–Β―²–Ϋ–Α―è ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–±–Α.
25 ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä―è –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –≥–Η―²–Μ–Β―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö –≤–Ψ–Ι―¹–Κ –Ζ–Α―Ö–Μ–Β–±–Ϋ―É–Μ–Ψ―¹―¨. –£―Ä–Α–≥ –Ω–Β―Ä–Β―à–Β–Μ –Κ –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β –Ϋ–Α –≤―¹–Β–Φ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–Φ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Β. –Δ–Α–Κ ―²―É―² –≤―¹―é –±–Μ–Ψ–Κ–Α–¥―É –Η ―¹―²–Ψ―è–Μ–Η ―³–Α―à–Η―¹―²―΄ βÄî ―É ―¹–Α–Φ―΄―Ö ―²―Ä–Α–Φ–≤–Α–Ι–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Β–Μ―¨―¹–Ψ–≤, –≤ ―¹–Β–Φ–Η –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Α―Ö –Ψ―² –ö–Η―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, –≤ 14 –Κ–Η–Μ–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Α―Ö –Ψ―² –î–≤–Ψ―Ä―Ü–Ψ–≤–Ψ–Ι βÄî –Ω–Ψ–Μ―΅–Α―¹–Α ―Ö–Ψ–¥―É ―²–Α–Ϋ–Κ–Α–Φ... –Γ―²–Ψ―è–Μ–Η –Η –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Η! –Γ ―Ä―É–±–Β–Ε–Β–Ι 25 ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä―è –¥–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ ―è–Ϋ–≤–Α―Ä―è 1944 –≥–Ψ–¥–Α, –¥–Ϋ―è ―¹–Ϋ―è―²–Η―è –±–Μ–Ψ–Κ–Α–¥―΄, –≤―Ä–Α–≥ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–¥–≤–Η–Ϋ―É–Μ―¹―è –Ϋ–Η –Ϋ–Α –Β–¥–Η–Ϋ―΄–Ι ―à–Α–≥!
–€–Ϋ–Β ―Ö–Ψ―΅–Β―²―¹―è –Ω―Ä–Η–≤–Β―¹―²–Η –≤ –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η–Β –¥–≤–Α ―¹–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α.
–£ ¬Ϊ–‰―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄¬Μ ―³–Α―à–Η―¹―²―¹–Κ–Η–Ι –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ –ö―É―Ä―² –Δ–Η–Ω–Ω–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η―Ä―Ö –Ω–Η―¹–Α–Μ:
¬Ϊ–ë–Ψ–Η –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Α –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹ –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–Ε–Β―¹―²–Ψ―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é. –ù–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η–Β –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α –¥–Ψ―à–Μ–Η –¥–Ψ ―é–Ε–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Β–¥–Φ–Β―¹―²–Η–Ι –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α, –Ψ–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –≤–≤–Η–¥―É ―É–Ω–Ψ―Ä–Ϋ–Β–Ι―à–Β–≥–Ψ ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―è―é―â–Η―Ö―¹―è –≤–Ψ–Ι―¹–Κ, ―É―¹–Η–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―³–Α–Ϋ–Α―²–Η―΅–Ϋ―΄–Φ–Η –Μ–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Η–Φ–Η ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η–Φ–Η, –Ψ–Ε–Η–¥–Α–Β–Φ–Ψ–≥–Ψ ―É―¹–Ω–Β―Ö–Α –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ¬Μ. –ê –≤–Ψ―² –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Β ―¹–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ. ¬Ϊ–î–Α, –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ–Ϋ–Ψ, βÄî –Ω–Η―¹–Α–Μ –≤ ―²–Β –≥–Ψ–¥―΄ –ê.–ê.–Λ–Α–¥–Β–Β–≤, βÄî –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Β –≤ ―¹–Α–Φ―É―é ―Ä–Β―à–Α―é―â―É―é –Φ–Η–Ϋ―É―²―É –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄–Μ–Ψ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ ―²–Β–Μ–Α–Φ–Η ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –≤–Ψ–Η–Ϋ–Ψ–≤. –£–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Κ–Μ–Α―¹―¹–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Ι, –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –¥–Β―¹―è―²–Η–Μ–Β―²–Η–Ι –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–≤―à–Α―è―¹―è –Κ –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Β, –Ω―Ä–Ψ―à–Β–¥―à–Α―è –¥–≤―É―Ö–Μ–Β―²–Ϋ–Η–Ι –Ψ–Ω―΄―² –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –≤ –½–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Ψ–Ι –ï–≤―Ä–Ψ–Ω–Β –Η –Ϋ–Α –ë–Α–Μ–Κ–Α–Ϋ–Α―Ö, –≥–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ–Ψ-―³–Α―à–Η―¹―²―¹–Κ–Α―è –Α―Ä–Φ–Η―è –±―΄–Μ–Α –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Α –Ψ–Ω–Ψ–Μ―΅–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Μ–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Η―Ö ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η―Ö, ―¹–Μ―É–Ε–Α―â–Η―Ö –Η –Η–Ϋ―²–Β–Μ–Μ–Η–≥–Β–Ϋ―²–Ψ–≤. –‰ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Α, βÄî –Ψ–Ϋ–Α –Ω–Ψ–Ϋ–Β―¹–Μ–Α –Ϋ–Β―¹–Μ―΄―Ö–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ―²–Β―Ä–Η –≤ –Μ―é–¥―è―Ö –Η ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Β, –≤―΄–Ϋ―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Α –Ζ–Α―Ä―΄―²―¨―¹―è –≤ –Ζ–Β–Φ–Μ―é –Η –Ϋ–Α ―Ä―è–¥–Β ―É―΅–Α―¹―²–Κ–Ψ–≤ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Α –±―΄–Μ–Α –Ω–Ψ―²–Β―¹–Ϋ–Β–Ϋ–Α. –≠―²–Ψ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι ―³–Α–Κ―², –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è ―¹–Κ―Ä―΄―²―¨, –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ ―¹ –±–Μ–Α–≥–Ψ–≥–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―¹–Ϋ–Η–Φ―É―² ―à–Α–Ω–Κ–Η –±―É–¥―É―â–Η–Β –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Μ―é–¥–Β–Ι¬Μ. –ê –≤–Ψ―² –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Β ―¹–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ. ¬Ϊ–î–Α, –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ–Ϋ–Ψ, βÄî –Ω–Η―¹–Α–Μ –≤ ―²–Β –≥–Ψ–¥―΄ –ê.–ê.–Λ–Α–¥–Β–Β–≤, βÄî –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Β –≤ ―¹–Α–Φ―É―é ―Ä–Β―à–Α―é―â―É―é –Φ–Η–Ϋ―É―²―É –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄–Μ–Ψ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ ―²–Β–Μ–Α–Φ–Η ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –≤–Ψ–Η–Ϋ–Ψ–≤. –£–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Κ–Μ–Α―¹―¹–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Ι, –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –¥–Β―¹―è―²–Η–Μ–Β―²–Η–Ι –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–≤―à–Α―è―¹―è –Κ –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Β, –Ω―Ä–Ψ―à–Β–¥―à–Α―è –¥–≤―É―Ö–Μ–Β―²–Ϋ–Η–Ι –Ψ–Ω―΄―² –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –≤ –½–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Ψ–Ι –ï–≤―Ä–Ψ–Ω–Β –Η –Ϋ–Α –ë–Α–Μ–Κ–Α–Ϋ–Α―Ö, –≥–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ–Ψ-―³–Α―à–Η―¹―²―¹–Κ–Α―è –Α―Ä–Φ–Η―è –±―΄–Μ–Α –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Α –Ψ–Ω–Ψ–Μ―΅–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Μ–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Η―Ö ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η―Ö, ―¹–Μ―É–Ε–Α―â–Η―Ö –Η –Η–Ϋ―²–Β–Μ–Μ–Η–≥–Β–Ϋ―²–Ψ–≤. –‰ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Α, βÄî –Ψ–Ϋ–Α –Ω–Ψ–Ϋ–Β―¹–Μ–Α –Ϋ–Β―¹–Μ―΄―Ö–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ―²–Β―Ä–Η –≤ –Μ―é–¥―è―Ö –Η ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Β, –≤―΄–Ϋ―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Α –Ζ–Α―Ä―΄―²―¨―¹―è –≤ –Ζ–Β–Φ–Μ―é –Η –Ϋ–Α ―Ä―è–¥–Β ―É―΅–Α―¹―²–Κ–Ψ–≤ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Α –±―΄–Μ–Α –Ω–Ψ―²–Β―¹–Ϋ–Β–Ϋ–Α. –≠―²–Ψ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι ―³–Α–Κ―², –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è ―¹–Κ―Ä―΄―²―¨, –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ ―¹ –±–Μ–Α–≥–Ψ–≥–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―¹–Ϋ–Η–Φ―É―² ―à–Α–Ω–Κ–Η –±―É–¥―É―â–Η–Β –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Μ―é–¥–Β–Ι¬Μ.
–ù–Β ―¹―É–Φ–Β–≤ –≤–Ζ―è―²―¨ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ ―à―²―É―Ä–Φ–Ψ–Φ, –≥–Η―²–Μ–Β―Ä–Ψ–≤―Ü―΄ ―Ä–Β―à–Η–Μ–Η –Ζ–Α–¥―É―à–Η―²―¨ –Β–≥–Ψ –≥–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ–Ψ―é –±–Μ–Ψ–Κ–Α–¥–Ψ–Ι.–ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―²
28.05.201400:1728.05.2014 00:17:22
|




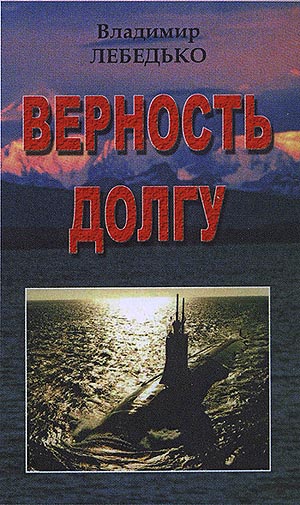








.jpg)


