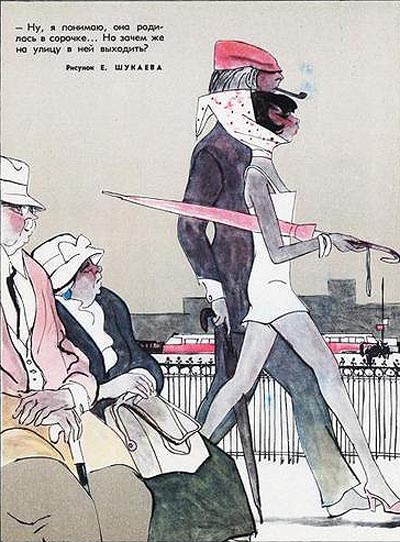–Х—Б–ї–Є —Г—З–µ—Б—В—М, —З—В–Њ –≥–ї–∞–≤–љ–µ–є—И–µ–є –Ј–∞–і–∞—З–µ–є —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –і–µ–ї–µ–≥–∞—Ж–Є–Є –≤ –Ф–∞–≤–Њ—Б–µ –±—Л–ї–Њ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є–µ –±–ї–∞–≥–Њ–њ—А–Є—П—В–љ–Њ–≥–Њ –Є–Љ–Є–і–ґ–∞ —Б—В—А–∞–љ—Л —Г –њ–Њ—В–µ–љ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –Ј–∞–њ–∞–і–љ—Л—Е –Є–љ–≤–µ—Б—В–Њ—А–Њ–≤, —В–Њ –≤—Л–±–Њ—А —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞ –і–µ–ї–µ–≥–∞—Ж–Є–Є –Є —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–µ —Б—Ж–µ–љ–∞—А–Є–µ–≤ –±—Г–і—Г—Й–µ–≥–Њ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –≤—Л–Ј—Л–≤–∞–µ—В –і–∞–ґ–µ –љ–µ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л, –∞ –≤–Њ–Ј–Љ—Г—Й–µ–љ–Є–µ.
–Я–µ—А–≤—Л–є –љ–µ–≥–∞—В–Є–≤–љ—Л–є –њ—А–Њ–≥–љ–Њ–Ј –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—Б—В –Ю–ї–µ–≥ –¶–Є–≤–Є–љ—Б–Ї–Є–є. –Ш –≤—Б—С –±—Л –љ–Є—З–µ–≥–Њ, –µ—Б–ї–Є –±—Л –Њ–љ –љ–µ –±—Л–ї –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–Є–љ–Њ–Љ –°–®–Р, –љ–Њ, –љ–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ, –Ї–∞–Ї —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Є–Ј –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б—В–≤–∞ –Є —Д–∞–Љ–Є–ї–Є–Є, –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –ї—Г—З—И–µ –≤—Б–µ—Е –Ј–љ–∞—В—М –†–Њ—Б—Б–Є—О –Є –µ–µ –±—Г–і—Г—Й–µ–µ. –Т—В–Њ—А–Њ–є –љ–µ–≥–∞—В–Є–≤–љ—Л–є –њ—А–Њ–≥–љ–Њ–Ј –і–Њ–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–ї –њ—А–µ—Б–ї–Њ–≤—Г—В—Л–є –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–є –Ъ—Г–і—А–Є–љ, –∞ —В—А–µ—В–Є–є вАФ –°–µ—А–≥–µ–є –У—Г—А–Є–µ–≤, –Њ–Ї–∞–Ј–∞–≤—И–Є–є—Б—П —Е–Њ—В—М –Є —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є–Љ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–Є–љ–Њ–Љ, —Е–Њ—В—М –Є –њ–Њ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є—О –Њ—Б–µ—В–Є–љ–Њ–Љ, –љ–Њ, –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ, ¬Ђ–њ—А–µ—Б–Љ—Л–Ї–∞–љ—Ж–µ–Љ¬ї, —В.–µ. —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–Љ, –њ–∞—В–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є –њ—А–µ—Б–Љ—Л–Ї–∞—О—Й–Є–Љ—Б—П –њ–µ—А–µ–і –Р–Љ–µ—А–Є–Ї–Њ–є –≤ –ї–Є—Ж–µ –µ–µ —Б–∞–Љ—Л—Е —Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–љ—Л—Е —И—В–∞—В–Њ–≤. –Х—Б–ї–Є –і–Њ–±–∞–≤–Є—В—М, —З—В–Њ –≤ –і–µ–ї–µ–≥–∞—Ж–Є–Є –±—Л–ї –µ—Й–µ –Є –У–µ—А–Љ–∞–љ –У—А–µ—Д –Є –µ—Й–µ —А—П–і –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ –Њ–і–Є–Њ–Ј–љ—Л—Е ¬Ђ–њ–∞—В—А–Є–Њ—В–Њ–≤¬ї, —В–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б–Љ–µ–ї–Њ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞—В—М, —З—В–Њ –†–Њ—Б—Б–Є—П –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –±—Л–ї–∞ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–∞ —Б—В–∞–µ–є ¬Ђ–њ—А–µ—Б–Љ—Л–Ї–∞–љ—Ж–µ–≤¬ї —Б –љ–µ —Б—Е–Њ–і—П—Й–µ–є —Б –ї–Є—Ж–∞ —Г–ї—Л–±–Ї–Њ–є —В–Є–њ–∞ ¬Ђ—З–µ–≥–Њ –Є–Ј–≤–Њ–ї–Є—В–µ-—БвА¶¬ї
¬Ђ–Я—А–µ—Б–Љ—Л–Ї–∞–љ—Ж—Л¬ї –њ—А–µ—Б–Љ—Л–Ї–∞–љ—Ж–∞–Љ–Є, –∞ –≤ —Г–Љ–µ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –Є–Ј –љ–Є—Е –љ–µ –Њ—В–Ї–∞–ґ–µ—И—М —Е–Њ—В—П –±—Л –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ, –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –Є–Љ, –љ–∞ –Љ–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–Љ —Д–Њ—А—Г–Љ–µ –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –њ—А–Њ–Ј–≤—Г—З–∞–ї–∞ –Љ—Л—Б–ї—М, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О —П –љ–∞ –≤—Б–µ –ї–∞–і—Л —А–∞—Б–њ–Є—Б—Л–≤–∞—О –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ –ї–µ—В –њ—П—В—М. –Ф–µ–ї–Њ –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ, –µ—Б–ї–Є –љ–∞—А–Њ–і –љ–∞—З–љ–µ—В –ґ–Є—В—М —Е–Њ—А–Њ—И–Њ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П, –∞ –Ј–∞–≤—В—А–∞ –µ—Й–µ –ї—Г—З—И–µ, –Є, –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ –Ї–Њ–љ—Ж–Њ–≤, –њ–Њ—П–≤–Є—В—Б—П –Ї–ї–∞—Б—Б, —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ—Л–є –њ–µ—А–µ—А–∞—Б–њ—А–µ–і–µ–ї—П—В—М –≤ —Б–≤–Њ—О –њ–Њ–ї—М–Ј—Г –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ 15% –і–Њ—Е–Њ–і–∞ —Б—В—А–∞–љ—Л, —В–Њ —Г —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–ї–∞—Б—Б–∞ –љ–µ–Љ–Є–љ—Г–µ–Љ–Њ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ—Г—В —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б—Л –Є –ґ–µ–ї–∞–љ–Є–µ –Є—Е –Ј–∞—Й–Є—В–Є—В—М. –Ф—А—Г–≥–Є–Љ–Є —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є, –µ—Б–ї–Є –њ—А–∞–≤—П—Й–∞—П ¬Ђ—Н–ї–Є—В–∞¬ї –†–Њ—Б—Б–Є–Є –±—Г–і–µ—В —Б—В—А–µ–Љ–Є—В—М—Б—П –Ї —В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ–±—Л –љ–∞—А–Њ–і –ґ–Є–ї –ї—Г—З—И–µ, —В–Њ –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤—Л—А–∞—Б—В–Є—В –±–Њ–≥–∞—В—Л—А—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Ј–∞—Б—В–∞–≤–Є—В –µ–µ –њ–Њ–і–µ–ї–Є—В—М—Б—П –≤–ї–∞—Б—В—М—О –Є–ї–Є –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –µ–µ –Њ—В–і–∞—В—М. –Т —Б–Є–ї—Г —З–Є—Б–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Є –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ–≥–Њ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–∞, —В–∞–Ї–Њ–є –Ї–ї–∞—Б—Б –±—Г–і–µ—В –њ–∞—В—А–Є–Њ—В–Є—З–µ–љ –Є –±—Г–і–µ—В –≤—Б–µ–Љ–Є —Б–Є–ї–∞–Љ–Є –і–Њ–±–Є–≤–∞—В—М—Б—П –њ–Њ–≤—Л—И–µ–љ–Є—П –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–∞ –ґ–Є–Ј–љ–Є –≤ —Б—В—А–∞–љ–µ. –Т –µ–≥–Њ –љ–µ–і—А–∞—Е –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ–µ—В –Є–і–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—П –Є –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –њ–∞—А—В–Є—П, —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ—Л–µ –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є—В—М —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є—Е –і–µ–ї. –Я–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г —Б–∞–Љ–Њ–є –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ–є –њ—А–µ–і–њ–Њ—Б—Л–ї–Ї–Њ–є –і–ї—П —Н—В–Њ–≥–Њ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Г—Б—В–Њ–є—З–Є–≤–Њ–µ –њ–Њ–≤—Л—И–µ–љ–Є–µ –і–Њ—Е–Њ–і–Њ–≤ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П, —В–Њ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П –њ–Њ–љ—П—В–љ—Л–Љ, –њ–Њ—З–µ–Љ—Г –Њ–љ–Є –љ–µ —А–∞—Б—В—Г—В. –Я–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ —В–∞–Ї–Њ–≤–Њ —Б–Є—Б—В–µ–Љ–љ–Њ–µ —Б–≤–Њ–є—Б—В–≤–Њ –љ—Л–љ–µ—И–љ–µ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є. –Т—Б—П–Ї–Њ–µ –њ–Њ–≤—Л—И–µ–љ–Є–µ –і–Њ—Е–Њ–і–Њ–≤ вАФ —Н—В–Њ –љ–µ–Є–Ј–±–µ–ґ–љ–Њ–µ –≤–Ј—А–∞—Й–Є–≤–∞–љ–Є–µ –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–љ–Ї—Г—А–µ–љ—В–∞, –Є –љ–∞ —Н—В–Њ –љ–Є–Ї—В–Њ –Є–Ј –њ—А–∞–≤—П—Й–µ–є ¬Ђ—Н–ї–Є—В—Л¬ї, –љ–∞—Е–Њ–і—П—Б—М –≤ –Ј–і—А–∞–≤–Њ–Љ —Г–Љ–µ –Є —В—А–µ–Ј–≤–Њ–є –њ–∞–Љ—П—В–Є, –љ–µ –њ–Њ–є–і–µ—В.
–І–µ–Љ –Љ—Л –Ј–∞ —Н—В–Њ –њ–ї–∞—В–Є–Љ? –Я—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ, –љ–µ–і–Њ—А–∞–Ј–≤–Є—В–Њ—Б—В—М—О –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ–≥–Њ —А—Л–љ–Ї–∞, –∞, —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, –њ–ї–Њ—Е–Њ —Д–Њ—А–Љ–Є—А—Г—О—Й–Є–Љ—Б—П —Б–њ—А–Њ—Б–Њ–Љ –ЄвА¶ –љ–µ–і–µ–Љ–Њ–Ї—А–∞—В–Є—З–љ–Њ—Б—В—М—О —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П. –Ф–µ–ї–Њ –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Њ–і–Є–љ –Є–Ј —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л—Е –ї–Є–±–µ—А–∞–ї—М–љ—Л—Е –Љ–Є—Д–Њ–≤ вАФ —Н—В–Њ —Б–≤–Њ–±–Њ–і–∞ –≤—Л–±–Њ—А–∞, –Ї–∞–Ї –њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ, –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–љ–∞—П –њ—А–∞–≤–Њ–Љ –≥–Њ–ї–Њ—Б–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –њ–Њ–ї—М–Ј—Г–µ—В—Б—П —А–∞–Ј –≤ —З–µ—В—Л—А–µ-–њ—П—В—М –ї–µ—В, –∞ –љ–∞ –≤—Б–µ –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Њ–љ –Љ–Њ–ґ–µ—В —Н—В–Њ –њ—А–∞–≤–Њ –Ј–∞—Б—Г–љ—Г—В—М —В—Г–і–∞, –Ї—Г–і–∞ –µ–Љ—Г –њ–Њ–і—Б–Ї–∞–ґ–µ—В –љ–µ–љ–∞–≤—П–Ј—З–Є–≤–∞—П —Д–∞–љ—В–∞–Ј–Є—П. –Ґ–∞–Ї –≤–Њ—В –љ–∞ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ, —Н—В–Њ –љ–µ –і–µ–Љ–Њ–Ї—А–∞—В–Є—П, —Н—В–Њ —Б—Г—А—А–Њ–≥–∞—В –і–µ–Љ–Њ–Ї—А–∞—В–Є–Є, —В–Њ–≥–і–∞ –Ї–∞–Ї –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–∞—П –і–µ–Љ–Њ–Ї—А–∞—В–Є—П –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В—Б—П —В–Њ–≥–і–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ –і–љ—П —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–µ–љ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ –≥–Њ–ї–Њ—Б–Њ–≤–∞—В—М —Б–≤–Њ–Є–Љ —З–µ—Б—В–љ–Њ –Ј–∞—А–∞–±–Њ—В–∞–љ–љ—Л–Љ —А—Г–±–ї–µ–Љ. –Э–Њ —Н—В–Њ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —В–Њ–≥–і–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Н—В–Њ—В —А—Г–±–ї—М –±—Г–і–µ—В –≤–Є–і–µ–љ –Є —Б–ї—Л—И–µ–љ –љ–∞ —Д–Њ–љ–µ ¬Ђ–±–µ–ї–Њ–≥–Њ —И—Г–Љ–∞¬ї, —Б–Њ–Ј–і–∞–≤–∞–µ–Љ–Њ–≥–Њ –Љ–Є–ї–ї–Є–∞—А–і–∞–Љ–Є, –њ—А–Є—Б–≤–Њ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –њ—А–∞–≤—П—Й–µ–є ¬Ђ—Н–ї–Є—В–Њ–є¬ї. –Ы–Є–±–Њ –†–Њ—Б—Б–Є—П –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ —А–∞–Ј–≤–Є–≤–∞—В—М—Б—П вАФ —В–µ—Е–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є, –љ–∞—Г—З–љ–Њ, —Д–Є–љ–∞–љ—Б–Њ–≤–Њ, –Є–љ—Д—А–∞—Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А–љ–Њ вАФ –Є –њ–Њ—А–Њ–і–Є—В—М, –Ї–∞–Ї —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–µ, –љ–Њ–≤—Л–є –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Ї–ї–∞—Б—Б, –ї–Є–±–Њ –Њ–љ–∞ –Њ–±—А–µ—З–µ–љ–∞ –љ–∞ —Б—В–∞–≥–љ–∞—Ж–Є—О, –Є –≤—Б–µ —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А—Л –Њ–± –Є–љ–љ–Њ–≤–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–Љ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–Є —Б—В—А–∞–љ—Л вАФ —Н—В–Њ –±–∞–љ–∞–ї—М–љ–Њ–µ, –Ї–∞–Ї —В–µ–њ–µ—А—М –≥–Њ–≤–Њ—А—П—В, ¬Ђ—А–∞–Ј–≤–Њ–і–Є–ї–Њ–≤–Њ¬ї, –Є–Љ–µ—О—Й–µ–µ —Б–≤–Њ–µ–є —Ж–µ–ї—М—О –Ї–∞–Ї –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –і–Њ–ї—М—И–µ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є—В—М –љ—Л–љ–µ—И–љ—О—О –њ—А–∞–≤—П—Й—Г—О ¬Ђ—Н–ї–Є—В—Г¬ї.
–Ф–∞–ї–µ–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –µ—Й–µ –Њ–і–Є–љ –Ї—А–∞—Б–Є–≤—Л–є –Љ–Є—Д –њ—А–Њ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –±–ї–∞–≥–Њ–њ—А–Є—П—В–љ–Њ–≥–Њ –Є–љ–≤–µ—Б—В–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–ї–Є–Љ–∞—В–∞. –Ш —В—Г—В —П –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г –љ–µ –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М –Њ–± –Њ–і–љ–Њ–є –і–∞–Љ–µ, –Ї –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –њ–Њ –≤–Њ–ї–µ –љ–∞—И–Є—Е –ґ—Г—А–љ–∞–ї–Є—Б—В–Њ–≤ –Є–Ј –≥–∞–Ј–µ—В—Л ¬Ђ–Ъ—А–∞—Б–љ–∞—П –Ј–≤–µ–Ј–і–∞¬ї –њ—А–Є–Ї–ї–µ–Є–ї–Њ—Б—М —В–∞–Ї –њ–Њ–љ—А–∞–≤–Є–≤—И–µ–µ—Б—П –µ–є –њ—А–Њ–Ј–≤–Є—Й–µ ¬Ђ–ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–∞—П –ї–µ–і–Є¬ї. –Я–Њ—З–µ–Љ—Г —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –≤ –љ–∞—И–µ–є —Б—В—А–∞–љ–µ –љ–Є–Ї—В–Њ –љ–µ —Е–Њ—З–µ—В –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—В—М —Б—Г—Й–љ–Њ—Б—В—М –µ–µ —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —А–µ—Д–Њ—А–Љ, –њ–Њ–ї—Г—З–Є–≤—И–Є—Е –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ —В—Н—В—З–µ—А–Є–Ј–Љ–∞? –Я–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ —Н—В–Њ –љ–µ–≤—Л–≥–Њ–і–љ–Њ, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –љ–∞ —Д–Њ–љ–µ —А–µ—Д–Њ—А–Љ –Ь–∞—А–≥–∞—А–µ—В –Ґ—Н—В—З–µ—А —А–µ—Д–Њ—А–Љ—Л –љ–∞—И–µ–≥–Њ –њ—А–µ–Љ—М–µ—А–∞ вАФ —Н—В–Њ –і–µ—В—Б–Ї–Є–є –ї–µ–њ–µ—В. –Я–Њ—П—Б–љ—О —Б–≤–Њ—О –Љ—Л—Б–ї—М. –Ф–∞, —Б–љ–∞—З–∞–ї–∞ –Ґ—Н—В—З–µ—А —Б–љ–µ—Б–ї–Њ –Ї—А—Л—И—Г –Є –Њ–љ–∞ –Ј–∞—А–∞–±–Њ—В–∞–ї–∞ –љ–µ–ї–µ—Б—В–љ–Њ–µ –њ—А–Њ–Ј–≤–Є—Й–µ ¬Ђ–Ґ—Н—В—З–µ—А –Ь–∞—А–≥–Њ—И–∞ вАФ –Љ–Њ–ї–Њ–Ї–∞ –Њ—В–љ–Є–Љ–Њ—И–∞¬ї (Thatcher вАФ Milk Snatcher) –Ј–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –≤ —Ж–µ–ї—П—Е —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е —Б—А–µ–і—Б—В–≤ –Њ—В–Љ–µ–љ–Є–ї–∞ –≤—Л–і–∞—З—Г –±–µ—Б–њ–ї–∞—В–љ–Њ–є –µ–ґ–µ–і–љ–µ–≤–љ–Њ–є –Ї—А—Г–ґ–Ї–Є –Љ–Њ–ї–Њ–Ї–∞ –≤ —И–Ї–Њ–ї–∞—Е. –Э–Њ, –љ—Г–ґ–љ–Њ –Њ—В–і–∞—В—М –µ–є –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ–µ, –Ї—А–Є—В–Є–Ї–∞ –µ–µ –њ–µ—А–≤—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–ї–∞ –љ–∞ –љ–µ–µ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ–µ –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є–µ, –Є –Њ–љ–∞ —Б—Г–Љ–µ–ї–∞ —Б–Њ–Ј–і–∞—В—М —Г–Љ–љ–µ–є—И—Г—О –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г, —Б—Г–Љ–µ–≤—И—Г—О, –≤ –Є—В–Њ–≥–µ, –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ—В—М –Ї—А–Є–Ј–Є—Б–љ—Л–µ —П–≤–ї–µ–љ–Є—П –≤ –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Њ–є —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї–µ. –£ –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–µ—И–µ–љ–Є—П –µ—Б—В—М —Б–≤–Њ–є —Б—А–Њ–Ї –ґ–Є–Ј–љ–Є, –Є —Г–і–∞—З–љ—Л–µ —А–µ—И–µ–љ–Є—П —В–Њ–≥–і–∞—И–љ–µ–≥–Њ –±—А–Є—В–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–Љ—М–µ—А–∞ –љ–µ —Б–њ–∞—Б–∞—О—В —Б—В—А–∞–љ—Г —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Б—В—А–∞–љ–∞ –Ј–∞—А–∞–±–∞—В—Л–≤–∞–µ—В —А–Њ–≤–љ–Њ —Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ, —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –µ–є –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –і–ї—П –Њ–±—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞–љ–Є—П –≤–љ–µ—И–љ–µ–≥–Њ –і–Њ–ї–≥–∞, –Є –µ–µ —Б—З–∞—Б—В—М–µ –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –њ–Њ–Ї–∞ –љ–µ–Ї–Њ–Љ—Г –њ–Њ–њ—А–Њ—Б–Є—В—М –С—А–Є—В–∞–љ–Є—О —В–∞–Ї, —З—В–Њ–±—Л –Њ–љ–∞ –Ј–∞—Е–Њ—В–µ–ї–∞ —Н—В–Њ—В –і–Њ–ї–≥ –≤–µ—А–љ—Г—В—М. –Э–Њ –≤–µ—А–љ–µ–Љ—Б—П –Ї ¬Ђ–ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–є –ї–µ–і–Є¬ї, –Є —П –њ–Њ—Б—В–∞—А–∞—О—Б—М –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М —В–Њ, —З—В–Њ –±—А–Є—В–∞–љ—Б–Ї–Є–µ —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Є–Ј–і–∞–љ–Є—П –њ–Є—Б–∞–ї–Є –Њ –љ–µ–є –≤ 1970-–≥–Њ–і—Л. –Ґ–Њ–≥–і–∞ –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞–≤–ї—П–µ–Љ–Њ–µ –µ—О –±—А–Є—В–∞–љ—Б–Ї–Њ–µ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –≤—Л–Ї—Г–њ–∞–ї–Њ —Г —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ ¬Ђ–ї–µ–ґ–∞–≤—И–Є–µ –љ–∞ –±–Њ–Ї—Г¬ї —З–∞—Б—В–љ—Л–µ –њ—А–µ–і–њ—А–Є—П—В–Є—П –Є –Ј–∞ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є —Б—З–µ—В –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–Њ –Є—Е —Б–∞–љ–∞—Ж–Є—О. –Ф–µ–ї–∞–ї–Њ—Б—М —Н—В–Њ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–∞ –Ь–∞—А–≥–∞—А–µ—В –Ґ—Н—В—З–µ—А –±—Л–ї–∞ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ —Г–≤–µ—А–µ–љ–∞, —З—В–Њ –љ–Є –Њ–і–Є–љ —З–∞—Б—В–љ—Л–є —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї –љ–µ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–µ–љ –њ–µ—А–µ–≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–Є—В—М –Є —Б–і–µ–ї–∞—В—М —А–µ–љ—В–∞–±–µ–ї—М–љ—Л–Љ —Б–≤–Њ–µ –њ—А–µ–і–њ—А–Є—П—В–Є–µ, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –≤ —В–∞–Ї–Є—Е —Д–Њ–љ–і–Њ–µ–Љ–Ї–Є—Е –Њ—В—А–∞—Б–ї—П—Е, –Ї–∞–Ї , –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, —З–µ—А–љ–∞—П –Љ–µ—В–∞–ї–ї—Г—А–≥–Є—П. –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤—Г –ґ–µ —В–∞–Ї–Є–µ –Љ–∞—Б—И—В–∞–±—Л –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –њ–Њ —Б–Є–ї–∞–Љ. –Я–Њ—Б–ї–µ —В–Њ–≥–Њ –Ї–∞–Ї –њ—А–µ–і–њ—А–Є—П—В–Є–µ –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –њ–µ—А–µ–≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–∞–ї–Њ—Б—М –Є —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Њ—Б—М –Ї–Њ–љ–Ї—Г—А–µ–љ—В–Њ—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ—Л–Љ, –µ–≥–Њ –≤–љ–Њ–≤—М –≤—Л—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Є –љ–∞ —В–Њ—А–≥–Є –Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ –њ—А–Њ–і–∞–≤–∞–ї–Њ –µ–≥–Њ –≤ —З–∞—Б—В–љ—Л–µ —А—Г–Ї–Є —Б –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –≤—Л–≥–Њ–і–Њ–є –і–ї—П —Б–µ–±—П. –Ґ–∞–Ї–Њ–≤ –±—Л–ї —Б–Љ—Л—Б–ї –њ—А–Є–≤–∞—В–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є, —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–∞–љ–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–є –Ґ—Н—В—З–µ—А. –Э–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Н—В–Њ, –Ј–љ–∞—З–Є—В –љ–µ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М –љ–Є—З–µ–≥–Њ. –Я–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –Њ–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–µ –Љ–Њ–і–µ—А–љ–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–µ –њ—А–µ–і–њ—А–Є—П—В–Є–µ, –њ—А–µ–ґ–і–µ —З–µ–Љ –њ–Њ–і–≤–µ—А–≥–∞—В—М—Б—П –њ—А–Є–≤–∞—В–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є, –≥—А–∞–Љ–Њ—В–љ–Њ –≤–њ–Є—Б—Л–≤–∞–ї–Њ—Б—М –≤ —Д–Є–љ–∞–љ—Б–Њ–≤—Л–є –Є –њ—А–∞–≤–Њ–≤–Њ–є –Ї–Њ–љ—В–µ–Ї—Б—В –Є –њ–Њ–і–Ї—А–µ–њ–ї—П–ї–Њ—Б—М —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є–µ–Љ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–Є –Ї–∞–і—А–Њ–≤.
–Ъ–∞–Ї –Ґ—Н—В—З–µ—А —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–ї–∞ —Д–Є–љ–∞–љ—Б–Њ–≤—Л–є –Ї–Њ–љ—В–µ–Ї—Б—В? –Я—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ, —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї–∞ –≤ —Ж–µ–ї–Њ–Љ —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–ї–∞—Б—М –Ї–∞–Ї –њ–Њ–ї–µ, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ–і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—В –Њ—В—А–∞—Б–ї–Є –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –≥—А—Г–њ–њ—Л –Р –Є –≥—А—Г–њ–њ—Л –С. –Ф–ї—П —В–µ—Е, –Ї—В–Њ —Н—В–Њ–є –∞–Ј–±—Г—З–љ–Њ–є –Є—Б—В–Є–љ—Л –љ–µ –њ–Њ–Љ–љ–Є—В, —Б–Њ–Њ–±—Й–∞—О, —З—В–Њ –≥—А—Г–њ–њ–∞ –Р вАФ —Н—В–Њ —В—П–ґ–µ–ї–∞—П –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М, –∞ –≥—А—Г–њ–њ–∞ –С вАФ –ї–µ–≥–Ї–∞—П. –Ю–љ–Є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є–Ј—Г—О—В—Б—П —А–∞–Ј–љ—Л–Љ–Є —Ж–Є–Ї–ї–∞–Љ–Є –ґ–Є–Ј–љ–Є. –Х—Б–ї–Є –≤ –≥—А—Г–њ–њ–µ –Њ—В—А–∞—Б–ї–µ–є –ї–µ–≥–Ї–Њ–є –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є —Б—А–µ–і–љ–Є–є –њ–µ—А–Є–Њ–і –Ј–∞–Љ–µ–љ—Л –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л—Е —Д–Њ–љ–і–Њ–≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В —З–µ—В—Л—А–µ –≥–Њ–і–∞, —В–Њ –≤ —В—П–ґ–µ–ї–Њ–є –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є —Ж–Є–Ї–ї –і–ї–Є—В—Б—П –Њ—В 10 –і–Њ 15 –ї–µ—В. –° —Д–Є–љ–∞–љ—Б–Њ–≤–Њ–є —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П —Н—В–Њ –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–µ—В, —З—В–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ, –Њ–і–Є–љ —А–∞–Ј –≤–ї–Њ–ґ–Є–≤—И–Є—Б—М –і–µ–љ–µ–ґ–љ—Л–Љ–Є —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞–Љ–Є –≤ —В—П–ґ–µ–ї—Г—О –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М, –Љ–Њ–ґ–µ—В –њ–Њ—В–Њ–Љ –Љ–Њ—В–Є–≤–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –±–∞–љ–Ї–Є –љ–∞ –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Ї—А–µ–і–Є—В–Њ–≤ –ї–µ–≥–Ї–Њ–є –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ —В–µ–Љ –µ–µ –њ—А–µ–і–њ—А–Є—П—В–Є—П–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –і–Њ—Б—В–Є–≥–ї–Є –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј–љ–Њ—Б–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л—Е —Д–Њ–љ–і–Њ–≤. –Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ–ї—М–Ј—Г—П—Б—М –њ—А–Є–±—Л–ї—М—О –Њ—В —В—П–ґ–µ–ї–Њ–є –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –±–µ–Ј –њ—А–Є–≤–ї–µ—З–µ–љ–Є—П —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ—Л—Е –≤–љ–µ—И–љ–Є—Е –Є–љ–≤–µ—Б—В–Є—Ж–Є–є, –±–∞–љ–Ї–Є —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ—Л –Ї—А–µ–і–Є—В–Њ–≤–∞—В—М –ї–µ–≥–Ї—Г—О –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Є —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –µ–µ –њ–µ—А–µ–≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—О. –І–∞—Б—В—М –њ—А–Є–±—Л–ї–Є, –Ј–∞—А–∞–±–∞—В—Л–≤–∞–µ–Љ–Њ–є –ї–µ–≥–Ї–Њ–є –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О, –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П –≤ —Д–Њ–љ–і —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П —В—П–ґ–µ–ї–Њ–є –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –Є –Ї–Њ–≥–і–∞, —Б–Ї–∞–ґ–µ–Љ, —З–µ—А–µ–Ј –і–µ—Б—П—В—М –ї–µ—В, –љ–∞—Б—В—Г–њ–∞–µ—В –њ–Њ—А–∞ –µ–µ –Љ–Њ–і–µ—А–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є, —Г –±–∞–љ–Ї–Њ–≤ —Г–ґ–µ –≥–Њ—В–Њ–≤—Л —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞, –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ—Л–µ –і–ї—П –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П —Н—В–Њ–є –Ј–∞–і–∞—З–Є. –Ф–∞–ї—М—И–µ –њ–Њ–≤—В–Њ—А—П–µ—В—Б—П –≤—Б–µ —В–Њ –ґ–µ —Б–∞–Љ–Њ–µ: —В—П–ґ–µ–ї–∞—П –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞—В—М —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –±–∞–љ–Ї–∞–Љ, –±–∞–љ–Ї–Є –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї—П—О—В –Є—Е –љ–∞ –њ–µ—А–µ–≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ –ї–µ–≥–Ї–Њ–є –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П, –≤ —Б–≤–Њ—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М, –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –љ–µ—Б–Њ–≤–њ–∞–і–µ–љ–Є—О –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ—Л—Е —Ж–Є–Ї–ї–Њ–≤, –Є–Љ–µ–µ—В –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –Њ—В—З—Г–ґ–і–∞—В—М —З–∞—Б—В—М —Б—А–µ–і—Б—В–≤ –≤ –њ–Њ–ї—М–Ј—Г —В—П–ґ–µ–ї–Њ–є –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є. –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –Є–≥—А–∞–µ—В —А–Њ–ї—М —Г–Љ–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–≥—Г–ї—П—В–Њ—А–∞. –Ґ–∞–Ї–Њ–µ –њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –Є–љ—В–µ–ї–ї–µ–Ї—В—Г–∞–ї—М–љ—Л–Љ. –Э–Њ –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –і–∞–ґ–µ —Б–Љ–µ—А—В—М –Ґ—Н—В—З–µ—А –љ–µ –Ј–∞—Б—В–∞–≤–Є–ї–∞ –љ–∞—И—Г ¬Ђ—Н–ї–Є—В—Г¬ї –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М –Њ–± —Н—В–Њ–Љ –±—А–Є—В–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ –Њ–њ—Л—В–µ —Б–Њ—А–Њ–Ї–∞–ї–µ—В–љ–µ–є –і–∞–≤–љ–Њ—Б—В–Є, –≤—Л –Љ–Њ–ґ–µ—В–µ —Б–∞–Љ–Є –њ–Њ–љ—П—В—М, –Ї–∞–Ї –љ–∞—И–∞ ¬Ђ—Н–ї–Є—В–∞¬ї —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞–µ—В —Б –≤–∞–Љ–Є. –Э–∞ —Н—В–Њ–Љ –Ј–∞–Ї–∞–љ—З–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –Љ–Є—Д –Њ–± –Є–љ–≤–µ—Б—В–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–Љ –Ї–ї–Є–Љ–∞—В–µ.
–£—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Є –і–∞–≤–Њ—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–Њ—А—Г–Љ–∞ –Љ–µ—В–Њ–і–Њ–Љ –≥–Њ–ї–Њ—Б–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ—А–Є—И–ї–Є –Ї –≤—Л–≤–Њ–і—Г, —З—В–Њ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–Љ–Є –≤—Л–Ј–Њ–≤–Њ–Љ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П—И–љ–µ–є –†–Њ—Б—Б–Є–Є —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Ї–Њ—А—А—Г–њ—Ж–Є—П. –Т —Б–≤—П–Ј–Є —Б —Н—В–Є–Љ –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В—Б—П —Б–ї—Г—З–∞–є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –љ–∞—З–∞–ї–µ 1990-—Е –≤ –Ш—А–ї–∞–љ–і–Є–Є –±—Л–ї–∞ —Г–±–Є—В–∞ –Љ–Њ–ї–Њ–і–∞—П –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞-—Б—Г–і—М—П, –≤–µ–і—И–∞—П –і–µ–ї–Њ –Њ –Ї–Њ—А—А—Г–њ—Ж–Є–Є –Є –Љ–∞—Д–Є–Њ–Ј–љ—Л—Е —Б—Е–µ–Љ–∞—Е. –І–µ—А–µ–Ј –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–љ–µ–є –њ–Њ—Б–ї–µ —Г–±–Є–є—Б—В–≤–∞ –њ–∞—А–ї–∞–Љ–µ–љ—В –њ—А–Њ–≥–Њ–ї–Њ—Б–Њ–≤–∞–ї –Ј–∞ –Њ—В–Љ–µ–љ—Г –±–∞–љ–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є —В–∞–є–љ—Л, –њ–Њ—Б–ї–µ —З–µ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞—О—В, –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ–∞—П –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–љ–Њ—Б—В—М –њ–Њ–Ї–Є–љ—Г–ї–∞ –Њ—Б—В—А–Њ–≤. –Х—Б–ї–Є –±—Л —Г –љ–∞—Б –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞ –±–∞–љ–Ї–Њ–≤—Б–Ї–∞—П —В–∞–є–љ–∞, —В–Њ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї–Є –Њ–і–љ–Њ–є –љ–∞–ї–Њ–≥–Њ–≤–Њ–є –Є–љ—Б–њ–µ–Ї—Ж–Є–Є –љ–µ —Б–Љ–Њ–≥–ї–Є –±—Л ¬Ђ–њ–µ—А–µ–≥–љ–∞—В—М¬ї ¬Ђ–ї–µ–≤—Л–µ¬ї –і–µ–љ—М–≥–Є –љ–∞ —Б–≤–Њ–Є —Б—З–µ—В–∞ –Ј–∞ —А—Г–±–µ–ґ–Њ–Љ. –Э–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–Њ—Б—М –±—Л –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –љ–∞—И—Г —Б—В—А–∞–љ—Г –Њ–±–≤–Є–љ—П–µ—В –С—А–∞—Г–і–µ—А, –Ь–∞–≥–љ–Є—В—Б–Ї–Є–є –±—Л–ї –±—Л, —Б–Ї–Њ—А–µ–µ –≤—Б–µ–≥–Њ, –і–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А –ґ–Є–≤, –∞ –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Ї–Њ–љ–≥—А–µ—Б—Б—Г –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –±—Л —З—Г—В—М –±–Њ–ї—М—И–µ —А–∞–±–Њ—В–∞—В—М —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є –Є–Ј–≤–Є–ї–Є–љ–∞–Љ–Є, –≥–Њ—В–Њ–≤—П –Њ—З–µ—А–µ–і–љ—Г—О –њ–∞–Ї–Њ—Б—В—М –њ—А–Њ—В–Є–≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є. –≠—В–Њ –љ–µ –Ј–љ–∞—З–Є—В, —З—В–Њ –Њ—В–Љ–µ–љ–∞ –±–∞–љ–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є —В–∞–є–љ—Л –Є—Б–Ї–Њ—А–µ–љ–Є—В –Ї–Њ—А—А—Г–њ—Ж–Є—О –≤ –љ–∞—И–µ–є —Б—В—А–∞–љ–µ, –љ–Њ —Н—В–Њ –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–µ—В, —З—В–Њ —Г –Ї–Њ—А—А—Г–њ—Ж–Є–Є –µ—Б—В—М –±–Њ–ї–µ–≤—Л–µ —В–Њ—З–Ї–Є, –≤–Њ–Ј–і–µ–є—Б—В–≤—Г—П –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ, –µ–µ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –µ—Б–ї–Є –љ–µ —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–Є—В—М, —В–Њ –Ј–∞–≥–љ–∞—В—М –≤ —Г–≥–Њ–ї.
–Ь–љ–µ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –≤—Б–µ-—В–∞–Ї–Є –Ї–Њ—А—А—Г–њ—Ж–Є—П –і–ї—П –†–Њ—Б—Б–Є–Є –љ–µ —В–∞–Ї —Б—В—А–∞—И–љ–∞, –Ї–∞–Ї –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –љ–∞—И–µ–≥–Њ –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В–∞ –Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–Њ–≤ –Є –µ–≥–Њ –њ—А–µ–Љ—М–µ—А–∞. –°–Њ–Ј–і–∞–µ—В—Б—П —В–∞–Ї–Њ–µ –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є–µ, —З—В–Њ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ —Г–≤–µ—А–µ–љ–Њ –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –≤—Б–µ, –Є–Љ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ—П–µ–Љ–Њ–µ, —Н—В–Њ –Є –µ—Б—В—М —А–∞–±–Њ—В–∞ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞, –Ј–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —А–∞–Ј –≤ –Љ–µ—Б—П—Ж –ґ–і–∞—В—М –Њ–±–µ—Й–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Ј–љ–∞–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ–Є—П. –Я—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–∞ —Б—В–Њ–ї—М —Б–Є–ї—М–љ–∞—П –і–µ–≤–∞–ї—М–≤–∞—Ж–Є—П –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–µ–є, —З—В–Њ –і–∞–ґ–µ –њ—А–µ–Ј–Є–і–µ–љ—В –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В: –і–∞–є—В–µ –Љ–Є–љ–Є—Б—В—А—Г —Е–Њ—В—П –±—Л –≥–Њ–і –њ–Њ—А–∞–±–Њ—В–∞—В—М вАФ –Њ–љ –њ–Њ—В–Њ–Љ –љ–∞—Г—З–Є—В—Б—П. –І–µ–Љ—Г –љ–∞—Г—З–Є—В—Б—П –њ—А–µ—Б–Љ—Л–Ї–∞–љ–µ—Ж –Ф–≤–Њ—А–Ї–Њ–≤–Є—З? –Р –њ—А–µ—Б–Љ—Л–Ї–∞–љ–µ—Ж –У—Г—А–Є–µ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≥–Њ—В–Њ–≤ –і–µ–љ–љ–Њ –Є –љ–Њ—Й–љ–Њ –Љ–Њ–ї–Є—В—М—Б—П –љ–∞ —Б—В—А–∞–љ—Г, –Њ–±–Є—А–∞—О—Й—Г—О –µ–≥–Њ —А–Њ–і–Є–љ—Г –і–Њ –љ–Є—В–Ї–Є? –Р –і–µ–≤–Њ—З–Ї–∞-–љ–µ—Б–Љ—Л—И–ї–µ–љ—Л—И, –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–љ–∞—П –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А–Њ–Љ –Ш–љ—Б—В–Є—В—Г—В–∞ –У–µ–љ–њ–ї–∞–љ–∞ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –≤ –њ–µ—А–≤–Њ–Љ –Є–љ—В–µ—А–≤—М—О –≤ –љ–Њ–≤–Њ–є –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –Њ–±–Љ–Њ–ї–≤–Є–ї–∞—Б—М: ¬Ђ–£ –љ–∞—Б –≤ –Р–Љ–µ—А–Є–Ї–µвА¶¬ї?
–Т—З–µ—А–∞ –≤ —Б–µ—В–Є ¬Ђ–§–µ–є—Б–±—Г–Ї¬ї –Ї—В–Њ-—В–Њ –Ј–∞–і–∞–ї –≤–Њ–њ—А–Њ—Б: –њ–Њ—З–µ–Љ—Г –љ–∞ –Ч–∞–њ–∞–і–µ –њ–µ–љ—Б–Є–Є –≤ 6-10 —А–∞–Ј –≤—Л—И–µ, —З–µ–Љ —Г –љ–∞—Б? –Ю—В–≤–µ—З–∞—О: –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –Љ—Л —Б –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ —А—Г–±–ї—П –ґ–µ—А—В–≤—Г–µ–Љ –≤ –Є—Е –њ–Њ–ї—М–Ј—Г 30 –Ї–Њ–њ–µ–µ–Ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ —В—А–µ—В—М –љ–∞—И–µ–є –і–µ–љ–µ–ґ–љ–Њ–є –Љ–∞—Б—Б—Л –Ј–∞—А–∞–±–∞—В—Л–≤–∞–µ—В –Ј–≤–∞–љ–Є–µ ¬Ђ–≥–µ—А–Њ—П —В—А—Г–і–∞¬ї, —Б—А–∞–ґ–∞—П—Б—М –љ–∞ –њ–Њ–ї—П—Е –і—А—Г–≥–Є—Е —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї. –Я–Њ—З–µ–Љ—Г? –Я–Њ—В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –Є –љ–∞—И—Г ¬Ђ–≤–ї–∞—Б—В–љ—Г—О —Н–ї–Є—В—Г¬ї, –Є –љ–∞—И–µ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ, –Є –љ–∞—И –¶–µ–љ—В—А–Њ–±–∞–љ–Ї, –Є –љ–∞—И–Є—Е –≤–Є–і–љ—Л—Е —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—Б—В–Њ–≤ –Є —Д–Є–љ–∞–љ—Б–Є—Б—В–Њ–≤ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –љ–∞–Ј–≤–∞—В—М –Ї–∞–Ї —Г–≥–Њ–і–љ–Њ, –љ–Њ –љ–µ–ї—М–Ј—П –љ–∞–Ј–≤–∞—В—М –њ–∞—В—А–Є–Њ—В–∞–Љ–Є —Б–≤–Њ–µ–є —Б—В—А–∞–љ—Л, –љ–µ –њ–Њ–≥—А–µ—И–Є–≤ –њ—А–Њ—В–Є–≤ –Є—Б—В–Є–љ—Л,
28 –∞–њ—А–µ–ї—П 2013 –≥.