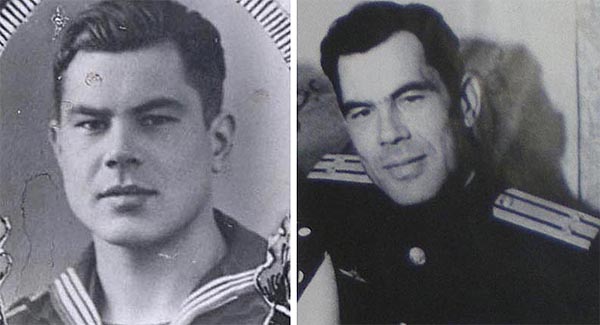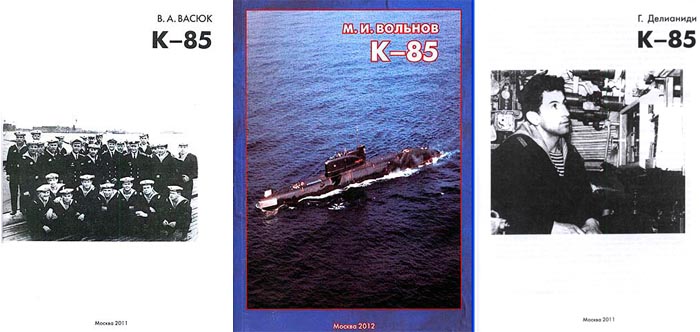Есть на флоте команда - "Большой сбор".
Ею не злоупотребляют. И по пустякам она не звучит. Лишь по необходимости, когда на корабле случается нечто действительно серьезное и необходимо, чтобы это узнали все. И чтобы все приняли участие в каком-то важном, большом деле.
Таким большим и серьезным сообщением стала информация о том, что крейсер «Аврора» исключен из состава Военно-Морского Флота России. С его борта снят экипаж, корабль передан музею флота. Большого сбора постарались избегнуть. А всех тех, кто этого требовал, прежде всего, самих военных моряков, постарались не услышать.
Между тем, именно на флоте от века существует другая традиция – в переломные минуты на командирский мостик приглашаются офицеры корабля. По старшинству и возрасту, от юного мичмана до умудренного сединами старшего офицера, они высказывали свои предложения, как действовать в той или иной обстановке. И только выслушав их всех, командир имеет моральное право принять собственное решение – вступать в бой или уклоняться, идти навстречу смерти или пока избегнуть.
Так было и на «Авроре», когда офицеры и экипаж крейсера готовился к Цусимскому сражениию. Именно этот событие – Цусима – лично для меня во многом самое главное в его биографии. Почему так, сразу не расскажешь. Может быть, потом, в дальнейшем. А сейчас открываю мало кому известную работу Л.Л.Поленова «Крейсер «Аврора» в Великом сражении Японского моря» и читаю:
«В боевой рубке… находились командир корабля Е. Р. Егорьев и старшие специалисты - штурман лейтенант К. В. Прохоров, артиллерист лейтенант А. Н. Лосев, минер лейтенант Г. К. Старк, рулевой Е. И. Цапков и младший штурман мичман Б. Н. Эймонт. Разорвавшийся перед рубкой шестидюймовый снаряд окутал все удушливым дымом. Вслед за ним 75-мм снаряд разорвался на трапе переднего мостика, рядом с рубкой…»
Из этого боя, получив более ста пробоин, корабль вышел живым. Благодаря мужеству и "отработанности", как говорят на флоте, его экипажа. Какой на нем был экипаж, можно видеть из дневниковой записи корабельного доктора В. С. Кравченко, перед походом назначенного на корабль: «Впечатление от "Авроры" самое благоприятное. Команда веселая, бодрая, смотрит прямо в глаза, а не исподлобья, по палубе не ходит, а прямо летает, исполняя приказания».
Сегодня можно практически по минутам восстановить тот бой.
Вот записи из вахтенного журнала:
"Суббота, 14 мая, в Корейском проливе.
6 ч 30 мин (с полуночи). На правом траверзе заметили японский крейсер "Идзуми".
7 ч 00 мин. С левой стороны появились японские крейсеры: "Мацусима", "Икацусима", "Хасидате", "Чин-Иен" и "Акаши".
7 ч 40 мин. Отряд японских крейсеров скрылся в тумане.
8 ч 50 мин. На левом траверзе появились японские крейсеры.
9 ч 30 мин. Крейсеры удалились"…
"В 10 ч 45 мин впереди по курсу показались еще четыре неприятельских крейсера: "Читозе", "Касаги", "Ниитака" и "Цусима". Поравнявшись с русской эскадрой, они легли на слегка сходящийся с нею курс и стали постепенно приближаться. Броненосец береговой обороны "Адмирал Ушаков", спровоцированный близостью неприятеля, не выдержал и открыл огонь. «Этот исполненный боевой горячностью, но нетерпеливый шаг со стороны "Ушакова" в значительной степени повлиял на психический подъем духа у японцев,— напишет позже старший артиллерийский офицер "Авроры" лейтенант А. Н. Лосев,— но, к сожалению, этим было с нашей стороны доказано, что мы находимся в весьма возбужденном нервном состоянии, которое заставило нас потерять самообладание, столь необходимое во время боя. Этим благородным порывом были увлечены и другие наши суда, последовавшая вслед за "Ушаковым" стрельба со стороны третьего отряда (отряд адмирала Небогатова - авт.), а затем и со стороны всей эскадры убедила японцев в том, что самообладание потеряно не только на "Ушакове", но и на всей эскадре. "Суворов" (эскадренный броненосец под флагом командующего 2-й Тихоокеанской эскадры -- авт.) понял наше состояние и сейчас же остановил его». В 11 ч 15 мин с "Суворова" последовал сигнал: «не бросать снаряды»»…
И далее у Поленова:
«Осколки снаряда и трапа, попав сквозь смотровую амбразуру в рубку, отразились от ее купола и разлетелись в разные стороны. В рубке упали все. Крейсер, оставшийся без управления, на какое-то мгновение рыскнул, но тут же был приведен на курс вскочившим на ноги рулевым Цапковым. Поднялись Прохоров, Лосев, Старк и Эймонт. Все были ранены, у всех на белых кителях алела кровь. Остался лежать только Е. Р. Егорьев, из его головы, пронзенной осколком, лила кровь. В командование кораблем вступил старший штурман Прохоров, но вскоре его сменил подоспевший с ростр, где руководил тушением пожара, старший офицер А. К. Небольсин, тоже уже серьезно раненый. Обязанности по руководству борьбой с пожарами и боевыми повреждениями возложены на лейтенанта Старка.
А повреждений было немало. Пылали ростры и стоящие на них разбитые барказы. В правом борту у ватерлинии оказалось двенадцать небольших пробоин, через которые вода стала проникать в носовые угольные ямы. Образовался крен на правый борт. Для его выравнивания пришлось затопить угольные ямы противоположного борта. Корабль осел. Сильный удар восьмидюймового снаряда заставил содрогнуться весь крейсер. Замолкли два орудия -- одно на верхней, другое в батарейной палубе. Этим же взрывом разбросало патроны, и вспыхнул пожар в батарейной палубе. Попал огонь и в артиллерийский погреб. Казалось, взрыв был неизбежен. Но находившиеся в погребе на подаче снарядов матросы Сергей Репников и Захар Тимерев справились с огнем и предотвратили гибель крейсера.
На верхней палубе, в районе камбуза, образовалась целая груда поверженных тел. Убитые и раненые лежали в скопившейся здесь от крена воде. Санитары разбирали эту груду и выносили на перевязочный пункт тех, кого можно было спасти. На центральном перевязочном пункте и в операционной, которые были развернуты в церковном отделении батарейной палубы, без устали трудился судовой врач В. С. Кравченко со своими помощниками. Осмотренные и перевязанные раненые разносились по офицерским каютам, а когда они все были заняты, раненых стали укладывать прямо на палубу офицерского коридора.
Бой продолжался. По мере гибели русских кораблей огонь неприятельской артиллерии сосредоточивался на оставшихся судах эскадры. Особенно тяжело приходилось "Авроре", когда она попадала под такой сосредоточенный огонь. Если даже не было прямых попаданий, то немалые повреждения наносили снаряды, разрывавшиеся у бортов крейсера. Осколками 203-мм снаряда перебило правую якорную цепь, свернуло клюз, сделало две пробоины у самой ватерлинии. Вода хлынула в отделение носового минного аппарата и быстро затопила его. Лишь вовремя задраенные водонепроницаемые двери предотвратили дальнейшее распространение воды. Корабль еще больше осел на нос. Все дымовые трубы крейсера были изрешечены осколками. Передняя труба, в которую попали два снаряда, держалась просто чудом, да и средняя труба имела большую пробоину, что сразу же уменьшило дымовую тягу и повлекло за собой увеличение расхода угля, чтобы удержать необходимую скорость. А это было нелегко, учитывая увеличившуюся осадку корабля.
Трудно стало вести и артиллерийский огонь. Единственный дальномер вышел из строя в самом начале боя. Перестали действовать и приборы системы управления огнем - была перебита вся электропроводка. Пришлось пользоваться оптическими прицелами, да и те вскоре повыходили из строя. И тем не менее комендоры добивались попаданий»…
Снова из дневника доктора Кравченко: "У трех 6-ти дюймовых орудий в корме было убито два комендора, ранено тринадцать человек, один смертельно... Командовал этими орудиями лейтенант князь Путятин. Его тяжело ранило в бок, свалило. Кто-то на скорую руку кое-как забинтовал его повязкой из индивидуального пакета, и он остался в строю до конца боя и на перевязочный пункт явился лишь в 12 часов ночи, совершенно обессилев от громадной потери крови"…
Несколько раз сбивался осколками флаг "Авроры". Но его поднимали вновь. После того как были перебиты снасти, на которых он поднимался, и флаг упал в седьмой раз, боцман Василий Козлов под огнем неприятеля влез на мачту и закрепил его на месте»…

На рассвете после боя доктор Кравченко, выйдя из перевязочного пункта на верхнюю палубу, увидел свой крейсер со следами ужасного разрушения. "Все было смято, разворочено,— писал он в своем дневнике,— торчали исковерканные стальные листы, валялись обломки, зияли дыры и пробоины, деревянная палуба была точно изрыта, барказы обращены в щепы, всюду следы мелких осколков, коечные траверзы были сбиты, пропороты, но свою роль сыграли блестяще и спасли жизнь массе людей"...
Крейсер вышел из боя с дикими повреждениями в надводной части корпуса, надстройках. Дымовые трубы крейсера имели серьезные повреждения, фок-мачта отбита наполовину. Затоплены четыре носовые угольные ямы. Вышли из строя шестидюймовое орудие, пять 75-мм и одна 37-мм пушки. Повреждены артиллерийские элеваторы для подачи боезапаса и приборы управления стрельбой.
В бою израсходовали 1905 снарядов. Из экипажа убито десять человек, в том числе командир крейсера Е. Р. Егорьев.
Восемьдесят девять человек ранено, из них шесть смертельно и восемнадцать тяжело…
Будучи не в состоянии прорваться во Владивосток, крейсер ушел на Филиппины.
* * *
Далее коротко: в 1906 году южным путем крейсер вернулся в Кронштадт. Отремонтированный, залатанный командой. Но в бортах еще зияли пробоины, в которые в полный рост мог пройти человек. Что было в головах и сердцах команды? Какими они вернулись в Кронштадт, недавно еще "не глядящие исподлобья"? Как чувствовали себя в питерских разговорах о Цусиме, о том, что это был безрассудный поход? О том, что империя зря послала на гибель Первую и Вторую Тихоокеанские эскадры? И прочее, прочее...
Волей Адмиралтейства крейсер стал учебным кораблём гардемаринов Морского корпуса. До Первой мировой войны, когда он снова вошел в первую линию. "Аврора" вышла в дозорную службу на Балтике, она снова была готова жертвовать собой...
Первые полтора десятка лет жизни этого корабля - безусловная верность. Долгу, престолу, Отечеству.
* * *
Сегодня, волею обстоятельств, крейсер, образно говоря, - снова под прямой наводкой.
Минобороны решилось, взяло на себя ответственность, подчистую списать крейсер 1-го ранга "Аврору" из корабельного состава. С 1948 года он является еще и кораблем-воспитателем новых поколений моряков. Стоит под стенами Нахимовского морского училища. Смотрит мачтами в его классы. Становится родным во время корабельной практики.
Командование Военно-Морского Флота согласилось с предложениями исключить корабль из списков. Тоже не представимое обстоятельство. Более полувека крейсер, являясь и кораблем-музеем (с 1956 г), имел и свой экипаж. Служба экипажа состояла в каждодневном несении вахты, обеспечении жизнедеятельности корабля. И вот экипаж снят.
Что это означает? Всякий моряк, военный он или гражданский скажет: только одно – корабль и музеем пробудет недолго. Впереди у него – гибель. Без экипажа, то есть без самого главного на корабле, без должного ухода за корпусом, отсеками, запорами, кремальерами и прочими узлами и механизмами других вариантов нет.
В чем же причина такого решения Минобороны? Точнее, говорят, лично его главы А. Сердюкова?
К сожалению, внятно мотивов такого решения заявлено не было. Автор этих строк специально «шерстил» официальные документы МО, заявления и интервью министра, ответы различных инстанций на письмо людей, обеспокоенных судьбой корабля. Нет ответа. Либо некие общие рассуждения, либо провал, молчание.
Вроде бы, причины - финансового порядка. Военное ведомство, как известно, оптимизирует структуру армии и флота. Придает им новый облик. Облик - понятие не простое, не будем пока о нем. Будем считать, стало накладно содержать «лишний» корабль.
Финансовая сторона дела. Тема серьезная. Тема отдельного разговора. К сожалению, я здесь не специалист. Да и цифр, над которыми, можно было бы поразмышлять, не заявлено министерством. Увы, открытых источников – во сколько обходится содержание корабля – в полемике вокруг него не присутствует. Почему? Положа руку на сердце, наверное, все же не от кругленьких, непомерных для Минобороны сумм. Если бы это было так, они бы наоборот всплыли в первую очередь. Так что если их нет, значит дело не в них.
Тем более, в условиях тех коррупционных скандалов, которые сотрясают ведомство…
Есть другая причина. Вернее, может быть. Также не артикулированная. Вместе с тем явственно ощущаемая. Она звучит так: «Аврора - крейсер революции». ..
* * *
Этой темы не обойти. Почти век, как "Аврора" в массовом сознании ассоциируется, прежде всего, с Октябрьской революцией, с 1917 годом. И не только в сознании россиян или жителей республик бывшего Союза. Для всего мира «Аврора» и «революция» почти век практически синонимы.
Безусловно, крейсер сыграл свою роль в октябрьских событиях 1917 года. Неужели в нынешнем негласном «приговоре» крейсеру – именно это обстоятельство поставлено в вину?
Чтобы расставить точки над «i» в этой истории, опять-таки хорошо услышать внятную позиции людей, причастных к принятию решения.
И опять-таки в публичном поле позиции нет.
А раз нет, примем ее все же, как возможную.
Что на это можно сказать?
Чтобы сказать все, не хватит и книги. Но несколько позиций все-таки стоит высказать.
Думаю, прежде всего, надо условиться – о чем мы говорим. Об историческом крейсере "Аврора", дошедшем до нас через века, или все же о пропагандистском образе – корабля-могильщика капитализма, символа революции?
С первым, пожалуй, ясно. Это действительно исторический корабль, равных которому в мире не много. Для того, чтобы их перечислить, хватит пальцев на одной руке. Это линейный корабль "Texas", 1912 года рождения, который является музеем с 1947 года (США), это эскадренный броненосец "Mikasa" , 1900 года, ставший музеем в 1961 году, флагманский корабль адмирала Того, того самого (Япония), это подводная лодка "Vesikko" , 1931 года постройки (Финляндия) и британский парусник "Victory" , 1765 года, музей с 1922 года (Портсмут).
Россия может по праву гордиться, что она одна из немногих мировых держав, которая сохранила такой корабль. Сохранила не просто в прекрасном состоянии, но на плаву, чего не посчастливилось ни одной из других стран.
А если мы говорим о символе, то необходимо сказать следующее. Мы, пожалуй, еще не готовы, не успели еще в своем сознании достаточно квалифицированно разделить многие обстоятельства своего прошлого. Я говорю «мы», чтобы не задеть самолюбия тех, кто еще делит это прошлое на «красных» и «белых», на «до 1913 года» и «после 1991-го».
Именно такое создается впечатление, если за основу решения с «Авророй» приняты именно такие, идеологические соображения. И здесь надо сказать даже определенней. Ни «канкан» или «рок-н-рол» нужно плясать на палубах корабля, который через все времена пришел к нам. Не пытаться вот такими «мероприятиями» и «акциями» насиловать или осмеивать память вековой давности, а оставить в покое прошлое и больше заниматься настоящим, жизнью вокруг. Чтобы и прошлое и настоящее заняло в ней свое законное место.
Тот факт, что во время Французской революции площадь Согласия была лобным местом и именно здесь вовсю «работали» гильотины Робеспьера, вовсе не заставил французов стереть эту площадь и ее название из своей памяти. Не подверглась близкой к тому участи и главная площадь Лондона перед дворцом Уйат-холл, где в 1649 году республиканец Кромвель «покончил с абсолютизмом в Британии» кровавой казнью короля Карла Стюарта. Почему же подобные соображения должны быть в головах у нас?..
Есть еще обстоятельство, которое мало знают.
«Ко всем честным гражданам города Петрограда от команды крейсера „ Аврора “, которая выражает свой резкий протест по поводу брошенных обвинений, тем более обвинений не проверенных, но бросающих пятно позора на команду крейсера . Мы заявляем, что пришли не громить Зимний дворец, не убивать мирных жителей, а защитить и, если нужно, умереть за свободу и революцию от контрреволюционеров.
Печать пишет, что „ Аврора “ открыла огонь по Зимнему дворцу, но знают ли господа репортеры, что открытый нами огонь из пушек не оставил бы камня на камне не только от Зимнего дворца, но и от прилегающих к нему улиц? А разве это есть на самом деле?
К вам обращаемся, рабочие и солдаты г. Петрограда! Не верьте провокационным слухам. Не верьте им, что мы изменники и погромщики, и проверяйте сами слухи. Что касается выстрелов с крейсера , то был произведен только один холостой выстрел из 6-дюймового орудия, обозначающий сигнал для всех судов, стоящих на Неве, и призывающий их к бдительности и готовности. Просим все редакции перепечатать».
Это письмо, за подписями председателя судового комитета крейсера А. Белышева и товарища предсудкома П. Андреева, было опубликовано в газете «Правда» 27 октября 1917 г.
* * *
И вот что, в связи со всем этим, нужно сказать...
Тот придуманный, как выясняется, или точнее сказать, газетно-художественно домысленный «залп Авроры» в свое время уже сослужил не лучшую службу крейсеру. Поскольку стал «залпом» и по будущему самого корабля, как боевой единицы Российского флота. И сама «Аврора», и флот России пережили еще одну Цусиму. Если после Русско-Японской войны флот империи упал с третьего места в мире на шестое, то после Первой мировой и гражданской войны пришла катастрофа. Если Балтийский флот в Петрограде остался просто без средств к жизни, то Черноморский флот был частично захвачен немцами, частично затоплен в Новороссийске по приказу Ленина. Позже, , после поражения белых армий остаток Черноморского флота ушел в Бизерту, где был интернирован. Интервенты оккупировали базы Тихого океана, Чёрного моря, Арктики. В 1921 году матросы Балтийского флота подняли восстание в Кронштадте…
Такова логика революций. Не может, не должно быть, чтобы к такой логике нас что-либо подталкивало нынче. Бессмысленно реформировать «до основания» и модернизировать до полного беспамятства.
* * *
И еще штрихи. После октябрьских событий в Питере крейсер был забыт. «Аврору» разоружили и отправили в резерв. Так и томился в одном из затонов, оставшись сиротой, в небрежении, без экипажа и без догляда. Ничего не напоминает?..
И единственное, что спасло его от участи догнивать где-нибудь на Неве, это… кино.
Именно так. «Спас» «Аврору» С.Эйзенштейн. Точней его фильм, затеянный к 10-летию революции. Сюжет фильма – известный. Начатый символичной сценой свержения памятника Николаю II и законченный символичным «залпом «Авроры» по Зимнему…
По-настоящему крейсер отдраили, привели в порядок, вернули в строй уже перед войной.
Точнее, чтобы снова принять войну. Вторую мировую. Великую Отечественную. Блокаду, в которой у крейсера были задачи вовсе не пропагандистского плана. И совершенно не пропагандистские потери под бомбежками.
Лишь в 1948 году крейсер встал на стоянку у Петроградской набережной. Стал учебной базой Нахимовского училища. И хочется еще и еще раз повторить - учебной базой нахимовцев. И это было правильно! Абсолютно идеальное решение...
***
"Аврора" – свидетель многому. Мужеству и чести. Долгу и совести. Уму и безумию. Боевому расчету и безотчетной глупости.
Свидетель крутых поворотов, поражений и побед. Это единственный оставшийся в живых корабль Российского флота, свидетель событий века. Об этом нельзя устать повторять. Он в исправном состоянии, он на плаву, несмотря на войны и время. Что также уникально. Корабль, принявший имя от парусного фрегата "Аврора" середины XIX века, который снискал славу при обороне Петропавловска-Камчатского в войне 1853—1856 годов.
Имена кораблей в русском флоте передавались из поколения в поколения. И не меркли. А корабли служили, пока не погибнут.
* * *
И главное. Мы точно хорошо подумали? О сегодняшнем и завтрашнем? Мы действительно, готовы судить корабль?
Потому и "Большой сбор". Потому и всем право голоса.
Источник: