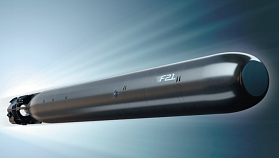Так, сохраняя до последних дней выдержку и достоинство, ушли из жизни сначала Клавдий Антонович, а затем и Мария Фёдоровна. Перед своей кончиной она позвала к себе маму, поблагодарила за помощь и подарила две большие столовые ложки из серебра для неё и Лины, а для меня – чайную, тоже серебряную. На всех ложках немецким готическим шрифтом были выгравированы чьи-то инициалы.
Анна Николаевна каким-то чудом (возможно, в этом сыграла роль её предвоенная тучность) смогла продержаться до весны 1942 года, потом приехавшая из Лисьего Носа невестка увезла её к себе. Там Анна Николаевна умерла в 1943 году. Хочется надеяться, что судьба оказала ей последнюю милость, и весть о гибели на фронте единственного сына не успела омрачить её последних дней.
Так закончила свой земной путь типичная петербургская семья, одна из многих тысяч, – жертв ленинградской блокады. Настоящую цену этим потерям стали осознавать много позже, когда, лишившись почти всех своих коренных жителей, город утратил присущий ему особый и неповторимый

Стиль, соединяющий в себе холодноватую столичную корректность на западный манер с русской открытостью и дружелюбием. После войны материальные потери восстановить оказалось возможным, а о духовных потерях, тем более, такой тонкой, как присущий городу стиль, даже и не задумывались. И его не стало. Теперь уже ясно, что не стало навсегда. Даже несмотря на то, что все мы из ленинградцев неожиданно стали петербуржцами.
Ранение отца. Блокадные будни
В начале января 1942 года от папы пришло известие, что он ранен и находится в госпитале. В письме был указан адрес (сейчас это улица Политехническая, 26). Мама со мной вновь пустилась в неблизкий путь. На этот раз по заснеженным, заваленным сугробами ленинградским улицам. Было морозно и ветрено. Яркое солнце слепило глаза, привыкшие к полумраку нашей комнаты, окна которой были почти сплошь забиты фанерой.
После долгой дороги пешком (всю блокадную зиму общественный транспорт в городе бездействовал) мы оказались перед зданием, имевшим вид старинной казармы и характерный вход, особенностью которого был нависающий полукруглый балкон, поддерживаемый двумя колоннами и двумя полуколоннами.
Войдя в сравнительно небольшой, заполненный людьми квадратный вестибюль и оглядевшись, мама стала обращаться к уходящим после свидания со своими родными раненым с просьбой вызвать отца. Он появился довольно быстро в надетом на бельё сером больничном халате, на костылях, с забинтованным правым бедром.

Отец сильно исхудал, но держался бодро. Честно говоря, я не припомню, чтобы, обнимая и целуя отца, я испытывал тогда естественное для такого случая чувство острой радости. Видимо, голод и усталость сильно приглушили мои эмоции.
Едва отыскалось место, где отец смог прислониться к стене. Он так и простоял всё свидание на одной ноге. Ранен был отец во время воздушного налёта немцев на их колонну. Пуля задела кость бедра и воспламенила ватные штаны, вследствие чего отец получил также сильный ожог.
Разговаривая с мамой, отец достал из кармана халата и протянул мне бумажный свёрток. Развернув бумагу, я увидел небольшой (грамм 100) кусочек хлеба.
– Это тебе, – сказала папа.
Я сразу впился в хлеб зубами, и через мгновение куска не стало. К своему стыду тогда я даже не подумал о том, что это наверняка был дневной паёк отца, и он остаётся без хлеба на весь оставшийся день.
То, что отец оказался недалеко от нас и в относительной безопасности, намного улучшило наше моральное состояние. К тому же и Федя нам прислал письмо, из которого можно было понять, что курсантов их училища отозвали с фронта. Теперь он находится в посёлке Рассказово Куйбышевской области, где заканчивает своё обучение. Так что пока за них можно было не беспокоиться. В то беспросветное время это были щедрые подарки судьбы.
Вспоминая бесконечные блокадные вечера, я чаще всего вижу маму, Лину и себя, сидящими в пальто вокруг стола, на котором мерцает и колеблется слабый огонёк коптилки. За пределами стола комната погружена во тьму. Неразличимы даже окна, так как они затянуты светомаскировочными шторами из плотной чёрной бумаги. Ужин, который по большей части состоял из кипятка и тоненького ломтика хлеба, ни в коей степени не мог утолить постоянно гложущее чувство голода. Напиленный днём со страшными потугами мной и Линой запас полешек из деревянного лома, который я притащил из разрушенного дома, кончился. Буржуйка мгновенно остывает, и комнату быстро заполняет сковывающий холод. Я и Лина, напрягая глаза, пытаемся отвлечься чтением. Не умеющая читать мама просто сидит за столом в полудрёме.

Передо мной лежит том Салтыкова-Щедрина, собранием сочинений которого, изданных в начала века, я как-то «разжился» в одном из разбомблённых домов. Читаю «Пешехонскую старину» и недоумеваю, как это обитатели Пешехонья, ведя размеренную сытую жизнь, с обильной едой и повальным послеобеденным сном среди знойного лета, могли не замечать и не ценить такого благополучия, даже быть чем-то ещё недовольными?! Соответственно не очень воспринимался и сарказм великого сатирика по поводу такого образа жизни, ибо я от души завидовал пешехонцам, имеющим возможность есть сколько угодно и когда угодно.
В начале одиннадцатого вечера часто Лина и я выходили встречать возвращавшуюся с работы Лёлю. Ей было страшно идти одной по тёмным и пустынным улицам, на которых только снежные сугробы слегка рассеивали ночную тьму. Холод пробирался до костей, однако, надежда на то, что Лёля принесёт с собой что-нибудь съестное, подбадривала. Ожидания, как правило, нас не обманывали, в ридикюле сестры мы частенько находили завёрнутую в бумагу порцию каши. Встретив Лёлю, мы сразу укладывались спать: на одной кровати мама и я, на другой – Лина с Лёлей. С началом зимних холодов и голода мы перестали покидать квартиру во время воздушных налётов и артобстрелов.
Наутро Лёля уходила рано, часов около семи. Иногда сквозь сон я слышал, как её трудно будила мама. Начинать новый день и вылезать из постели на холод очень не хотелось, но мама заставляла нас подниматься и браться за дела. Разжигали буржуйку, кипятили воду и, позавтракав, чем было, Лина отправлялась в магазин, я – за дровами, мама –

Умывались мы далеко не каждое утро, а что касается бани, то в ней мы не были в течение всей первой блокадной зимы. Уж если дело дошло до таких прозаических деталей, то могу для интересующихся сообщить, что, поскольку водопровод и канализация бездействовали, для малой нужды нам служило ведро, а для большой – какой-нибудь укромный уголок всё того же дома № 13.
Подобное положение с гигиеной было практически у всех ленинградцев. Нередко можно было видеть на улицах, в очередях у магазинов людей со следами сажи и копоти, особенно заметных в носу и ушах. У большинства из них были измождённые, обтянутые сухой, землистого цвета кожей лица с набухшими под глазами и распространявшимися на скулы водянистыми мешками.
Иногда напротив, от неумеренного потребления воды с целью заглушить голод лицо человека сильно отекало. Своей округлой формой такие лица напоминали нормальные, но их неестественная одутловатость и студенистое дрожание щёк вызывали неприятное, смешанное с брезгливостью, чувство.
В сильные морозы, а они той зимой ослабевали очень редко, большинство прохожих платками или шарфами закрывали лица полностью, оставляя лишь щели для глаз. У некоторых для этой цели были сшиты шерстяные маски, наподобие тех, что сейчас используются бойцами ОМОНа или бандитами.
Ослабевшие, исхудавшие, подчас в самой несуразной, но способной лучше сохранять тепло, одежде, измученные холодом и голодом люди передвигались по улице медленно и осторожно, как в полусне. Но прохожих были единицы, только у магазинов наблюдались компактные кучки застывших в унылом ожидании людей.
Если к этому добавить развалины разрушенных домов, колдобины на тротуарах и сугробы с человеческий рост на улицах, нередко попадающиеся навстречу санки или куски фанеры с завёрнутым в простыню скорбным грузом, с натугой влекомые выбеленными морозным инеем полуживыми людьми, непривычные для ленинградской зимы яркое, слепящее солнце, глубокое синее небо и жестокий мороз, то это и будет оставшаяся в моей памяти обобщённая картина блокадного города.

Дополню её ещё одним конкретным эпизодом. В конце января или в начале февраля к нам неожиданно добралась семья дяди Михаила: тётя Доня и дети – Саша и Майя. Как им удалось преодолеть расстояние до нас с 10-й линии Васильевского острова, объяснить невозможно, настолько все трое были слабыми и истощёнными. Старшего сына Антона с ними не было.
Мы усадили их, едва державшихся на ногах, вокруг затопленной буржуйки. Немного придя в себя, тётя Доня тихим без эмоций голосом сообщила, что дядя Миша на фронте, а Антон несколько дней назад умер от голода. При этом у неё не показалось ни слезинки, не говоря уже о Саше и Майе, всё внимание которых было приковано к тому, как мама засыпает в кастрюлю пшено, чтобы сварить кашу. После того как всё содержимое мешочка оказалось в кастрюле, они не могли оторвать от неё глаз.
Когда каша была готова, мама разложила её в три глубокие тарелки. Получились довольно внушительные порции. Тётя Доня, однако, попросила кипятку. Они все трое залили водой кашу до самых краёв тарелок, создавая себе тем самым иллюзию, что еды стало ещё больше. Излишне говорить, что образовавшаяся жижа была съедена ими до последней крупинки, а тарелки вылизаны. Было заметно, что наши гости не насытились, однако, их сразу потянуло в сон. Когда через пару часов они проснулись, оказалось, что лицо тёти Дони пришло в то разбухшее состояние, о котором я писал выше.
Не помню, как они ушли от нас.
Позже, холодным весенним днем, я провожал тётю Доню, Сашу и Майю в эвакуацию. Тётя Доня была очень слаба и несколько раз замирала на своих узлах, теряя сознание. Было очень мало надежды, что она выдержит дорогу, но и другого выхода у них не оставалось. В последующем, однако, война обошлась с этой семьёй достаточно милостиво: все они вернулись в Ленинград к демобилизовавшемуся дяде Мише.
Встречи с отцом
К весне 1942 года встал на ноги отец. Один день он даже провёл с нами дома, в увольнении. После выписки из госпиталя его на некоторое время определили в батальон выздоравливающих, располагавшийся на территории теперешней (сразу за Литейным мостом справа, если идти от улицы Каляева).

Я частенько бегал повидать отца, благо свободного времени у меня было достаточно: школы ещё не работали, а вопрос с заготовкой дров уже отпал. Вспоминая свои визиты к отцу, я больше всего поражаюсь тому факту, что ни один из тех случайно попадавшихся мне солдат, к которым я, подбегая к забору или к открытому окну первого этажа, обращался с просьбой: «Дяденька, вызовите, пожалуйста, рядового Лапцевича из батальона выздоравливающих», – ни разу не отказал мне. Несмотря на то, что выполнить мою просьбу было нелегко: территория и здания Академии раскинулись на целый квартал и на поиски человека требовалось немало времени и усилий, отец всегда узнавал о моём приходе. Видимо, тоскуя о близких, солдаты делали всё, чтобы помочь увидеть своих тем, кому представлялась такая возможность.
В одну из таких встреч я рассказал отцу, что школы начали формировать классы на летние месяцы с тем, чтобы не учившиеся из-за блокады ребята могли вспомнить и повторить материал прошлого учебного года. Соответственно, мне надлежало идти в группу учеников третьего класса. Папа внимательно посмотрел на меня и сказал: «Сынок, может быть, ты пойдешь в группу 4-го класса? А осенью запишешься в 5-й и восполнишь потерянный год? Как, сможешь?».
В ответ я с сомнением пожал плечами, однако, передал отцовское пожелание маме. Его реализация осложнялась тем, что именно 4-й класс по существующему тогда порядку завершал так называемое начальное образование и предполагал сдачу нескольких экзаменов. Чтобы разрешить мне обойти этот класс, для дирекции, очевидно, требовались более веские причины, чем просто желание (во всяком случае, это требовало хлопот, в которых мама была неопытна). Пойти же на этот шаг «нелегально» мы не решились.
В начале лета отца из батальона выздоравливающих перевели в строевую часть, располагавшуюся в посёлке Рыбацкое. Мы и там наладились его навещать, как правило, по двое, но ездил я к отцу и самостоятельно. Похоже, что его, хорошо знавшего лошадей (как и любой крестьянин в то время) использовали в полку в качестве ездового. Во всяком случае в наши приезды мы встречали его, как правило, на повозке.
В один мой самостоятельный приезд (дело было уже близко к вечеру) отец отвёл меня в их казарму – двухэтажный деревянный дом с подъездом посредине, в комнатах которого были оборудованы нары. Я с удовольствием устроился на отцовском месте и вскоре уснул. Через некоторое время отец меня разбудил и протянул большой, еще тёплый, кусок кочана отваренной капусты. Несмотря на отсутствие хлеба, я с аппетитом лопал отцовское угощение, наблюдая одновременно при свете коптилки за тем, как отец и ещё трое солдат за низким грубо сколоченным столом азартно играют в карты. Игра, видимо, шла по-серьёзному, потому что, разбудив меня утром, отец дал мне пачку денег (около двухсот рублей) со словами: «Передай это маме, но не говори ей, что я играл в карты».
Часть дороги к трамвайной остановке мы прошли вместе. Проходя мимо солдатской столовой, отец зашёл туда и через короткое время вынес мне небольшой ломоть хлеба с маслом. Думаю, это была немалая доля его завтрака.

Эту фотокарточку отец прислал с фронта в июне 1942 года
Отец использовал малейшую возможность нам помочь. Однажды мама и Лёля вернулись от него с двумя громадными кочанами капусты, которые отец сумел как-то приберечь. У мамы с Лёлей не оказалось тогда с собой ни подходящей сумки, ни сетки, и тащить тяжёлые кочаны в руках было очень неудобно. Когда Лина и я вскоре собрались к отцу, мама снабдила нас на всякий случай сеткой. Увидев её в моих руках, отец грустно усмехнулся и сказал: «Нет, детки, на этот раз капусты не будет».
Снова учимся. Прощание с отцом
В сентябре 1942 года занятия в ленинградских школах возобновились. Воздушные налёты и артобстрелы города продолжались, однако я не помню, чтобы они как-то особенно мешали учебному процессу. Как и голод, бомбёжки и обстрелы стали для ленинградцев, хотя и неприятной, но неизбежной частью повседневной жизни, чуть ли не обыденностью.
Свой новый учебный год Лина и я начали в школе №188. Здание прежней нашей школы получило повреждения от бомбёжки. 188-я школа занимала здание дворцового типа на чётной стороне улицы Чайковского, посредине между проспектом Чернышевского и Потёмкинской. Уже много лет это здание занимают другие организации.
Из прежних моих соучеников в нашем 4-м классе оказался лишь Боря Баженов из дома №3 по улице Каляева (с Борей мы вскоре сдружились), да несколько знакомых девчонок из прежнего параллельного класса. С одной из них, Майей Лютовой, связан мой первый, если можно так сказать, «рыцарский» поступок.
В один из перерывов Майя, очень толковая девчонка с независимым характером, повздорила с нашим же одноклассником Архаровым, рослым и довольно плотным на вид пареньком, который к тому же верховодил в группе таких же, как он, хулиганистых подростков. Должен заметить, что такого рода ребята всегда вызывали у меня чувство отторжения. Мне претило их бахвальство, вероломство, способность унижать слабых и заискивать перед сильными, неуважение к учителям и старшим, блатной жаргон, матерщина и так далее. Будучи по натуре миролюбивым, не способным поднять руку на слабого, я опасался и сторонился этих шакальих стаек. Однако, они чувствовали мой внутренний протест, и я нередко ловил на себе их косые взгляды.

Начало ссоры я не ухватил, только оглянувшись на девчоночий крик, увидел, как Архаров колотит Майю За ним стояло ещё несколько подростков из его «шайки». Майя, полулёжа на парте, пыталась отражать удары ногой в валенке. После нескольких мгновений внутренней борьбы «рыцарство» во мне победило страх. Я встал перед Архаровым и, глядя ему в глаза, сказал: «Перестань, она же девчонка!». Драчун сначала опешил, однако потом ударил меня. Я не ответил на удар, но, не опуская глаз, продолжал стоять между ним и Майей.
Так мы смотрели друг на друга ещё некоторое время, затем Архаров развернулся и ушел вместе со своими «приспешниками». Инцидент был исчерпан, оставив у меня чувство недовольства собой из-за того, что я не решился ответить ударом на удар, а также досады на окружавших нас ребят, которые никак не выразили своего отношения к происшедшему. Как ни в чём не бывало, все разошлись и занялись каждый своим делом.
Продолжение следует