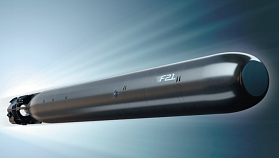Он стал примечать, что в их дружной кают-компании на берегу, где зимними вечерами собирались офицеры всех кораблей, Мыльникова недолюбливают за его безапелляционные суждения, за высокомерие, за то, что он считает себя выше и лучше других. В отсутствие Мыльникова в кают-компании весельчак Бочкарев, командир «Триста пятого», очень похоже показывал, как Мыльников преображается перед приехавшим из штаба начальством и как его тонкие губы растягиваются в угодливую улыбку, а глаза теряют холодный блеск и смотрят на инспектирующего с преданностью домашнего пса.
Коркин стал замечать, что и на корабле Мыльникова не любят и выполняют его приказания без энтузиазма, что каждый боится попасть на глаза командиру, твердо зная, что Мыльников уж к чему-нибудь, а обязательно придерется. Раза два Коркин пытался вступиться за списанных с корабля Мыльниковым матросов — по мнению Коркина, их проступки не заслуживали столь сурового наказания и нарушители вовсе не были неисправимыми, но Мыльников сразу окатил своего помощника ушатом ледяной воды: «Вы что же, хотите полного разложения команды? Дисциплина есть дисциплина, а Корабельный устав есть Корабельный устав». Коркин хотел было возразить, что Корабельный устав учит любить и уважать человека, но по слабости характера промолчал: «Э, стоит ли связываться?» Как-то перед Октябрьским праздником Коркин завел было разговор о том, что многие люди служат на корабле хорошо и не мешало бы кое-кого и отметить, поощрив их наградами. Мыльников поднял брови, уставил на Коркина удивленный взгляд своих и процедил сквозь зубы: «Заигрывать не собираюсь. Присягнув, каждый должен служить хорошо. За что же поощрять? За то, что служат, как им велит чувство долга?»

И опять Коркин хотел было пойти к Щеголькову, в политотдел, и снова по слабости характера воздержался, махнул рукой: «А ну его. Стоит ли связываться? Узнает — сожрет».
Он даже постеснялся обидеться, когда Мыльников в походе легонько отстранил его, Коркина, взявшегося было по приказанию комдива за ручки машинного телеграфа, и сам перевел их на «полный назад», чем поставил помощника в глупое положение — помощничек, мол, у меня не достоин доверия...
Коркин стал понимать, что Мыльников — далеко не идеал командира. Совсем другой ведь Крамской, тоже требовательный и к злостным нарушителям дисциплины беспощадный, но человек душевный, простой, к которому всегда можно прийти со всем, что накопилось на сердце.
Дела на «Триста третьем» шли все хуже и хуже, пока не разразилась гроза. Щегольков и Крамской без сигналов Коркина осудили дисциплинарную политику Мыльникова, во всем разобрались и сделали вывод, и Щегольков укоризненно сказал Коркину: «Все мимо вас, Коркин, шло? Вы что же, не коммунист и не офицер? Не хотели отношений, как видно, портить? А это, батенька, давно осужденная, соглашательская политика. Нехорошо».
Коркин тогда покраснел как рак, почувствовал себя учеником, которого высекли.
Но Крамской — человек справедливый. Сказал в задушевной беседе: он надеется, что Коркин преодолеет слабости. Даст возможность продвинуться по службе. Пусть Коркин готовится к сдаче экзамена на самостоятельное управление кораблем.
Да, надо готовиться. Коркин докажет, на что он способен. Если б не неурядицы дома... Эх, как нехорошо!
2
Год назад Коркин получил отпуск домой, в Ленинград; он ехал в самом радужном настроении. В вагоне все пассажиры казались ему такими милыми, симпатичными. Дома, в Лесном, отец и мать встретили Васеньку с распростертыми объятиями.

Он выложил привезенные подарки — родители ахали, охали, любовались и вязаной кофтой, и свитером, и красивыми красными чашками, удивлялись копченым угрям, похожим на вытянувшихся змей. Собрались все ленинградские родственники, сидели за длинным столом, пили водку под угря и под слоеный пирог с капустой, осушили пять самоваров чаю, и какие-то троюродные сестры, которых Вася видел первый раз в жизни, делали ему через стол глазки. Но одна из них была похожа на сушеную воблу, а другая была сильно тронута оспой — и Вася, к великому огорчению старых девушек, не обратил на них никакого внимания.
Отец, мастер со «Светланы», гордился моряком-сыном и все пытался навести разговор на подвиги сына. Васе пришлось разъяснить, что в мирное время единственный подвиг — служба, а службу у него на корабле все несут хорошо, и, может быть, он скоро продвинется из помощников в командиры.
Потом Коркин вместе с матерью съездил в больницу для хроников, навестил Катюшу, сестренку, полуслепую и хроменькую, которую он содержал с тех пор, как стал лейтенантом, и все надеялся вылечить от неизлечимого недуга.
Вечером мать в сенцах украдкой, прижав к груди сына и покрыв его лицо сухими короткими поцелуями, посоветовала: «Пойди, погуляй, что тебе с нами сидеть». И Коркин тотчас же отправился на трамвае в Выборгский Дом культуры.
Когда он вошел в вестибюль, танцы уже начались. Коркин увидел сотни кружившихся пар и сотни завитых горячей завивкой и перманентом головок — белокурых, пепельных, иссиня-черных, каштановых, рыжих... Коркин стоял, подпирая колонну, и очень жалел, что растерял всех своих прежних знакомых. У соседней колонны стояла девушка в пестром платье, кудрявая, желтоволосая, с хорошеньким личиком и беспокойными глазками. Она сразу почувствовала на себе взгляд бравого лейтенанта, оглянулась и с любопытством оглядела его морскую тужурку, золотые погоны. Потом улыбнулась.

Коркин осмелел и пригласил ее танцевать. Через час они пили в буфете полюстровский лимонад и ели малиновое мороженое. Он узнал, что они почти что соседи: Люда (так звали девушку) живет на Удельной, а ее отец работает, как и Васин отец, на «Светлане». Она — младшая в семье, ее сестры тоже работают на «Светлане», а мать занята домашним хозяйством.
Люда — живая, веселая и насмешливая — бросала острые словечки, смотрела ему в глаза своими беспокойными черными глазками и говорила о том, что она никогда бы не познакомилась с ним, если бы сразу не почувствовала к нему доверия. Она никогда не танцует ни с кем незнакомым, ждала сестер с их приятелями, а они обманули. И ей пришлось бы проскучать весь вечер... «Судьба», — сказала она, улыбнувшись и пожав ему руку. Рука у нее была теплая, мягкая, нежная, хотя острые коготки и больно впились в суровую ладонь Коркина.
— Судьба, — повторил Коркин, замирая от восторга и счастья, и, сравнив Люду со всеми знакомыми девушками, вынес решение далеко не в их пользу.
К концу вечера ему почти стало ясно, что Люда — единственная, которую он полюбит по-настоящему, на всю жизнь; с ней он может быть счастлив.
Сердце похолодело, когда он подумал: «А вдруг она не позволит себя проводить, и он ее потеряет?» В сердечных делах он был робок и всегда завидовал товарищам, решительно выходившим в атаку.
Все обошлось. Когда они вышли на улицу, в белую ночь, она спросила:
— Ведь нам по пути? — и придержала его, рванувшегося к стоянке такси: — Нет, нет, не надо, мы лучше доберемся пешком. Такая чудесная ночь. Вы не устали, надеюсь?
Он поспешил заверить, что морякам уставать не положено.
Они медленно шли по пустынным улицам под немеркнувшим светом июньского неба, и он осмелился взять ее под руку и почувствовал теплоту ее полной руки. Их обгоняли машины, протарахтел запоздалый трамвай, блеснули стекла в вагонах промчавшейся ночной электрички финляндской дороги.
Вася рассказывал ей о корабле, на котором он служит, о походах, штормах — она не перебивала, только иногда останавливалась и заглядывала ему в глаза беспокойными своими глазами — в них отражался сказочный свет белой ночи, и Вася забывал, о чем говорил, а она смеялась: «Мы с вами так и до утра не дойдем». Наконец, она задержалась возле старого деревянного, вросшего в землю дома — темные окна первого этажа приходились в уровень с тротуаром.

— Наши спят, — прошептала остерегающе Люда. Они присели на подгнившую лавочку у ворот. Васю терзала мысль: разрешит ли она зайти за ней завтра?
— Ну, что же вы молчите? — спросила Люда. — Или моряки все молчальники?
Тогда он набрался храбрости и попросил разрешения зайти.
— Это так неожиданно, — сказала она, словно не решаясь пригласить его к себе в дом. — Какой вы, однако... решительный. Все моряки, наверное, такие?.. А впрочем, приходите... завтра. Нет, нет, вы с ума сошли... в первый вечер, — неправильно истолковала она его радостное движение.
Он стал клясться, что и в мыслях не имел ничего подобного. Она сделала вид, что поверила, и они простились друзьями.
Он услышал, как защелкнулась щеколда. Услышал ее легкие шаги во дворе, скрип отворившейся двери. В крайнем окошке зажегся неяркий розовый свет и вскоре погас.
— Спокойной ночи, — сказал он такому милому, симпатичному, родному окну и пошел домой. И эта белая ночь, и спящие домики, и редкие ели Удельнинского парка — все казалось ему удивительным и прекрасным. Он, как мальчишка, перепрыгивал через канавы, окликнул какого-то пса, спешившего по своим делам (пес присел и взглянул на него удивляясь), и вдруг принялся танцевать посреди улицы, напевая слышанный сегодня вальс.
— Люда, Людочка, — повторял он. — Самая лучшая! Самая замечательная!
Он чуть было не прошел мимо дома, в котором родился и вырос.
Мать не спала. Она вышла из своей крохотной комнатки.
— Повеселился, сынок?
Налила чаю из чайника, покрытого подушкой, отрезала кусок пирога.
— Проголодался, поди?
И Вася, растроганный материнской ласкою, принялся целовать ее морщинистое лицо, ее старческие жесткие руки, и она бормотала сквозь радостные, счастливые слезы:
— Ну что ты? Ну чего ты, сынок?

На другой день он устремился в условленный час на .
Его ждали. Как раз вернулись с работы и отец Люды, и сестры, красивые, рослые девушки — они успели переодеться для гостя. Стол был накрыт. Люда вспыхнула и представила своим Коркина.
— Знаю, знаю твоего батю, моряк. Двадцать лет на одном заводе, только в разных цехах, — сказал отец Люды, ветхий, в стальных очках старичок, похожий на Михаила Ивановича Калинина. Мать ее, высохшая, с такими же, как у Люды, беспокойными черными глазами, оглядела его, улыбнулась, пригласила за стол. Сестры крепко пожали ему руку, и одна из них, старшая, поблагодарила за то, что он проводил Люду домой.
— Люди всякие бывают, глядишь, другой и обидит, — пояснила, за что благодарят, мать. — Прошу выкушать, — налила она в стопку настойки из чудного графинчика-петушка.
«На смотрины похоже», — мелькнула у Коркина неприятно поразившая его мысль. Люда сидела с ним рядом, в сиреневом платье; в нем показалась она ему еще краше. «Чудная девушка», — восхищался он, глядя, как она медленными глотками пьет сладкий кагор. Он обратил внимание, что руки у нее нежные, розовые, не то, что у сестер. А мать, заметив брошенный Коркиным взгляд, пояснила, что младшенькую они воспитали, чтобы горя не знала. «Довольно хлебнула забот я сама, иссохла, хотя и лет мне не так чтобы много, пусть хоть Людочка поживет без забот».

К концу обеда, когда все разговорились, Коркин почувствовал себя, словно в родной семье. Сестры припомнили, как собирали в чернику — он тоже в детстве бегал в Удельнинский парк за грибами, вспомнили, как катались на санках с Поклонной горы и бегали на лыжах в Сосновке — и это были такие милые сердцу воспоминания детства.
После обеда он очутился в крохотной комнатке Люды, где на розовых в полоску обоях висели фотографии Дружникова, Кадочникова и Жарова, а с комода таращили глаза фарфоровые собачки и слоники. Люда завела патефон — все любимые свои вещи: «Караван» и «Два сольди», «Бродягу» и «Севастопольский вальс» — и призналась, что ей так хочется путешествовать, увидеть города и людей, это так интересно. Сестры ездили в Крым, а ее мама никуда не пускает, «берегут, будто какую принцессу». И Люда в своем сиреневом крепдешиновом платье ему действительно казалась принцессой, которую он где-то видел — не то в театре, не то в кинофильме.
И вдруг Коркину пришло в голову: «А что, если кто-нибудь уже целует эти пухлые губы и руки, обнимает эти чудесные плечи, говорит с ней на «ты»? Он готов был спросить ее, но как об этом спросить, сам не знал. У него захватило дыхание. Он смотрел на нее, словно на чудо. Она хочет путешествовать. А что, если он предложит ей Балтику — маленький городок на берегу моря, где она сможет купаться, как на курорте — не надо ехать и в Крым? Что, если он предложит ей стать его женой, предложит делить с ним и горе, и радости? Что ответит она? Рассмеется? Пожмет плечами? Обидится? Возразит: «С ума вы сошли, мы знакомы два дня?»
— Что с вами, Вася? Вам нездоровится? — спросила она, меняя на диске патефона пластинку.
— О нет. Я здоров. Мне очень хорошо. Как никогда в жизни, — пробормотал он, опьяневший от ее близости и от выпитого за обедом вина. «Какие у нее нежные руки! Какие плечи!» Он увидел в вырезе платья сиреневое кружево, и у него в глазах помутилось.
Он, тяжело дыша, предложил:
— Люда, пойдем на воздух.
Она широко раскрыла глаза — невинные, беспокойные:
— А куда мы пойдем?

— На . В кино. А потом в Европейскую, Ужинать.
Тогда она захлопала в ладоши, как девочка, которую ведут в зоопарк:
— Ой, в Европейскую? Я там никогда не бывала. Сейчас пойду, скажу маме...
Уходя, он заметил завистливые взгляды старших сестер.
Продолжение следует.

Верюжский Николай Александрович (ВНА), Горлов Олег Александрович (ОАГ), Максимов Валентин Владимирович (МВВ), КСВ.
198188. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 11/3, кв. 70. Карасев Сергей Владимирович, архивариус. karasevserg@yandex.ru