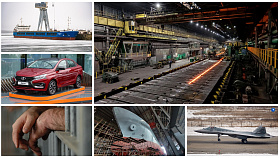В один из редких погожих дней лета 1967 г. в п. Гаджиево, что раскинулся на побережье б. Ягельная в Сайда-губе, у причалов собралось много народа. Люди стояли на окружающих бухту сопках, на подъездной дороге, на самих причалах. Ждали возвращения легендарной К-19. В ту пору мне выпала честь быть её командиром.
Накануне "Девятнадцатая" после продолжительной проверки всевозможными штабами (вплоть до Генерального) вышла в море на инспекторскую ракетную стрельбу. Стрельбу выполнили на "отлично". 12-я эскадра ПЛ СФ ликовала и вышла встречать победительницу всем составом и с оркестром.

На берегу уже знали: несмотря на то, что на учении, создававшем фон ракетной стрельбы, в самый ответственный момент "наносивший ракетный удар" штаб на какое-то время потерял управление, в результате чего на лодку не была передана необходимая информация, ГКП корабля принял правильные решения и "дотянулся" до цели в назначенный момент.
Не обошлось без курьёза. Когда до старта оставалось около минуты, главный посредник — престарелый капитан 1 ранга из Генштаба — достал конверт, вскрыл его и зачитал записанную на вложенном в него бланке вводную: "Доклад радиометриста: слабый сигнал самолётной РЛС прямо по корме". Под стать этой вводной могла быть только такая, которая извещала бы о взрыве глубинной атомной бомбы в районе IV отсека. Посреднику было наплевать на то, что ПЛ вот уже более получаса лежала на боевом курсе, погрузившись на стартовую глубину, исключавшую возможность приёма из эфира какого-то либо электромагнитного излучения, тем более сантиметрового диапазона. Я поделился своими сомнениями с посредником — тот оказался неумолим. Стало ясно, что он не уступит, даже поняв, что Генштаб, продолжая страдать тяжелой формой нераспорядительности, подсунул ему для оглашения вводную, предназначенную ещё той К-19, которая до модернизации четыре года тому назад могла стрелять только из надводного положения.

В таких случаях безоговорочно считается, что начальник всегда прав, и последовавший мой бредовый ответ полностью совпал с написанным в "секретке". Так или иначе, состоялся вовремя, и она попала в "кол". Вскоре ожидавшие лодку увидели, как, блеснув светло-серыми бортами, она втянула своё длинное тело в бухту, совершила изящный поворот и устремилась к причалу.
Лёгкость и стремительность лодке придавали её непривычная и отличная от однотипных черных кораблей очень светлая окраска, а также лёгкий наклон вперёд ограждения рубки.
Игнорируя, как всегда, предложенную ей помощь приставленных волей начальства рейдовых буксиров, лодка без труда ошвартовалась у второго причала с веста. Мне оставалось сойти на причал и доложить командиру эскадры контр-адмиралу В.Г.Кичёву о выполнении задачи...
Это был мой последний выход в море на К-19. В кармане уже лежало предписание следовать к новому месту службы и принять от промышленности под своё командование новейший ракетный подводный крейсер. Начиналось же всё в далёком, еще военном году.
1944 г. для меня, 13-летнего мальчишки, был знаменательным. В том году я вместе с матушкой и сестрой вернулся домой в Ленинград из эвакуации. В том же году предпринятая мною попытка поступить в создававшееся ленинградское Нахимовское военно-морское училище увенчалась успехом. Нахимовцем я стал по нескольким причинам. Во-первых, потому что маме одной было трудно поднимать нас двоих; во-вторых, потому что почти все вступительные экзамены были сданы на "отлично" и, в-третьих, потому что нахимовские училища по своему положению предназначались в первую очередь для обучения и воспитания детей военнослужащих, погибших на фронте. А мой отец, историограф штаба БФ капитан 1 ранга Александр Семёнович Ковалёв погиб 28 августа 1941 г. на штабном транспорте «Вирония» во время перехода кораблей флота из Таллина в Кронштадт. История сероглазого юнги Саши Ковалёва, ставшего подводником, затем, в расцвете своих сил. — видным военно-морским дипломатом, а затем — флотским историографом, еще ждёт своего автора.

Нахимовец Ковалев образца 1944 года
Мальчишкам-нахимовцам тогда здорово повезло, что в руководстве ВМФ нашелся умный человек (по-видимому, адмирал Л.М.Галлер), который рекомендовал направить в училище для организации учебно-воспитательной работы тех офицеров, которые сами прошли эту школу в юном возрасте. Нетрудно догадаться, кто оказался среди этих людей. Их образованность, культура, преданность флоту, выдержка не могли не отпечататься в наших молодых сердцах. Они первыми дали нам понять, что любовь к морю — это прежде всего ощущение свободы. Лишь потом это чувство дополняется уверенностью в себе и своём профессионализме, восприятием стихии как единого и в то же время многогранного художественного образа, проникновением в морские тайны, пониманием моря как пространства для своего самоутверждения.
Пять лет обучения в Нахимовском училище пролетели быстро. Учился я по-разному. Правда, в конце всегда удавалось наверстать упущенное. С каким-то упоением мы отдавались морскому делу: строили модели кораблей и шлюпку-"двойку", возились с катерными моторами, занимались такелажными работами.

Михаил Михайлович Рожков знакомит нахимовцев с устройством шлюпки.
Но больше всего любили ходить на шлюпках. Мы выходили в Неву, на просторы Ладоги и Финского залива, ходили на вёслах и под парусами. А по вечерам нас можно было видеть на Фонтанке, идущими на вёслах под аккордеон. Сейчас в Нахимовском училище от этого ничего не осталось. Морское дело нахимовцам заменили хоровым пением...
По окончании Нахимовского училища почти вся наша 2-я рота строем перешла в ВВМУ им. М.В.Фрунзе. Здесь началось освоение профессии моряка. Здесь же всё это и произошло.
Сначала нас было трое — Слава Расс, Юра Зеленцов и я. Мы сдружились ещё в Нахимовском. Уже тогда, не имея полной информации, мы понимали, что за ПЛ — большое будущее, и решили посвятить себя подводному плаванию. Готовились как могли. Создали кружок по изучению устройства ПЛ. Появились единомышленники. Когда в училищах перешли к подготовке узких специалистов, а не универсальных вахтенных офицеров, как это было раньше, мы с артиллерийского перешли на минно-торпедный факультет. А когда 1-е Балтийское ВВМУ было перепрофилировано для подготовки офицеров подводного плавания, мы в числе 16-ти таких же фанатиков добились перевода в это училище на последний, 4-й курс. Позже, показывая свой диплом, мы шутили, утверждая, что освоили весь курс училища за один год. В дипломе значилось: настоящий выдан такому-то в том, что он в 1952 г. поступил в 1-е Балтийское ВВМУ и в 1953 г. окончил полный курс названного училища.
Ещё будучи курсантами училища им. М.В.Фрунзе, летом 1952 г. Слава. Юра и я попросили отправить нас на корабельную практику на ПЛ. Просьбу удовлетворили. Наше первое погружение осуществилось на легендарной ПЛ «Лембит» под командованием замечательного моряка-подводника А.Н.Киртока. Погружались для дифферентовки на Большом Кронштадтском рейде.

Позже, тем же летом, ясной безветренной ночью, мы с Юрой участвовали в торпедной атаке М-285 под командованием А.И.Сорокина. Оба мы во время атаки находились на мостике и помогали командиру в использовании ночного прицела и таблиц стрельбы. Атака прошла успешно — находившийся на ЭМ-цели вице-адмирал Л.А.Владимирский выразил командиру лодки благодарность. Да всем и так было видно, как после залпа торпеды, высвечивая на поверхности моря два ярких пятна, скользнули к ЭМ и вскоре на миг осветили его борт в районе полубака и машины. Позже командира наградили именными часами, а нам с Юрой объявили "наше царское спасибо''.
Нам такой практики показалось мало, и мы при благоволении училищного начальства вместо очередного отпуска отправились на СФ стажироваться на ПЛ. Поступок этот оказался столь неординарным, что по прибытии в Североморск мы столкнулись со стойким непониманием со стороны чиновников от флота. Лишь когда в дело вмешался НШ флота вице-адмирал Н.И.Шибаев, который даже нашел время отечески побеседовать с тремя стажерами, дело сдвинулось, и нас расписали по лодкам. Позже стажировка укрепила нас в ранее принятых решениях.
В начале 1950-х гг. началось стремительное строительство новых ПЛ. Кадров не хватало, поэтому было решено в нашем училище произвести досрочный выпуск офицеров, назначив их на должности командиров групп средних ПЛ. чтобы уже через год, полностью подготовленными, продвинуть командирами БЧ на "новостройки". Осенью 1953 г. я был произведён в лейтенанты флота и назначен командиром торпедной группы на одну из первых ПЛ пр.613 на Балтийском море — С-154.

Лейтенант Военно-морского флота Э.А.Ковалев.
Моему становлению способствовало то, что офицерский коллектив лодки оказался на редкость профессионально подготовленным и доброжелательным. Командир ПЛ В.И.Сергеев сам взялся за подготовку молодых вахтенных офицеров. Имея за плечами военный опыт, он вскоре выучил нас так, что с полной ответственностью мог доверять нам управление лодкой как в надводном, так и в подводном положении. Через год на новую лодку — С-166 — я был назначен уже вполне подготовленным командиром минно-артиллерийской БЧ.
В те годы торпеды для выполнения практических торпедных стрельб готовили корабельные торпедные расчёты. Стреляли много. За два года службы на 4-м флоте (Южно-Балтийском) нашему расчёту удалось приготовить и выстрелить более 20-ти различных торпед. Должен заметить, что примерно такое же количество торпед было выпущено с ПЛ, которыми я командовал позже в течении восьми лет. Все торпеды хорошо прошли свои дистанции — кроме одной, которая начала всплывать, не дойдя до цели, и ударила в левую мортиру гребного вала ЭМ, после чего затонула. Расследование показало, что при стрельбе была занижена дистанция залпа. А торпеду подняли водолазы.
Когда я учился на 4-м курсе, уделял много внимания изучению устройства и работе на ПУТС. Многие командиры не очень доверяли впервые появившимся на лодках приборам, как это бывает со всем новым. Однажды при выполнении зачётной торпедной стрельбы С-166 четырьмя торпедами, в конце атаки её командир В.Б.Шмырин обнаружил, что упустил момент залпа для стрельбы прямоидущими торпедами (на жаргоне — пропустил "фи" ). Запросив у меня, как работают ПУТС, и получив доклад, что торпеды продолжают отслеживать цель, он скомандовал "Пли!" Когда "дым рассеялся", оказалось, что цель была накрыта веером из 4-х торпед так красиво, что флагман, наблюдавший их прохождение с борта корабля-цели, выразил командиру свою особую благодарность. Командир несказанно обрадовался, а я обрёл в нём внимательного и усердного ученика.
После учёбы на минных офицерских классах при 1-м Балтийском училище в 1956 г.. где мы со штурманом Сашей Бурсевичем разработали и написали руководство по использованию ПУТС для решения задач тактической навигации, а также руководство по минным постановкам с ПЛ пр.613, я был назначен на СФ командиром БЧ-3 на одну из первых АПЛ пр.627А — К-14.

.
Лодка была только что заложена на стапеле "Северного машиностроительного предприятия" в Северодвинске. Потекли однообразные дни учёбы. Было приятно сознавать, что ты идёшь в авангарде — вместе с людьми, прокладывавшими дорогу новому могучему подводному флоту страны. Но было и обидно, что из-за этого приходится на годы проститься с морем. Вскоре я стал помощником командира тоже строящейся К-27.
Это был особенный корабль. Его необычность заключалась в уникальности конструкции ЯЭУ. Под руководством академика А.И.Лейпунского для АПЛ был разработан реактор на промежуточных нейтронах, тепловыделяющие элементы которого омывались не водой, а разогретым жидким сплавом висмута со свинцом. Постройка и приёмка корабля от промышленности превратилась в один большой непрекращающийся эксперимент.
Команда успела не только пройти курс обучения в 16-м Учебном центре в Обнинске, но и принять активное участие в ликвидации аварии ядерного реактора на действующем стенде учебного комплекса. Выполняя свои обязанности, мы, входившие в аварийные группы, в ходе ликвидации двух аварии были переоблучены. Определить величину полученных доз радиации не представилось возможным, т.к. имевшиеся в ту пору специальные приборы не позволяли точно измерять уровень альфа-активности, характерной для эксплуатируемого реактора, а обычные радиометры начинали реагировать тогда, когда допустимые нормы уже превышены. До сих пор государственные чиновники без стыда уклоняются от включения фактических ликвидаторов — личный состав аварийных подразделений К-27, ликвидировавших в 1959 г. две аварии на АЭУ в Обнинске, в число ветеранов подразделений особого риска. А ведь у нас были потери: после аварий трюмного машиниста Бровцина списали по инвалидности, а командира дивизиона движения Кондратьева признали больным с диагнозом "лучевая болезнь 3-й степени".
Продолжение следует.

Верюжский Николай Александрович (ВНА), Горлов Олег Александрович (ОАГ), Максимов Валентин Владимирович (МВВ), КСВ.
198188. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 11/3, кв. 70. Карасев Сергей Владимирович, архивариус.