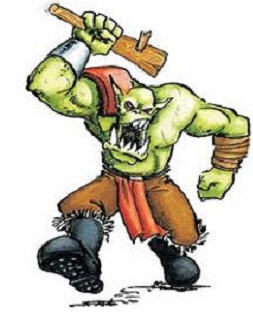
Наших бьют! Где? Эх понеслась!
Человек животное всё же стадное. Общественное научно выражаясь. Особенно мужская часть популяции. Хотя доминирует мнение, что человек и не животное. А выходец из него. Но свойство сбиваться в стаи сохранилось. Сплотиться можно добровольно, а можно и по принуждению или вообще по случаю. Команды футбольных фанов, мутузящих друг друга. Пионерские отряды, тянущие друг у друга собранный металлолом. Парламентарии, кулаками решающие быть или не быть Российскому флоту в Севастополе. Командное и инженерное училище друг против друга. Финансовое и ракетное, не поделившие единственный в городе пединститут. Везде есть наши и не наши.
А я же продолжу тему военных разборок, возникающих от скуки. Скажу лишь одно. В тех потасовках, о которых пойдёт речь, оружие сваливается в общую кучу. Нет заточенных блях, как не используются и прочие недозволенные в честной драке предметы.
А рассказать я поручаю Лосеву Егору, как обладающему с моей точки зрения неплохими для этого данными.
МУШКАТЕЛЬ С самых школьных времен само по себе выходило так, что Мушкатель в любой ситуации умудрялся найти неприятности. Неприятности всегда были одного и того же свойства, случалась драка, и он, Яков Мушкатель обязательно оказывался зачинщиком. Он, как бы, старался не лезть, но судьба-злодейка оставляла эти робкие попытки без внимания. Да и учителя очень скоро перестали вникать в ситуацию, сразу сваливая на Мушкателя всю вину. Эти жизненные коллизии закрепили за ним репутацию человека обезбашенного, и со временем Яков Мушкатель, что называется, вошел в роль.
То, что он попал в десантные войска, уже само собой являлось недоразумением. Ведь всем известно, что самые обезбашенные солдаты служат в Голани. Видимо, еще на тестах перед призывом ответственный за определение обезбашенных в Голани вышел в туалет или попить кофе, и просьба Мушкателя служить в десанте оказалась чудсным образом удовлетворенной, его направили на отборочные проверки.
Результаты этой фатальной ошибки израильская армия ощутила вскоре после того, как взмыленный запыленный Мушкатель приполз к финишу девяностокилометрового марш-броска и гордо натянул на бритую шишковатую башку красный берет.
Чтоб не мелочиться, Мушкатель сходу обрел международную известность. Вышел, так сказать, на мировой уровень.
Случилось это во время вывода батальона из Зоны Безопасности.
Пересменка происходила на КПП Фатма. Дело было в те добрые, старые времена, когда жители приграничных ливанских деревень приходили в Израиль на работу, а многочисленные туристы фотографировались под скрещенными флагами, бело-голубым с шестиконечной звездой и красно-белым с кедром, покупали сахлеб* у старого друза, вечно дремлющего на табуретке под раскидистой тенью кривого эвкалипта, и пялились в бинокль на раскинувшийся за забором Мардж-Аюн.
Мушкатель со своим закадычным дружком Чико, как раз к друзу и направлялись, чтобы выпить сахлеба.
Высокий круглоголовый Мушкатель напоминал игрушечного баскетболиста, у которого все члены крутятся в любом направлении, независимо от положения тела, а маленький коротконогий Чико смахивал на колобка. Вместе они смотрелись очень колоритно.
Этот факт по достоинству оценили болтающиеся здесь же пехотинцы.
Друзья подошли к тележке, собираясь разбудить старика, и тут ехидный голос сзади прошептал:
- Посмотрите на этих клоунов!
Мушкатель крутанул голову на 180 градусов и увидел четырех ухмыляющихся "голанчиков".
Тут важно сделать отступление и объяснить, что у "голанчиков" с "цнефами**" всегда были натянутые отношения, а иногда даже возникали потасовки.
Как потом выяснило следствие, у батальона "голанчиков" в Метуле был день отдыха, пехотинцы должны были расслабляться в Канадском центре***, плавать в бассейне, играть в баскетбол, на худой конец кататься на коньках. За каким чертом несколько солдат поперлись на КПП "погулять", следствие установить не смогло.
- Это ты нам? - удивленно поинтересовался Мушкатель, до которого по причине высокого роста доходило медленно.
- Конечно нам, кому ж еще... - подписал приговор "голанчиков" Чико.
Старый друз продавал сахлеб под эвкалиптом еще британским и французским солдатам, так что чутье имел замечательное. Старик приоткрыл один глаз, сразу понял что назревает драка, проворно вскочил и, подхватив табуретку, укатил тележку за толстый древесный ствол.
К тому времени первый "голанчик" уже рассекал пространство получив от Мушкателя мощнейший апперкот. А Чико катился вверх тормашками в противоположном направлении получив удар ботинком в грудь.
Сейчас уже трудно определить кто первый заорал "Наших бьют!!!", может крикнули обе стороны, а может только одна, но на клич четко среагировали все кто находился вокруг. Вскоре перед воротами КПП катался рычавший ком, мелькали красные ботинки парашютистов и коричневые береты "голанчиков", а так же голые тела тех, кто примчался прямо из бассейна.
Численное превосходство было за пехотой, но десантуру такие мелочи не смущали, не зря "цнефы" когда-то продержались на "Китайской ферме" почти сутки.
В какой-то момент из кучи тел вытянулась длиннющая смуглая рука Мушкателя и зашарила по, некстати оказавшемуся на стене, пожарному щиту. Рука, словно щупальце гигантского осьминога присосалось к огнетушителю и рывком втянула его в кучу-малу.
К этому времени на безопасной дистанции устанавливала аппаратуру запыхавшаяся съемочная группа итальянского телевидения, снимавшая неподалеку сюжет об обстреле катюшами Метулы.
Драка без следа всосала наряд военной полиции опрометчиво попытавшийся разнять драчунов. Клубок тел в какой-то момент впечатался в пограничное ограждение. По сигналу сработавшей сигнализации примчалась группа быстрого реагирования.
На вопрос "кто кого?" стоявший в сторонке связист пояснил: пехота мочит военную полицию.
- Ясно! - констатировал старший наряда, скидывая разгрузку и автомат, - Водитель сторожит агрегат, остальные за мной!
Добавить пару плюх "манаекам****" всегда считалось в армии делом благословенным.
На площадь перед КПП выехал туристический автобус. Двери раскрылись выпуская толпу японских туристов. Японцы восторженно разбежались вокруг, размахивая фото и видео камерами, в поисках лучшего ракурса.
Когда из мешанины мельтешащих рук и ног вдруг вынырнул Мушкатель с огнетушителем наперевес, его встретил залп вспышек.
Мушкатель заморгал, прищурился, выискал взглядом тело с коричневым беретом под погоном и впечатал огнетушитель.
- БАНЗАЙ!!! - вырвалось у кого-то из туристов.
Между японцами метался взъерошенный подполковник, тыча содранным с забора указателем гласившим "Военная зона! Фотографировать запрещено!". Но сыны страны восходящего солнца не реагировали.
Предусмотрительный хозяин местного магазинчика прохаживался в толпе с полными карманами фотопленки и батареек, поднося японцам боеприпасы.
Шесть раз выныривал Мушкатель с огнетушителем, и шесть поверженных врагов остались лежать в пыли.
На седьмой раз огнетушитель сработал, с шипением выбросив завесу белоснежного тумана, из которого чихая и кашляя расползались участники конфликта.
Военные и гражданские полицейские хватали припорошенных белым бойцов, отводили во двор комендатуры, где уже собрались взбешенные командиры подразделений.
Около машины скорой помощи откачивали пятерых "голанчиков" и случайно подвернувшегося под огнетушитель "манаека".
* Сахлеб - сладкий арабский напиток на молочной основе, густой, ароматный и белый, его пьют обычно горячим, заправляя дроблеными орехами, вкуснее всего фисташками, корицей, тертым кокосом.
** Цнефы- сленговое название десантников.
*** Канадский центр - большой спортивный центр в Метуле, с катком, бассейном, тиром и многочисленными спортзалами.
**** Манаеки - презрительное прозвище военных полицейских.
Начальник генерального штаба генерал-лейтенант Арнон Лидкин-Шахад цветом лица напоминал переспелый помидор. Сжимая в кулаке чашку кофе, он сверлил выпученными глазами телевизор. На экране под бодрые пояснения итальянского диктора колошматили друг друга десантники, пехота и просто те, кто не удержался, при виде побоища. Вокруг скакали японские туристы щелкая фотоаппаратами.
Ба-бах! Увесистая чашка вдребезги разлетелась об экран. "Сони", однако, выдержал, продолжая показывать, как грузят в машину скорой помощи запорошенных белым пострадавших.
- Найти!!! - взревел Лидкин, - Разобраться!!! Наказать!!! Особенно эту..., обезьяну, с огнетушителем!!!
- Есть! - отчеканил застывший в углу командир следственного отдела военной полиции.
- Позор! -Лидкин грохнул кулаком по столу, - Два боевых подразделения сменяются на позициях, как такое могло произойти?! Как!?! Да еще на глазах у этих... "самураев"!
- Разберемся, - командир МЕЦАХа* промокнул лоб, - доложим.
* МЕЦАХ - Сокращенно следственный отдел военной полиции.
Собственно, разбираться не пришлось. Мушкатель ничего не скрывал, даже наоборот.
- А ты, сам то? - напрыгивал он на следователя, тряся закованными в наручники руками, - Если бы тебя обозвали, ты бы не ответил?! А, не ответил?!
- Сядь! - успокаивал следователь, - Возьми себя в руки! Расскажи, где ты взял огнетушитель?
- Нет, ты мне скажи! - "брал себя в руки", возмущенный несправедливостью Мушкатель, - Ты бы не ответил на такое? Не ответил?
Судить "обезьяну с огнетушителем" вызвался лично командующий северным военным округом, генерал Авирам Лезин.
Мушкатель, в надвинутом на подбитый глаз берете, стоял по стойке смирно в генеральском кабинете. За ним "подстраховывал" крупногабаритный прапорщик.
- Ты признаешь себя виновным, признаешь обстоятельства произошедшего или не признаешь себя виновным? - Чеканил Лезин стандартные фразы, процедуру военно-полевого трибунала он знал наизусть.
- Нет, вот ты скажи! - взвился Мушкатель размахивая руками, - Ты бы смолчал?! Ты бы не ответил?! Если бы тебя обозвали клоуном!?
- Солдат, смирно!!! - взревел стоящий "на подхвате" прапорщик.
- Нет, ты мне скажи!!! - бесновался Мушкатель стуча кулаками по генеральскому столу.
- Уберите этого придурка!!! - рявкнул Лезин.
- Грррр! - рычал Мушкатель, но силы были не равны, а огнетушители предусмотрительный прапорщик заранее спрятал в приемной.
Двое дюжих полицейских выволокли возмутителя спокойствия из кабинета и запихали в машину. Напоследок Мушкатель умудрился расплющить кулаком стоящую на столе модель танка Меркава. Сидя в фургоне он, мстительно скалился и выковыривал из ладони пластмассовые обломки.
В тюрьме Мушкатель слегка подзадержался ибо не дать в морду надзирателю было выше его сил. А пока наш герой бухал ботинками об плац шестой армейской тюряги слава о нем разносилась по подразделениям.
Когда похудевший Мушкатель вернулся, всем своим видом он показывал, что поумнел, и больше его ни в какие неприятности не втянешь.
Через некоторое время командиры поверили, и даже сделали Мушкателя ротным старшиной. (В ЦАХАЛе эту должность может занимать солдат-срочник).
Наверное эта идиллия продолжалась бы до самого дембеля, если бы в чью-то светлую голову, в коридорах северного округа или генштаба не пришла гениальная мысль устроить совместные учения пехоты и десантников на Голанских высотах.
Это знаменательное событие привело командиров одного из батальонов Голани на базу к десантникам для обсуждения дальнейшего взаимодествия. В состав делегации вошли комбат, и оперативный офицер и двое сержантов.
"Абир" зарулил на базу, состоящую из палаток обнесенных колючкой, бака с водой и солдатского сортира. С разрешения хозяина, комбата парашютистов, машину припарковали на прямо на плацу, перед флагштоком. Тут важно пояснить, что плац или как его называют на иврите "рехават ха дегель" является очень важным местом на любой военной базе, там проводятся торжественные построения, разводы караулов, парады и т.д..
Комбаты уединились в штабной палатке. Водитель ковырялся в машине, один сержант направился в палатку-столовку в поисках чего-нибудь вкусного, а другой ушел в сортир.
Тут-то, на сцене появился Мушкатель. Заметив непорядок, в виде грузовика припаркованного в неположенном месте, он направился к водителю.
Обнаглевший водила, зная, что стоянка согласованна с комбатом, на все претензии нагло вопросил: "Лама ми ата бихляль?" (Ты, вообще, кто такой?)
И услышав в ответ: "Мушкатель", сначала не поверил. Он вылез из машины и нашаривая у себя за спиной монтировку переспросил:
- Мушкатель?
- Мушкатель! - грозно подтвердил Мушкатель, не ожидая в расположении родной части ничего худого, тем более водитель и остальные были в обычной полевой форме "бет", без знаков различия.
- Тот самый? - уточнил водитель, крепче сжимая монтировку.
- Тот самый! -подтвердил Мушкатель, постепенно начиная догадываться о чем речь.
- Здесь Мушкатель!!! - заорал водитель взмахивая монтировкой. Первым на вопль примчался один из сержантов пехотинцев. К тому времени водила катался в обнимку с Мушкателем, пытаясь повторно применить монтировку.
В неудачном положении оказался второй сержант, зашедший в столовку. Там он был один, а врагов много. Ударом ноги сержант выбил двухметровую железную трубу-подпорку поддерживавшую палатку и размахивая оружием начал прорубаться к своим. На выходе из столовой сержант двинул трубой по башке высокому десантнику, обладателю "древнего еврейского" имени Василий.
- Хуяссе! - на непонятном языке удивился Василий.
Ржавая, прогнившая по середке труба переломилась пополам. Сержант-голанчик удивленно раскрыл рот, видя, как человек, об голову которого он, только что, сломал железную трубу, стоит и не падает, да еще и непонятно разговаривает.
Василий подхватил с земли обломок, издал боевой клич "Убьюсуканах!!!".
Обидчик не дожидаясь побежал. У машины тем временем кипела драка. Вмешавшийся было оперативный офицер сходу огреб в глаз, взял кого-то в захват, получил подсечку, и теперь дрался вместе с остальными.
Оба ошарашенных комбата прикидывали, как навести порядок.
Один из сержантов, зажимая рукой разбитый нос вполз в кабину "абира". Подсвечивая себе искрами, обильно сыпавшими из подбитого глаза, он принялся нашаривать гарнитуру рации.
Гарнитура нашлась и в эфир полетел отчаянный "Мэйдэй!".
На счастье, а может и на беду, смотря как подходить к проблеме, в километре от них тяжело топтала шоссе навьюченная полной выкладкой рота бригады "Голани", совершая марш бросок.
- Где, где? - уточнил координаты здоровенный связист командира роты, - А не врешь?
- Мамой клянусь!!!!! - истошно выкрикивал сержант, и нарушая все правила радиообмена назвал имена своего комбата и оперативного офицера, - Их, кажись, запинали уже... на всякий случай жалобно добавил сержант и всхлипнул.
Окажись ротный рядом со своим связистом, топать бы пехоте дальше по дороге. Но летеха возился на обочине с подвернувшим ногу бойцом.
А связист повернулся к товарищам и сообщил: - Прикиньте, мужики! Там десантура наших мочит!
Слух моментально облетел всю колонну от авангарда, до арьергарда и сомкнув ряды в компактный строй рота поддала газу.
- Держись браттелло! - хрипел на бегу связист, прижимая к уху гарнитуру, - Подмога идет!!!
На поле брани дело подходило к концу, комбаты при помощи матюгов и тумаков разогнали большую часть дерущихся по сторонам, да и силы были явно не равны. Но тут земля задрожала, затряслась и на горизонте, как засадный полк князя Владимира, нарисовалась из облака пыли наступающая пехота.
- Нааашиии!!! - сержант с подбитым глазом выкатился из кабины, - Мочи "цнефов"!!!
Успокоившиеся, было бойцы снова кинулись друг на друга.
Десантники, надо отдать им должное, быстро сориентировались в обстановке, кто-то завертел ревун боевой тревоги и тугой унылый вой повис над палатками, скидывая с кроватей тех, кто еще не принял участие в боевых действиях.
Топавшая, словно слоны Ганнибала рота походя вынесла шлагбаум КПП и опрокинула будку дежурного. Вскоре по плацу каталась зеленая масса голов, рук и ног, то распадаясь на отдельные схватки, то сливаясь вновь. Обоих комбатов давно похоронили где-то в самом низу.
Как это обычно бывает в израильской армии, если боевые части бессильны, ситуацию спасают тыловики.
Из недр кухонной палатки неторопливо выплыла приблатненая сытая харя. Выражение на харе застыло наглое и высокомерное, однозначно указывавшее на принадлежность ее обладателя к касте поваров или каптерщиков. Уши находившиеся, как им и положено, справа и слева от хари топрощились заткнутые наушниками, из брезгливо изогнутых губ торчала сигарета. Повар почесал пузо под белой футболкой, со смаком затянулся, выпустил дым и только тогда обвел взглядом окрестности.
Панорама открывалась - "что надо".
- Ну вы, блин, даете... - оценил происходящее повар.
Из кучи малы к его ногам выполз комбат-десантник. Дико вращая выпученными от бешенства глазами он хрипел:
- Прекратить! Я приказываю прекратить...
Труженик общепита нагнулся к начальству вытащил изо рта сигарету, сдвинул с ушей наушники плеера и переспросил:
- Прекратить? Ага! Будет сделано!
Повар еще раз затянулся, хозяйственно пристроил бычок на пустой ящик, потом докурить, и исчез за палаткой. Через секунду он вынырнул обратно, волоча за собой шланг.
Мощная струя пожарного брандспойта ударила в толпу.
Вскоре все было кончено. Противники отплевывались в пыли утирая носы и щупая зубы. Победила, так сказать, дружба.
Тут необходимо заметить, что традиционная взаимовыручка между боевыми солдатами и тыловиками уходит корнями в далекие восьмидесятые когда дождливой осенней ночью двое террористов попытались пересечь границу между Ливаном и Израилем при помощи дельтапланов. Один приземлился на территории Ливана и был застрелен солдатами. Второй удачно сел недалеко от израильского города Кирьят Шмона, нашел ближайший военный лагерь и бросился в атаку.
Дежуривший на КПП солдат просто испугался и убежал, чем оказал боевику ценную услугу. Тот ворвался на территорию части и заметался между палатками поливая округу из "калашникова" и разбрасывая гранаты.
На базе началась паника. И неизвестно чем бы все закончилось, если бы не каптерщик-тыловая крыса, выползший на крыльцо покурить. Каптерщик спокойно, как на стрельбище, зарядил винтовку и двумя выстрелами отправил нарушителя спокойствия в благословенные объятия заждавшихся гурий.
Дело кое-как спустили на тормозах, солдатам и офицерам обоих подразделений надавали по рогам и надолго лишили увольнительных. Однако невероятные слухи и сплетни чуть ли не год передавались из уст в уста, причем фамилия "Мушкатель" везде занимала почетное место.
Комбат же вызвал нашего героя на разговор и без обиняков заявил, что если Мушкатель позволит себе устроить еще один подобный инцедент, да что там устроить, если он хоть пальцем окажется замешан в чем-то похожем, комбат влепит ему такой срок, что его из армейской тюрьмы переведут на обычную гражданскую зону.
Мушкатель уткнув глаза в пол, только угрюмо бурчал...
-... а ты бы не ответил... а ты бы... если б тебя... монтировкой...
- Пошел отсюда вон! - тактично завершил разговор подполковник, - И больше мне не попадайся!
Мушкатель отнесся к угрозе командира серьезно. Сама по себе угроза вообщем-то была мало осуществимой ибо нет у подполковника такой власти, вешать подчиненным огромные срока, но ежели чего, спихнуть дело комбригу или того хуже в военный суд любимое начальство вполне способно, а там всякое может случится.
Вообщем Мушкатель твердо решил закончить службу без приключений, засунул кулаки поглубже в бездонные карманы полевых штанов "бет" и зарекся их вытаскивать, хоть монтировкой его охаживай, хоть по матери склоняй. Пару раз Мушкателя все же обижали разные нехорошие люди. Один раз свои десантники, а второй раз саперы. Родной десантуре сошло с рук. Наглого же сапера Чико отловил чуть позже на автобусной остановке и популярно объяснил что к чему, от усердия вывихнув большой палец.
Мушкателю почти удалось продержаться до дембеля. Почти - потому как военная служба это вам не шашлык на "мимуну*" пожарить.
* Мимуна - традиционное застолье марокканских евреев, проводимое в последний день Пасхи
Как всегда Мушкатель оказался не виноват, почти. Но не будем забегать вперед.
Как писал Булгаков, "тьма накрыла Йерушалаим", не Йерушалаим конечно, а всего лишь Зону безопасности в южном Ливане. Накрыла она и опорный пункт, торчащий на вершине холма, ощетинившийся пулеметами, опутанный по склонам колючкой, под которой было натыкано видимо не видимо всякого минного хозяйства, как своего, так и чужого.
В подземных казематах этого самого пункта, сиречь форпоста, кипели нешуточные страсти. Шел завершающий раунд игры в шеш-беш между Мушкателем и Чико. Шесть предыдущих партий окончились в ничью - 3:3 и вот теперь на доске подходило к концу последнее решающее сражение, после которого побежденный должен был идти на кухню, готовить ужин на все отделение. Само же отделение толпилось вокруг, нетерпеливо переругиваюсь, в предвкушении обильной трапезы.
Фортуна от Чико явно отвернулась, но настроен он был держаться до последнего. Мушкатель же предвкушал победу.
Только одно портило ощущение триумфа: литр кока-колы и четыре чашки кофе нещадно давили на мочевой пузырь, но по нужде в такой волнующий момент его просто не выпустили бы голодные сослуживцы.
Наконец Чико с досадой жахнул кулаком по заменявшему стол снарядному ящику и грубо выругался. Болельщики восторженно завопили, заволновались и потребовали ужина. Печальный Чико встал и потащился на кухню.
Мушкатель осторожно, не расплескать бы, двинул справлять нужду. До туалета он, пожалуй, не дотерпел бы, а потому, Мушкатель просто вышел из бункера, свернул в ход сообщения, добрел тупикового изгиба, под стеной танкового капонира. Здесь он расстегнул штаны и принялся поливать высокую бетонную плиту. Расслабон и блаженство овладели чемпионом форпоста по нардам. Хорошее настроение повышалось обратно пропорционально уровню жидкости в мушкателевом организме.
Тупо пялиться на бетон быстро наскучило, и Мушкатель огляделся по сторонам.
Ночь переливалась лунным светом, перемигивалась огоньками христианская деревня, раскинувшая улицы у подножья холма. Кроме стрекотания сверчков ничего нарушало пастораль прохладной осенней ночи.
Легкое движение за бруствером привлекло внимание. Мушкатель вздргонул и вгляделся в темноту. За брусвером некому и нечему двигаться как-то неположено.
В призрачном лунном свете, по напрочь заминированному склону легко, почти небрежно скользила человеческая фигура, перешагивая колючку обходя рытвины и ямы.
Мушкатель замер на месте, не в силах прервать процесс отправления естественных надобностей. По коже продрало холодом. Винтовка бесполезно болталась за спиной. Магазин лежал где-то в кармане куртки, точнее Мушкатель надеялся, что он там.
Литься наконец перестало. Избегая резких движений он заправил "хозяйство" в штаны и максимально задвинулся спиной в тень, одновременно стараясь нащупать в кармане магазин. От неожиданного гостя его частично скрывал выступ бетонной плиты.
Тем временем призрак скользнул в ход сообщения. Тускло блеснул в лунном свете характерный силуэт "калаша". Магазин Мушкатель наконец нашупал, оставалась самая "малость": извлечь его из кармана и зарядить оружие.
"Налево! Поверни налево!" мыслено умолял он гостя. Но гость постоял мгновение и повернул направо. Хорошо хоть луна скрылась за тучей.
"Кранты!" - философски подумал Мушкатель, - "если, конечно, он меня заметит!".
Мушкатель вжался спиной в бетон и сдвинул набок винтовку. Призрак, чудесным образом пересекший минное поле, крался по тарншее.
Вот он оказался совсем рядом, всего в полуметре. Мушкатель перестал дышать.
Гость сделал шаг вперед.
"Ногой под колено, а как повернется, сразу прикладом в рожу, под каску..." прикидывал Мушкатель.
Разошедшиеся тучи положили конец его размышлениям, луна засияла во всей красе. Боевик засек постороннюю фигуру боковым зрением и среагировал мгновенно. В лицо полетел увесистый деревянный приклад.
Уклониться Мушкатель успел чудом, железный затыльник ощутимо скользнул по голове и с лязгом впечатался в бетон. Понеслось. Мушкатель вцепился в автомат противника, лягнул в ногу пониже колена, удовлетворенно почувствовал - попал. Дернул автомат в бок выводя боевика из равновесия. Но тот, падая провел подсечку и оба рухнули в ход сообщения, где в тесноте между стенками началась бестолковая возня.
Пока перетягивали друг на друга "калаш", пока пинались ногами, бодались головами, в толкучке кто-то зацепил спуск и дикий грохот ударил по ушам, а в глаза плеснуло огнем и бетонным крошевом. Весь "калаш" опустошился в небо, несколько пуль попали в стенку и с визгом ушли в сторону. Покуда оглушенный и ослепленный Мушкатель приходил в себя, противник вырвался, перескочил через бруствер и бросился наутек.
Проморгавшись Мушкатель сунул руку в карман. Пусто. Матерясь он метнулся на раположенную рядом наблюдательную позицию. Пост был дневной, ночью на нем не дежурили, но телефон имелся. Мушкатель крутанул ручку, проорал кодовое слово, означавшее проникновение противника на базу, и назвал сектор.
Выбежав обратно он споткнулся о собственный магазин, подобрал, вогнал в винтовку, передернул затвор и побежал к стрелковой ячейке, откуда простреливался склон.
"Ну, падла..." - думал Мушкатель, - сейчас... сейчас...
"Сейчас" не получилось, кто-то метнулся под ноги, а кто-то другой, тяжелый навалился сверху.
- Есть, - расслышал Мушкатель голос Чико, - держим, попался, "мАньяк!*"
Мушкатель взорвался матюгами, разобрав родословную Чико до пятого колена включительно.
- Еще и ругается по нашему, пидор! - возмутился Чико.
- Кто пидор?!?!?! - взревел Мушкатель, бешено вырываясь.
Над головой хлопнула ракета, все залило дрожащим оранжевым светом.
Чико подвинулся, освободил голову "пленного", разглядел знакомые черты и ойкнул.
Рядом ударил пулемет, захлопали винтовочные выстрелы, но стрельба вскоре заглохла, ночного гостя уже и след простыл.
Отдышавшись потащились обратно в бункер, на "разбор полетов".
Из дверей тянулся едкий запах сгоревшей яичницы.
Это было последней каплей, Мушкатель обернулся и вперил в Чико такой сверепый взгляд, что тот втянул голову в плечи и жалобно развел руками.
Утром саперы проверили склон, все оказалось на месте, мины растяжки, ловушки...
- Призрак какой-то... - озадаченно чесал в затылке командир форпоста, - Полтергейст....
Мушкателя тем не менее похвалили. Как ни крути, сопротивление оказал, проникновение предотвратил.
* Маньяк - (с ударением на первом слоге) в иврите оскорбительное ругательство.
Почетные грамоты отличникам боевой и политической подготовки вручал лично командующий северным военным округом генерал Авирам Лезин.
Он шел вдоль строя, пожимал каждому руку, вручал грамоту, говорил несколько слов.
Дойдя до Мушкателя он крепко стиснул протянутую ладонь:
- Сорвал нападение боевиков... молодец, молодец...
- Дык я... дык он... - мычал растроганный Мушкатель, за три года службы похвалами начальства не избалованный, - дык, я того...
Вид у генерала был такой, словно собеседника он где-то видел, но никак не может вспомнить где.
- Молодец, - повторил Лезин, вручая солдату грамоту, - так держать!
- Дык я это... - буркнул Мушкатель и сбился на привычное, - А ты бы не ответил?! Если бы тебе прикладом по башке?! Ты бы не ответил?!
Глаза Лезина широко раскрылись, он побледнел, мотнул головой, словно отгонял какие-то нехорошие воспоминания и шагнул к следующему солдату.
Вопрос Мушкателя так и остался без ответа.