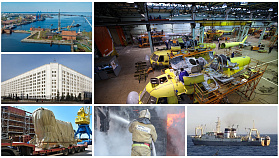Если угроза голода для нашей семьи несколько ослабла, то вторая по значимости опасность – удары по городу немецкой авиации и артиллерии, начиная с сентября, нарастала день ото дня. Третья в этом ряду угроза – жестокие морозы, ещё ожидала нас впереди.
Первый артиллерийский обстрел города был осуществлён немцами 4 сентября. 6 сентября фашистским самолётам впервые удалось прорваться к городу и сбросить бомбы, а 8 сентября немцы смогли подвергнуть город массированному налёту. Этот день, точнее вторая его половина, навсегда запечатлелась в моей памяти. Дикий вой и глухие разрывы бомб, отрывистая скороговорка зениток, объятое заревом пожаров небо – и не в кино, а на самом деле, дали нам полную картину того, что нас ожидает.
Налёт застал меня в трамвае по дороге домой с Васильевского острова, где жила семья дяди Миши. Весной 1941 года они тоже переехали из Веркал в Ленинград. С началом налёта трамваи остановились, люди укрылись, кто где. Я оказался под аркой какого-то дома на площади Труда. Народу здесь собралось порядочно. Слышны были частая стрельба зениток и глухие удары бомбовых разрывов. Люди держались спокойно и молчаливо, лишь изредка обмениваясь короткими репликами по поводу увиденного. Кстати, вообще случаев паники среди ленинградцев мне не известно, скорее всего, их и не было в течение всей войны. Беду ленинградцы встречали всегда очень сдержанно.

Налёт длился около часа. Урон городу был нанесён заметный: по дороге домой (трамвай продолжил своё движение после отбоя «воздушной тревоги») были видны разрушенные бомбами здания в окружении пожарников и бойцов местной обороны. Однако, самой страшной для ленинградцев потерей в этот день были сгоревшие на которых хранились основные запасы продовольствия.
Не могу сказать точно – в тот же день или несколько позже – мощная бомба попала в соседний с нами дом № 13. К тому времени мы ещё не перестали реагировать на сигналы воздушной тревоги. Они транслировались по радио воем сирены. Мы четверо, а также Клавдий Антонович с Анной Николаевной, по этому сигналу спустились по чёрному ходу на первый этаж в квартиру дворника. Сидели на его кухне вокруг стола, горел электрический свет. Клавдий Антонович спокойно читал газету.
На этот раз стрельба была особенно близкой и ожесточённой. От выстрелов зениток, размещённых на крыше Большого дома (Управление НКВД) звенело в ушах. Периодически раздавался вой падающих бомб и последующие глухие удары. Вдруг в какой-то момент возникший вой стал резко нарастать, достигая ошеломляющей, пронизывающей силы. Ожидая неотвратимое, все в ужасе оцепенели, только Лёля проворно нырнула под стол. Рядом раздался громоподобный удар, земля заходила, дом ощутимо качнулся. Через несколько мгновений, осознав, что мы уцелели, Клавдий Антонович и я выскочили во двор и сразу оказались, как в молоке.
Всё вокруг было заполнено плотным туманом, ничего нельзя было различить на расстоянии вытянутой руки. Как оказалось позже, это была пыль от рухнувшей в наш двор глухой стены дома № 13. Бомба попала в его флигель, превратив последний в высокую кучу развалин. По дошедшим до нас сведениям, при этом взрыве погибла одна семья, которая оставалась в квартире. Остальные жильцы флигеля спустились в бомбоубежище и, хотя его при взрыве засыпало, обошлось без жертв, так как людей своевременно откопали.

С 8 сентября воздушные налёты и начали осуществляться немцами ежедневно и по несколько раз, и они надолго стали неприятным, но неизбежным элементом жизни блокадного города. Сам собой замер учебный процесс в большинстве школ. В нашей школе это произошло как-то незаметно и совсем не оставило следа в моей памяти. Уже в то время проблемы выживания настолько нас поглотили, что отодвинули учёбу в школе в ряд гораздо менее важных проблем, чем, например, «отоваривание» карточек или добыча дров для появившейся в нашей комнате «буржуйки».
Кстати, именно развалины дома № 13, в который в течение войны попало ещё несколько бом и снарядов, оставив целым только выходящий на улицу фасад, стали основным местом, где я добывал дрова. В основном для этой цели шли деревянные, обитые дранкой перегородки, но годилась и всякого рода мебель, брошенная хозяевами.
Быстро и неотвратимо наш быт погружался в суровый и примитивный блокадный уклад с гнетущим чувством голода и холода, без электричества, воды, канализации, с коптилкой и буржуйкой, дающими копоти и грязи едва ли меньше, чем света и тепла, с постоянными угрюмыми сумерками в комнате из-за забитых фанерой окон.
«Подкармливание». Поездка в Дибуны
На своей работе Лёля освоилась довольно быстро. И уже в ноябре, когда снабжение продуктами по карточкам почти прекратилось, и мы стали по-настоящему голодать, она приспособилась приносить нам в дамской сумочке завёрнутую в бумагу кашу и другие остатки от рациона раненых. В институте усовершенствования врачей в войну был госпиталь.
В последующем Лёля подружилась с одной из медсестёр госпиталя, Павловой Валентиной Яковлевной, и способ нашего «подкармливания» был рационализирован, а также принял более систематический характер. Мы приобрели два небольших (литра по полтора) бидончика. Один из них находился у нас дома, другой Лёля постепенно заполняла на работе объедками. В назначенное ею время мы (Лина или чаще я) приходили с пустым бидончиком на проходную в главном здании или к забору института (место тоже оговаривалось заранее) и ждали Валю.
Через некоторое время появлялась её высокая фигура в накинутом на плечи пальто, под которым скрывался заполненный бидончик. Мы быстро подходили друг к другу и менялись бидончиками. Круглое лицо Вали с полными губами и коротким прямым носом (тогда ей было лет 18) выдавало владевшее ней напряжение. И впрямь, задержи её в этот момент кто-нибудь из охраны, Вале грозили бы крупные неприятности. Однако, потом, освоясь, мы вели себя более спокойно, так как поняли, что женщины-охранницы смотрели на наши манипуляции с бидончиками скорее с сочувствием, чем с желанием проявить служебное рвение. Видимо, они принимали Валю за нашу старшую сестру, которая делится пайком со своей семьёй. Подобное заблуждение вполне объяснимо, так как наверняка у многих женщин из охраны были свои семьи, тоже крайне нуждающиеся в поддержке, и с которыми они делились своим, далеко не лишним, куском.
Что касается нас, то надо сказать со всей определённостью, что именно это «подкармливание» дало нам возможность выжить в самое тяжёлое время первой блокадной зимы.

Это Валя Павлова, которая помогала нам спастись от голода в первую блокадную зиму. Фотография от 15 октября 1944 года
В конце октября отец смог каким-то образом нам сообщить, что его часть находится в Дибунах, и даже передать приблизительные координаты, дающие возможность его там найти. Подробного описания не пропустила бы военная цензура. Мама сразу собралась туда, с ней напросился и я. В прифронтовую зону требовались пропуска, но получить их нам было делом безнадёжным, и мама решила ехать «на авось».
Мы рано двинулись в путь, и сначала на трамвае, потом на попутной машине смогли добраться почти до прифронтового КПП, располагавшегося, видимо, где-то в районе Песочной. Шофёр выгрузил нас и ещё несколько человек, не имеющих пропусков, вне видимости пропускного пункта с тем, чтобы мы имели возможность обойти его стороной. Это нам удалось, однако, трудная дорога сначала по пересеченной местности через густой кустарник, а затем долгий путь по шоссе стоили нам больших усилий.
Добрались мы до Дибунов во второй половине дня измотанными до крайности. Надежда на предстоящую встречу с отцом придавала нам силы. Переходя от дома к дому, останавливая попадавшихся навстречу военных, мы приступили к поискам, готовые к тому, что это будет непростым делом. Но из расспросов стало очевидным самое худшее. Отца в Дибунах не было. Утром этого дня его подразделение перебросили в другое место. Осознав это, я испытал первое в своей жизни по-настоящему глубокое и мучительное разочарование, отголоски которого живы в моей душе до сих пор. А каково было в этот момент бедной маме, и вообразить себе невозможно.
Оглушённые крушением своих надежд, мы побрели обратно. Обходить КПП не было ни сил, ни желания, и нас там задержали. Уже затемно на попутной машине мы были доставлены в город, в отделение милиции, откуда, довольно быстро разобравшись, нас отпустили восвояси. Изнурительная и удручающая своим результатом поездка закончилась все-таки дома, и это было единственным светлым пятном по началу столь многообещающего дня. С отцом мы увиделись месяца полтора спустя, при совсем других обстоятельствах.
Голод и его жертвы

"Жилище блокадника" 1941-1942 годы. "Ленинградская мадонна" Январь 1942 год.
К концу ноября главные блокадные фурии – голод, бомбёжки с артобстрелами и мороз полностью вступили в свои права и во всю свирепствовали в городе. Как ни мыкалась Лина целыми днями в очередях при участии моём и мамы, нам ничего не удавалось выкупить из причитающихся по карточкам продуктов, кроме хлеба. Ежедневно на наши четыре хлебные карточки мы выкупали чуть больше половины хлебного кирпичика (750 грамм) – то тёмного и тяжёлого как глина, то сухого и белого как бумага.
На завтрак мама отрезала каждому из нас по половине хлебного ломтя, толщина которого была около 1–1,5 см, остальное запиралось на ключ. Мы пили «чай» (как правило, кипяток), максимально растягивая этот процесс, отщипывая хлеб буквально по крошкам и стараясь подольше продержать его во рту наподобие конфеты. На обед нам выходило по целому ломтю, на ужин снова по половине. Если от Лёли нам ничего не перепадало, то, как и в завтрак, второй частью «меню» был кипяток. Заветные бидончики поступали к нам не каждый день и большей частью неполными. Раненые теперь почти ничего не оставляли на столах, и, как правило, в бидончик попадали лишь подгоревшие остатки, образующиеся при чистке кухонных котлов.
Тем не менее, именно эти жалкие крохи поддерживали в нас способность двигаться и как-то бороться за своё существование. Чувство голода, однако, как зубная боль, поглощало все мысли и чаяния. Его уже невозможно было обмануть какой-нибудь эрзац-едой (типа лепёшек из горчицы, кипятка или просто жеванием «вара» – битумной смолы). На этой стадии чувство голода нельзя было заглушить, даже наевшись до отвала. Оно, как движущийся маховик, обладало большой силой инерции и сразу начинало снова мучить человека, как только он прекращал есть.
Перед голодом пасовал даже материнский инстинкт. Мама позже признавалась, что, когда в самые жестокие блокадные дни Лину, пропадавшую в очередях, заставали бомбёжка или артобстрел, то мамина первая мысль была не о Лине, а о продуктовых карточках, которые могли пропасть, если с ней что-то случится. Это не говоря уже о других родственных чувствах.
Например, я и Лина по отношению друг к другу были вполне нормальными братом и сестрой, однако, при делёжке еды, которую обычно проводила мама (её предприятие блокадной зимой не работало), мы ревниво следили за боясь, что другому достанется лучший.

Поэтому во избежание обид делёжка чаще всего проходила испытанным солдатским способом: один из нас отворачивался и говорил, кому отдать кусок, на который указывала мама.
Напор голода подвергал жестокому испытанию и наше чувство честности. Конечно, наши «грехи» касались только еды. Чаще всего у меня они заключались в том, что, выкупив в магазине положенный по карточкам хлеб, я по дороге домой съедал второй довесок. В ту пору в булочных хлеб отвешивали с максимальной точностью, и по этой причине выкупаемая пайка имела иногда два, а то и три довеска. Съедался, как правило, больший из них. Если довесок был один, то его съесть наглости уже не хватало, так как пайка без довеска слишком явно свидетельствовала о допущенной нечестности.
Были, правда, проступки и посерьёзней. Например, иногда мне удавалось разными ухищрениями открыть отделение комода, в котором мама запирала хлеб. В этом случае я или Лина аккуратнейшим образом, стараясь, чтобы оставленный кусок не претерпел заметных изменений, отрезали тоненький (примерно пять миллиметров) кусочек, делили его и тут же съедали. Поскольку я навострился комод не только открывать, но и закрывать, то наша непорядочность оставалась для мамы тайной. А возможно, она просто не хотела её замечать.
Совершая подобные поступки, мы испытывали угрызения совести, но чувство голода было сильнее. Представление о том, насколько далеко может завести голод по этому скользкому пути, даёт следующий эпизод, за который мне по-настоящему стыдно до сих пор.
Холодным декабрьским вечером к нам зашёл дядя Гавриил. Уже было темно, в нашей комнате горела коптилка, мы втроём (мама, Лина и я) сидели вокруг топившейся буржуйки, ловя её благодатное тепло.
Худощавый и в лучшие времена дядя Гавриил сейчас выглядел совсем скелетом. На обтянутом кожей лице выделялись только скулы да усы, однако, взгляд глубоко запавших глаз был ясен и прям. Было очевидно, что он, как и все в Ленинграде, кто существовал только тем, что выдавалось на карточки, давно и жестоко голодает.

Намереваясь эвакуироваться по начавшей уже функционировать «Дороге жизни», дядя принёс взятый ранее на время папин кожух. Лишь много позже я смог уразуметь, насколько высоко порядочным должен был быть человек, чтобы не только почувствовать себя обязанным вернуть такой предмет и в такое время, но и сделать это, невзирая на голод и мороз. Ведь овчинному, очень приличного вида кожуху (чёрный дублёный верх), в те трескуче-морозные дни просто не было цены! За него на базаре можно было получить продуктов на одну, а то и на пару недель сносной жизни. И невозврат кожуха можно было легко списать на превратности блокадного времени. Но дядя предпочёл этому спокойную совесть.
Повесив кожух на вешалку, которая тогда находилась в комнате сразу у двери, дядя Гавриил даже не присел. Он выглядел озабоченным и не был расположен у нас задерживаться, что, как мне показалось, явилось для мамы немалым облегчением, поскольку «угощать» дядю было совершенно нечем. Наши хлебные пайки к этому времени уже были съедены, и в доме не оставалось ни крошки съестного.
Стоя в пальто и шапке у печки (в её топку входила труба от буржуйки), дядя справился у мамы об отце и Феде, о работе Лёли. Он сказал, что Толя эвакуирован из Ленинграда вместе со своим ремесленным училищем. Вскоре дядя ушёл.
Едва за ним закрылась дверь, меня как будто что-то толкнуло: я вскочил, бросился к кожуху и запустил руку в карман. В его грубой холщовой ткани рука нащупала твёрдый предмет. Выдернув с ним руку, я обомлел: Господи, кусок сахара! И приличный – почти с мой кулак! Свою находку я с торжеством показал всем и отдал маме.
Не успели мы прийти в себя от радости, как раздался звонок. Три звонка – к нам! Звонкам тогда электричества не требовалось: на лестничной площадке у двери была ручка, дёрнув за которую, приводили в действие колокольчик в прихожей. Вернулся дядя Гавриил!
Войдя в комнату, он не медля залезает рукой в карман кожуха и, ощутив пустоту, с отчаянием восклицает:
– Здесь был кусок сахару! – и после короткой паузы, твердо продолжает:
– Вы его взяли!
– Никакого сахару мы не видели, – не менее твёрдо произносит мама.
Я и Лина безмолвствуем.

Решите и Вы, какой здесь ГРЕХ... -
Дядя продолжал уверять, что в кармане сахар был. И то требовал, то умолял нас вернуть его. Но эти увещевания, которые, казалось, могли тронуть и камень, не принесли результата. При нашем с Линой попустительстве мама стояла на своём: «Сахару не было!». Судя по собственному состоянию, могу сказать, что каждый из нас троих в ходе этих томительных препирательств стал осознавать, какую низость мы совершаем. Однако, враньё зашло уже слишком далеко, и, чтобы его признать, ни у кого из нас не доставало мужества.
Глубоко огорчённый, обиженный и раздосадованный дядя нас покинул. Как потом оказалось, навсегда. О постигшем дядю Гавриила и его дочь Женю трагическом конце в городе Свердловске я уже писал.
В начале 1942 года он и Женя эвакуировались. За пару дней до наступления Нового года Женя навестила нас. Бедняжка была совсем прозрачной. Однако, она с обычной своей милой улыбкой и даже некоторым задором предложила нам с Линой выбрать то, что у неё находится в варежке. Я указал на правую руку, и, сняв варежку, Женя достала один детский пригласительный билет на Новогодний утренник, который должен был состояться в Технологическом институте. И хотя, когда настал срок, идти так далеко в одиночку не отважились ни я, ни Лина, это отнюдь не умаляет красоты и благородства Жениной доброй души, способной даже в такое поистине мертвящее время на столь трогательное движение.
Тётя Лиза осталась в Ленинграде. Устроившись на своей фабрике «Веретено» поближе к профкому, она смогла без особых проблем пережить блокадную зиму. О том, что разъединило их семью в такое трудное время, можно только догадываться. Судя по всему, трезвость и расчётливость, присущие тёте Лизе, в тяжелой обстановке трансформировались в эгоизм, оказавшийся сильнее её чувств к дяде, а тем более к падчерице. Возможно, добрый характером, но гордый и самолюбивый дядя Гавриил не захотел мириться с положением «нахлебников» тёти Лизы, которыми он и Женя могли себя ощущать. Тем более, если тётя, чего доброго, не нашла в своей душе достаточно такта, чтобы не попрекнуть их этим. Но, повторю, это лишь догадки, основанные на моём понимании характеров членов этой семьи.
В жизни всё могло случиться по-другому: и проще, и одновременно глубже, не столь прямолинейно. Да и вряд ли все поступки, даже собственные, можно объяснить словами. Вот, например, что заставило меня написать об этом злосчастном куске сахару? Ведь в этом эпизоде в весьма нехорошем свете предстаю не только я, но и очень дорогие мне люди – мама и Лина. Чтобы оправдаться, облегчить душу, продемонстрировать сверхоткровенность? Если и это, то в очень малой степени. Проще и, наверное, глубже, пожалуй, вот что: это было! Из четырёх участников эпизода в живых остался я один, и мне не хочется своим умолчанием лукавить перед памятью о дяде Гаврииле.
Чувство вины перед дядей и стыда за своё подло-трусливое поведение в этом инциденте я ношу в своей душе всю жизнь. Причём с возрастом оно не слабеет, а даже усиливается. Оглядываясь назад, я не могу больше припомнить в своей биографии столь откровенно позорного поступка. Правда, и голодать так сильно мне больше уже не приходилось.

Сальвадор Дали. "Угрызения совести, или Увязший сфинкс" (1931). Угрызения совести... -
Тяжело складывались дела и у наших соседей по квартире. Нонна Николаевна с дочкой как-то незаметно исчезли сразу с началом войны. Клавдий Антонович, Анна Николаевна и Мария Фёдоровна, как и мы, не стали эвакуироваться. Их положение было гораздо хуже нашего: на троих две карточки служащих и одна иждивенческая. В декабре 1941 и январе 1942 года эти бумажки правильнее было бы назвать путёвками на тот свет. С ноября по январь включительно, когда выкупить можно было только хлеб, им, троим старикам (хотя вряд ли каждому из них было немногим больше шестидесяти лет), доставалось его вдвое меньше, чем нам. С 20 ноября по 25 декабря 375 грамм хлеба на всех в день, и больше ничего!
Запасы, если они у них и были, к этому времени полностью иссякли. Конечно, будь наши соседи помоложе и поразворотливей, какое-то время им можно было бы ещё продержаться, продавая вещи. Но поначалу, видимо, им это не позволяла гордость, а потом они быстро ослабели настолько, что и в магазины могли ходить с трудом. Анна Николаевна стала просить маму (или Лину) выкупать их хлебную норму. Это, надо сказать, была хоть и вынужденная, но высшая степень доверия, которое мог оказать один человек другому в те блокадные дни. Их порция хлеба была столь невзрачна, что ни у кого из нас троих не поднималась рука даже на третий довесок.
Продолжение следует