–ë–Α–Ϋ–Ϋ–Β―Ä

–ù–Ψ–≤–Ψ–Β –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ –Μ–Η―²–Η–Β–≤―΄―Ö –Α–Κ–Κ―É–Φ―É–Μ―è―²–Ψ―Ä–Ψ–≤
|
–£―¹–Κ–Ψ―Ä–Φ–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹ –Κ–Ψ–Ω―¨―è - –Γ–Ψ–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Α –Φ–Α―Ä―² 2014 –≥–Ψ–¥–Α
0
27.03.201400:2627.03.2014 00:26:14
 –½–Ϋ–Α―è, –≤–Β―Ä–Ϋ–Β–Β, –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è―è, –Κ–Ψ–Ϋ―³–Η–≥―É―Ä–Α―Ü–Η―é –Ψ–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è ―Ä―É–±–Κ–Η –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―΄―Ö ―¹―É–±–Φ–Α―Ä–Η–Ϋ, –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ –Ψ–Ϋ –Ω–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–Ι –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²―¨―é ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ψ–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Η ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ω–Ψ –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Α–≤–Ψ–Φ―É –±–Ψ―Ä―²―É –Ω―Ä–Α–≤―΄–Φ –Ω–Β―Ä–Ψ–Φ –Ϋ–Ψ―¹–Ψ–≤―΄―Ö –≥–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ψ–Ϋ―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―Ä―É–Μ–Β–Ι. –ö–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –±―΄, ―²–Α–Κ–Ψ–Β –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α–Β―² –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Ψ–Ι ―¹–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ψ –Ω–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –≤ –ô–Ψ–Κ–Ψ―¹―É–Κ–Β ¬Ϊ–Γ―É–Ψ―Ä–¥―³–Η―à¬Μ ―¹–Ψ ―¹–Φ―è―²―΄–Φ –Ψ–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―Ä―É–±–Κ–Η. –î–Α –Η –Φ–Β―¹―²–Ψ, –≥–¥–Β –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Κ–Η –Ϋ–Α―à–Β–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η (–®=44' –Γ–Β–≤. ―à–Η―Ä., –î= 180'), –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è –Κ–Α–Κ ―Ä–Α–Ζ –≤ ―²–Ψ―΅–Κ–Β –Β–Β –Ω–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ―²–Α –Ϋ–Α –Ϋ–Ψ–≤―΄–Ι –Κ―É―Ä―¹. –Δ―É―²-―²–Ψ –Η –Φ–Ψ–≥–Μ–Α –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ–Ι―²–Η ―²―Ä–Α–≥–Β–¥–Η―è: ¬Ϊ–Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ–Β―Ü¬Μ –Ϋ–Β ―É–Μ–Ψ–≤–Η–Μ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―Ö–≤–Α–Μ–Β–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Η–¥―Ä–Ψ–Α–Κ―É―¹―²–Η–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ―² –Η –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―΄ –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ψ–Ϋ–Ψ―¹―Ü–Α –Η –≤ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Φ―΄―¹–Μ–Β ―¹–Μ–Ψ–≤–Α ¬Ϊ–Ϋ–Α–Β―Ö–Α–Μ¬Μ –Ϋ–Α –Ϋ–Β–≥–Ψ. –½–Ϋ–Α―è, –≤–Β―Ä–Ϋ–Β–Β, –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è―è, –Κ–Ψ–Ϋ―³–Η–≥―É―Ä–Α―Ü–Η―é –Ψ–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è ―Ä―É–±–Κ–Η –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―΄―Ö ―¹―É–±–Φ–Α―Ä–Η–Ϋ, –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ –Ψ–Ϋ –Ω–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–Ι –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²―¨―é ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ψ–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Η ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ω–Ψ –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Α–≤–Ψ–Φ―É –±–Ψ―Ä―²―É –Ω―Ä–Α–≤―΄–Φ –Ω–Β―Ä–Ψ–Φ –Ϋ–Ψ―¹–Ψ–≤―΄―Ö –≥–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ψ–Ϋ―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―Ä―É–Μ–Β–Ι. –ö–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –±―΄, ―²–Α–Κ–Ψ–Β –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α–Β―² –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Ψ–Ι ―¹–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ψ –Ω–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –≤ –ô–Ψ–Κ–Ψ―¹―É–Κ–Β ¬Ϊ–Γ―É–Ψ―Ä–¥―³–Η―à¬Μ ―¹–Ψ ―¹–Φ―è―²―΄–Φ –Ψ–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―Ä―É–±–Κ–Η. –î–Α –Η –Φ–Β―¹―²–Ψ, –≥–¥–Β –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Κ–Η –Ϋ–Α―à–Β–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η (–®=44' –Γ–Β–≤. ―à–Η―Ä., –î= 180'), –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è –Κ–Α–Κ ―Ä–Α–Ζ –≤ ―²–Ψ―΅–Κ–Β –Β–Β –Ω–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ―²–Α –Ϋ–Α –Ϋ–Ψ–≤―΄–Ι –Κ―É―Ä―¹. –Δ―É―²-―²–Ψ –Η –Φ–Ψ–≥–Μ–Α –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ–Ι―²–Η ―²―Ä–Α–≥–Β–¥–Η―è: ¬Ϊ–Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ–Β―Ü¬Μ –Ϋ–Β ―É–Μ–Ψ–≤–Η–Μ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―Ö–≤–Α–Μ–Β–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Η–¥―Ä–Ψ–Α–Κ―É―¹―²–Η–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ―² –Η –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―΄ –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ψ–Ϋ–Ψ―¹―Ü–Α –Η –≤ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Φ―΄―¹–Μ–Β ―¹–Μ–Ψ–≤–Α ¬Ϊ–Ϋ–Α–Β―Ö–Α–Μ¬Μ –Ϋ–Α –Ϋ–Β–≥–Ψ.
–Δ–Α–Κ-―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Ψ ―²–Α–Κ, –Ϋ–Ψ... –û–Ω―è―²―¨ ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Κ–Μ―è―²–Ψ–Β ¬Ϊ–Ϋ–Ψ¬Μ! –ù–Α ―²–Β―Ö –Ε–Β ―Ö―ç–Μ–Η–±–Α―²–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Η–Ϋ–Ψ–Κ–Α–¥―Ä–Α―Ö –≤–Η–¥–Ϋ–Ψ –Κ–Ψ–Β-―΅―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ψ–Ω―Ä–Ψ–Κ–Η–Ϋ―É―²―¨ –Η ―ç―²―É, –≤―Ä–Ψ–¥–Β –±―΄, ―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Ϋ―É―é –≤–Β―Ä―¹–Η―é. –î–Β–Μ–Ψ –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ, –≤–Ψ-–Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö, –Ϋ–Β–Ω–Ψ–¥–Α–Μ–Β–Κ―É –Ψ―² –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ϋ–Α –¥–Ϋ–Β –≤–Η–¥–Ϋ―΄ –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Κ–Η ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α, –Ψ–¥–Β―²–Ψ–≥–Ψ –≤ –Κ–Ψ–Ε–Α–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Β–≥–Μ–Α–Ϋ –Η –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Β ―¹–Α–Ω–Ψ–≥–Η. –Δ–Α–Κ–Η–Β ―Ä–Β–≥–Μ–Α–Ϋ―΄, –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ –Ϋ–Ψ―Ä–Φ–Α–Φ ―¹–Ϋ–Α–±–Ε–Β–Ϋ–Η―è, –Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Α–≤–¥–Α–Φ–Η-–Ϋ–Β–Ω―Ä–Α–≤–¥–Α–Φ–Η ¬Ϊ–¥–Ψ–±―΄–≤–Α–Β–Φ―΄–Β¬Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α–Φ–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –Η–Φ–Β–Μ–Η―¹―¨ –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―É –Ϋ–Η―Ö. –Θ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –≤ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –≤ ―²–Α–Κ–Ψ–Φ –Ε–Β ―Ä–Β–≥–Μ–Α–Ϋ–Β –Η –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –ö–Ψ–±–Ζ–Α―Ä―¨ βÄî –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ¬Ϊ–ö-129¬Μ. –£–Ψ-–≤―²–Ψ―Ä―΄―Ö, –Κ–Α–Κ –Ω–Η―à–Β―² –≤ ―²–Ψ–Ι –Ε–Β ―¹―²–Α―²―¨–Β –†.–™–Ψ–Μ–Ψ―¹–Ψ–≤: ¬Ϊ–Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Φ–Ψ–Η―Ö ―¹–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η–≤―Ü–Β–≤ βÄî –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä –£–€–Λ βÄî –Ψ–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –Ψ―² ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ ―à–Β―³–Α –Ζ–Α–¥–Α–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²―¨ –Ψ―²–≤–Β―² –Ϋ–Α –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Η–≤―à–Β–Β –≤ –™–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι ―à―²–Α–± –Ω–Η―¹―¨–Φ–Ψ –Η–Ζ –€–‰–î –Γ–Γ–Γ–† –£ –Ω–Η―¹―¨–Φ–Β ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Α–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Η–Ζ –Κ–Ψ–Ϋ―¹―É–Μ―¨―¹―²–≤ –Γ–Γ–Γ–† –≤ –Γ–®–ê (–Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è, –≤ –ë–Ψ―¹―²–Ψ–Ϋ–Β) –Ψ–±―Ä–Α―²–Η–Μ―¹―è –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä –£–€–Γ –Γ–®–ê –Η –Ζ–Α―è–≤–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –≤ 1968 –≥–Ψ–¥―É –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ –≤–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è (–Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è, ―ç―¹–Φ–Η–Ϋ―Ü–Α), –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ω―Ä–Η –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Η –≤ –Δ–Η―Ö–Ψ–Φ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Β ―¹―²–Ψ–Μ–Κ–Ϋ―É–Μ―¹―è ―¹ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Ψ–Ι. –ü–¦, –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Α―è, –Ζ–Α―²–Ψ–Ϋ―É–Μ–Α. –ß―É–≤―¹―²–≤–Ψ –≤–Η–Ϋ―΄, ―¹ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –Ψ–Ϋ –Ε–Η–Μ –Ω―Ä–Ψ―à–Β–¥―à–Η–Β ―à–Β―¹―²―¨ –Μ–Β―², –Ω–Ψ–±―É–¥–Η–Μ–Ψ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ ―ç―²–Ψ –Ζ–Α―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β. –ü―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Ω–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Α―è –Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η―è –≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –±―΄–Μ–Α –Ψ–Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Α –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ –±–Ψ―¹―²–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –≥–Α–Ζ–Β―². –£ –Ω–Η―¹―¨–Φ–Β –€–‰–î –Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –™–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι ―à―²–Α–± –£–€–Λ –¥–Α―²―¨ –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ ―ç―²–Η–Φ ―³–Α–Κ―²–Α–Φ¬Μ. –£–Ψ―² –≤–Α–Φ –Η ―¹―²–Ψ–Μ–Κ–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η–Β ―¹ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Ψ–Ι –≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η! –ö ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Ϋ–Η―é, ¬Ϊ―¹―²–Β―¹–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β¬Μ –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―Ü―΄ –Ϋ–Β ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Α―é―², –±―΄–Μ –Μ–Η –Ψ―²–¥―Ä–Α–Β–Ϋ –≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Η–Ι ―Ä―É–±–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι –Μ―é–Κ –≤ –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è―²–Ψ–Ι –Η–Φ–Η ―²―Ä–Β―²–Η –Ϋ–Α―à–Β–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η. –Θ―¹–Η–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ―²–Κ―Ä–Β―â–Η–≤–Α―é―²―¹―è –Ψ–Ϋ–Η –Η –Ψ―² ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―¹―²–Ψ–Μ–Κ–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η―è ¬Ϊ–Η―Ö¬Μ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι ―¹ ¬Ϊ–ö-129¬Μ. –ù–Β –Ζ–Ϋ–Α–Β–Φ –Φ―΄ –Η –Ψ ―²–Ψ–Φ, –≤ –Κ–Α–Κ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹―É―²–Ψ–Κ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Ψ –Ϋ–Β―¹―΅–Α―¹―²―¨–Β. –£–Β–¥―¨ –Ζ–Ϋ–Α―è –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹―²–Ψ–Μ–Κ–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η―è, –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –±―΄ ―¹ –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Ψ―¹―²–Ψ–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨, –≤ –Κ–Α–Κ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –≤ ―ç―²–Ψ―² –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―² –±―΄–Μ–Α –Ϋ–Α―à–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Α: –Β―¹–Μ–Η –Ϋ–Ψ―΅―¨―é, ―²–Ψ –Ω–Ψ–¥ –†–î–ü –Η–Μ–Η –≤ –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ, ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ –Ϋ–Α–¥ –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι; –Β―¹–Μ–Η –¥–Ϋ–Β–Φ, ―²–Ψ –Ω–Ψ–¥ –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι. –ö–Α–Κ–Α―è –Ω–Ψ–≥–Ψ–¥–Α –±―΄–Μ–Α ―²–Ψ–≥–¥–Α? –ù–Β―² –Ψ―²–≤–Β―²–Α –Ϋ–Α ―ç―²–Η –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹―΄. –ù–Β –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ–Η –Ϋ–Α –Ϋ–Η―Ö –Η –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η―è –£–€–Λ –Ω–Ψ–¥ –Ω―Ä–Β–¥―¹–Β–¥–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ–Φ ―É–Ε–Β ―É–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–≤―à–Β–≥–Ψ―¹―è –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α ―³–Μ–Ψ―²–Α –£.–ö–Α―¹–Α―²–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Α –Η –Ω―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η―è –Ω–Ψ–¥ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―è –Ω―Ä–Β–¥―¹–Β–¥–Α―²–Β–Μ―è –Γ–Ψ–≤–Φ–Η–Ϋ–Α –Γ–Γ–Γ–† –¦.–Γ–Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–≤–Α. 
–‰ ―²–Α –Η –¥―Ä―É–≥–Α―è –≤–Ψ―é―é―â–Η–Β ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Ω–Ψ –Ω―Ä–Η–Ϋ―Ü–Η–Ω―É, –Η–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –≤ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Β―¹–Β–Ϋ–Κ–Β –≥–Β―Ä–Ψ―è –≤ –Β–≥–Ψ ¬Ϊ–Δ―Ä–Β―Ö–≥―Ä–Ψ―à–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ψ–Ω–Β―Ä–Β¬Μ: ¬Ϊ–£―¹–Β –±―É–¥–Β―² ―à–Η―²–Ψ-–Κ―Ä―΄―²–Ψ, –≤―¹–Β –Ω–Ψ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―É! –ù–Β –Ω–Ψ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤ –¥–Β–Μ–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ι–Φ–Β―²!¬Μ –ü–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²–Β? –£–Ψ―² ―²–Α–Κ –Φ―΄ –Η –Ε–Η–Μ–Η –≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è. –ù–Ψ –Α ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹-―²–Ψ ―΅―²–Ψ –Φ–Β―à–Α–Β―² –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²―¨ –Κ–Α―Ä―²―΄? –Ξ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ–Α―è-―²–Ψ –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Α –≤―Ä–Ψ–¥–Β –±―΄ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ–Α―¹―¨. –ü―Ä–Ψ–Η–≥―Ä–Α–Μ–Η –Β–Β –Ϋ–Α―à–Η –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η–Κ–Η. –ù–Β –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β, –Α –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η–Κ–Η –Ω―Ä–Ψ–Η–≥―Ä–Α–Μ–Η ―ç―²―É ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ―É―é, –Ϋ–Ψ –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –Ϋ–Β –±–Β–Ζ–Ε–Β―Ä―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –≤–Ψ–Ι–Ϋ―É. –‰ ―ç―²–Ψ, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ –Ε–Β, –Ψ–≥–Ψ―Ä―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ. –û–ë–Ϊ–ß–ù–ê–· –ê–£–Δ–û–ù–û–€–ö–ê –‰–¦–‰ –Ξ–û–¦–û–î–ù–ê–· –£–û–ô–ù–ê –ë–ï–½ –ö–ê–£–Ϊ–ß–ï–ö
¬Ϊ–£–Ψ―² ―²–Β–±–Β, –±–Α–±―É―à–Κ–Α, –Η –°―Ä―¨–Β–≤ –¥–Β–Ϋ―¨!¬Μ –ù―É, –≤–Ψ―² –Η –≤―¹–Β. –· –Ψ–±–Μ–Β–≥―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤–Ζ–¥―΄―Ö–Α―é. –€–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü, ―Ä–Α―¹―¹–Μ–Α–±–Η―²―¨―¹―è –Η –¥–Α–Ε–Β ―¹―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι. –£–Ω–Β―Ä–Β–¥–Η –¥–≤–Α –¥–Ϋ―è ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²–¥―΄―Ö–Α. –£–Ψ–Ψ–±―â–Β-―²–Ψ, –Ω–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ―É –™–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ–Α, –Ω–Β―Ä–Β–¥ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ –Ϋ–Α –±–Ψ–Β–≤―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ψ ―²―Ä–Ψ–Β ―¹―É―²–Ψ–Κ, –Ϋ–Ψ ―¹―É―²–Κ–Η –Φ―΄ ¬Ϊ―¹―ä–Β–Μ–Η¬Μ, ―É―¹―²―Ä–Α–Ϋ―è―è –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α–Ϋ–Η―è ―à―²–Α–±–Ψ–≤ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –Η ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä―΄. –‰ ―²–Ψ ―Ö–Μ–Β–± ...
–ù–Α –Ω–Ψ―Ä–Ψ–≥–Β –Κ–Α―é―²―΄ - –Ζ–Α–Φ–Ω–Ψ–Μ–Η―² –ö–Ψ–Μ―è –Γ–Ψ–Κ–Ψ–Μ―é–Κ. -¬Ϊ–ö–Α–Κ –Ψ―²–¥―΄―Ö–Α―²―¨ –±―É–¥–Β–Φ, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä?¬Μ - ¬Ϊ–ê–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ!¬Μ - –Θ–Μ―΄–±–Α―é―¹―¨ –Β–Φ―É –≤ –Ψ―²–≤–Β―². ¬Ϊ–½–Α–Φ¬Μ –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Α–≥–Α–Β―² ―É―²–≤–Β―Ä–¥–Η―²―¨ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Η–Φ –Ω–Μ–Α–Ϋ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²–¥―΄―Ö–Α. –ù–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η –Κ–Α–Κ-―²–Ψ –¥–Α–Ε–Β ―¹―²–Β―¹–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ζ–≤–Ψ–Ϋ–Η―² ―²–Β–Μ–Β―³–Ψ–Ϋ. –£ ―²―Ä―É–±–Κ–Β βÄî –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹ –Κ–Ψ–Φ–¥–Η–≤–Α. –û–¥–Β―¹―¹–Η―² –Η, –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ψ –≤―¹―è–Κ–Ψ–Φ―É –Ψ–¥–Β―¹―¹–Η―²―É, –±–Α–Μ–Α–≥―É―Ä, –≤–Β―¹–Β–Μ―¨―΅–Α–Κ, –Ω–Ψ―ç―², ―Ö―É–¥–Ψ–Ε–Ϋ–Η–Κ, –Κ–Α–Ϋ–¥–Η–¥–Α―² –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Ϋ–Α―É–Κ, –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ , –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ―² ―Ä–Α–Ζ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ϋ–Ψ―¹–Η―² –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹―É―Ö–Ψ: βÄî¬Ϊ–½–Α–≤―²―Ä–Α βÄî ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η–Ι –¥–Β–Ϋ―¨. –¦–Β―²―è―² ¬Ϊ–≥–Ψ―¹―²–Η¬Μ βÄî –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η―è ―à―²–Α–±–Α ―³–Μ–Ψ―²–Α. –™–Ψ―²–Ψ–≤―¨―¹―è. –ë―É–¥―É―² –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä―è―²―¨ ―²–≤–Ψ―é –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Κ –≤―΄―Ö–Ψ–¥―É. –ë―É–¥―¨ –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤, –Ψ―²–¥―΄―Ö–Α–Ι –¥–Ψ ―É―²―Ä–Α!¬Μ. –ù–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η –Κ–Α–Κ-―²–Ψ –¥–Α–Ε–Β ―¹―²–Β―¹–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ζ–≤–Ψ–Ϋ–Η―² ―²–Β–Μ–Β―³–Ψ–Ϋ. –£ ―²―Ä―É–±–Κ–Β βÄî –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹ –Κ–Ψ–Φ–¥–Η–≤–Α. –û–¥–Β―¹―¹–Η―² –Η, –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ψ –≤―¹―è–Κ–Ψ–Φ―É –Ψ–¥–Β―¹―¹–Η―²―É, –±–Α–Μ–Α–≥―É―Ä, –≤–Β―¹–Β–Μ―¨―΅–Α–Κ, –Ω–Ψ―ç―², ―Ö―É–¥–Ψ–Ε–Ϋ–Η–Κ, –Κ–Α–Ϋ–¥–Η–¥–Α―² –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Ϋ–Α―É–Κ, –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ , –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ―² ―Ä–Α–Ζ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ϋ–Ψ―¹–Η―² –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹―É―Ö–Ψ: βÄî¬Ϊ–½–Α–≤―²―Ä–Α βÄî ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η–Ι –¥–Β–Ϋ―¨. –¦–Β―²―è―² ¬Ϊ–≥–Ψ―¹―²–Η¬Μ βÄî –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η―è ―à―²–Α–±–Α ―³–Μ–Ψ―²–Α. –™–Ψ―²–Ψ–≤―¨―¹―è. –ë―É–¥―É―² –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä―è―²―¨ ―²–≤–Ψ―é –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Κ –≤―΄―Ö–Ψ–¥―É. –ë―É–¥―¨ –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤, –Ψ―²–¥―΄―Ö–Α–Ι –¥–Ψ ―É―²―Ä–Α!¬Μ.
–£–Β―à–Α―é ―²―Ä―É–±–Κ―É –Η –Ω–Ψ –≤―΄―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η―é –Μ–Η―Ü–Α –Ζ–Α–Φ–Ω–Ψ–Μ–Η―²–Α –≤–Η–Ε―É, ―΅―²–Ψ –Β–Φ―É ―É–Ε–Β –≤―¹–Β –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Ϋ–Ψ. ¬Ϊ–ù–Α–Κ―Ä―΄–Μ―¹―è¬Μ –Ψ―²–¥―΄―Ö? ¬Ϊ–Δ–Ψ―΅–Ϋ–Ψ, –≥–Ψ―²–Ψ–≤―¨―¹―è –Κ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Κ–Β ―à―²–Α–±–Ψ–Φ –Η –Ω–Ψ–Μ–Η―²―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Α. –™–Ψ―²–Ψ–≤―¨ –±―É–Φ–Α–Ε–Κ–Η. –î–Β―Ä–Ϋ―É―² –Η ―²–Β–±―è. –ù–Α–≤–Β―Ä–Ϋ―è–Κ–Α –±―É–¥–Β―² –Κ―²–Ψ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Η–Ζ –Ω–Ψ–Μ–Η―²―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è. –‰–¥–Η, –Ζ–Ψ–≤–Η ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Α!¬Μ –ê –≤–Ψ―² –Η ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ –£–Α―¹–Η–Μ–Η–Ι –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅ –ö―Ä–Α–≤―Ü–Ψ–≤. –½–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―è–Κ, –≤–Β―¹–Β–Μ―΄–Ι, –Κ―Ä–Α―¹–Η–≤―΄–Ι –Ω–Α―Ä–Β–Ϋ―¨. –Θ–Φ–Ϋ–Η―Ü–Α, ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Ι, –≥―Ä–Α–Φ–Ψ―²–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ. –Γ–Ψ–Ψ–±―â–Α―é –Β–Φ―É ¬Ϊ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Ϋ―É―é¬Μ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ―¹―²―¨. –ù–Η –Ψ–¥–Η–Ϋ –Φ―É―¹–Κ―É–Μ –Ϋ–Α –Β–≥–Ψ –Μ–Η―Ü–Β –Ϋ–Β –¥–Β―Ä–≥–Α–Β―²―¹―è, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α―é―â–Α―è –Μ―΄―¹–Β―²―¨ –Φ–Α–Κ―É―à–Κ–Α –Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Β–Β―², –Η –Ω–Ψ –≥–Μ–Α–Ζ–Α–Φ –≤–Η–Ε―É βÄî –Ζ–Μ–Η―²―¹―è, –¥–Ψ―¹–Α–¥―É–Β―². –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –≤–Η–¥–Α –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–Α–Β―². –½–Ϋ–Α―é, ―΅―²–Ψ –Φ―΄―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ–Ϋ ―É–Ε–Β –Ω―Ä–Η–Κ–Η–¥―΄–≤–Α–Β―², –≤–Ψ ―΅―²–Ψ –Ψ–¥–Β―²―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É, –Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –Ϋ–Α –≤–Α―Ö―²―É –Η –Κ–Α–Κ–Η–Β –Η–Ζ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Ψ–≤ (–≤–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι, –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η, –Ω–Μ–Α–Ϋ―΄ –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η–Ι –Η ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Ι –Η ―². –Ω.) –Β―â–Β –Η –Β―â–Β ―Ä–Α–Ζ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Η―²―¨.
–½–Ϋ–Α–Β–Φ –Φ―΄ –Ω–Ψ–≤–Α–¥–Κ–Η –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ ―à―²–Α–±–Α ―³–Μ–Ψ―²–Α. –½–Ϋ–Α–Β–Φ –¥–Α–Ε–Β ―²–Ψ, –Ϋ–Α ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –Ψ–±―Ä–Α―â–Α―é―² –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Κ–Β –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Α―Ü–Η–Η, –Κ–Α–Κ–Η–Β ―³–Ψ―Ä–Φ―É–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Η –Μ―é–±―è―².
–î–Β–Μ–Ψ –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä―è―é―â–Η–Β –Η–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η –Ζ–Α―΅–Α―¹―²―É―é –Ω–Ψ-―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥―è―² –Κ –Ζ–Α–Ω–Η―¹―è–Φ –≤ –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ―΄. –û–¥–Ϋ–Ψ –Η ―²–Ψ –Ε–Β –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨ –≤–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ψ –≤ ¬Ϊ–•―É―Ä–Ϋ–Α–Μ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η¬Μ, –Κ –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä―É, –≤ ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―³–Ψ―Ä–Φ–Β. –Δ–Α–Κ –≤–Ψ―² ―É –Ϋ–Α―¹ ―¹–Ψ ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Ψ–Φ –±―΄–Μ–Ψ ―²―Ä–Η ―³–Ψ―Ä–Φ―΄ ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Α. –û―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι βÄî –Ϋ–Α―à, ―¹–Ψ –≤―¹–Β–Φ–Η –Ζ–Α–Ω–Η―¹―è–Φ–Η, ―É–¥–Ψ–≤–Μ–Β―²–≤–Ψ―Ä―è―é―â–Η–Φ–Η ―à―²–Α–± –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η. –î―Ä―É–≥–Ψ–Ι βÄî –¥–Μ―è ―à―²–Α–±–Α ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä―΄, ―²―Ä–Β―²–Η–Ι - –¥–Μ―è ―à―²–Α–±–Α ―³–Μ–Ψ―²–Α –Η –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―à―²–Α–±–Α –£–€–Λ. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ–Α –Ϋ–Α―à–Α –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Α―è ―²–Α–Ι–Ϋ–Α. –û–Ϋ–Α –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–Μ–Α –Ϋ–Β –Ω–Β―Ä–Β–Ω–Η―¹―΄–≤–Α―²―¨ –±–Β―¹–Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ ―²–Ψ―² –Η–Μ–Η –Η–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―É–Ϋ–Κ―² ―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ–Α –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Α –≤ ―²―Ä–Β–±―É–Β–Φ–Ψ–Ι –Η –Η–Ζ–Μ―é–±–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―à―²–Α–±–Ψ–Φ ―Ä–Β–¥–Α–Κ―Ü–Η–Η. –≠–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Β―Ä–≤―΄ –Η –≤―Ä–Β–Φ―è.
–ë―΄–Μ–Η ―É ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Α –Η ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Ψ–¥–Α ―ç–Κ―¹―²―Ä–Α–Κ―²―΄ (―Ö–≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄–Ι, –≤–Η―à–Ϋ–Β–≤―΄–Ι, –Μ–Η–Φ–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Η ―².–Ω.) –¥–Μ―è –¥–Ψ–±–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –≤ ―¹–Ω–Η―Ä―²–Ψ-–≤–Ψ–¥―è–Ϋ―É―é ―¹–Φ–Β―¹―¨ –¥–Μ―è ―É–≥–Ψ―â–Β–Ϋ–Η―è ¬Ϊ–≥–Ψ―¹―²–Β–Ι¬Μ. –ë―΄–Μ–Η –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―Ö–Η―²―Ä–Ψ―¹―²–Η, –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è―é―â–Η–Β, –Κ–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―² –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η, ¬Ϊ–Ω―Ä–Ψ–¥―É–≤–Α―²―¨―¹―è¬Μ –Ω―Ä–Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Κ–Α―Ö...
–ù–Ψ ―Ö–Η―²―Ä–Ψ―¹―²–Η βÄî ―Ö–Η―²―Ä–Ψ―¹―²―è–Φ–Η, –Α –Κ―Ä―É―²–Η―²―¨―¹―è –Ζ–Α–≤―²―Ä–Α –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ–Η―² –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Ψ. ¬Ϊ–Γ–Ψ–±–Η―Ä–Α–Ι –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤, ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –Ω―Ä–Η–¥―É! –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É –Ω–Ψ–Κ–Α –Ϋ–Β ―Ä–Α―¹―¹―²―Ä–Α–Η–≤–Α–Ι. –½–Α–≤―²―Ä–Α –≤―¹–Β ―É–Ζ–Ϋ–Α―é―²¬Μ. –‰ –Ω–Ψ―à–Μ–Ψ –Η –Ω–Ψ–Β―Ö–Α–Μ–Ψ... –£.–£.–ö―Ä–Α–≤―Ü–Ψ–≤. 1960 –≥–Ψ–¥ (–≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ –Δ–±–Η–Μ–Η―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α 1953 –≥.) –û–±―΄―΅–Ϋ–Α―è –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Κ–Α ¬Ϊ–™–Ψ―¹―²–Η¬Μ –Ω–Ψ―è–≤–Μ―è―é―²―¹―è –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Β ―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Ψ –≤ –¥–Β―¹―è―²―¨ ―΅–Α―¹–Ψ–≤. –ö ―ç―²–Ψ–Φ―É –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –≥–Ψ―²–Ψ–≤ –Κ –Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä―É, –Μ―é–¥–Η –Ψ–¥–Β―²―΄ –≤ ¬Ϊ–Ω–Α―Ä–Α–¥–Ϋ–Ψ–Β¬Μ, ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―Ö―Ä–Α–Ϋ―è―â–Β–Β―¹―è –≤ –±–Α―²–Α–Μ–Β―Ä–Κ–Β –¥–Μ―è ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Ψ–¥–Α ¬Ϊ–±–Α–Μ–Β―²–Α¬Μ, ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Β–Β –Ω–Μ–Α―²―¨–Β. –£.–£.–ö―Ä–Α–≤―Ü–Ψ–≤. 1960 –≥–Ψ–¥ (–≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ –Δ–±–Η–Μ–Η―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α 1953 –≥.) –û–±―΄―΅–Ϋ–Α―è –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Κ–Α ¬Ϊ–™–Ψ―¹―²–Η¬Μ –Ω–Ψ―è–≤–Μ―è―é―²―¹―è –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Β ―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Ψ –≤ –¥–Β―¹―è―²―¨ ―΅–Α―¹–Ψ–≤. –ö ―ç―²–Ψ–Φ―É –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –≥–Ψ―²–Ψ–≤ –Κ –Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä―É, –Μ―é–¥–Η –Ψ–¥–Β―²―΄ –≤ ¬Ϊ–Ω–Α―Ä–Α–¥–Ϋ–Ψ–Β¬Μ, ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―Ö―Ä–Α–Ϋ―è―â–Β–Β―¹―è –≤ –±–Α―²–Α–Μ–Β―Ä–Κ–Β –¥–Μ―è ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Ψ–¥–Α ¬Ϊ–±–Α–Μ–Β―²–Α¬Μ, ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Β–Β –Ω–Μ–Α―²―¨–Β.
–ü–Ψ–Κ–Α –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄ ―à―²–Α–±–Α ―³–Μ–Ψ―²–Α, ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Α–Β–Φ―΄–Β –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α–Φ–Η –Ϋ–Η–Ε–Β―¹―²–Ψ―è―â–Η―Ö ―à―²–Α–±–Ψ–≤, ―Ö–Ψ–¥―è―² –Ω–Ψ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Α–Φ –Η –Μ–Η―¹―²–Α―é―² –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²―΄, –Φ–Β–Ϋ―è ¬Ϊ–Ω―΄―²–Α–Β―²¬Μ –Ω–Ψ ¬Ϊ–ë–Ψ–Β–≤–Ψ–Φ―É ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Η―é¬Μ –≥–Μ–Α–≤–Α –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η–Η βÄî –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –€–Ψ―Ä–Ψ–Ζ–Ψ–≤ –‰―Ä–Η–¥–Η–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅. –€–Β–Ε–¥―É –Ω―Ä–Ψ―΅–Η–Φ βÄî –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Φ–Ψ–Η―Ö –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤. –£ –Φ–Α―Ä―²–Β 1956 –≥–Ψ–¥–Α –±―΄–Μ –Ψ–Ϋ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ ¬Ϊ–Γ-235¬Μ –Ϋ–Α –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β, ―¹ –Ϋ–Η–Φ –Φ―΄ –Ω–Β―Ä–Β―à–Μ–Η –≤–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β –Ϋ–Α –Γ–Β–≤–Β―Ä, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ –Ϋ–Α –Δ–Η―Ö–Η–Ι –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ. –ü–Ψ–¥ –Β–≥–Ψ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ ―è ―¹―²–Α–Μ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α, ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ –≤―¹―²―É–Ω–Η–Μ –Ϋ–Α ―΅–Η―¹―²–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ϋ―É―é ―¹―²–Β–Ζ―é ―¹–Μ―É–Ε–±―΄. –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ψ–Ϋ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä ―à―²–Α–±–Α ―³–Μ–Ψ―²–Α. –€–Ψ―Ä–Ψ–Ζ–Ψ–≤ ―¹―É―Ö–Ψ –Η ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ ¬Ϊ–≥–Ψ–Ϋ―è–Β―²¬Μ –Φ–Β–Ϋ―è –Ω–Ψ ―²–Ψ–Ϋ–Κ–Ψ―¹―²―è–Φ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è―â–Β–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è –Η –Ω–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―é ¬Ϊ–≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α¬Μ. –ü–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Β –Α–±―¹–Ψ–Μ―é―²–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ–Ψ. –ù–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Ϋ–Β–Ι –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥ –Φ–Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Β ¬Ϊ–†–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β¬Μ –≤ ―à―²–Α–±–Β ―³–Μ–Ψ―²–Α –Η –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –£.–€–Α―¹–Μ–Ψ–≤ –Ζ–Α―¹―²–Α–≤–Η–Μ –Φ–Β–Ϋ―è –≤―΄―É―΅–Η―²―¨ –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Η ―²–Α–Κ―²–Η–Κ–Ψ-―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –Ω–Μ–Α–≤–Α―é―â–Η―Ö –≤ –Δ–Η―Ö–Ψ–Φ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Β, –Ϋ–Α–Η–Ζ―É―¹―²―¨. –€–Ψ―è –Ω–Ψ–Ω―΄―²–Κ–Α –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ –Φ–Β–Ϋ―è βÄî –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ψ–Ϋ–Ψ―¹―Ü–Α –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ―΄–Β ―¹–Η–Μ―΄ –Γ–®–ê, –Α –Ϋ–Β –≤–Β―¹―¨ –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι ―³–Μ–Ψ―², –±―΄–Μ–Α –Ω―Ä–Β―¹–Β―΅–Β–Ϋ–Α –Η–Φ ―¹ ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤―É―é―â–Β–Ι ¬Ϊ–≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Φ–Ψ–Ι–Κ–Ψ–Ι¬Μ. –½–Α―²–Ψ ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ ―è ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ –Ψ―²–≤–Β―΅–Α―é –Ϋ–Α –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹―΄ –‰―Ä–Η–¥–Η―è –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Α...
–£–Ψ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Β –¥–Ϋ―è –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α―é―² –Ω―Ä–Ψ–Η–≥―Ä―΄–≤–Α―²―¨ –±–Ψ–Β–≤―΄–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―É―΅–Β–Ϋ–Η―è. –ù–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Β - –Ζ–≤―É–Κ–Η ―Ä–Β–≤―É–Ϋ–Α, ―¹–Η―Ä–Β–Ϋ―΄, ―²–Η―³–Ψ–Ϋ–Α –Η –Κ–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≤ –≥―Ä–Ψ–Φ–Κ–Ψ–≥–Ψ –±–Ψ―è. –≠–Κ–Η–Ω–Α–Ε –≤ –Φ―΄–Μ–Β ¬Ϊ–Ζ–Α–¥–Β–Μ―΄–≤–Α–Β―² –Ω―Ä–Ψ–±–Ψ–Η–Ϋ―΄¬Μ, ¬Ϊ―²―É―à–Η―² –Ω–Ψ–Ε–Α―Ä―΄¬Μ, –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―² ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―¹ –Η ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄–Β –Α–Ω–Ω–Α―Ä–Α―²―΄ ¬Ϊ–Κ –±–Ψ―é¬Μ. –€–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ –Η ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ ―É–Ε–Β ―Ö―Ä–Η–Ω―è―²... –£―¹–Β –≤―Ä–Ψ–¥–Β –Η–¥–Β―² ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ. ¬Ϊ–™–Ψ―¹―²–Η¬Μ –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄, –Ϋ–Η―΅―²–Ψ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–¥–≤–Β―â–Α–Β―² –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ–Ι –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Κ–Η –Ϋ–Α―à–Β–Ι –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –Θ―΅–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Α–Κ–Α–Ϋ―΅–Η–≤–Α―é―²―¹―è. –û―³–Η―Ü–Β―Ä―΄ ―à―²–Α–±–Ψ–≤ –Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α―é―²―¹―è –≤ –Κ–Α―é―²-–Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η –Ω–Μ–Α–≤–Κ–Α–Ζ–Α―Ä–Φ―΄ –Ϋ–Α ―Ä–Α–Ζ–±–Ψ―Ä. –€–Α―²―Ä–Ψ―¹―΄ –Η ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ―΄ –Ω–Β―Ä–Β–Ψ–¥–Β–≤–Α―é―²―¹―è –≤ –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ–Β ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Β–Β –Ω–Μ–Α―²―¨–Β, –Ψ―²–¥―΄―Ö–Α―é―². –£–Ϋ–Η–Φ–Α–Β–Φ –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Α–Φ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ–Β–Ι ―à―²–Α–±–Α ―³–Μ–Ψ―²–Α –≤–Ϋ–Β―à–Ϋ–Β ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ, –Α –≤–Ϋ―É―²―Ä–Η –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–≥–Ψ βÄî –Ϋ–Α–Ω―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Η–Β. –•–¥–Β―à―¨ –Κ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ―Ö–Α. –£―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η-―²–Ψ –¥–Ψ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Α –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ. –ê –≤–¥―Ä―É–≥ ―΅―²–Ψ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ ¬Ϊ―Ä–Α―¹–Κ–Ψ–Ω–Α–Μ–Η¬Μ –Η –Ζ–Α–¥–Β―Ä–Ε–Α―² –≤―΄―Ö–Ψ–¥? –€–Α–Μ–Ψ ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–Ψ―Ä –Ϋ–Α –≤–Β―¹―¨ –£–€–Λ, –Ϋ–Ψ ―ç―²–Ψ –Ε–Β –Α–≤―²–Ψ–Φ–Α―²–Ψ–Φ ―É–¥–Α―Ä–Η―² –Ω–Ψ –Μ–Ψ–¥–Κ–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –Φ―΄ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ ―¹–Φ–Β–Ϋ–Η―²―¨ –Ϋ–Α –Ω–Α―²―Ä―É–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η –≤ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Β. –ü–Ψ–¥―Ä―΄–≤ –±–Ψ–Β–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η βÄî –¥–Β–Μ–Ψ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–Β, –±–Β–Ζ –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι –Ϋ–Β –±―΄–≤–Α–Β―².
–ù–Β–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―é –Ψ–¥–Η–Ϋ ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Ψ–¥–Α ―Ä–Α–Ζ–±–Ψ―Ä, ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ–≤–Β–Μ–Ψ―¹―¨ –±―΄―²―¨ –Β―â–Β –≤ –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²―¹–Κ–Η–Β –≥–Ψ–¥―΄.
¬Ϊ–Γ-235¬Μ –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Ζ–Η–Φ–Ψ–≤–Κ–Ψ–Ι –≤ –€–Ψ–Μ–Ψ―²–Ψ–≤―¹–Κ–Β (–Ϋ―΄–Ϋ–Β –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ψ–¥–≤–Η–Ϋ―¹–Κ) –Ψ―²―Ä–Α–±–Α―²―΄–≤–Α–Μ–Α –Η ―¹–¥–Α–≤–Α–Μ–Α –Ζ–Α–¥–Α―΅―É β³•2 (―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Ψ–Ι –≤ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è―Ö).
–ù–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ –Κ –Ϋ–Α–Φ –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―² –Ϋ–Α–Κ–Α–Ϋ―É–Ϋ–Β –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α ―¹–¥–Α―΅―É –Ζ–Α–¥–Α―΅–Η ―à―²–Α–±―É –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨ –Θ–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η –£–€–Λ –Φ–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι –≥–Ψ―¹―²―¨ –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –†–Ψ–¥–Η–Ψ–Ϋ–Ψ–≤. –û–Ϋ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Φ–Β―¹―²–Ϋ―΄–Φ ―à―²–Α–±–Ψ–Φ –≤―΄―à–Β–Μ ―¹ –Ϋ–Α–Φ–Η –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β. –£ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Φ –Ϋ–Β –≤–Φ–Β―à–Η–≤–Α–Μ―¹―è. –€–Ψ–Μ―΅–Α –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α–Μ –Ζ–Α –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è–Φ–Η ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Η –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β―¹―¹–Ψ–Φ –Ω―Ä–Η–Β–Φ–Κ–Η –Ζ–Α–¥–Α―΅–Η.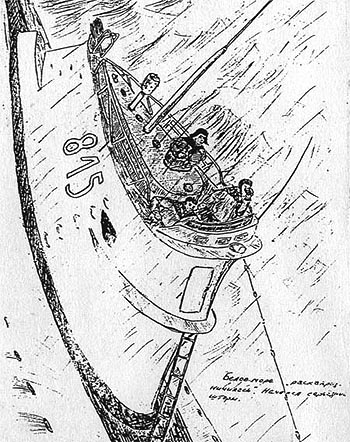 –£―Ä–Β–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –≤ –Ω–Α–Φ―è―²―¨ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α –±–Α–Ζ―É. –ë–Β–Μ–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä–Β ¬Ϊ―Ä–Α―¹–Κ–Α–Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Η―΅–Α–Μ–Ψ―¹―¨¬Μ. –ù–Α―΅–Α–Μ―¹―è ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ―΄–Ι ―à―²–Ψ―Ä–Φ. –£–Η–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨ ―É–Ω–Α–Μ–Α –Ω–Ψ―΅―²–Η –¥–Ψ –Ϋ―É–Μ―è. –Γ–Ϋ–Β–Ε–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α―Ä―è–¥―΄, ―²―É–Φ–Α–Ϋ, –Κ―Ä―É―²–Α―è –≤–Ψ–Μ–Ϋ–Α, –≤ –Ψ–±―â–Β–Φ, ―²―è–Ε–Κ–Ψ –Ϋ–Α–Φ –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä (―²–Ψ―² –Ε–Β –‰―Ä–Η–¥–Η–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅) –Η ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε, –Κ–Α–Κ –Ω–Η―à―É―² –≤ –Ω―Ä–Β―¹―¹–Β, ¬Ϊ―¹ ―΅–Β―¹―²―¨―é ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¹―è¬Μ ―¹ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ–Ι –Ζ–Α–¥–Α―΅–Β–Ι –≤―Ö–Ψ–¥–Α –≤ –Φ–Α–Μ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―É―é –±–Α–Ζ―É. –û―¹–Ψ–±―΄―Ö –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α–Ϋ–Η–Ι ―¹–Ψ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–≤―à–Η―Ö –Ζ–Α–¥–Α―΅―É –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ ―à―²–Α–±–Α –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ. –®–Μ–Η –Φ―΄ βÄî –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄–Β –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄, –Α –Ω–Ψ―΅―²–Η –≤―¹–Β –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄ –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –±―΄–Μ–Η –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α–Φ–Η, –Ϋ–Α ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Ε–Β –≤–Ψ―² ―Ä–Α–Ζ–±–Ψ―Ä ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ –Η –¥–Α–Ε–Β –≤–Β―¹–Β–Μ–Ψ. –ï―â–Β –±―΄: –Ψ―Ä–Μ―΄ βÄî ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ ―¹ ―²–Α–Κ–Η–Φ ―à―²–Ψ―Ä–Φ–Ψ–≤―΄–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β–Φ. –ü–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η ―à―²–Α–±―É, –Ϋ–Α ―΅―²–Ψ –Φ―΄ ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ―΄. –û–Ω―΄―² –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ―É –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Ω―É―²–Η –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–Ω–Α–Μ –¥–Α―Ä–Ψ–Φ. –Γ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Φ, –Ψ–Ε–Η–¥–Α–Β–Φ –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Κ―É –Ϋ–Β –Ϋ–Η–Ε–Β ¬Ϊ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ¬Μ, –Ϋ–Ψ... –£―Ä–Β–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –≤ –Ω–Α–Φ―è―²―¨ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α –±–Α–Ζ―É. –ë–Β–Μ–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä–Β ¬Ϊ―Ä–Α―¹–Κ–Α–Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Η―΅–Α–Μ–Ψ―¹―¨¬Μ. –ù–Α―΅–Α–Μ―¹―è ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ―΄–Ι ―à―²–Ψ―Ä–Φ. –£–Η–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨ ―É–Ω–Α–Μ–Α –Ω–Ψ―΅―²–Η –¥–Ψ –Ϋ―É–Μ―è. –Γ–Ϋ–Β–Ε–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α―Ä―è–¥―΄, ―²―É–Φ–Α–Ϋ, –Κ―Ä―É―²–Α―è –≤–Ψ–Μ–Ϋ–Α, –≤ –Ψ–±―â–Β–Φ, ―²―è–Ε–Κ–Ψ –Ϋ–Α–Φ –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä (―²–Ψ―² –Ε–Β –‰―Ä–Η–¥–Η–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅) –Η ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε, –Κ–Α–Κ –Ω–Η―à―É―² –≤ –Ω―Ä–Β―¹―¹–Β, ¬Ϊ―¹ ―΅–Β―¹―²―¨―é ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¹―è¬Μ ―¹ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ–Ι –Ζ–Α–¥–Α―΅–Β–Ι –≤―Ö–Ψ–¥–Α –≤ –Φ–Α–Μ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―É―é –±–Α–Ζ―É. –û―¹–Ψ–±―΄―Ö –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α–Ϋ–Η–Ι ―¹–Ψ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–≤―à–Η―Ö –Ζ–Α–¥–Α―΅―É –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ ―à―²–Α–±–Α –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ. –®–Μ–Η –Φ―΄ βÄî –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄–Β –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄, –Α –Ω–Ψ―΅―²–Η –≤―¹–Β –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄ –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –±―΄–Μ–Η –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α–Φ–Η, –Ϋ–Α ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Ε–Β –≤–Ψ―² ―Ä–Α–Ζ–±–Ψ―Ä ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ –Η –¥–Α–Ε–Β –≤–Β―¹–Β–Μ–Ψ. –ï―â–Β –±―΄: –Ψ―Ä–Μ―΄ βÄî ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ ―¹ ―²–Α–Κ–Η–Φ ―à―²–Ψ―Ä–Φ–Ψ–≤―΄–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β–Φ. –ü–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η ―à―²–Α–±―É, –Ϋ–Α ―΅―²–Ψ –Φ―΄ ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ―΄. –û–Ω―΄―² –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ―É –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Ω―É―²–Η –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–Ω–Α–Μ –¥–Α―Ä–Ψ–Φ. –Γ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Φ, –Ψ–Ε–Η–¥–Α–Β–Φ –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Κ―É –Ϋ–Β –Ϋ–Η–Ε–Β ¬Ϊ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ¬Μ, –Ϋ–Ψ...
–€–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―¹―²―¨ –Ϋ–Α–Η–≤–Ϋ–Α. –€–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –±―΄―¹―²―Ä–Ψ ―Ä–Α―¹―¹–Β―è–Μ –Ϋ–Α―à–Η –Ζ–Α–±–Μ―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è. –ü―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–Μ ―É―Ä–Ψ–Κ –Ϋ–Α –≤―¹―é –Ψ―¹―²–Α–≤―à―É―é―¹―è ―¹–Μ―É–Ε–±―É. –ü–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä ¬Ϊ–≤―΄―à–Β―¹―²–Ψ―è―â–Β–≥–Ψ ―à―²–Α–±–Α¬Μ. –ù–Α―΅–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –≤―¹–Β, –Κ–Α–Κ –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ.
–û–¥–Η–Ϋ –Ζ–Α –¥―Ä―É–≥–Η–Φ, –Ω–Ψ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Η, –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α―è ―¹ ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Α –Η –Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α―è ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ –≤―Ä–Α―΅–Ψ–Φ, –≤―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Η –Η –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Μ–Η ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²―΄ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Κ–Η –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄ ―à―²–Α–±–Α –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄. –£―¹–Β –Ψ–Ϋ–Η –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Η–≤–Α―é―² –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α –Ω–Ψ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―é –Μ–Ψ–¥–Κ–Ψ–Ι, –Κ–Α–Κ –≥―Ä–Α–Φ–Ψ―²–Ϋ―΄–Β, ―Ä–Β–Κ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–¥―É―é―² –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Η―²―¨ –Η―Ö ¬Ϊ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ¬Μ. –ù–Α―¹―²―É–Ω–Α–Β―² –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―² –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Α –Ψ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –≤―΄–≤–Ψ–¥–Α―Ö –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ―è –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Ψ―²–¥–Β–Μ–Α. –≠―²–Η ―Ä–Β–±―è―²–Α ¬Ϊ–¥–Β―Ä–Ε–Α―² –Ϋ–Ψ―¹ –Ω–Ψ –≤–Β―²―Ä―É¬Μ –Η, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, ―²–Ψ–Ε–Β –±―É–¥―É―² ―Ä–Β–Κ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ –Κ–Ψ–Φ–±―Ä–Η–≥―É –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²―¨ –Ζ–Α–¥–Α―΅―É ―¹ –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Κ–Ψ–Ι ¬Ϊ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ¬Μ.
–û–¥–Ϋ–Η–Φ ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ–Φ, –≤―¹–Β –Φ―΄ –Ω―Ä–Η–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ ―É―¹–Μ―΄―à–Α―²―¨ –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―ç―²―É –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Κ―É.
–ù–Ψ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –≤–¥―Ä―É–≥ –Ω―Ä–Β―Ä–≤–Α–Μ –≤―΄―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β. –û–Ϋ –Ζ–Α–¥–Α–Μ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹: ¬Ϊ–Λ–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ, –¥–Α–Ι―²–Β –Φ–Ϋ–Β –≤–Α―à –Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Ι –Ω–Μ–Α–Ϋ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Κ–Η –ë–ß-1!¬Μ. –Λ–Μ–Α–≥―à―²―É―Ä, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ζ–Α–Φ―è–Μ―¹―è –Η –Ω–Ψ–Ω―΄―²–Α–Μ―¹―è ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Φ―è–Φ–Μ–Η―²―¨ –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ –Ζ–Α–¥–Α―΅―É, ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤―É―è―¹―¨ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―è―â–Η–Φ–Η –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Α–Φ–Η: ¬Ϊ–ö―É―Ä―¹–Ψ–Φ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η¬Μ, ¬Ϊ–ù–Α―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η –Ω–Ψ ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±–Β¬Μ –Η ―²–Α–Κ –¥–Α–Μ–Β–Β. ¬Ϊ–€–Ψ―¹–Κ–≤–Η―΅¬Μ –Ϋ–Β ―¹―²–Α–Μ –Β–≥–Ψ ―¹–Μ―É―à–Α―²―¨ –Η –Ζ–Α–¥–Α–Μ ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ ―²–Α–Κ–Η–Β –Ε–Β –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹―΄ –≤―¹–Β–Φ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä―è–≤―à–Η–Φ –Ϋ–Α―¹ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α–Φ ―à―²–Α–±–Α, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–≤ ―²–Α–Κ–Η–Β –Ε–Β –Ϋ–Β―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ψ―²–≤–Β―²―΄. –ö–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –†–Ψ–¥–Η–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ–Η–Ι –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅. - –ö–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –†–Ψ–¥–Η–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ–Η–Ι –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅. -
–½–Α―²–Β–Φ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –≤―΄–¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à―É―é –Ω–Α―É–Ζ―É, –Ψ–≥–Μ―è–¥–Β–Μ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤―É―é―â–Η―Ö –Η ―¹ –Κ–Α–Κ–Η–Φ-―²–Ψ –Ζ–Μ–Ψ―Ä–Α–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ϋ–Β―¹: ¬Ϊ–½–Α–¥–Α―΅―É –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨ –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è! –¦–Ψ–¥–Κ–Α –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Β―² –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Κ―É ¬Ϊ–Ϋ–Β―É–¥–Ψ–≤–Μ–Β―²–≤–Ψ―Ä–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ¬Μ! –®―²–Α–±―É –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Η –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä–Ϋ―É―é –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Κ―É. –ü–Μ–Α–Ϋ–Η―Ä―É–Ι―²–Β ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Β–¥–Β–Μ―é –Β―â–Β –Ψ–¥–Η–Ϋ –≤―΄―Ö–Ψ–¥ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Ϋ–Α ―¹–¥–Α―΅―É –Ζ–Α–¥–Α―΅–Η β³• 2!¬Μ. –ü―Ä–Η –≤―¹–Β–Ι –Ϋ–Α―à–Β–Ι –Η ―à―²–Α–±–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Κ–Α―é―²-–Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η―è –Ζ–Α―à―É–Φ–Β–Μ–Α. –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –Ω―Ä–Β–¥–Ψ―¹―²–Β―Ä–Β–≥–Α―é―â–Β –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ ―Ä―É–Κ―É. –®―É–Φ ―¹―²–Η―Ö. ¬Ϊ–ù–Η –Ψ–¥–Η–Ϋ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―² –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η―Ö ―΅–Α―¹–Ψ–≤ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±–Β–Ζ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Α ―É―¹–Ω–Β―²―¨ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Η―²―¨ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ―É ―΅–Μ–Β–Ϋ–Ψ–≤ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Η. –î–Μ―è ―²–Ψ–≥–Ψ ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Η―²―¨ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ―É –Ω–Ψ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Α, ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ―΄, –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α, –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä ―à―²–Α–±–Α –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –Η–Φ–Β―²―¨ ―²―â–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Φ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Η ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ ―à―²–Α–±–Α –Ω–Μ–Α–Ϋ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Κ–Η. –£ ―ç―²–Ψ–Φ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄―²―¨ ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ ―è –±―É–¥―É –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä―è―²―¨ ―²–Ψ-―²–Ψ, ―²–Ψ-―²–Ψ –Η ―²–Ψ-―²–Ψ –Η –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –¥―Ä―É–≥–Ψ–≥–Ψ!¬Μ
–ü―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α―é―¹―¨, –Φ―΄ –Ω–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ–Η –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α ―¹―É–Φ–Α―¹―à–Β–¥―à–Β–≥–Ψ. –½–Α―²–Β–Φ ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ –≤–Ψ–Ζ–Φ―É―â–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–¥–Α–≤–Η–Μ–Ψ –≤―¹–Β –Ϋ–Α―à–Η –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―΅―É–≤―¹―²–≤–Α. –ü―Ä–Η―΅–Β–Φ –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Φ―΄?
–½–Ϋ–Α―΅–Η―² –Ϋ–Α―à–Η –Κ―É–≤―΄―Ä–Κ–Α–Ϋ―¨―è –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β, –≤ ―à―²–Ψ―Ä–Φ, ―Ä–Η―¹–Κ –≤―΄–Μ–Β―²–Β―²―¨ –Ϋ–Α –Κ–Α–Φ–Ϋ–Η, –Φ–Α―¹―²–Β―Ä―¹―²–≤–Ψ –Ω―Ä–Η ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ ¬Ϊ–≤–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ¬Μ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨―¹―²–≤–Α, ―Ä–Η―¹–Κ ―¹–≥–Ψ―Ä–Β―²―¨ –Ω―Ä–Η ¬Ϊ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–Φ¬Μ –Ω–Ψ–Ε–Α―Ä–Β –Η ―¹―²―É–Κ–Ϋ―É―²―¨―¹―è –Ψ –≥―Ä―É–Ϋ―² –Ω―Ä–Η ¬Ϊ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄―Ö¬Μ –Ω―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Α―Ö –Η ―². –Ω. –Ϋ–Α―¹–Φ–Α―Ä–Κ―É? –ê –Κ–Α–Κ –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ–Η―²―¨ ―ç―²–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Β? –ö–Α–Κ–Ψ–Β –Ϋ–Α―à–Β –¥–Β–Μ–Ψ –¥–Ψ –Ψ―à–Η–±–Ψ–Κ ―à―²–Α–±–Α? –•–≥―É―΅–Α―è –Ψ–±–Η–¥–Α ―¹–Ε–Η–≥–Α–Μ–Α –Ϋ–Α―¹.
–ù–Α–¥–Ψ –Ψ―²–¥–Α―²―¨ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ–Β ―à―²–Α–±―É. –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ ―É–Β―Ö–Α–Μ. –ù–Η–Κ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Α –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Ϋ–Α–Φ –Ϋ–Β ―É―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ–Η, ―²–Β–Φ –±–Ψ–Μ–Β–Β ―΅―²–Ψ –Φ–Ψ―Ä–Β –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Φ–Β―Ä–Ζ–Α―²―¨. –û―Ü–Β–Ϋ–Κ–Α ¬Ϊ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ¬Μ –Ζ–Α –Ζ–Α–¥–Α―΅―É β³• 2 –Ϋ–Α–Φ –±―΄–Μ–Α –≤―΄―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Α, –Ϋ–Ψ ―É―Ä–Ψ–Κ –Κ–Ψ–≤–Α―Ä―¹―²–≤–Α ―¹–Ψ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Ω―Ä–Η–Β–Ζ–Ε–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨―¹―²–≤–Α ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–Μ―¹―è –≤ –Φ–Ψ–Β–Φ, –≤–Ψ –≤―¹―è–Κ–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β, ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Α –≤―¹―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨.
–ù–Ψ –Ω–Ψ―Ä–Α –Ψ―² –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Ι –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―²–Η―²―¨―¹―è –Κ –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―Ä–Β―²–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η–Η: –≤–Ϋ–Η–Φ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–Μ―É―à–Α―²―¨ –≤―΄―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ ―à―²–Α–±–Α ―³–Μ–Ψ―²–Α, –Ζ–Α–Ω–Η―¹―΄–≤–Α―²―¨ –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α–Ϋ–Η―è –Η ―¹–Α–Φ–Ψ–Β –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β ―É–Μ–Α–≤–Μ–Η–≤–Α―²―¨ –≤―΄–≤–Ψ–¥―΄: –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Α –Μ–Η ―²–Α –Η–Μ–Η –Η–Ϋ–Α―è –±–Ψ–Β–≤–Α―è ―΅–Α―¹―²―¨ –Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Κ –≤―΄―Ö–Ψ–¥―É –Ϋ–Α –±–Ψ–Β–≤―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É.
–ü–Ψ–Κ–Α –≤―¹–Β ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ. –ù–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α–Ϋ–Η―è (–≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β ―É―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Η–Φ―΄–Β) –≤―΄―Ä–Η―¹–Ψ–≤―΄–≤–Α–Μ―¹―è –≤―΄–≤–Ψ–¥ –Ψ –Ϋ–Α―à–Β–Ι –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Κ –≤―΄―Ö–Ψ–¥―É –≤ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ. –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―²
27.03.201400:2627.03.2014 00:26:14
0
26.03.201400:1426.03.2014 00:14:13
–ù–Β–≤–Β–Ζ―É―΅–Α―è –¦-21 –Δ–Α–Κ –±―΄–Μ–Ψ ―¹ –¦-21, –¥–Ψ―¹―²―Ä–Α–Η–≤–Α–≤―à–Β–Ι―¹―è –Ϋ–Α –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―²–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Β. –ù–Α –≤―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β ―ç―²–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –≤ ―¹―²―Ä–Ψ–Ι –Φ―΄ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―Ä–Α―¹―¹―΅–Η―²―΄–≤–Α–Μ–Η, –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Φ–Η–Ϋ–Ζ–Α–≥–Ψ–≤ –Ϋ–Β ―Ö–≤–Α―²–Α–Μ–Ψ. –≠–Κ–Η–Ω–Α–Ε –¦-21, ―¹―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Ζ–Α–Ϋ–Ψ–≤–Ψ, –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ –≤ –¥–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è. –‰–Ζ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤ –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, ―É―à–Β–¥―à–Η―Ö –Ψ―¹–Β–Ϋ―¨―é –≤ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ―É―é –Ω–Β―Ö–Ψ―²―É –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –ù.–ù.–ö―É–Μ–Η–Κ–Ψ–≤―΄–Φ, –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Ψ―¹―¨ –Μ–Η―à―¨ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –ö―É–Μ–Η–Κ–Ψ–≤–Α –Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η–Μ –Ψ–Ω―΄―²–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –Γ.–Γ.–€–Ψ–≥–Η–Μ–Β–≤―¹–Κ–Η–Ι.
–‰ –≤–Ψ―² ―²―Ä–Β–≤–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η–Β ―¹ –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―²–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ: –Α–≤–Η–Α–±–Ψ–Φ–±–Α ―Ä–Α–Ζ–Ψ―Ä–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤–±–Μ–Η–Ζ–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, –Β―¹―²―¨ –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è... –Γ–Ω–Β―à―É –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Ϋ–Α –Ζ–Α–≤–Ψ–¥. –¦–Ψ–¥–Κ–Α –Ϋ–Α –Ω–Μ–Α–≤―É, –Ϋ–Α ―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Η–Μ–Β, –Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è ―¹–Β―Ä―¨―ë–Ζ–Ϋ―΄–Β –Η –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Β, –Η –≤–Ψ –≤–Ϋ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Η―Ö, ―É–Ε–Β ―¹–Φ–Ψ–Ϋ―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―¹–Η―¹―²–Β–Φ–Α―Ö. –ù–Α–Φ–Β―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹―Ä–Ψ–Κ –≤–≤–Ψ–¥–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –≤ ―¹―²―Ä–Ψ–Ι –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –Ω–Ψ–¥ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Ψ–Φ. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –£–Β―¹–Β–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι, –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Β–Φ―΄–Ι ―²–Β―Ö–Ψ―²–¥–Β–Μ–Ψ–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Α, ―É–±–Β–¥–Η–Μ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Α, ―΅―²–Ψ –≤―¹―ë –Β―â―ë –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–≤–Β―Ä―¹―²–Α―²―¨.
–ê –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Β–¥–Β–Μ―¨ ―¹–Ω―É―¹―²―è, –≤ –Φ–Α―Ä―²–Β –¦-21 –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ–Α –Ω–Ψ–¥ ―É–¥–Α―Ä –Ω―Ä–Η –Α―Ä―²–Ψ–±―¹―²―Ä–Β–Μ–Β –Ζ–Α–≤–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–Ι ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Η. –ü–Ψ–≥–Η–±–Μ–Η –¥–≤–Ψ–Β ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ, –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Α–¥–Α–Μ–Η –Ϋ–Α–¥―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ–Η –Η –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―Ü–Η―¹―²–Β―Ä–Ϋ―΄. –ü–Ψ―¹–Μ–Β ―²―â–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –±―΄–Μ–Ψ –Β―â―ë ―Ä–Α–Ζ –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Β–Ϋ–Ψ: –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –Φ–Η–Ϋ–Ζ–Α–≥ –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Η –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―΄―²―¨ –≥–Ψ―²–Ψ–≤ –Κ –≤―΄―Ö–Ψ–¥―É –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –≥–Ψ–¥―É.
–½–Α–±–Β–≥–Α―è –≤–Ω–Β―Ä―ë–¥, ―¹–Κ–Α–Ε―É, ―΅―²–Ψ ―²–Α–Κ –≤―¹―ë –Ε–Β –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨. –£ –Φ–Α–Β, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –¥–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―É―é ―Ü–Β–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Β–Η–Φ–Ψ–≤–Β―Ä–Ϋ―΄―Ö ―É―¹–Η–Μ–Η–Ι –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ―É –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²―¨ –Κ ―à–≤–Α―Ä―²–Ψ–≤―΄–Φ –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η―è–Φ, –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ–Ψ–Κ–Α–Μ–Η–±–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ϋ–Α―Ä―è–¥, –≤―΄–Ω―É―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ψ―²–Ϋ―é–¥―¨ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―Ü–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ–±―¹―²―Ä–Β–Μ–Β ¬Ϊ–Ω–Ψ –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥―è–Φ¬Μ, –Ω–Ψ―Ä–Α–Ζ–Η–Μ –¦-21 –Ω―Ä―è–Φ―΄–Φ –Ω–Ψ–Ω–Α–¥–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –≤ –Ω―Ä–Α–≤―΄–Ι –±–Ψ―Ä―². –ë―΄–Μ–Ψ –Ζ–Α―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Ψ ―΅–Β―²―΄―Ä–Β –Ψ―²―¹–Β–Κ–Α, –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Ψ―¹–Β–Μ–Α –Κ–Ψ―Ä–Φ–Ψ–Ι –Ϋ–Α –≥―Ä―É–Ϋ―². –£–Ψ–¥–Ψ–Μ–Α–Ζ―΄ –Ζ–Α–≤–Β–Μ–Η –Ε―ë―¹―²–Κ–Η–Ι –Ω–Μ–Α―¹―²―΄―Ä―¨, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―΅–Β–≥–Ψ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Η –Ψ―¹―É―à–Η–Μ–Η, –Η –Ω–Ψ–Μ―É–Ζ–Α―²–Ψ–Ϋ―É–≤―à–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –≤―΄―Ä–Ψ–≤–Ϋ―è–Μ–Α―¹―¨, –≤―¹―²–Α–Μ–Α –Ϋ–Α ―Ä–Ψ–≤–Ϋ―΄–Ι –Κ–Η–Μ―¨. –ù–Ψ ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ, –Ω–Ψ–Φ–Η–Φ–Ψ –Ζ–Α–¥–Β–Μ–Κ–Η –Ω―Ä–Ψ–±–Ψ–Η–Ϋ―΄, –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤―΄–≥―Ä―É–Ε–Α―²―¨, –Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ ―É―¹―²–Α–Ϋ–Α–≤–Μ–Η–≤–Α―²―¨ –Α–Κ–Κ―É–Φ―É–Μ―è―²–Ψ―Ä–Ϋ―É―é –±–Α―²–Α―Ä–Β―é, –Ϋ–Ψ –Η –Ω–Β―Ä–Β–±―Ä–Α―²―¨ –Η–Μ–Η –Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²―¨ –Φ–Ϋ–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ –Ω–Ψ–±―΄–≤–Α–≤―à–Η―Ö –≤ –≤–Ψ–¥–Β –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ–Ψ–≤.
βÄî –ß―É―²―¨ –Ϋ–Β –≤–Β―¹―¨ –Φ–Ψ–Ϋ―²–Α–Ε βÄî –Ζ–Α–Ϋ–Ψ–≤–Ψ, βÄî ―¹–Ψ–Κ―Ä―É―à–Α–Μ―¹―è –ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –£–Β―¹–Β–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι. βÄî –≠―²–Ψ –Ε–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α –Ϋ–Α –≥–Ψ–¥!..
–Λ–Μ–Α–≥–Φ–Β―Ö –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β―É–≤–Β–Μ–Η―΅–Η–≤–Α–Μ. –ù–Β–≤–Β–Ζ―É―΅–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –Ζ–Α ―²―Ä–Η –Φ–Β―¹―è―Ü–Α ―²―Ä–Η–Ε–¥―΄ –Ω–Ψ–Ω–Α–¥–Α–Μ–Η ―¹–Ϋ–Α―Ä―è–¥―΄ –Η–Μ–Η –Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ–Κ–Η –±–Ψ–Φ–±, ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Φ–Ψ–≥–Μ–Α –≤―¹―²―É–Ω–Η―²―¨ –≤ ―¹―²―Ä–Ψ–Ι. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–≥―Ä–Α–¥–Η―²–Β–Μ―è –¦-21 –Γ.–Γ.–€–Ψ–≥–Η–Μ–Β–≤―¹–Κ–Η–Ι –ü–Β―Ä–Β–≤–Ψ–¥ –Ϋ–Α –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Α―ë–Κ –Λ–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –≤―Ä–Α―΅ –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ –Φ–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Δ–Η―Ö–Ψ–Ϋ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅ –ö―É–Ζ―¨–Φ–Η–Ϋ, ―¹―²–Α―Ä―΄–Ι –±–Α–Μ―²–Η–Β―Ü, ―¹–Μ―É–Ε–Η–≤―à–Η–Ι –Ϋ–Α ―³–Μ–Ψ―²–Β –Β―â―ë –¥–Ψ –ü–Β―Ä–≤–Ψ–Ι –Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ ―³–Β–Μ―¨–¥―à–Β―Ä–Ψ–Φ –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Α ¬Ϊ–†―é―Ä–Η–Κ¬Μ, –Ζ–Α–±–Η–Μ ―²―Ä–Β–≤–Ψ–≥―É. –û–Ϋ –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Μ –Η –Φ–Ϋ–Β, –Η –Κ–Ψ–Φ–±―Ä–Η–≥―É –Ψ–± ―É―Ö―É–¥―à–Β–Ϋ–Η–Η ―³–Η–Ζ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η―è –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–≥―Ä–Α–¥–Η―²–Β–Μ―è –¦-21 –Γ.–Γ.–€–Ψ–≥–Η–Μ–Β–≤―¹–Κ–Η–Ι –ü–Β―Ä–Β–≤–Ψ–¥ –Ϋ–Α –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Α―ë–Κ –Λ–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –≤―Ä–Α―΅ –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ –Φ–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Δ–Η―Ö–Ψ–Ϋ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅ –ö―É–Ζ―¨–Φ–Η–Ϋ, ―¹―²–Α―Ä―΄–Ι –±–Α–Μ―²–Η–Β―Ü, ―¹–Μ―É–Ε–Η–≤―à–Η–Ι –Ϋ–Α ―³–Μ–Ψ―²–Β –Β―â―ë –¥–Ψ –ü–Β―Ä–≤–Ψ–Ι –Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ ―³–Β–Μ―¨–¥―à–Β―Ä–Ψ–Φ –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Α ¬Ϊ–†―é―Ä–Η–Κ¬Μ, –Ζ–Α–±–Η–Μ ―²―Ä–Β–≤–Ψ–≥―É. –û–Ϋ –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Μ –Η –Φ–Ϋ–Β, –Η –Κ–Ψ–Φ–±―Ä–Η–≥―É –Ψ–± ―É―Ö―É–¥―à–Β–Ϋ–Η–Η ―³–Η–Ζ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η―è –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α.
–ù–Α –Ω–Μ–Α–≤–±–Α–Ζ–Α―Ö ―É–Ε–Β –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –≤―΄–≤–Α―Ä–Η–≤–Α–Μ–Η –Ω–Ψ–¥ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Φ–Β–¥–Η–Κ–Ψ–≤ ―¹–Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤―΄–Β –≤–Β―²–Κ–Η, –Η –≤―¹–Β –Ω–Η–Μ–Η ―ç―²―É ¬Ϊ–≤–Η―²–Α–Φ–Η–Ϋ–Ϋ―É―é –¥–Ψ–±–Α–≤–Κ―É¬Μ –Ω–Ψ ―²―Ä–Η ―Ä–Α–Ζ–Α –≤ –¥–Β–Ϋ―¨. –ù–Ψ –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι –¥–Η―¹―²―Ä–Ψ―³–Η–Η ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≤―¹―ë –±–Ψ–Μ―¨―à–Β, –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Η ―¹–Μ―É―΅–Α–Η ―Ü–Η–Ϋ–≥–Η, ―É –Μ―é–¥–Β–Ι –Ω―Ä–Ψ―¹―²―É–Ω–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –Ϋ–Ψ–≥–Α―Ö ―²―ë–Φ–Ϋ―΄–Β –Ω―è―²–Ϋ–Α. –£ ―¹―²―Ä–Ψ–Β–≤―΄―Ö ―Ä–Α–Ω–Ψ―Ä―²–Η―΅–Κ–Α―Ö –Ϋ–Β―É–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ ―Ä–Ψ―¹–Μ–Η ―Ü–Η―³―Ä―΄, –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é―â–Η–Β ―΅–Η―¹–Μ–Ψ –±–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö, –Ϋ–Β ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ―΄―Ö ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―Ö, –Ϋ–Β―¹―²–Η –≤–Α―Ö―²―É.
–ê ―É –Ϋ–Α―¹ –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―², ―²―Ä–Β–±―É―é―â–Η–Ι –Ϋ–Α–Ω―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Η―è –≤―¹–Β―Ö ―¹–Η–Μ.
–‰ –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥–Η βÄî –±–Ψ–Β–≤―΄–Β –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥―΄...
–û ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤―à–Β–Φ―¹―è –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ζ–Ϋ–Α–Μ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―² ―³–Μ–Ψ―²–Α. –û–Ϋ –Η–Ζ―΄―¹–Κ–Η–≤–Α–Μ ―Ä–Β―¹―É―Ä―¹―΄, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Ψ–¥–Κ–Ψ―Ä–Φ–Η―²―¨ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤. –‰ –≤ ―³–Β–≤―Ä–Α–Μ–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–¥–Β –Ϋ–Α―à–Β–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄, –Ϋ–Β –Ω–Μ–Α–≤–Α―é―â–Β–Ι –Ω–Ψ–Κ–Α, –Ϋ–Ψ –≥–Ψ―²–Ψ–≤―è―â–Β–Ι―¹―è –Ω–Μ–Α–≤–Α―²―¨, –Ϋ–Α –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Α―ë–Κ. –ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –≤ –±–Μ–Ψ–Κ–Α–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Β–≥–Ψ –≤–Α―Ä–Η–Α–Ϋ―²–Β, –Ϋ–Ψ –≤―¹―ë ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–±–Α–≤–Κ–Α –±―΄–Μ–Α –Ψ―â―É―²–Η–Φ–Ψ–Ι. –Ξ–Μ–Β–±–Α ―¹―²–Α–Μ–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α―²―¨―¹―è 500 –≥―Ä–Α–Φ–Φ–Ψ–≤, –≤ ―¹―É–Ω–Β –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ –Ε–Η―Ä –Η –Ω–Ψ–¥–±–Ψ–Μ―²–Ψ―΅–Ϋ–Α―è –Φ―É–Κ–Α, –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ―è―¹–Α. –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η–Β –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥ –≤–Β–Ζ–Μ–Η –Ω–Ψ –Μ–Β–¥–Ψ–≤–Ψ–Ι ―²―Ä–Α―¹―¹–Β ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –¦–Α–¥–Ψ–≥―É–¦―é–¥–Η –Ω–Ψ–≤–Β―¹–Β–Μ–Β–Μ–Η, –Η ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –≤―Ä–Α―΅ ―¹―²–Α–Μ –Ψ―²–Φ–Β―΅–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –Ψ–±―â–Β–Β ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Β –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―¨―è –Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Ι ―¹―²–Α–±–Η–Μ–Η–Ζ–Η―Ä―É–Β―²―¹―è. –ü–Ψ―²–Ψ–Φ –Ψ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―à–Μ–Ψ –Ϋ–Α ―É–Μ―É―΅―à–Β–Ϋ–Η–Β. –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η–Β –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥ –≤–Β–Ζ–Μ–Η –Ω–Ψ –Μ–Β–¥–Ψ–≤–Ψ–Ι ―²―Ä–Α―¹―¹–Β ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –¦–Α–¥–Ψ–≥―É–¦―é–¥–Η –Ω–Ψ–≤–Β―¹–Β–Μ–Β–Μ–Η, –Η ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –≤―Ä–Α―΅ ―¹―²–Α–Μ –Ψ―²–Φ–Β―΅–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –Ψ–±―â–Β–Β ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Β –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―¨―è –Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Ι ―¹―²–Α–±–Η–Μ–Η–Ζ–Η―Ä―É–Β―²―¹―è. –ü–Ψ―²–Ψ–Φ –Ψ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―à–Μ–Ψ –Ϋ–Α ―É–Μ―É―΅―à–Β–Ϋ–Η–Β.
–ù–Α ―³–Μ–Ψ―², –Κ–Α–Κ –Η –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥, –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Α―²―¨ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ–¥–Α―Ä–Κ–Η –Η–Ζ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Ψ–≤ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄. –Γ―É–¥―¨–±–Α –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Α –Η –Β–≥–Ψ –Ζ–Α―â–Η―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –≤–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–≤–Α–Μ–Α ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι –≤ ―²―΄–Μ―É, –Η –Ψ–Ϋ–Η, ―¹–Α–Φ–Η –Η―¹–Ω―΄―²―΄–≤–Α―è –Ϋ―É–Ε–¥―É –≤–Ψ –≤―¹―ë–Φ, –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Μ–Η –≤ –Ψ―¹–Α–Ε–¥―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ –Ω–Ψ―¹―΄–Μ–Κ–Η. –£ –Α–¥―Ä–Β―¹ –Ϋ–Α―à–Β–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―²―΄ –Ψ―² –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Ι –Θ–Ζ–±–Β–Κ–Η―¹―²–Α–Ϋ–Α, –Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–Μ–Η –Η―Ö –≤ –≥–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ–Η.
–ë–Β―¹–Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ ―²―Ä–Ψ–≥–Α–Μ–Η –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤ –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Η–Β –Η–Ϋ–¥–Η–≤–Η–¥―É–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ–¥–Α―Ä–Κ–Η –Η–Ζ –Ϋ–Β–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―΄―Ö –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤ –Η ―¹–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι. –û–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ –¥–Ψ―¹―²–Α–Μ–Α―¹―¨ –Η –Φ–Ϋ–Β ―²–Α–Κ–Α―è –Ω–Ψ―¹―΄–Μ–Ψ―΅–Κ–Α –Ϋ–Β–Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ –Ψ―² –Κ–Ψ–≥–Ψ, –±–Β–Ζ ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Η―¹―¨–Φ–Α. –£ –Ϋ–Β–Ι –±―΄–Μ–Η ―¹―É―Ö–Α―Ä–Η, ―²―â–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–≤―ë―Ä–Ϋ―É―²―΄–Ι –Κ―É―¹–Ψ–Κ ―¹–Α–Μ–Α, ―΅–Β―²–≤–Β―Ä―²–Η–Ϋ–Κ–Α –≤–Ψ–¥–Κ–Η –Η ―¹–Α–Φ–Ψ–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―à–Α―Ä―³, –Ω–Β―Ä–Β–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι, –Κ–Α–Κ –Φ–Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–Ι ―¹―²–Α―Ä―É―à–Κ–Ψ–Ι –Η–Ζ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Μ―é–±–Η–Φ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α―²–Κ–Α-―à–Α–Μ–Η. –£ ―ç―²–Ψ–Φ ―²―ë–Ω–Μ–Ψ–Φ ―¹–Η–Ϋ–Β–Φ ―à–Α―Ä―³–Β ―è –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –≤―¹―é –≤–Ψ–Ι–Ϋ―É.
–û–¥–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹ ―É–≤–Β–Μ–Η―΅–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ –Ω–Α–Ι–Κ–Α –Φ―΄ ―É–Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ –¥–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―¹ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Α –Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Ψ―²–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è ―¹ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Β–Φ―É –Ψ―¹–Β–Ϋ―¨―é –Ζ–Α–Ω–Α―¹–Ϋ―΄―Ö ―Ä―É–±–Β–Ε–Β–Ι ―¹―É―Ö–Ψ–Ω―É―²–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄. –£–Ψ―² ―²–Ψ–≥–¥–Α –Η ―¹―²–Α–Μ–Η –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –Ϋ–Α ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –¥–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É―²–Ψ―Ä–Α ―²―΄―¹―è―΅ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤. –£ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β –Ψ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Η –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Α, ―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Β–Β―²―¹―è, –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ –Ζ–Α–Ϋ―è–Μ–Α –±―΄ –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―É –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β. –ù–Ψ –Ϋ–Β―¹―²–Η ―ç―²―É ―¹–Μ―É–Ε–±―É –Η –≤ ―²–Ψ –Ε–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―³–Ψ―Ä―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―² –Ϋ–Α –¥–Β―¹―è―²–Κ–Α―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ. –û―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―É―΅―ë–±―΄ –€–Β–Ε–¥―É ―²–Β–Φ, –Ω–Ψ―Ä–Α –±―΄–Μ–Ψ –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²―¨ –Κ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α–Φ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ―É, –Ϋ–Ψ –Η –Μ―é–¥–Β–Ι, –Η –≤ –Ω–Β―Ä–≤―É―é –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤, ―¹―É–Φ–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –Η –Ω–Ψ-–Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–Φ―É –Ψ―¹–Φ―΄―¹–Μ–Η―²―¨ –Ψ–Ω―΄―² –Η ―É―Ä–Ψ–Κ–Η –Ϋ–Α―à–Β–Ι –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ι –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Κ–Α–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η.
–†–Α–Ζ–±–Ψ―Ä―΄ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ψ―¹–Β–Ϋ―¨―é –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Β, –Ψ―Ö–≤–Α―²―΄–≤–Α–Μ–Η –Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Κ―Ä―É–≥ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ ―¹ ―²–Β―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –Κ–Α–Κ–Η–Β ―²–Α–Φ –Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨. –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Ψ–±―Ä–Α―²―¨ ―¹–Ψ –≤―¹–Β–Φ–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α–Φ–Η –Η –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Α―Ä–Α–Φ–Η –Ϋ–Α–Η–±–Ψ–Μ–Β–Β –Ω–Ψ―É―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Ι –Η–Ζ –Ω―Ä–Β–Ε–Ϋ–Η―Ö ―²―Ä―ë―Ö –±―Ä–Η–≥–Α–¥ –Η –û―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α. –ê ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Α–Φ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―¹―²–Η ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α–Ζ–±–Ψ―Ä―΄ ―¹ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α–Φ–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι.
–Γ–Α–Φ―΄–Φ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Φ –Φ―΄ ―¹―΅–Η―²–Α–Μ–Η –Ω–Ψ–≤―΄―à–Β–Ϋ–Η–Β ―²–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Α―¹―²–Β―Ä―¹―²–≤–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Ψ–≥–Ϋ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ. –£–Β–¥―¨ –Ϋ–Β –≤―¹–Β –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η―¹―¨ –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Κ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―é ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Ψ―Ä―É–Ε–Η―è, –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥, –≤ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Ψ―¹―²―΄―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö, ―¹–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è –Ϋ–Α –Φ–Ψ―Ä–Β. –ù–Ψ –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β ―Ä–Α–Ζ–±–Ψ―Ä–Ψ–≤ ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ―΄―Ö –Η –Ϋ–Β―É–¥–Α―΅–Ϋ―΄―Ö –Α―²–Α–Κ, –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α–≤―à–Η―Ö –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α–Φ –Ψ―¹–Φ―΄―¹–Μ–Η―²―¨ –Ψ–Ω―΄―² ―¹–≤–Ψ–Ι –Η ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Β–Ι, –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Α ―É―΅―ë–±–Α –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è, βÄî ―²―Ä–Β–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Η –≤ –Κ–Α–±–Η–Ϋ–Β―²–Β ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–±―΄. –û–Ϋ–Η, –Κ―¹―²–Α―²–Η, –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄ –¥–Μ―è –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ–Φ ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Β –Ϋ–Α–≤―΄–Κ–Ψ–≤ –Η –Ω–Ψ–¥–Μ–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Φ–Α―¹―²–Β―Ä–Α–Φ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄―Ö –Α―²–Α–Κ.
–û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –≥–¥–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨―¹―è ―ç―²–Η–Φ? –ö–Α–±–Η–Ϋ–Β―² ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–±―΄ –Η–Φ–Β–Μ―¹―è –≤ –Θ―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ―²―Ä―è–¥–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è, –Ω―Ä–Η –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Η–Ζ–¥–Α–≤–Ϋ–Α –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―¹–Κ–Η–Β –Κ–Μ–Α―¹―¹―΄. –Δ–Α–Φ ¬Ϊ–≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –≤ –Α―²–Α–Κ―É¬Μ –Η ―è, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –±―΄–Μ –Ω–Ψ―¹–Μ–Α–Ϋ –≤ ―ç―²–Η –Κ–Μ–Α―¹―¹―΄ ―¹ –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α, –Η –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―É―΅–Η–Μ―¹―è –≤ –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η. –ü–Β―Ä–Β–±―΄–≤–Α–Μ–Η –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –Κ–Α–±–Η–Ϋ–Β―²–Β –Η –≤―¹–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Ϋ–Α―à–Β–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄. –ù–Ψ –Θ–û–ü–ü –±―΄–Μ ―ç–≤–Α–Κ―É–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ –≤ –€–Α―Ö–Α―΅–Κ–Α–Μ―É –Η, –Ϋ–Α―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ―΄ –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η, –≤―΄–≤–Β–Ζ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Β ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–Β –Ψ–±–Ψ―Ä―É–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β. –ê ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α―²―¨ –≤ ―²–Ψ–≥–¥–Α―à–Ϋ–Η―Ö –Μ–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Η―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―΄–Ι ―²―Ä–Β–Ϋ–Α–Ε―ë―Ä –Ζ–Α–Ϋ–Ψ–≤–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ.
–ü–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹ –Ψ–≥–Ϋ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Ψ–Ι –±–Β―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Η–Μ–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄. –£ ―è–Ϋ–≤–Α―Ä–Β –Δ―Ä–Η–Ω–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Η–Ι –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α–Μ―¹―è –Κ ―ç―²–Ψ–Φ―É –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹―É –Η, –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–≤–Α―è –Β–≥–Ψ –Ϋ–Β―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Η–Φ―΄–Φ, –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä―è–Μ ―¹–≤–Ψ―ë –Μ―é–±–Η–Φ–Ψ–Β:
βÄî –î–Α–≤–Α–Ι―²–Β –¥―É–Φ–Α―²―¨ –≤–Φ–Β―¹―²–Β, βÄî –Η ―¹–Ψ–≤–Β―²–Ψ–≤–Α–Μ: βÄî –Ω–Ψ–¥–Κ–Μ―é―΅–Α–Ι―²–Β –Κ ―ç―²–Ψ–Φ―É –Η–Ϋ–Η―Ü–Η–Α―²–Η–≤–Ϋ―΄―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι!
–£―¹–Κ–Ψ―Ä–Β ―è ―¹–Φ–Ψ–≥ –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨ –Κ–Ψ–Φ–±―Ä–Η–≥―É, ―΅―²–Ψ, –Κ–Α–Κ ―¹―΅–Η―²–Α–Β―² –Ϋ–Α―à ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Φ–Η–Ϋ―ë―Ä –‰–Ψ–¥–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι, –Κ–Α–±–Η–Ϋ–Β―² ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–±―΄ –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β―Ä–Ϋ―É―² –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ–Ι –±–Α–Ζ–Β –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄. –ù―É–Ε–Ϋ–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Β–Ϋ–Ψ―¹ –Ψ–±–Ψ―Ä―É–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Η–Ζ –Θ―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²―Ä―è–¥–Α –Ω–Ψ–¥–Ω–Μ–Α–≤–Α, –Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ψ―²–Α–Ω–Μ–Η–≤–Α–Β―²―¹―è –Η –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Β―² ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ―ç–Ϋ–Β―Ä–≥–Η–Η.
βÄî –ü–Ψ―¹―²–Ψ–Ι―²–Β! βÄî –Ω―Ä–Β―Ä–≤–Α–Μ –Φ–Β–Ϋ―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄. βÄî –ö–Α–Κ–Ψ–Β –Ψ–±–Ψ―Ä―É–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β? –Δ–Α–Φ –Ε–Β, –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―², –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β―².
βÄî –Δ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α–Φ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ, –Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è, –Β―¹―²―¨, –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅. –ö–Α–±–Η–Ϋ–Β―² ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–±―΄ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ ―ç–≤–Α–Κ―É–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨. –‰ –¥–Α–Ε–Β ―΅–Α―¹―²–Η―΅–Ϋ–Ψ –¥–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η, –Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Κ―²–Ψ-―²–Ψ ―ç―²–Ψ –Ψ―²―¹―²–Α–≤–Η–Μ. –‰–Ψ–¥–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α–Β―², ―΅―²–Ψ –≤―¹–Β –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄–Β –Ω―Ä–Η–±–Ψ―Ä―΄ –Β―¹―²―¨.
–Δ―Ä–Η–Ω–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Η–Ι ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ω–Ψ–≤–Β―¹–Β–Μ–Β–Μ:
βÄî –ù―É, –Β―¹–Μ–Η ―²–Α–Κ, ―²–Ψ –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ! –†–Α–Ζ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –¥–Ψ–±―É–¥–Β–Φ, ―ç―²–Ψ –Ζ–Α –Φ–Ϋ–Ψ–Ι. –½–Α –≤―¹―ë –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Ψ―²–≤–Β―΅–Α–Β―²–Β –≤―΄. –™–Ψ―²–Ψ–≤―¨―²–Β –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η–Β –Η –Μ―é–¥–Β–Ι. –ï―¹–Μ–Η ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –±―É–¥–Β―² ―²–Ψ―Ä–Φ–Ψ–Ζ–Η―²―¨, –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Ι―²–Β –≤ –Μ―é–±–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è.
–ß–Β―Ä–Β–Ζ –¥–Β–Ϋ―¨ –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Θ–û–ü–ü ―¹ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ–Α –Ω–Ψ ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ―΅–Α―¹―²–Η –™–Ψ–Μ–Β–Ϋ–±–Α–Κ–Ψ–≤―΄–Φ –Η –Ω–Ψ–¥–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Φ –≥―Ä―É–Ω–Ω–Ψ–Ι ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ-―É–Φ–Β–Μ―¨―Ü–Β–≤. –‰–Ψ–¥–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι –Β―â―ë –±―΄–Μ –Ζ–Α–Ϋ―è―² ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―è–Φ–Η –Ω–Ψ ―¹―É―Ö–Ψ–Ω―É―²–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β. –£ ―²y –Ζ–Η–Φ―É ―è –Β―â―ë –Ϋ–Β –±―΄–≤–Α–Μ –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Φ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –Η –Β–¥–≤–Α ―É–Ζ–Ϋ–Α–≤–Α–Μ –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―΄–Β ―¹ –¥–Β―²―¹―²–≤–Α ―É–Μ–Η―Ü―΄, βÄî –±–Β–Ζ–Μ―é–¥–Ϋ―΄–Β, –Ζ–Α–Φ–Β―²―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹–Ϋ–Β–≥–Ψ–Φ. –€–Β―¹―²–Α–Φ–Η –Ϋ–Α―à –≥―Ä―É–Ζ–Ψ–≤–Η―΅–Ψ–Κ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ζ–Α―Ä―΄–≤–Α–Μ―¹―è –≤ ―¹―É–≥―Ä–Ψ–±―΄.
–£ –Θ–û–ü–ü –Ϋ–Α―¹ ―É–Ε–Β –Ε–¥–Α–Μ–Η, ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η–Β –¥–Ψ―à–Μ–Ψ. –£ ―¹―²―΄–Μ–Ψ–Φ –Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Η –Ψ–±―â–Η–Φ–Η ―É―¹–Η–Μ–Η―è–Φ–Η –Ψ―²–Κ―Ä―΄–≤–Α–Μ–Η –Ζ–Α–Φ―ë―Ä–Ζ―à–Η–Β –¥–≤–Β―Ä–Η, ―¹–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η –Ω–Μ–Ψ–Φ–±―΄. –Γ–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η –±―΄–Μ–Ψ 30 –≥―Ä–Α–¥―É―¹–Ψ–≤ –Φ–Ψ―Ä–Ψ–Ζ–Α, –¥–Α –Η –≤–Ϋ―É―²―Ä–Η –Ζ–¥–Α–Ϋ–Η―è, –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, –Ω–Ψ―΅―²–Η ―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ε–Β. –ü–Α–Μ―¨―Ü―΄ –Ω―Ä–Η–Μ–Η–Ω–Α–Μ–Η –Κ –Φ–Β―²–Α–Μ–Μ―É, –Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Α―à–Η―Ö ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β ―¹–Μ–Η―à–Κ–Ψ–Φ ―¹–Ω–Β―à–Η–Μ–Η. –Δ –Ψ, ―΅―²–Ψ ―¹–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η –Η –Ψ―²–Κ–Μ―é―΅–Α–Μ–Η, –Ϋ–Α–¥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Φ–Α―Ä–Κ–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨, ―¹–≤–Β―Ä―è―è―¹―¨ ―¹–Ψ ―¹―Ö–Β–Φ–Ψ–Ι (―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Α –Ϋ–Α―à–Μ–Α―¹―¨), –Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β ―É–Ω–Α–Κ–Ψ–≤–Α–Μ–Η, –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Η―²―¨ –Ω–Ψ –Ψ–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η―é. –€–Α–Μ–Ψ –Μ–Η –Κ―É–¥–Α –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ζ–Α–¥–≤–Η–Ϋ―É―²―¨ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ ―è―â–Η–Κ.
–ü―Ä–Ψ―¹―²―΄–Μ–Η –≤―¹–Β –Ψ―²―΅–Α―è–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ζ―É–± –Ϋ–Α –Ζ―É–± –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ω–Α–¥–Α–Μ, –Ϋ–Ψ –Κ―Ä–Ψ–Ω–Ψ―²–Μ–Η–≤–Α―è ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –≤ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―É―à–Μ–Α –±―΄, –Ω–Ψ–Ε–Α–Μ―É–Ι, ―Ü–Β–Μ–Α―è –Ϋ–Β–¥–Β–Μ―è, –±―΄–Μ–Α ―¹–¥–Β–Μ–Α–Ϋ–Α –≤ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Ω―Ä–Η―ë–Φ. –‰–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ ¬Ϊ–Η–Ζ―ä―è―²–Η–Β¬Μ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Ι ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Η –Ϋ–Β ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ―³–Ψ―Ä–Φ–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Κ–Α–Κ–Η―Ö-–Μ–Η–±–Ψ –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Ψ–≤, –Ϋ–Ψ ―è –≤―¹―ë-―²–Α–Κ–Η –Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ –Ϋ–Α ―¹―²–Ψ–Μ–Β –≤ –Ψ–Ω―É―¹―²–Β–≤―à–Β–Φ –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η–Η –Μ–Η―¹―² –±―É–Φ–Α–≥–Η, –Ψ–±–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–≤ –Ϋ–Α –Ϋ―ë–Φ, –Κ―É–¥–Α –Η ―¹ ―΅―¨–Β–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―è –≤―΄–≤–Β–Ζ–Β–Ϋ–Ψ –Ψ–±–Ψ―Ä―É–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Κ–Α–±–Η–Ϋ–Β―²–Α ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–±―΄.
–€–Ψ–Ϋ―²–Α–Ε ―²―Ä–Β–Ϋ–Α–Ε―ë―Ä–Α –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ–Ι –±–Α–Ζ–Β –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Ω–Ψ–¥ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ –Γ. –‰. –‰–Ψ–¥–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄–Β ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Η–Κ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ –Η –Ψ–±―¹–Μ―É–Ε–Η–≤–Α―²―¨ –Κ–Α–±–Η–Ϋ–Β―². –ö–Ψ–Β-―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Β―Ä–Β–¥–Β–Μ―΄–≤–Α―²―¨, –Ω―Ä–Η―¹–Ω–Ψ―¹–Α–±–Μ–Η–≤–Α―²―¨ –Κ –Φ–Β―¹―²–Ϋ―΄–Φ ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è–Φ. –ß–Β―Ä–Β–Ζ –¥–Β―¹―è―²―¨ –¥–Ϋ–Β–Ι ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Φ–Η–Ϋ―ë―Ä –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―¹–Η–Μ –Ϋ–Α ―²―Ä–Β–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Κ―É –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι ¬Ϊ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε¬Μ βÄî –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α, ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Α –Η ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, –Η –Ψ–Ϋ–Η –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ψ―²―Ä–Α–±–Α―²―΄–≤–Α―²―¨ ―²―É―² –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è, –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Β–Φ―΄–Β –≤ ―Ö–Ψ–¥–Β ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Α―²–Α–Κ–Η.
–ù–Β –≤―¹―ë –≤―΄–≥–Μ―è–¥–Β–Μ–Ψ ―²–Α–Κ, –Κ–Α–Κ –≤ –Θ–û–ü–ü. –û―²―²―É–¥–Α –≤–Ζ―è–Μ–Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Α–Φ ―²―Ä–Β–Ϋ–Α–Ε―ë―Ä, –Α –Ϋ–Β –≤―¹―é –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ―É –Κ–Α–±–Η–Ϋ–Β―²–Α. –Θ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―É–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ–Ι, –Κ–Α–Κ ―²–Α–Φ, ―Ä―É–±–Κ–Η, ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ ―¹–Η–¥–Β–Μ ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η ―²–Α–±–Μ–Η―Ü–Α–Φ–Η –Ϋ–Α –Ψ–±―΄–Κ–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―¹―²―É–Μ–Β, ―²–Β―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―É. –ù–Ψ ―Ü–Β–Μ―¨ –Ϋ–Α –Ω–Α–Ϋ–Ψ―Ä–Α–Φ–Β –Φ–Α–Ϋ–Β–≤―Ä–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Α, –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―è–Μ–Η―¹―¨ –Β―ë –Κ―É―Ä―¹ –Η ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²―¨, –Φ–Α–Ϋ–Β–≤―Ä–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Α –Η ¬Ϊ–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α¬Μ, ―Ä–Β―à–Α–Μ―¹―è ¬Ϊ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄–Ι ―²―Ä–Β―É–≥–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ¬Μ, –Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤―¹–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄. –≠–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ―ç–Ϋ–Β―Ä–≥–Η–Β–Ι –Κ–Α–±–Η–Ϋ–Β―² –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–≤–Α–Μ―¹―è. –‰ ―²–Β–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Α –≤ –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η–Η –±―΄–Μ–Α, –≤–Ψ –≤―¹―è–Κ–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β, –≤―΄―à–Β –Ϋ―É–Μ―è.
–ö–Ψ–Φ–¥–Η–≤―΄ ―²―Ä–Β–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η –≤ –Κ–Α–±–Η–Ϋ–Β―²–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –Α ―²–Β βÄî –≤–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –Ϋ–Α–¥–Μ–Β–Ε–Α–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –±―΄―²―¨ –≥–Ψ―²–Ψ–≤―΄–Φ–Η ―¹–Α–Φ–Ψ―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α―²―¨ –Φ–Α–Ϋ–Β–≤―Ä–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –¥–Μ―è –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Α –≤ –Α―²–Α–Κ―É, –Ω–Ψ–Κ–Α –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–Ψ–Ι–¥―ë―² –Κ –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω―É –Η–Μ–Η –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ–Β―²―¹―è –Ϋ–Α –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è.
–Λ–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Φ–Η–Ϋ―ë―Ä –Ω–Μ–Α–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η―è –Η ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Ψ ―¹–Μ–Β–¥–Η–Μ –Ζ–Α ―¹–Ψ–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―Ä–Α―¹–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η―è, ―Ö–Ψ―²―è –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–≤–Α―²―¨ –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Κ―É –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –Ϋ–Α ―²―Ä–Β–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Η –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥. –ü―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Η–¥―²–Η –Ω–Β―à–Κ–Ψ–Φ ―¹ –Ω–Μ–Α–≤–±–Α–Ζ, ―¹―²–Ψ―è―â–Η―Ö –Ζ–Α –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Κ–Η–Μ–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤, –Ϋ–Β―Ä–Β–¥–Κ–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ϋ–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Α―²―Ä―É–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β.
–Δ―Ä–Β–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Η –≤ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Ψ–Ε–¥―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Α–±–Η–Ϋ–Β―²–Β ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–±―΄ –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Α―΅–Α―²―΄ ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β –≤―¹–Β–Ι –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―É―΅―ë–±―΄, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ―¹–Ψ–±―΄―Ö –¥–Ϋ–Β–Ι –¥–Μ―è –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η –Β―â―ë –Ϋ–Β –≤―΄–¥–Β–Μ―è–Μ–Ψ―¹―¨. –î―É–Φ–Α–Β―²―¹―è, ―ç―²–Η –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η―è –¥–Α–Μ–Η –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤―É –Ϋ–Β–Φ–Α–Μ–Ψ, ―Ö–Ψ―²―è, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²―¨ ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄–Β –Α―²–Α–Κ–Η –Ϋ–Α –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Η–≥–Ψ–Ϋ–Β, –≥–¥–Β –Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨-―Ü–Β–Μ―¨ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Η–Ι, –Η ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥―΄ –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Α―é―²―¹―è ―³–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η.
–ù–Ψ ―Ä–Α―¹―¹―΅–Η―²―΄–≤–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –≤–Β―¹–Ϋ–Ψ–Ι ―É –Ϋ–Α―¹ –Ω–Ψ―è–≤–Η―²―¹―è –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ–Η–≥–Ψ–Ϋ, –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨: –±–Μ–Η–Ζ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Α –Η –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Α, –±–Μ–Ψ–Κ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤―Ä–Α–≥–Ψ–Φ, –¥–Μ―è –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Φ–Β―¹―²–Α. ¬Ϊ–û–Ε–Η–≤–Η–Μ–Η¬Μ –±–Α―à–Ϋ―é –Η –Ϋ–Α–Μ–Α–¥–Η–Μ–Η –¦–£–ü –Θ–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –≤–≤–Β―¹―²–Η –≤ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Β –Η –Β―â―ë –Ψ–¥–Η–Ϋ ―²―Ä–Β–Ϋ–Α–Ε―ë―Ä ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –¥―Ä―É–≥–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η―è, βÄî –≤–Ψ–¥–Ψ–Μ–Α–Ζ–Ϋ―É―é –±–Α―à–Ϋ―é, ―²–Α–Κ–Ε–Β –≤―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à―É―é –≤ –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―¹ –Θ―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²―Ä―è–¥–Α –Ω–Ψ–¥–Ω–Μ–Α–≤–Α, –Η –Ω―Ä–Β–¥–Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–≤―à―É―é―¹―è –¥–Μ―è –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η–Ι –Ω–Ψ –≤―΄―Ö–Ψ–¥―É ―¹ 18-–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―΄ ―¹ –Η–Ϋ–¥–Η–≤–Η–¥―É–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ ―¹–Ω–Α―¹–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Η–±–Ψ―Ä–Ψ–Φ. –½–¥–Β―¹―¨ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω―Ä–Η–Ψ–±―Ä–Β―²–Α–Μ–Η –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄–Β –¥–Μ―è ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α–≤―΄–Κ–Η, ―É–Φ–Β–Ϋ–Η–Β ―Ä–Β–≥―É–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤ –≤–Ψ–¥–Β, –Ω–Ψ–¥ –¥–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ, ―¹–≤–Ψ―ë –¥―΄―Ö–Α–Ϋ–Η–Β. –£―΄―Ä–Α–±–Α―²―΄–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Μ―é–¥–Η –Ϋ–Α –Ζ–Α―²–Ψ–Ϋ―É–≤―à–Β–Ι –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Β ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Β –Ψ–±―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ–±―Ä–Β―΅–Β–Ϋ―΄, –Β―¹–Μ–Η –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Β ―Ä–Α―¹―²–Β―Ä―è―é―²―¹―è –Η –±―É–¥―É―² –Ζ–Ϋ–Α―²―¨, –Κ–Α–Κ –Η–Φ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨.
–· ―É–Ε–Β ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ, –Κ–Α–Κ ―¹–Ω–Α―¹–Μ–Η―¹―¨, –≤―΄–Ι–¥―è ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ―²―Ä―É–±―É ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Α–Ω–Ω–Α―Ä–Α―²–Α, ―²―Ä–Ψ–Β –Φ―É–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Η ―É–Φ–Β–Μ―΄―Ö –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤ –Η–Ζ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Γ-11. –ü–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―΄–Ι ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι –Η–Φ–Β–Μ –Φ–Β―¹―²–Ψ –Η –≤–Ψ 2-–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Β. –ü–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –±―΄–Μ–Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Α –Ϋ–Α―à–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –€-94. –Δ―Ä–Ψ–Η―Ö –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤ –Ω–Ψ–¥–Ψ–±―Ä–Α–Μ–Η –≤―¹–Κ–Ψ―Ä–Β. –‰–Ζ –Ψ―¹―²–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è –Ϋ–Β–Ζ–Α―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ψ―²―¹–Β–Κ–Ψ–≤ –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤–Ψ―¹–Β–Φ―¨ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–≤ –≤ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β ―à–Μ―é–Ζ–Α –±–Ψ–Β–≤―É―é ―Ä―É–±–Κ―É. –£–Ψ―à–Μ–Η –≤ –Ϋ–Β―ë, –Β―â―ë ―¹―É―Ö―É―é, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ, –Ζ–Α–¥―Ä–Α–Η–≤ –Ϋ–Η–Ε–Ϋ–Η–Ι –Μ―é–Κ, –Ζ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Μ–Η ―Ä―É–±–Κ―É –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι –Η –Ψ―²–Κ―Ä―΄–Μ–Η –≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Η–Ι –Μ―é–Κ.
–‰–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –£.–Γ.–®–Η–Μ―è–Β–≤, ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–≤―à–Η–Ι –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄, ―¹―É–Φ–Β–Μ –¥–Α–Ε–Β –Ω–Β―Ä–Β–¥ ―ç―²–Η–Φ –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―²―Ä–Β–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –¥–≤―É―Ö –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ―³–Μ–Ψ―²―Ü–Β–≤, –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―΄―Ö ―¹ –Η–Ϋ–¥–Η–≤–Η–¥―É–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ ―¹–Ω–Α―¹–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Η–±–Ψ―Ä–Ψ–Φ, –¥–Α–Μ –Η–Φ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ψ―²―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ –¥―΄―Ö–Α–Ϋ–Η–Β –≤ –Φ–Α―¹–Κ–Β. –£―¹–Β―Ö –Η―Ö –Ω–Ψ–¥–Ψ–±―Ä–Α–Μ –Κ–Α―²–Β―Ä ―¹ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –î–Α–≥–Ψ. –ü–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ–Α –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –ë–Ψ―Ä–Η―¹ –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Β–≤–Η―΅ –ê–Ϋ–¥―Ä―é–Κ–Δ–Α–Κ–Η–Β ―ç–Ω–Η–Ζ–Ψ–¥―΄ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–Ι –Κ–Α–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η, –≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Α –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Β –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄–Β, ―É–±–Β–¥–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η, ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨ –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ―É –≤–Μ–Α–¥–Β―²―¨ –Ϋ–Α–≤―΄–Κ–Α–Φ–Η –Α–≤–Α―Ä–Η–Ι–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Α ―¹ –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―΄. –ù–Ψ –≤–Ψ–¥–Ψ–Μ–Α–Ζ–Ϋ–Α―è –±–Α―à–Ϋ―è ―¹―²–Ψ―è–Μ–Α –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―¹–Β―Ä–≤–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è, –Ω―Ä–Ψ–Φ―ë―Ä–Ζ―à–Α―è. –Γ–Α–Φ–Α –Φ―΄―¹–Μ―¨ –Ψ–± –Β―ë ―ç–Κ―¹–Ω–Μ―É–Α―²–Α―Ü–Η–Η –≤ ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ–Ψ–Ι –±–Μ–Ψ–Κ–Α–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Ζ–Η–Φ―΄ –Φ–Ψ–≥–Μ–Α –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨―¹―è –Α–±―¹―É―Ä–¥–Ϋ–Ψ–Ι. –≠―²–Ψ –Ϋ–Β ―²―Ä–Β–Ϋ–Α–Ε―ë―Ä ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–±―΄, –Ω–Ψ–¥–¥–Α―é―â–Η–Ι―¹―è –Ω–Β―Ä–Β–Ϋ–Ψ―¹―É –≤ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Β –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η–Β. –ü–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ–Α –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –ë–Ψ―Ä–Η―¹ –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Β–≤–Η―΅ –ê–Ϋ–¥―Ä―é–Κ–Δ–Α–Κ–Η–Β ―ç–Ω–Η–Ζ–Ψ–¥―΄ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–Ι –Κ–Α–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η, –≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Α –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Β –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄–Β, ―É–±–Β–¥–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η, ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨ –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ―É –≤–Μ–Α–¥–Β―²―¨ –Ϋ–Α–≤―΄–Κ–Α–Φ–Η –Α–≤–Α―Ä–Η–Ι–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Α ―¹ –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―΄. –ù–Ψ –≤–Ψ–¥–Ψ–Μ–Α–Ζ–Ϋ–Α―è –±–Α―à–Ϋ―è ―¹―²–Ψ―è–Μ–Α –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―¹–Β―Ä–≤–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è, –Ω―Ä–Ψ–Φ―ë―Ä–Ζ―à–Α―è. –Γ–Α–Φ–Α –Φ―΄―¹–Μ―¨ –Ψ–± –Β―ë ―ç–Κ―¹–Ω–Μ―É–Α―²–Α―Ü–Η–Η –≤ ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ–Ψ–Ι –±–Μ–Ψ–Κ–Α–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Ζ–Η–Φ―΄ –Φ–Ψ–≥–Μ–Α –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨―¹―è –Α–±―¹―É―Ä–¥–Ϋ–Ψ–Ι. –≠―²–Ψ –Ϋ–Β ―²―Ä–Β–Ϋ–Α–Ε―ë―Ä ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–±―΄, –Ω–Ψ–¥–¥–Α―é―â–Η–Ι―¹―è –Ω–Β―Ä–Β–Ϋ–Ψ―¹―É –≤ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Β –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η–Β.
–‰ –≤―¹―ë –Ε–Β –Φ―΄―¹–Μ―¨ ¬Ϊ–Ψ–Ε–Η–≤–Η―²―¨¬Μ –±–Α―à–Ϋ―é –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Μ–Α ―É –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Α ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ–Α –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –ë–Ψ―Ä–Η―¹–Α –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Β–≤–Η―΅–Α –ê–Ϋ–¥―Ä―é–Κ–Α, –≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è ―É–Ε–Β –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 2-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α. –ü–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ–Α ―³–Μ–Ψ―²–Α, –≤ –≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Η –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Β–¥–Β–Ι―¹―²–≤―É―é―â–Α―è –±–Α―à–Ϋ―è, –Ψ―²–Ϋ―ë―¹―¹―è –Κ –Η–¥–Β–Β –ê–Ϋ–¥―Ä―é–Κ–Α, –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è, –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–Κ–Β–Ω―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η, –Ψ–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –Ζ–Α–Ϋ―è–Μ–Η―¹―¨ –±–Α―à–Ϋ–Β–Ι, –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Ι –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Μ. –ê–Ϋ–¥―Ä―é–Κ ―¹―²–Α–Μ ―É–≥–Ψ–≤–Α―Ä–Η–≤–Α―²―¨ –Φ–Β–Ϋ―è –Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Ϋ–Η–Φ ¬Ϊ–Ψ–±―ä–Β–Κ―²¬Μ. –½–Ϋ–Α―è –ë–Ψ―Ä–Η―¹–Α –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Β–≤–Η―΅–Α, –Κ–Α–Κ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―¹–Β―Ä―¨―ë–Ζ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α, ―è ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η–Μ―¹―è.
–£–Ψ–¥–Ψ–Μ–Α–Ζ–Ϋ–Α―è –±–Α―à–Ϋ―è ―¹ –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ –±–Α―¹―¹–Β–Ι–Ϋ–Ψ–Φ –±―΄–Μ–Α –Ψ–±–Ψ―Ä―É–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Α –≤ –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η–Η –±―΄–≤―à–Β–Ι ―Ü–Β―Ä–Κ–≤–Η ―Ä―è–¥–Ψ–Φ ―¹ –Κ–Α–Ζ–Α―Ä–Φ–Α–Φ–Η –Η –Μ–Α–±–Ψ―Ä–Α―²–Ψ―Ä–Ϋ―΄–Φ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Ψ–Φ –Θ―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²―Ä―è–¥–Α –Ω–Ψ–¥–Ω–Μ–Α–≤–Α. –½–¥–Α–Ϋ–Η–Β –Η–Φ–Β–Μ–Ψ –Α–≤―²–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Ϋ―É―é –Κ–Ψ―²–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –Φ―΄ –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Ψ–≤ –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η―²―¨ –≥–Ψ―Ä―é―΅–Η–Φ. –ê ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ―ç–Ϋ–Β―Ä–≥–Η―é –ê–Ϋ–¥―Ä―é–Κ, –Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è, ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–Μ―¹―è –±―Ä–Α―²―¨ –Ψ―² –Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Α–Κ–Κ―É–Φ―É–Μ―è―²–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –±–Α―²–Α―Ä–Β–Η, –Η–Φ–Β–≤―à–Β–Ι―¹―è –≤ ―¹–Ψ―¹–Β–¥–Ϋ–Β–Φ –Μ–Α–±–Ψ―Ä–Α―²–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Β –Θ–û–ü–ü. –¦―ë–≥–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Ψ–Μ–Α–Ζ–Ϋ–Α―è –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –≤ –±–Α―¹―¹–Β–Ι–Ϋ–Β –≤–Ψ–¥–Ψ–Μ–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–Ι –±–Α―à–Ϋ–Η –ö–Θ–û–ü–ü–Θ–¥–Ψ―¹―²–Ψ–≤–Β―Ä–Η–≤―à–Η―¹―¨, ―΅―²–Ψ –±–Α―²–Α―Ä–Β―è –Ϋ–Η–Κ―É–¥–Α –Ϋ–Β –¥–Β–≤–Α–Μ–Α―¹―¨, –Κ–Α–Κ –Η –¥–≤–Η–≥–Α―²–Β–Μ―¨, ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ―΄–Ι –Β―ë –Ζ–Α―Ä―è–Ε–Α―²―¨, –Η ―΅―²–Ψ, –Ω–Ψ-–≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ–Φ―É, –Η―¹–Ω―Ä–Α–≤–Ϋ–Α –Ϋ–Α―¹–Ψ―¹–Ϋ–Α―è ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―è –≤–Ψ–¥–Ψ–Μ–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–Ι –±–Α―à–Ϋ–Η, –ê–Ϋ–¥―Ä―é–Κ –Ζ–Α―è–≤–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β –≤–Η–¥–Η―² –Ϋ–Β–Ω―Ä–Β–Ψ–¥–Ψ–Μ–Η–Φ―΄―Ö –Ω―Ä–Β–Ω―è―²―¹―²–≤–Η–Ι –¥–Μ―è –Ω―Ä–Η–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –Β―ë –≤ ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Β–Β ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Β. –û―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ―Ä―É―΅–Η―²―¨ –Β–Φ―É –Ε–Β –Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Β–≥–Ψ –Η–¥–Β–Η, –¥–Α–≤ –Ω―Ä–Α–≤–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ψ–±―Ä–Α―²―¨ –Ϋ–Α –Ω–Μ–Α–≤–±–Α–Ζ–Α―Ö –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Ψ–≤ –¥–Μ―è –≤–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –±–Α―à–Ϋ–Η –≤ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Β –Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –Ψ–±―¹–Μ―É–Ε–Η–≤–Α–Ϋ–Η―è. –¦―ë–≥–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Ψ–Μ–Α–Ζ–Ϋ–Α―è –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –≤ –±–Α―¹―¹–Β–Ι–Ϋ–Β –≤–Ψ–¥–Ψ–Μ–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–Ι –±–Α―à–Ϋ–Η –ö–Θ–û–ü–ü–Θ–¥–Ψ―¹―²–Ψ–≤–Β―Ä–Η–≤―à–Η―¹―¨, ―΅―²–Ψ –±–Α―²–Α―Ä–Β―è –Ϋ–Η–Κ―É–¥–Α –Ϋ–Β –¥–Β–≤–Α–Μ–Α―¹―¨, –Κ–Α–Κ –Η –¥–≤–Η–≥–Α―²–Β–Μ―¨, ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ―΄–Ι –Β―ë –Ζ–Α―Ä―è–Ε–Α―²―¨, –Η ―΅―²–Ψ, –Ω–Ψ-–≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ–Φ―É, –Η―¹–Ω―Ä–Α–≤–Ϋ–Α –Ϋ–Α―¹–Ψ―¹–Ϋ–Α―è ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―è –≤–Ψ–¥–Ψ–Μ–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–Ι –±–Α―à–Ϋ–Η, –ê–Ϋ–¥―Ä―é–Κ –Ζ–Α―è–≤–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β –≤–Η–¥–Η―² –Ϋ–Β–Ω―Ä–Β–Ψ–¥–Ψ–Μ–Η–Φ―΄―Ö –Ω―Ä–Β–Ω―è―²―¹―²–≤–Η–Ι –¥–Μ―è –Ω―Ä–Η–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –Β―ë –≤ ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Β–Β ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Β. –û―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ―Ä―É―΅–Η―²―¨ –Β–Φ―É –Ε–Β –Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Β–≥–Ψ –Η–¥–Β–Η, –¥–Α–≤ –Ω―Ä–Α–≤–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ψ–±―Ä–Α―²―¨ –Ϋ–Α –Ω–Μ–Α–≤–±–Α–Ζ–Α―Ö –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Ψ–≤ –¥–Μ―è –≤–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –±–Α―à–Ϋ–Η –≤ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Β –Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –Ψ–±―¹–Μ―É–Ε–Η–≤–Α–Ϋ–Η―è.
–ù–Β –±―É–¥―É ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―²―¨ –Ψ –≤―¹–Β―Ö ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ―¹―²―è―Ö, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –≤―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Η –Ω–Β―Ä–Β–¥ –ê–Ϋ–¥―Ä―é–Κ–Ψ–Φ, –Ϋ–Ψ –≤–Ψ–¥–Ψ–Μ–Α–Ζ–Ϋ–Α―è –±–Α―à–Ϋ―è ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ζ–Α―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Α, –Ω―Ä–Η―΅―ë–Φ –≤―¹―ë –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ–Β –¥–Μ―è ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Ϋ–Ψ ―¹–Η–Μ–Α–Φ–Η –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄. –ü–Ψ–¥ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Α ―³–Μ–Α–≥–Φ–Β―Ö–Α –Β―é ―¹―²–Α–Μ –Ζ–Α–≤–Β–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ–Α –£.–ù.–®–Η–Ϋ–Β–Μ–Β–Ϋ–Κ–Ψ, –≤–Ψ–¥–Ψ–Μ–Α–Ζ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―² ―¹–Ψ ―¹–Ω–Α―¹–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹―É–¥–Ϋ–Α ¬Ϊ–ö–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Α¬Μ, –Ω―Ä–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―à–Β–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Β.
–î–Ψ –≤–Β―¹–Ϋ―΄ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –±–Α―à–Ϋ―é ―É―¹–Ω–Β–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ–Ι―²–Η –≤―¹–Β –±–Β–Ζ –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η―è ―΅–Μ–Β–Ϋ―΄ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–≤―à–Η―Ö―¹―è –Κ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Α–Φ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β. –üo―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –±–Α―à–Ϋ–Η –Η –Β―ë –±–Α―¹―¹–Β–Ι–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Ψ ―Ä–Α―¹―à–Η―Ä–Β–Ϋ–Ψ: –Ζ–¥–Β―¹―¨ ―¹―²–Α–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²―¨―¹―è –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η―è, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Μ―ë–≥–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Ψ–Μ–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Ϋ–Α―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Η–Η ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Ψ–¥–Α –Α–≤–Α―Ä–Η–Ι–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄. –î–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Β–Β –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –Ω―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Μ–Η –Ϋ–Β–Φ–Α–Μ―É―é –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É. –ë–Ψ–Β–≤–Α―è –≤―΄―É―΅–Κ–Α –≥–Η–¥―Ä–Ψ–Α–Κ―É―¹―²–Η–Κ–Ψ–≤–½–Η–Φ–Ϋ―è―è ―É―΅―ë–±–Α –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ―³–Μ–Ψ―²―Ü–Β–≤ –Η ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ –Ω–Ψ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β –≤―¹–Β―Ö –Ϋ–Α–Μ–Α–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ ―É ―¹–≤―è–Ζ–Η―¹―²–Ψ–≤. –†–Α–¥–Η―¹―²―΄ –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β –¥―Ä―É–≥–Η―Ö ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Ψ–≤ –±―΄–Μ–Η –Ζ–Α–Ϋ―è―²―΄ ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Ψ–Φ, –Κ ―²―è–Ε―ë–Μ―΄–Φ –Ψ–±―â–Β–Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Φ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–≤–Μ–Β–Κ–Α–Μ–Η―¹―¨. –‰ –Ϋ–Α―à ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι ―¹–≤―è–Ζ–Η―¹―² –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –‰–≤–Α–Ϋ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅ –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–≤ –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–Μ ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –Ω–Ψ ―¹―É―â–Β―¹―²–≤―É –Ϋ–Β –Ψ―²―Ä―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ψ―² ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Ω–Ψ―¹―²–Ψ–≤ –Ω–Ψ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η–Η –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Ι: –≤―¹―é –Ζ–Η–Φ―É ―à–Μ–Η ―É―΅–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ ―¹–≤―è–Ζ–Η –Ϋ–Α –¥–Β–Ι―¹―²–≤―É―é―â–Β–Ι ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Β.
–ù–Ψ ―¹–Α–Φ―΄–Φ –≤–Α–Ε–Ϋ―΄–Φ, ―΅―²–Ψ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ–Η –≤ ―²―É –Ζ–Η–Φ―É ―³–Μ–Α–≥―¹–≤―è–Ζ–Η―¹―² –Η –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –‰.–ï.–½–Α–Μ–Η–Ω–Α–Β–≤, –±―΄–Μ–Α –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―è –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―É―΅―ë–±―΄ –≥–Η–¥―Ä–Ψ–Α–Κ―É―¹―²–Η–Κ–Ψ–≤. –ï–Ι, –Ϋ–Α–¥–Ψ –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α―²―¨, ―É–¥–Β–Μ―è–Μ–Ψ―¹―¨ –¥–Ψ –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η―è, ―Ö–Ψ―²―è ―à―É–Φ–Ψ–Ω–Β–Μ–Β–Ϋ–≥–Α―²–Ψ―Ä–Ϋ―΄–Β ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Ϋ–Α―à–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö –Β―â―ë –≤ ―¹–Β―Ä–Β–¥–Η–Ϋ–Β ―²―Ä–Η–¥―Ü–Α―²―΄―Ö –≥–Ψ–¥–Ψ–≤. –‰.–ï.–½–Α–Μ–Η–Ω–Α–Β–≤–€–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄, –Ω―Ä–Η–≤―΄–Κ–Ϋ―É–≤ –¥–Ψ–≤–Β―Ä―è―²―¨ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω―É, –≤–Η–¥–Β–Μ–Η –≤ –≥–Η–¥―Ä–Ψ–Α–Κ―É―¹―²–Η–Κ–Β –Μ–Η―à―¨ –Ϋ–Β―΅―²–Ψ –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Η –Ϋ–Β –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –±–Β―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Η–Μ–Η―¹―¨, ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Μ–Η –Ϋ–Α―²―Ä–Β–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ –Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι –≥–Η–¥―Ä–Ψ–Α–Κ―É―¹―²–Η–Κ. –‰.–ï.–½–Α–Μ–Η–Ω–Α–Β–≤–€–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄, –Ω―Ä–Η–≤―΄–Κ–Ϋ―É–≤ –¥–Ψ–≤–Β―Ä―è―²―¨ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω―É, –≤–Η–¥–Β–Μ–Η –≤ –≥–Η–¥―Ä–Ψ–Α–Κ―É―¹―²–Η–Κ–Β –Μ–Η―à―¨ –Ϋ–Β―΅―²–Ψ –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Η –Ϋ–Β –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –±–Β―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Η–Μ–Η―¹―¨, ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Μ–Η –Ϋ–Α―²―Ä–Β–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ –Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι –≥–Η–¥―Ä–Ψ–Α–Κ―É―¹―²–Η–Κ.
–ü–Β―Ä–≤–Ψ–Β –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Μ–Β―²–Ψ –Ζ–Α―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Ψ –Ω–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨ –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ –Η–Ϋ–Α―΅–Β. –Θ –Ϋ–Α―¹ –Β―â―ë –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄―Ö –Α―²–Α–Κ –±–Β–Ζ –≤–Η–Ζ―É–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η―è ―Ü–Β–Μ–Η –Ω–Ψ –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –≥–Η–¥―Ä–Ψ–Α–Κ―É―¹―²–Η–Κ–Η. –ü―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ϋ–Η –Ψ–¥–Η–Ϋ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ϋ–Β –±―΄–Μ –Κ ―ç―²–Ψ–Φ―É –≥–Ψ―²–Ψ–≤. –ù–Ψ, –Ω–Ψ–Ε–Α–Μ―É–Ι, ―É–Ε–Β –≤―¹–Β ―¹―²–Α–Μ–Η –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ ―²–Α–Κ–Η–Β –Α―²–Α–Κ–Η –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄. –£―¹–Β–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Β –±―΄–Μ–Η –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄ –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä―΄ ―²–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Α–Κ –Φ–Α―¹―²–Β―Ä―¹―²–≤–Ψ –Α–Κ―É―¹―²–Η–Κ–Α –Η ―É–Φ–Β–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨ –Β–≥–Ψ –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Φ―É ―É―¹–Ω–Β―Ö―É –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Η–Μ–Η ―É–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é –Ψ―² –≤―Ä–Α–Ε–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É–¥–Α―Ä–Α. –‰.–ê.–ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–≤–ë―É–¥―¨ ―Ö―É–Ε–Β –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ –Α–Κ―É―¹―²–Η–Κ –Ϋ–Α –©-307, –Β―ë –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α ―¹ –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Ψ–Ι, –Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―è ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ, –Φ–Ψ–≥–Μ–Α –±―΄ –Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η―²―¨―¹―è ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Η–Ϋ–Α―΅–Β. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι ¬Ϊ–©―É–Κ–Η¬Μ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ―É 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ê–±―Ä–Ψ―¹–Η–Φ–Ψ–≤―É –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΄ –Α–Κ―É―¹―²–Η–Κ–Α –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α–Μ–Η –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Η–≤–Α―²―¨ –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ―É, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ –≤ –≤–Β―¹―¨–Φ–Α ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η. –û–± ―ç―²–Ψ–Φ ―ç–Ω–Η–Ζ–Ψ–¥–Β ―²–Ψ–Ε–Β ―É–Ε–Β ―à–Μ–Α ―Ä–Β―΅―¨ –≤―΄―à–Β. –‰.–ê.–ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–≤–ë―É–¥―¨ ―Ö―É–Ε–Β –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ –Α–Κ―É―¹―²–Η–Κ –Ϋ–Α –©-307, –Β―ë –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α ―¹ –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Ψ–Ι, –Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―è ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ, –Φ–Ψ–≥–Μ–Α –±―΄ –Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η―²―¨―¹―è ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Η–Ϋ–Α―΅–Β. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι ¬Ϊ–©―É–Κ–Η¬Μ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ―É 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ê–±―Ä–Ψ―¹–Η–Φ–Ψ–≤―É –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΄ –Α–Κ―É―¹―²–Η–Κ–Α –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α–Μ–Η –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Η–≤–Α―²―¨ –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ―É, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ –≤ –≤–Β―¹―¨–Φ–Α ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η. –û–± ―ç―²–Ψ–Φ ―ç–Ω–Η–Ζ–Ψ–¥–Β ―²–Ψ–Ε–Β ―É–Ε–Β ―à–Μ–Α ―Ä–Β―΅―¨ –≤―΄―à–Β.
–ù–Ψ –Κ–≤–Α–Μ–Η―³–Η–Κ–Α―Ü–Η―è –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Ϋ―¹―²–≤–Α –≥–Η–¥―Ä–Ψ–Α–Κ―É―¹―²–Η–Κ–Ψ–≤ ―É–¥–Ψ–≤–Μ–Β―²–≤–Ψ―Ä―è―²―¨ –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Α. –‰ –≤–Ψ―² –≤ ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö –±–Μ–Ψ–Κ–Α–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Ζ–Η–Φ―΄ ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–≤―΄―¹–Η―²―¨ ―É―Ä–Ψ–≤–Β–Ϋ―¨ –Η―Ö –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η –Ω–Ψ ―¹―Ä–Α–≤–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é ―¹ –Φ–Η―Ä–Ϋ―΄–Φ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Β–Φ. –ù–Α ¬Ϊ–‰―Ä―²―΄―à–Β¬Μ –Ψ–±–Ψ―Ä―É–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Η ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄–Ι –Κ–Α–±–Η–Ϋ–Β―², –Η–Φ–Β–≤―à–Η–Ι –¥–≤–Β ―à―É–Φ–Ψ–Ω–Β–Μ–Β–Ϋ–≥–Α―²–Ψ―Ä–Ϋ―΄–Β ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η –Η ―É―¹―²―Ä–Ψ–Ι―¹―²–≤–Α, –≤–Ψ―¹–Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥―è―â–Η–Β ―à―É–Φ―΄, ―¹–≤–Ψ–Ι―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö –Κ–Μ–Α―¹―¹–Ψ–≤. –Δ–Α–Κ–Ψ–Ι –Ε–Β –≥–Η–¥―Ä–Ψ–Α–Κ―É―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―¹ ―¹–Φ–Ψ–Ϋ―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η –≤ –Κ–Α–±–Η–Ϋ–Β―²–Β ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–±―΄ –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ–Ι –±–Α–Ζ–Β, ―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –¥–Α–Ε–Β –≤ –Θ―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ―²―Ä―è–¥–Β –Ω–Ψ–¥–Ω–Μ–Α–≤–Α, –Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ ―¹–Φ–Ψ–≥–Μ–Η ―²–Α–Φ ―É―΅–Η―²―¨―¹―è –≤―΄―Ö–Ψ–¥―É –≤ –Α―²–Α–Κ―É –Ω–Ψ –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Α–Κ―É―¹―²–Η–Κ–Η. –™–Η–¥―Ä–Ψ–Α–Κ―É―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Κ–Α–±–Η–Ϋ–Β―² –Ϋ–Α ¬Ϊ–‰―Ä―²―΄―à–Β¬Μ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –Μ–Η―à―¨ ―¹–Ψ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ―΄ –Ζ–Η–Φ―΄, –Ϋ–Ψ, –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –±–Ψ–Β–≤―΄–Β –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥―΄, –≤―΄―É―΅–Κ–Α –Α–Κ―É―¹―²–Η–Κ–Ψ–≤ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Ψ―¹–Μ–Α –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ψ―â―É―²–Η–Φ–Ψ.
–Γ ―³–Β–≤―Ä–Α–Μ―è –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ–Α –Ω–Μ–Α–Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä –±–Ψ–Β–≤–Α―è –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –≤―¹–Β―Ö ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι. –ù–Α –Ϋ–Β―ë ―¹―²–Α–Μ–Η –Ψ―²–≤–Ψ–¥–Η―²―¨―¹―è –¥–≤–Α –¥–Ϋ―è –≤ –Ϋ–Β–¥–Β–Μ―é, –Α –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Β. –≠―²–Ψ –Ζ–Α–≤–Η―¹–Β–Μ–Ψ –Ψ―² ―²–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Ψ–¥–≤–Η–≥–Α–Μ―¹―è ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―². –Θ―΅―ë–±–Α –Ω–Ψ―²–Β―¹–Ϋ–Η–Μ–Α –Β–≥–Ψ –≤ –Ϋ–Β–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ ―Ä–Α―¹–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η–Η, –Η, –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―², ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Β―â―ë –Η–Ϋ―²–Β–Ϋ―¹–Η–≤–Ϋ–Β–Β. –¦―é–¥–Η ―ç―²–Ψ ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–≤–Α–Μ–Η.
–û–±―â–Β–Β ―¹―²―Ä–Β–Φ–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Κ–Α–Κ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Μ―É―΅―à–Β –Η –≤ ―¹―Ä–Ψ–Κ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²―¨ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –Κ –≤―΄―Ö–Ψ–¥―É –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Ω―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Ψ –≤―¹―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄. –€–Ϋ–Β –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è, ―¹–Α–Φ–Α –Φ―΄―¹–Μ―¨ –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Κ–Α–Κ–Η–Β-―²–Ψ –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α –Φ–Ψ–≥―É―² ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ–Φ–Β―à–Α―²―¨, –Ϋ–Β ―É–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Η ―É –Κ–Ψ–≥–Ψ –≤ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Β. –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –Φ–Ψ–≥―É―² –≤―¹―ëβÄΠ –ö ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²―É –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ–Η―¹―²–Η–Ϋ–Β ―¹–Α–Φ–Ψ–Ψ―²–≤–Β―Ä–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Α ―Ä–Β―à–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨ ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ ―¹–Α–Φ–Η–Φ –Η ―²–Ψ, ―΅–Β–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β –Ϋ–Β –¥–Β–Μ–Α–Μ–Η, –Ϋ–Β ―É–Φ–Β–Μ–Η.
–ù–Α –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ―è―²―¨ –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≥―Ä–Β–±–Ϋ―΄–Β –≤–Η–Ϋ―²―΄. –û–±―΄―΅–Ϋ–Ψ ―ç―²―É ―Ä–Α–±–Ψ―²―É –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η –≤ ―¹―É―Ö–Ψ–Φ –¥–Ψ–Κ–Β. –ù–Ψ –Β―¹–Μ–Η –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β –¥–Ψ–Κ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –Ϋ–Β –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è –Μ–Η ―¹–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨ –Η ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –≤–Η–Ϋ―²―΄ –Ω–Ψ–¥ –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι? –Δ–Α–Κ–Ψ–Ι –Φ―΄―¹–Μ―¨―é –Ζ–Α–≥–Ψ―Ä–Β–Μ―¹―è –Μ―É―΅―à–Η–Ι –≤–Ψ–¥–Ψ–Μ–Α–Ζ –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Α–≤–Α―Ä–Η–Ι–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Α―Ä―²–Η–Η –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ–Α –°―Ä–Κ–Β–≤–Η―΅. –û–Ϋ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Μ –Ω―Ä–Η―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Μ–Β–Ϋ–Η–Β, –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ–Η–≤―à–Β–Β –Η–¥–Β―é –Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Η―²―¨. –‰–Ϋ–Η―Ü–Η–Α―²–Η–≤―É –°―Ä–Κ–Β–≤–Η―΅–Α –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ–Η, –Η –≤–Η–Ϋ―²―΄ –±―΄–Μ–Η ―¹–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ―΄ –±–Β–Ζ –Ω–Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Η –≤ –¥–Ψ–Κ –Ϋ–Α –≤–Ψ―¹–Β–Φ–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²–Η –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö!
–£ –±–Μ–Ψ–Κ–Α–¥–Ϋ–Ψ–Φ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β –Ϋ–Β–Κ―É–¥–Α ―¹―²–Α–Μ–Ψ ―¹–¥–Α–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Α ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―² –Η–Ζ–Φ–Β―Ä–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Η–±–Ψ―Ä―΄, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö –Φ–Ϋ–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ, –Η –Ψ–Ϋ–Η –≤–Β―¹―¨–Φ–Α ―΅–Α―¹―²–Ψ –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ψ―² ―¹–Ψ―²―Ä―è―¹–Β–Ϋ–Η–Ι –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Α –Ω―Ä–Η ―Ä–Α–Ζ―Ä―΄–≤–Α―Ö –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –±–Ψ–Φ–±. –ù–Ψ –Η ―ç―²―É –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ―É ―Ä–Β―à–Η–Μ–Η. –†–Β–Φ–Ψ–Ϋ―² –Η ―Ä–Β–≥―É–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Κ―É –Φ–Α–Ϋ–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤, ―²–Α―Ö–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤, ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ–Η–Ζ–Φ–Β―Ä–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Η–±–Ψ―Ä–Ψ–≤ –Ψ―¹–≤–Ψ–Η–Μ–Η –≤ –Φ–Α―¹―²–Β―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Μ–Α–≤–±–Α–Ζ –Ω–Ψ–¥ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―Ä–Α–Ζ―΄―¹–Κ–Α–Μ–Η –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β.
–†–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Η―Ä―É―è ―¹–≤–Ψ–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η, –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Η –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨ –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ –Α–≤–Α―Ä–Η–Ι–Ϋ―΄–Φ ―¹–Μ―É–Ε–±–Α–Φ, –£ ―è–Ϋ–≤–Α―Ä–Β –≤―΄―à–Μ–Α –Η–Ζ ―¹―²―Ä–Ψ―è –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ―è―è ―²―É―Ä–±–Η–Ϋ–Α ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–¥–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η, –Β―â―ë –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–≤–Α–≤―à–Β–Ι –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι –Κ–Α–Κ―É―é-―²–Ψ ―΅–Α―¹―²―¨ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α. –™–Ψ―Ä–Κ–Ψ–Φ –Ω–Α―Ä―²–Η–Η –Ψ–±―Ä–Α―²–Η–Μ―¹―è ―¹ –Ω―Ä–Ψ―¹―¨–±–Ψ–Ι –Ψ–± ―ç–Κ―¹―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Η –Κ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Α–Φ. –‰–Ζ ―à―²–Α–±–Α ―³–Μ–Ψ―²–Α –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Ϋ–Η–Μ–Η –Ϋ–Α–Φ:
βÄî –£―΄―Ä―É―΅–Α–Ι―²–Β –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥. –™–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―², –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –≤―¹―ë –Φ–Ψ–≥―É―²...
–ë―΄–Μ –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è―² ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –ö-56, ―É–Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―²–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Φ–Η ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Α–Φ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η–Φ–Η –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―²–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Α –¥–Ψ―¹―²―Ä–Α–Η–≤–Α–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –™.–ê.–™–Ψ–Μ―¨–¥–±–Β―Ä–≥ –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ–Η–Μ –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ζ–Α–¥–Α―΅―É: –≤–≤–Β―¹―²–Η –≤ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Β –Ψ―²–Κ–Α–Ζ–Α–≤―à―É―é –Ϋ–Α ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ―É, –≤–Ψ―¹―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¨ –≤–Ψ–¥–Ψ―¹–Ϋ–Α–±–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―²–Β―Ö –¥–Ψ–Φ–Ψ–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Β―â―ë –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Η–Φ –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è. –€–Ψ―Ä―è–Κ–Η –Ω―Ä–Ψ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Η 66 ―΅–Α―¹–Ψ–≤ –Ω–Ψ―΅―²–Η –±–Β–Ζ –Ψ―²–¥―΄―Ö–Α –Η –≤–≤–Β–Μ–Η ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―é –≤ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Β, –Ϋ–Β –¥–Α–≤ ―¹―²–Ψ―è–≤―à–Β–Ι ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ε–Β―¹―²–Ψ–Κ–Ψ–Ι ―¹―²―É–Ε–Β –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Β―ë ―¹–Κ–Ψ–≤–Α―²―¨.
–†–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Ψ–Φ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä―΄ ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η, –Ϋ–Ψ ―É–¥–Α―Ä–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Η–Μ–Ψ–Ι –Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Μ―è–≤―à–Β–Ι –Β–≥–Ψ –≤ ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Β–Ι―à–Η―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö, –±―΄–Μ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Α.
–™―Ä–Η–≥–Ψ―Ä–Η―è –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅–Α –™–Ψ–Μ―¨–¥–±–Β―Ä–≥–Α ―è –Ζ–Ϋ–Α–Μ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ–Β―². –ë―΄–≤–Α–Μ―΄–Ι –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –Η–Ζ –Γ–Ψ–≤―²–Ψ―Ä–≥―³–Μ–Ψ―²–Α, –Ψ–Ϋ, –Κ–Α–Κ –Η –Ϋ–Β–Φ–Α–Μ–Ψ –Β–≥–Ψ ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Β–Ι, –≤ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β ―²―Ä–Η–¥―Ü–Α―²―΄―Ö –≥–Ψ–¥–Ψ–≤ ―¹―²–Α–Μ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–Φ –Η, –Ω―Ä–Ψ–Ι–¥―è –Ω–Β―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ―É, ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ ¬Ϊ–©―É–Κ¬Μ 5-–Ι –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –≤–Ψ–Ζ–≥–Μ–Α–≤–Μ―è–Μ –™.–ù.–Ξ–Ψ–Μ–Ψ―¹―²―è–Κ–Ψ–≤.
–£ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Β –Ϋ–Β–Ψ–±–Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Β–Ω―Ä–Β―¹―¹–Η–Ι 1937βÄ™1938 –≥–Ψ–¥–Ψ–≤ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –™.–ê.–™–Ψ–Μ―¨–¥–±–Β―Ä–≥ –±―΄–Μ –Α―Ä–Β―¹―²–Ψ–≤–Α–Ϋ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Ε–Β–Ϋ–Ψ–Ι –ö―¹–Β–Ϋ–Η–Β–Ι –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Β–≤–Ϋ–Ψ–Ι, –¥–Ψ―΅–Β―Ä―¨―é –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è –¦―É―Ö–Φ–Α–Ϋ–Ψ–≤–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Α –≤―¹―è ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Α. –½–Α –≥–Ψ–¥ –¥–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –™–Ψ–Μ―¨–¥–±–Β―Ä–≥–Α –Η –Β–≥–Ψ –Ε–Β–Ϋ―É –Ψ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Η –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é ―Ä–Β–Α–±–Η–Μ–Η―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―΅–Β–≥–Ψ –Ψ–Ϋ –Η –≤―¹―²―É–Ω–Η–Μ –≤ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ ―¹―²―Ä–Ψ–Η–≤―à–Η―Ö―¹―è –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ. –£–Ψ–¥–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―è –Η –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Α―è –≤–Ψ–¥–Ψ–Ϋ–Α–Ω–Ψ―Ä–Ϋ–Α―è –±–Α―à–Ϋ―è –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Α (―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤–Η–¥)–î–Ψ–±–Α–≤–Μ―é, ―΅―²–Ψ –≤ –Φ–Α―Ä―²–Β 1942 –≥–Ψ–¥–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Μ–Α –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨ –Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α 3-–≥–Ψ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α, ―è ―Ä–Β–Κ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ –Ϋ–Α ―ç―²―É –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –™―Ä–Η–≥–Ψ―Ä–Η―è –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅–Α –™–Ψ–Μ―¨–¥–±–Β―Ä–≥–Α, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α–Η–±–Ψ–Μ–Β–Β –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄―Ö –Κ–Α–Ϋ–¥–Η–¥–Α―²–Ψ–≤, –Ψ–±–Μ–Α–¥–Α―é―â–Β–≥–Ψ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Φ–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―¹–Κ–Η–Φ–Η –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Α–Φ–Η –Η –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―é―â–Β–≥–Ψ ¬Ϊ–©―É–Κ–Η¬Μ, –Η–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ. –£―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥―ë–Ϋ –≤ ―ç―²–Ψ–Ι –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Ψ–Φ –Ϋ–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ–Α ―¹ –Ω―Ä–Η―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 2-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α. –ö–Α–¥―Ä–Ψ–≤―΄–Β –Ω–Β―Ä–Β―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Η –£ ―¹–Β―Ä–Β–¥–Η–Ϋ–Β –Ζ–Η–Φ―΄ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Η –Ω–Β―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ―΄ –Η –≤ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄, –Α ―¹–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α βÄî –≤ ―à―²–Α–±–Β. –£–Ψ–¥–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―è –Η –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Α―è –≤–Ψ–¥–Ψ–Ϋ–Α–Ω–Ψ―Ä–Ϋ–Α―è –±–Α―à–Ϋ―è –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Α (―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤–Η–¥)–î–Ψ–±–Α–≤–Μ―é, ―΅―²–Ψ –≤ –Φ–Α―Ä―²–Β 1942 –≥–Ψ–¥–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Μ–Α –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨ –Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α 3-–≥–Ψ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α, ―è ―Ä–Β–Κ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ –Ϋ–Α ―ç―²―É –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –™―Ä–Η–≥–Ψ―Ä–Η―è –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅–Α –™–Ψ–Μ―¨–¥–±–Β―Ä–≥–Α, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α–Η–±–Ψ–Μ–Β–Β –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄―Ö –Κ–Α–Ϋ–¥–Η–¥–Α―²–Ψ–≤, –Ψ–±–Μ–Α–¥–Α―é―â–Β–≥–Ψ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Φ–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―¹–Κ–Η–Φ–Η –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Α–Φ–Η –Η –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―é―â–Β–≥–Ψ ¬Ϊ–©―É–Κ–Η¬Μ, –Η–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ. –£―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥―ë–Ϋ –≤ ―ç―²–Ψ–Ι –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Ψ–Φ –Ϋ–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ–Α ―¹ –Ω―Ä–Η―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 2-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α. –ö–Α–¥―Ä–Ψ–≤―΄–Β –Ω–Β―Ä–Β―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Η –£ ―¹–Β―Ä–Β–¥–Η–Ϋ–Β –Ζ–Η–Φ―΄ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Η –Ω–Β―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ―΄ –Η –≤ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄, –Α ―¹–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α βÄî –≤ ―à―²–Α–±–Β.
–ö–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ù.–Γ.–‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Β–Φ―É –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―΄–Ι –î–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Ι –£–Ψ―¹―²–Ψ–Κ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Ψ―²–¥–Β–Μ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è ―à―²–Α–±–Α –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α.
–ù–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Φ–Κ–Ψ–Φ–±―Ä–Η–≥–Α –Κ –Ϋ–Α–Φ –Ϋ–Β –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–Μ–Η.
–· –Ε–Β, ―É–Ε–Β –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–≤―à–Η–Ι –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Α―΅―à―²–Α–±–Α –Ψ–±―ä–Β–¥–Η–Ϋ―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ –¥–≤―É―Ö –Φ–Β―¹―è―Ü–Β–≤, –±―΄–Μ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ ―à―²–Α–±–Α –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Ψ–Φ –Ϋ–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ–Α. –£―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –Φ–Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ψ –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 1-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α.
–ù–Α –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―è –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α ―à―²–Α–±–Α –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η―è –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η –™–Β―Ä–Ψ–Ι –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 2-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –Λ.–™.–£–Β―Ä―à–Η–Ϋ–Η–Ϋ, ―¹―²–Α―Ä―΄–Ι –±–Α–Μ―²–Η–Β―Ü, –Ψ―²–Μ–Η―΅–Η–≤―à–Η–Ι―¹―è –≤ ―³–Η–Ϋ―¹–Κ―É―é –Κ–Α–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η―é, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Ψ–Ι –©-311, –≤―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Β–Ι –Η ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –Ϋ–Α―à–Β–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –ö-56 –™―Ä–Η–≥–Ψ―Ä–Η–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅ –™–Ψ–Μ―¨–¥–±–Β―Ä–≥–ù–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –Δ―Ä–Η–Ω–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Η–Ι –Ζ–Ϋ–Α–Μ –Η–Μ–Η –¥–Ψ–≥–Α–¥―΄–≤–Α–Μ―¹―è, ―΅―²–Ψ –Η –Β–≥–Ψ –Ε–¥―ë―² –Ω–Β―Ä–Β–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ ―¹–Μ―É–Ε–±–Β. –ù–Α―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Ϋ–Β –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, ―É ―¹―²–Α―Ä―à–Η―Ö –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ϋ–Β –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Α–Μ–Ψ –Ψ―¹–Ψ–±―΄―Ö –Ω―Ä–Β―²–Β–Ϋ–Ζ–Η–Ι –Κ –Ϋ–Β–Φ―É –Ζ–Α –Ϋ–Β–¥–Ψ–Μ–≥–Ψ–Β –Β–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Ψ–Ι. –ù–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É-–Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ―É, –¥–Α–Ε–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ–Ψ–Φ―É –Η –≤–Ψ–Μ–Β–≤–Ψ–Φ―É, –±―΄–Μ–Ψ –±―΄ –≤―¹―ë-―²–Α–Κ–Η ―¹–Μ–Η―à–Κ–Ψ–Φ ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤–Ψ–Ζ–Ψ–±–Ϋ–Ψ–≤―è―²―¹―è –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ―΄–Β –±–Ψ–Β–≤―΄–Β –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –Ϋ–Α –Φ–Ψ―Ä–Β, –≤–Ψ–Ζ–≥–Μ–Α–≤–Μ―è―²―¨ ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β, –≤–Ψ–±―Ä–Α–≤―à–Β–Β –≤ ―¹–Β–±―è –≤―¹–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β ―¹–Η–Μ―΄ –ë–Α–Μ―²―³–Μ–Ψ―²–Α. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –ö-56 –™―Ä–Η–≥–Ψ―Ä–Η–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅ –™–Ψ–Μ―¨–¥–±–Β―Ä–≥–ù–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –Δ―Ä–Η–Ω–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Η–Ι –Ζ–Ϋ–Α–Μ –Η–Μ–Η –¥–Ψ–≥–Α–¥―΄–≤–Α–Μ―¹―è, ―΅―²–Ψ –Η –Β–≥–Ψ –Ε–¥―ë―² –Ω–Β―Ä–Β–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ ―¹–Μ―É–Ε–±–Β. –ù–Α―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Ϋ–Β –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, ―É ―¹―²–Α―Ä―à–Η―Ö –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ϋ–Β –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Α–Μ–Ψ –Ψ―¹–Ψ–±―΄―Ö –Ω―Ä–Β―²–Β–Ϋ–Ζ–Η–Ι –Κ –Ϋ–Β–Φ―É –Ζ–Α –Ϋ–Β–¥–Ψ–Μ–≥–Ψ–Β –Β–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Ψ–Ι. –ù–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É-–Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ―É, –¥–Α–Ε–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ–Ψ–Φ―É –Η –≤–Ψ–Μ–Β–≤–Ψ–Φ―É, –±―΄–Μ–Ψ –±―΄ –≤―¹―ë-―²–Α–Κ–Η ―¹–Μ–Η―à–Κ–Ψ–Φ ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤–Ψ–Ζ–Ψ–±–Ϋ–Ψ–≤―è―²―¹―è –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ―΄–Β –±–Ψ–Β–≤―΄–Β –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –Ϋ–Α –Φ–Ψ―Ä–Β, –≤–Ψ–Ζ–≥–Μ–Α–≤–Μ―è―²―¨ ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β, –≤–Ψ–±―Ä–Α–≤―à–Β–Β –≤ ―¹–Β–±―è –≤―¹–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β ―¹–Η–Μ―΄ –ë–Α–Μ―²―³–Μ–Ψ―²–Α.
–£ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β –Φ–Α―Ä―²–Α –™–Β―Ä–Ψ–Ι –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 2-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ê.–£.–Δ―Ä–Η–Ω–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Η–Ι –±―΄–Μ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α –Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Ϋ–Α –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι ―³–Μ–Ψ―². –Δ–Α–Φ –Ϋ–Β ―à–Μ–Α –Ω–Ψ–Κ–Α –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Α, –Ϋ–Ψ ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Β–Ψ―¹–Μ–Α–±–Ϋ–Α―è –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Κ –Ϋ–Β–Ι, –Η –Φ–Ψ–≥ –Ω―Ä–Η–≥–Ψ–¥–Η―²―¨―¹―è –Β–≥–Ψ –±–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι –Ψ–Ω―΄―². –ê –Ω–Ψ–Μ–≥–Ψ–¥–Α ―¹–Ω―É―¹―²―è –Δ―Ä–Η–Ω–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ―Ä―É―΅–Η–Μ–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ –±–Β―¹–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –¥–≤–Α –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Α –Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä–Β–Ι. –û–±–Ψ–≥–Ϋ―É–≤ –Ω–Ψ–Μ–Φ–Η―Ä–Α, –Ψ–Ϋ–Η –≤–Ψ―à–Μ–Η –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –¥–Β–Ι―¹―²–≤―É―é―â–Β–≥–Ψ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α. –Δ–Α–Φ, –Ϋ–Α –ë–Α―Ä–Β–Ϋ―Ü–Β–≤–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β, –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ–Α―¹―¨ –±–Ψ–Β–≤–Α―è –±–Η–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―è –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Α –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Α.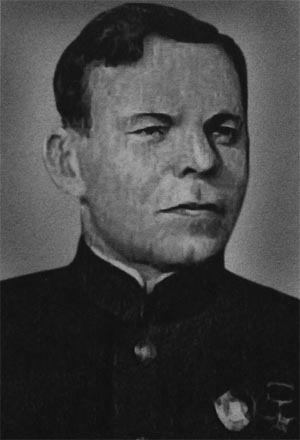 –½–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―¨ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α ―à―²–Α–±–Α –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Λ―ë–¥–Ψ―Ä –™―Ä–Η–≥–Ψ―Ä―¨–Β–≤–Η―΅ –£–Β―Ä―à–Η–Ϋ–Η–Ϋ–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –Ϋ–Α―à–Β–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ ―¹―²–Α–Μ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Ι –€–Η―²―Ä–Ψ―³–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –Γ―²–Β―Ü–Β–Ϋ–Κ–Ψ, –¥–Ψ ―²–Ψ–≥–Ψ βÄî –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –Ψ―²–¥–Β–Μ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è ―à―²–Α–±–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α, –Φ–Ψ–Ι ―¹–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η–≤–Β―Ü –Β―â―ë –Ω–Ψ –ß―ë―Ä–Ϋ–Ψ–Φ―É –Φ–Ψ―Ä―é, –Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Ω–Ψ –î–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Φ―É –£–Ψ―¹―²–Ψ–Κ―É. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ ―¹ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ –Ψ–Ω―΄―²–Ψ–Φ –Η –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–Ι –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ-―²–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Ψ–Ι, –≤–¥―É–Φ―΅–Η–≤―΄–Ι –Η –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ―΄–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ. –½–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―¨ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α ―à―²–Α–±–Α –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Λ―ë–¥–Ψ―Ä –™―Ä–Η–≥–Ψ―Ä―¨–Β–≤–Η―΅ –£–Β―Ä―à–Η–Ϋ–Η–Ϋ–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –Ϋ–Α―à–Β–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ ―¹―²–Α–Μ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Ι –€–Η―²―Ä–Ψ―³–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –Γ―²–Β―Ü–Β–Ϋ–Κ–Ψ, –¥–Ψ ―²–Ψ–≥–Ψ βÄî –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –Ψ―²–¥–Β–Μ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è ―à―²–Α–±–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α, –Φ–Ψ–Ι ―¹–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η–≤–Β―Ü –Β―â―ë –Ω–Ψ –ß―ë―Ä–Ϋ–Ψ–Φ―É –Φ–Ψ―Ä―é, –Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Ω–Ψ –î–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Φ―É –£–Ψ―¹―²–Ψ–Κ―É. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ ―¹ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ –Ψ–Ω―΄―²–Ψ–Φ –Η –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–Ι –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ-―²–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Ψ–Ι, –≤–¥―É–Φ―΅–Η–≤―΄–Ι –Η –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ―΄–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ.
–ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Ι –€–Η―²―Ä–Ψ―³–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –Ω―Ä–Η―à―ë–Μ –≤―¹―²―É–Ω–Α―²―¨ –≤ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Ψ–Ι –±–Μ–Β–¥–Ϋ―΄–Ι, –Ω–Ψ―Ö―É–¥–Β–≤―à–Η–Ι ―²–Α–Κ, ―΅―²–Ψ –Κ–Η―²–Β–Μ―¨ –Ϋ–Α –Ϋ―ë–Φ –Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è ―¹–Ϋ―è―²―΄–Φ ―¹ –Κ–Ψ–≥–Ψ-―²–Ψ –¥―Ä―É–≥–Ψ–≥–Ψ. –‰ –Ϋ–Β―É–¥–Η–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ: ―à―²–Α–± ―³–Μ–Ψ―²–Α ―¹–Η–¥–Β–Μ –≤ ―²―É –Ζ–Η–Φ―É –Ϋ–Α ―¹–Κ―É–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Α–Ι–Κ–Β, ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –¥–Μ―è –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤―΄―Ö ―É―΅―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Ι. –†–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Η –≤ ―à―²–Α–±–Β –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Α –Ε–Η–Μ–Η –≥–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ–Ψ, –±–Β–Ζ –≤―¹―è–Κ–Η―Ö ―É–¥–Ψ–±―¹―²–≤. –· ―΅–Α―¹―²–Ψ –±―΄–≤–Α–Μ ―²–Α–Φ ―É –Γ―²–Β―Ü–Β–Ϋ–Κ–Ψ –Ω–Ψ –¥–Β–Μ–Α–Φ –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄. –£ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Η–Ζ ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η–Ι –Ζ–¥–Α–Ϋ–Η―è –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η ―¹―²–Ψ―è–Μ–Η ―΅–Β―²―΄―Ä–Β ―¹―²–Ψ–Μ–Α –Η ―΅–Β―²―΄―Ä–Β –Κ–Ψ–Ι–Κ–Η, –Ω–Β―΅―É―Ä–Κ–Α-–≤―Ä–Β–Φ―è–Ϋ–Κ–Α ―¹ ―²―Ä―É–±–Ψ–Ι, –≤―΄–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ―³–Ψ―Ä―²–Ψ―΅–Κ―É, –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ –Ψ–±–Ψ–≥―Ä–Β–≤–Α–Μ–Α –Α―É–¥–Η―²–Ψ―Ä–Η―é ―¹ –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η–Φ –Ω–Ψ―²–Ψ–Μ–Κ–Ψ–Φ. –®―²–Α–±–Η―¹―²―΄ –Ϋ–Α–Κ–Η–¥―΄–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –Ω–Μ–Β―΅–Η ―à–Η–Ϋ–Β–Μ–Η, –¥―΄―à–Α–Μ–Η –Ϋ–Α ―¹―²―΄–Ϋ―É―â–Η–Β –Ω–Α–Μ―¨―Ü―΄ ―Ä―É–Κ. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –ö–ë–Λ –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Ι –€–Η―²―Ä–Ψ―³–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –Γ―²–Β―Ü–Β–Ϋ–Κ–Ψ–ù–Α ¬Ϊ–‰―Ä―²―΄―à–Β¬Μ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–±―Ä–Η–≥–Α –Ε–¥–Α–Μ–Α –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ ―²―ë–Ω–Μ–Α―è (–Κ–Α–Κ –Η –≤―¹–Β –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β) ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Α―è –Κ–Α―é―²–Α. –ù–Ψ –Ϋ–Β―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ ―Ä–Α–¥–Ψ–≤–Α–Μ –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥ –Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é ―Ä–Α–±–Ψ―²―É, –≥–¥–Β –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ―É ―Ä–Β―à–Α―²―¨ –Η –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨, –Α –Ϋ–Β –±―΄―²―¨, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Β–Ε–Ϋ–Β–Ι –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Μ–Η―à―¨ –Κ–Ψ–Ϋ―¹―É–Μ―¨―²–Α–Ϋ―²–Ψ–Φ –¥–Μ―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä―è―é―â–Η–Φ –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è―Ö. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –ö–ë–Λ –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Ι –€–Η―²―Ä–Ψ―³–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –Γ―²–Β―Ü–Β–Ϋ–Κ–Ψ–ù–Α ¬Ϊ–‰―Ä―²―΄―à–Β¬Μ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–±―Ä–Η–≥–Α –Ε–¥–Α–Μ–Α –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ ―²―ë–Ω–Μ–Α―è (–Κ–Α–Κ –Η –≤―¹–Β –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β) ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Α―è –Κ–Α―é―²–Α. –ù–Ψ –Ϋ–Β―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ ―Ä–Α–¥–Ψ–≤–Α–Μ –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥ –Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é ―Ä–Α–±–Ψ―²―É, –≥–¥–Β –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ―É ―Ä–Β―à–Α―²―¨ –Η –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨, –Α –Ϋ–Β –±―΄―²―¨, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Β–Ε–Ϋ–Β–Ι –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Μ–Η―à―¨ –Κ–Ψ–Ϋ―¹―É–Μ―¨―²–Α–Ϋ―²–Ψ–Φ –¥–Μ―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä―è―é―â–Η–Φ –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è―Ö.
–£―¹–Μ–Β–¥ –Ζ–Α –Κ–Ψ–Φ–±―Ä–Η–≥–Ψ–Φ –±―΄–Μ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Ι –≤–Ψ–Β–Ϋ–Κ–Ψ–Φ –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Α―Ä –‰.–ê.–†―΄–≤―΅–Η–Ϋ. –û–Ϋ –≤–Ψ–Ζ–≥–Μ–Α–≤–Μ―è–Μ –¥–Ψ ―²–Ψ–≥–Ψ –Ψ―Ä–≥–Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―²–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Ι –Ψ―²–¥–Β–Μ –ü―É–±–Α–Μ―²–Α, –Ϋ–Ψ ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β –±―΄–Μ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Ψ―²–¥–Β–Μ–Α –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Ϋ–Α –Γ–Β–≤–Β―Ä–Β, ―²–Α–Κ ―΅―²–Ψ ―¹–Μ―É–Ε–±―É –≤ –Ω–Ψ–¥–Ω–Μ–Α–≤–Β –Ζ–Ϋ–Α–Μ. –ß–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ ―²–Β–Φ–Ω–Β―Ä–Α–Φ–Β–Ϋ―²–Ϋ―΄–Ι, –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι, –†―΄–≤―΅–Η–Ϋ –≤ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ι –Ε–Β –±–Β―¹–Β–¥–Β ―¹ –Κ–Ψ–Φ–±―Ä–Η–≥–Ψ–Φ –Η –Φ–Ϋ–Ψ―é ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ζ–Α–¥–Α―΅–Β–Ι ―¹―΅–Η―²–Α–Β―² –Ω–Ψ–≤―΄―à–Β–Ϋ–Η–Β –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –≤ –±―É–¥―É―â–Β–Ι –Κ–Α–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η –Η –±―É–¥–Β―² –≤―¹–Β–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ –¥–Ψ–±–Η–≤–Α―²―¨―¹―è ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ψ―² –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ. –£–Ψ–Β–Ϋ–Κ–Ψ–Φ –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –‰.–ê.–†―΄–≤―΅–Η–Ϋ.–Γ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ –†―΄–≤―΅–Η–Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α –≤ ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η ―¹―²–Α–Μ–Α –±–Ψ–Μ–Β–Β ―Ü–Β–Μ–Β―É―¹―²―Ä–Β–Φ–Μ―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι. –ê –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Κ–Ψ–Φ–Α –Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Ψ―²–¥–Β–Μ–Α –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Β –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ–Η―¹―¨, –Κ–Α–Κ ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β, –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ –Μ–Η―Ü–Ψ–Φ. –£–Ψ–Β–Ϋ–Κ–Ψ–Φ –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –‰.–ê.–†―΄–≤―΅–Η–Ϋ.–Γ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ –†―΄–≤―΅–Η–Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α –≤ ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η ―¹―²–Α–Μ–Α –±–Ψ–Μ–Β–Β ―Ü–Β–Μ–Β―É―¹―²―Ä–Β–Φ–Μ―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι. –ê –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Κ–Ψ–Φ–Α –Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Ψ―²–¥–Β–Μ–Α –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Β –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ–Η―¹―¨, –Κ–Α–Κ ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β, –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ –Μ–Η―Ü–Ψ–Φ.
–ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Ψ―²–¥–Β–Μ–Α –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–Μ–Η –Ω–Β―Ä–Β–≤–Β–¥―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ –½–Α–Ω–Ψ–Μ―è―Ä―¨―è, –Ϋ–Ψ –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β-―²–Ψ ―¹―²–Α―Ä–Ψ–≥–Ψ –±–Α–Μ―²–Η–Ι―Ü–Α, –¥–Ψ–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Κ–Ψ–Φ–Α ¬Ϊ–‰―Ä―²―΄―à–Α¬Μ –Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Α―Ä–Α –€.–ï.–ö–Α–±–Α–Ϋ–Ψ–≤–Α. –ù–Α –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Β –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Α―Ä–Ψ–Φ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α ¬Ϊ–€–Α–Μ―é―²–Ψ–Κ¬Μ, ―É–Ε–Β –Η–Φ–Β–≤―à–Β–≥–Ψ –≤–Ϋ―É―à–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―¹―΅―ë―².
–€–Η―Ö–Α–Η–Μ –ï―³–Η–Φ–Ψ–≤–Η―΅ –ö–Α–±–Α–Ϋ–Ψ–≤ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –Ε–Η–≤―΄–Φ, –Ψ–±―â–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ, –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–Ε–Β–Μ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Η –¥–Ψ―¹―²―É–Ω–Ϋ―΄–Φ –¥–Μ―è –≤―¹–Β―Ö ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Φ. –ù–Α–Φ –¥–Ψ–≤–Β–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹–Μ―É–Ε–Η―²―¨ –≤–Φ–Β―¹―²–Β –Ω–Ψ―΅―²–Η –¥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Α –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄, –Η ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Η –≥–Ψ–¥―΄, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―à―²–Α–± –Η –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Ψ―²–¥–Β–Μ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Η –≤ –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―²–Β―¹–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Ϋ―²–Α–Κ―²–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Μ―¹―è –Κ–Α–Κ-―²–Ψ ―¹–Α–Φ ―¹–Ψ–±–Ψ―é, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤ –Ϋ―ë–Φ, –Φ–Ϋ–Β –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è, –±―΄–Μ–Α –Ψ–±–Ψ―é–¥–Ϋ–Ψ–Ι. –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―²
26.03.201400:1426.03.2014 00:14:13
0
26.03.201400:0426.03.2014 00:04:24
–ü―Ä–Η–Β―Ö–Α–Μ –Η–Ζ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –Ψ―²–Β―Ü, –≤―΄―¹–Μ―É―à–Α–Μ –¥–Β–¥–Α –Η –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –Β–Φ―É –Μ–Β―΅―¨ –≤ –≥–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ―¨.
βÄî –ï―¹–Μ–Η –±―΄ –Ϋ–Α–¥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Φ–Β–Ϋ―è –Ψ–Ω–Β―Ä–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨,βÄî –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α–Ζ–Η–Μ –¥–Β–¥,βÄî ―è –±―΄ –±–Β–Ζ ―Ä–Α–Ζ–¥―É–Φ–Η–Ι –Ω–Ψ–Β―Ö–Α–Μ, –Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Μ–Β–Ε–Α―²―¨ ―è –Φ–Ψ–≥―É –Η –Ζ–¥–Β―¹―¨, –≥–Μ―è–¥―è –Ϋ–Α –Φ–Ψ―Ä–Β.
–î–Α, –Φ–Ψ―Ä–Β –Ω―Ä―è–Φ–Ψ –Ω–Ψ–¥ –Ψ–Κ–Ϋ–Α–Φ–Η, –Η –¥–Β–¥ –Φ–Ψ–Ε–Β―² –≤–Η–¥–Β―²―¨ –Β–≥–Ψ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Β–Φ―É –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–Ε–Α―² –Ω–Ψ–¥ ―¹–Ω–Η–Ϋ―É –Ω–Ψ–¥―É―à–Κ–Η. –‰ –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Α –Ω–Μ–Β―â–Β―²―¹―è –Η ―à―É–Φ–Η―², –¥–Α–Β―² –Ψ ―¹–Β–±–Β –Ζ–Ϋ–Α―²―¨ –¥–Ϋ–Β–Φ –Η –Ϋ–Ψ―΅―¨―é.
–û―²–Β―Ü ―É–Β―Ö–Α–Μ βÄî ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö; –Ψ–Ϋ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –±–Α–±–Β –ù–Η–Κ–Β, ―΅―²–Ψ –¥–Β–Μ–Α―²―¨.
–‰–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –¥–Β–¥ –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ –Ζ–Α–¥―΄―Ö–Α―²―¨―¹―è, –Η ―²–Ψ–≥–¥–Α –±–Α–±–Α –ù–Η–Κ–Α –¥–Β–Μ–Α–Μ–Α –Β–Φ―É ―É–Κ–Ψ–Μ –≤ ―Ä―É–Κ―É. –û–Ϋ –Ζ–Α―¹―΄–Ω–Α–Μ.
–· ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ ―¹–Ω–Μ―é –≤ –Κ–Α–±–Η–Ϋ–Β―²–Β, –Ω―Ä–Η―¹–Μ―É―à–Η–≤–Α―è―¹―¨ –Κ –Ω―Ä–Β―Ä―΄–≤–Η―¹―²–Ψ–Φ―É –¥―΄―Ö–Α–Ϋ–Η―é –¥–Β–¥–Α. –· –Ϋ–Β ―Ö–Ψ―΅―É, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ψ–Ϋ ―É–Φ–Η―Ä–Α–Μ. –· ―Ö–Ψ―΅―É, ―΅―²–Ψ–±―΄ –¥–Β–¥ –Φ–Ψ–Ι –Ε–Η–Μ –≤–Β―΅–Ϋ–Ψ. –ù–Β―É–Ε–Β–Μ–Η ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι, –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ, ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –Φ–Ψ―Ä―è–Κ –¥–Ψ –Φ–Ψ–Ζ–≥–Α –Κ–Ψ―¹―²–Β–Ι, –Ϋ–Β –Ω–Ψ–±–Ψ―Ä–Β―² –±–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Η?
–ü―Ä–Ψ―¹―΄–Ω–Α―è―¹―¨, –Ψ–Ϋ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²:
βÄî –€–Α–Κ―¹–Η–Φ, –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Η –Φ–Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è―²―¨―¹―è.
–‰–Μ–Η –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―²―¹―è ―¹–Α–Φ, –Ψ–Ω–Η―Ä–Α―è―¹―¨ –Ϋ–Α –‰–Ϋ–≥―Ä–Η–¥ (–Ψ–Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―² –Β–Φ―É ―¹–≤–Ψ―é –Κ―Ä–Β–Ω–Κ―É―é ―¹–Ω–Η–Ϋ―É), –Η –Η–¥–Β―² –Ω–Η―²―¨ ―΅–Α–Ι –Ϋ–Α ―²–Β―Ä―Ä–Α―¹―É.
–û–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ ―É―²―Ä–Ψ–Φ –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ―¹―è –±–Β–Ζ ―΅―¨–Β–Ι-–Μ–Η–±–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Η. –†–Α―¹–Κ―Ä―΄–Μ –Ψ–Κ–Ϋ–Ψ, –Ω–Ψ–¥―΄―à–Α–Μ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Φ –≤–Β―²–Β―Ä–Κ–Ψ–Φ. –Γ–Ψ–Μ–Ϋ―Ü–Β ―¹–≤–Β―²–Η–Μ–Ψ ―²–Α–Κ ―è―Ä–Κ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Φ–Ψ―Ä–Β –Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ–≥–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Ε–Β–Μ―²―΄–Φ. –‰ –¥–Β–¥ –Ω–Ψ―â―É–Ω–Α–Μ ―¹–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–±–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ψ–Κ, –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–Μ ―Ä―É–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ –Ζ–Α―Ä–Ψ―¹―à–Η–Φ ―â–Β–Κ–Α–Φ –Η –Ω–Ψ–Ζ–≤–Α–Μ –±–Α–±―É –ù–Η–Κ―É:
βÄî –ê –Ϋ―É-–Κ–Α, –¥–Α–Ι –Φ–Ϋ–Β, –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Α―è, –Ω–Ψ–±―Ä–Η―²―¨―¹―è!
–ë–Α–±–Α –ù–Η–Κ–Α –≤―¹–Ω–Μ–Β―¹–Ϋ―É–Μ–Α ―Ä―É–Κ–Α–Φ–Η, –Α―Ö–Ϋ―É–Μ–Α –Η –Ω–Ψ–±–Β–Ε–Α–Μ–Α –≥―Ä–Β―²―¨ –≤–Ψ–¥―É. –û―²–Κ―É–¥–Α –Ω―Ä―΄―²―¨ –≤–Ζ―è–Μ–Α―¹―¨ ―É ―¹―²–Α―Ä―É―à–Κ–Η! –î–Β–¥ ―¹–Β–Μ –Κ ―¹―²–Ψ–Μ―É –Η –Ω–Ψ–±―Ä–Η–Μ―¹―è, –Ψ–¥–Β–Μ―¹―è ―²–Α–Κ ―²―â–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –±―É–¥―²–Ψ –Ε–¥–Α–Μ –Κ–Ψ–≥–Ψ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –≤ –≥–Ψ―¹―²–Η, ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Μ –≤―¹–Β –Ω–Ψ―Ä–Ψ―à–Κ–Η, –Ω―É–Ζ―΄―Ä―¨–Κ–Η –Η –Ψ―²–Ϋ–Β―¹ –Η―Ö –≤ –Ω–Ψ–Φ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ–Β –≤–Β–¥―Ä–Ψ.  βÄî –ù–Α–Μ–Β–Ι-–Κ–Α –Φ–Ϋ–Β, –ù–Η–Κ–Α, ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ! βÄî –ù–Α–Μ–Β–Ι-–Κ–Α –Φ–Ϋ–Β, –ù–Η–Κ–Α, ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ !
βÄî –ê –Ϋ–Β –≤―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ ―²–Β–±–Β? βÄî ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Α ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Ϋ–Ψ –±–Α–±–Κ–Α.
βÄî –ù–Η―΅–Β–≥–Ψ –Φ–Ϋ–Β –Ϋ–Β –≤―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ. –£–Η–¥–Ϋ–Ψ, ―Ä–Α–Ϋ–Ψ –Β―â–Β –Κ–Ψ–Ϋ―Ü―΄ –Ψ―²–¥–Α–≤–Α―²―¨... –€–Α–Κ―¹–Η–Φ, –Ω–Ψ–Ι–¥–Β–Φ –≤ ―¹–Α–¥.
–‰–Ϋ–≥―Ä–Η–¥ –Ψ―² ―¹―΅–Α―¹―²―¨―è –Ζ–Α–Ω―Ä―΄–≥–Α–Μ–Α, –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Β –≤–Β―¹–Β–Μ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨.
–ü―Ä–Η–Β―Ö–Α–Μ –≤―Ä–Α―΅ (–Β–≥–Ψ –Η–Μ–Η –≤―΄–Ζ–≤–Α–Μ–Α –±–Α–±–Κ–Α, –Η–Μ–Η –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –Ω―Ä–Η–Β―Ö–Α―²―¨ –Ψ―²–Β―Ü) –Η, –≤―΄―¹–Μ―É―à–Α–≤ –Η –≤―΄―¹―²―É–Κ–Α–≤ –¥–Β–¥–Α, ―Ä―É–Κ–Α–Φ–Η ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–Μ:
βÄî –ù―É –Η –Φ–Ψ–≥―É―΅–Η–Ι ―É –≤–Α―¹, –€–Α–Κ―¹–Η–Φ –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅, –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ! –î–Β–¥ ―É―¹–Φ–Β―Ö–Ϋ―É–Μ―¹―è.
βÄî –Γ–Ψ–±―Ä–Α–Μ ―è, –Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ, –≤―¹―é –≤–Ψ–Μ―é –≤ –Κ―É–Μ–Α–Κ –Η ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ: ¬Ϊ–ù–Α–¥–Ψ –Ε–Η―²―¨! –ù–Β –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è―²―¨ –Ε–Β –Φ–Ϋ–Β –≤–¥–Ψ–≤–Ψ–Ι –ù–Η–Κ―É¬Μ. –ï―â–Β –Ω–Ψ–±–Α―Ä–Α―Ö―²–Α–Β–Φ―¹―è...
–ù–Α –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –¥–Β–¥ ―¹–Η–¥–Β–Μ –Ζ–Α ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–Φ –Η –Ω–Η―¹–Α–Μ.
–€–Ϋ–Β –±―΄ ―²–Α–Κ―É―é –Η–Φ–Β―²―¨ ―¹–Η–Μ―É –≤–Ψ–Μ–Η! ***–€―΄ –Ψ―²–Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Ψ–≤–Α–Μ–Η –¥–Β–Ϋ―¨ ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –¥–Β–¥–Α, –Η –£–Α–¥–Η–Φ –Ζ–Α–Κ–Α―²–Η–Μ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―³–Β–Ι–Β―Ä–≤–Β―Ä–Κ, ―΅―²–Ψ ―¹–±–Β–Ε–Α–Μ―¹―è –≤–Β―¹―¨ –ö–Η–≤–Η―Ä–Α–Ϋ–¥ (–Ϋ–Β–¥–Α―Ä–Ψ–Φ –£–Α–¥–Η–Φ –Ω―Ä–Ψ–Ω–Α–¥–Α–Μ –≤ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Β ―Ü–Β–Μ―É―é –Ϋ–Β–¥–Β–Μ―é). –û–≥–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ζ–≤–Β–Ζ–¥―΄ –Φ–Β―Ä―Ü–Α–Μ–Η –Ϋ–Α–¥ –Φ–Ψ―Ä–Β–Φ, –Η –‰–Ϋ–≥―Ä–Η–¥ –Μ–Α―è–Μ–Α –Ϋ–Α –Ϋ–Η―Ö, –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α―è –Ζ–Α –Ω―²–Η―Ü.
–‰ –Ψ–Ω―è―²―¨ –Ω―Ä–Η–Β–Ζ–Ε–Α–Μ –¥―è–¥―è –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Ι –≤ ―ç―²–Ψ―² –¥–Β–Ϋ―¨ –Η ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ, –Κ–Α–Κ –Ζ–Α –Φ–Β―²–Κ–Η–Β ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ―΄–Β ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–±―΄ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Β –Β–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Β―¹–Μ–Η –Ε–Α―Ä–Β–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―Ä–Ψ―¹–Β–Ϋ–Κ–Α. –ï―â–Β –≤ –≤–Ψ–Ι–Ϋ―É –±―΄–Μ ―É –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι –Ψ–±―΄―΅–Α–Ι: –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Η–≤ –≤―Ä–Α–Ε–Β―¹–Κ–Η–Ι ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―², –Ψ–Ϋ–Η ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Α–Μ–Η –Ω–Ψ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ –Ψ –Ω–Ψ–±–Β–¥–Β. –‰ –≤ –±–Α–Ζ–Β ―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ –Ε–Α―Ä–Η–Μ–Η –Ω–Ψ―Ä–Ψ―¹–Β–Ϋ–Κ–Α. –· ―΅–Η―²–Α–Μ –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ –≤ –Κ–Ϋ–Η–≥–Β –Ψ –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Α―Ö; –Η―Ö ―²–Ψ–Ε–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η ―É–≥–Ψ―â–Α–Μ–Η –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥–Ϋ―΄–Φ –Ω–Ψ―Ä–Ψ―¹–Β–Ϋ–Κ–Ψ–Φ. . –ü–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Α –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Η –≤ ―΅–Β―¹―²―¨ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –ö-21, –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Η–≤―à–Β–Ι ―²―Ä–Η –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η―Ö ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Α. –û–±―΄―΅–Α–Ι –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹―²–Ψ–Μ–Α ―¹ –Ω–Ψ―Ä–Ψ―¹―è―²–Α–Φ–Η –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ―¹―è ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Ψ, –Κ–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―², ¬Ϊ―ç–Κ―¹–Ω―Ä–Ψ–Φ―² –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―΄―²―¨ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ¬Μ. –û–Ω―΄―²–Ϋ―΄–Ι –Η –≤–Ϋ–Η–Φ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Κ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ –Ϋ―É–Ε–¥–Α–Φ –Ω–Ψ–Μ–Η―²―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ –ß–Μ–Β–Ϋ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―²–Α –Γ–Λ –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –ê.–ê.–ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤ –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –≤ –Ω–Ψ–¥―¹–Ψ–±–Ϋ–Ψ–Φ ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι―¹―²–≤–Β ―Ä–Α–Ζ–≤–Ψ–¥–Η―²―¨ –Ω–Ψ―Ä–Ψ―¹―è―². –‰–Φ–Η ―Ä–Β―à–Η–Μ–Η –Ω―Ä–Β–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ζ–Α –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―². –ü–Ψ―²–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Α―è –Φ–Ψ–Μ–≤–Α –Ω–Ψ–±–Β–¥–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α–Μ–Ω―΄ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α―é―â–Η―Ö―¹―è –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ ―¹–≤―è–Ζ–Α–Μ–Α ―¹ ―΅–Η―¹–Μ–Ψ–Φ –Ε–Α―Ä–Β–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ―Ä–Ψ―¹―è―². –£–Ψ―² ―²–Α–Κ ―Ä–Ψ–Ε–¥–Α–Μ–Α―¹―¨ ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η―è.–· –≤–Ψ―¹–Κ–Μ–Η–Κ–Ϋ―É–Μ, ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α–≤: . –ü–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Α –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Η –≤ ―΅–Β―¹―²―¨ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –ö-21, –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Η–≤―à–Β–Ι ―²―Ä–Η –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η―Ö ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Α. –û–±―΄―΅–Α–Ι –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹―²–Ψ–Μ–Α ―¹ –Ω–Ψ―Ä–Ψ―¹―è―²–Α–Φ–Η –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ―¹―è ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Ψ, –Κ–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―², ¬Ϊ―ç–Κ―¹–Ω―Ä–Ψ–Φ―² –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―΄―²―¨ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ¬Μ. –û–Ω―΄―²–Ϋ―΄–Ι –Η –≤–Ϋ–Η–Φ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Κ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ –Ϋ―É–Ε–¥–Α–Φ –Ω–Ψ–Μ–Η―²―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ –ß–Μ–Β–Ϋ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―²–Α –Γ–Λ –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –ê.–ê.–ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤ –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –≤ –Ω–Ψ–¥―¹–Ψ–±–Ϋ–Ψ–Φ ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι―¹―²–≤–Β ―Ä–Α–Ζ–≤–Ψ–¥–Η―²―¨ –Ω–Ψ―Ä–Ψ―¹―è―². –‰–Φ–Η ―Ä–Β―à–Η–Μ–Η –Ω―Ä–Β–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ζ–Α –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―². –ü–Ψ―²–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Α―è –Φ–Ψ–Μ–≤–Α –Ω–Ψ–±–Β–¥–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α–Μ–Ω―΄ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α―é―â–Η―Ö―¹―è –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ ―¹–≤―è–Ζ–Α–Μ–Α ―¹ ―΅–Η―¹–Μ–Ψ–Φ –Ε–Α―Ä–Β–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ―Ä–Ψ―¹―è―². –£–Ψ―² ―²–Α–Κ ―Ä–Ψ–Ε–¥–Α–Μ–Α―¹―¨ ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η―è.–· –≤–Ψ―¹–Κ–Μ–Η–Κ–Ϋ―É–Μ, ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α–≤:
βÄî –ë―É–¥―É –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Η–Μ–Η ―Ä–Α–Κ–Β―²―΅–Η–Κ–Ψ–Φ!
–£―¹–Β ―É–Ε–Α―¹–Ϋ–Ψ ―¹–Φ–Β―è–Μ–Η―¹―¨ βÄî –Η –Ω–Α–Ω–Α, –Η –Φ–Α–Φ–Α, –Η –¥–Β–¥; ―è –¥–Α–Ε–Β –Ψ–±–Η–¥–Β–Μ―¹―è βÄî –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ ―¹–Φ–Β―à–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Β–¥―¨ ―è –Ϋ–Β ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, –Ϋ–Β –Ζ–Α –Ω–Ψ―Ä–Ψ―¹–Β–Ϋ–Κ–Α ―è ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α―é―¹―¨ ―¹–Μ―É–Ε–Η―²―¨. –ù–Ψ –Φ–Α–Φ–Α –Ω–Ψ–Ψ–±–Β―â–Α–Μ–Α –≤―΄―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –Ϋ–Α ―¹―²–Ψ–Μ –Ω–Ψ―Ä–Ψ―¹–Β–Ϋ–Κ–Α –≤ ―²–Ψ―² –¥–Β–Ϋ―¨, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―è –Ω–Ψ–Β–¥―É –≤ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Β...***–ù–Α―΅–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Ψ–≤―΄–Ι ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄–Ι –≥–Ψ–¥. –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ζ–Α―Ä–Α–±–Α―²―΄–≤–Α–Ι –Ω―è―²–Β―Ä–Κ–Η, –€–Α–Κ―¹–Η–Φ! –û―¹―²–Β―Ä–Β–≥–Α–Ι―¹―è, –Κ–Α–Κ –Ψ–≥–Ϋ―è, ―΅–Β―²–≤–Β―Ä–Ψ–Κ, –Α ―²–Β–Φ –Ω―É―â–Β ―²―Ä–Ψ–Β–Κ! –ö–Α–Κ –±―΄ ―²–Β–±–Β –Ϋ–Β ―¹–Ψ―Ä–≤–Α―²―¨―¹―è!
–Δ–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι –≥–Ψ–¥ –≤ ―à–Κ–Ψ–Μ–Β, –±–Β–Ζ –≠–Μ–Η–≥–Η―è –®–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Α (–Ψ–Ϋ ―É–Β―Ö–Α–Μ ―¹ –Ψ―²―Ü–Ψ–Φ) –Η –±–Β–Ζ –€–Α―Ä–Η–Ϋ―΄ –Λ–Η–Μ–Η–Ω–Ω–Ψ–≤–Ϋ―΄...
–ö–Α–Κ–Α―è ―²–Ψ–Ϋ–Β–Ϋ―¨–Κ–Α―è –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Α―¹―¨ ―²–Β―²―Ä–Α–¥–Κ–Α! –ê –≤–Β–¥―¨ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹―²―Ä―è―¹–Μ–Ψ―¹―¨ –≤―¹―è–Κ–Ψ–Ι –≤―¹―è―΅–Η–Ϋ―΄! –ù–Ψ ―¹ –Ζ–Α–Ω–Η―¹―è–Φ–Η –Ω―Ä–Η–Κ–Μ―é―΅–Η–Μ–Α―¹―¨ –±–Β–¥–Α.
–½–Η–Φ–Ψ–Ι ―É –‰–Ϋ–≥―Ä–Η–¥ ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ ―â–Β–Ϋ–Κ–Η, –¥–Β―¹―è―²―¨ ―΅–Β―Ä–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ–Φ–Ψ―΅–Κ–Ψ–≤. –û–Ϋ–Η –Ε–Η–Μ–Η –≤ –Κ―É―Ö–Ϋ–Β, –≤ ―è―â–Η–Κ–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―¹–Κ–Ψ–Μ–Ψ―²–Η–Μ –Η–Φ –Ψ―²–Β―Ü. –‰–Ϋ–≥―Ä–Η–¥ –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–Ω―É―¹–Κ–Α–Μ–Α –Κ –Ϋ–Η–Φ –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Ψ. –ö–Ψ–≥–¥–Α ―²–Β―²–Κ–Α –ù–Α―²–Α–Μ―¨―è –Ω–Ψ–Ω―΄―²–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ψ–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ –Ω―Ä–Ψ―²―è–Ϋ―É―²―¨ ―Ä―É–Κ―É –Ζ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ –Η–Ζ –¥–Β―²–Β–Ϋ―΄―à–Β–Ι, –‰–Ϋ–≥―Ä–Η–¥ –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Β –≤–Ζ―ä–Β–Μ–Α―¹―¨ βÄî –Ϋ–Β –¥–Ψ–≤–Β―Ä―è–Β―². –ù–Ψ –Φ–Ϋ–Β –Ψ–Ϋ–Α –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–Μ–Α –Η―Ö –¥–Α–Ε–Β –Η–Ζ ―è―â–Η–Κ–Α –≤―΄–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨ –Η . –ü–Β―Ä–Β–¥ ―²–Β–Φ –Κ–Α–Κ –Η―Ö ―Ä–Ψ–Ζ–¥–Α–Μ–Η, –Ψ–Ϋ–Η ―É–Ε–Β –Ω–Β―Ä–Β–≤–Α–Μ–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ―¹―²–Β–Ϋ–Κ―É ―è―â–Η–Κ–Α, ―à–Μ–Β–Ω–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ –Η ―Ä–Α–Ζ–≥―É–Μ–Η–≤–Α–Μ–Η –Ω–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Ϋ–Α―²–Α–Φ, –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è―è –Ζ–Α ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –Μ―É–Ε–Η―Ü―΄. –û–Ζ–Ψ―Ä–Ϋ–Η―΅–Α–Μ–Η: –≥―Ä―΄–Ζ–Μ–Η –Ω–Β―Ä―΅–Α―²–Κ–Η, –≥–Α–Μ–Ψ―à–Η –Η –Κ–Ϋ–Η–≥–Η, ―¹―²–Α―â–Η–Μ–Η –Ψ–¥–Ϋ―É –Η–Ζ –Φ–Ψ–Η―Ö –Ζ–Α–≤–Β―²–Ϋ―΄―Ö ―²–Β―²―Ä–Α–¥–Β–Ι. –ü–Ψ―Ä–≤–Α–Μ–Η –Η –Η–Ζ–Ε–Β–≤–Α–Μ–Η –Β–Β. –£–Ψ―² –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É –Ψ–Ϋ–Α ―¹―²–Α–Μ–Α ―²–Ψ–Ϋ–Β–Ϋ―¨–Κ–Α―è... –ü–Β―Ä–Β–¥ ―²–Β–Φ –Κ–Α–Κ –Η―Ö ―Ä–Ψ–Ζ–¥–Α–Μ–Η, –Ψ–Ϋ–Η ―É–Ε–Β –Ω–Β―Ä–Β–≤–Α–Μ–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ―¹―²–Β–Ϋ–Κ―É ―è―â–Η–Κ–Α, ―à–Μ–Β–Ω–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ –Η ―Ä–Α–Ζ–≥―É–Μ–Η–≤–Α–Μ–Η –Ω–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Ϋ–Α―²–Α–Φ, –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è―è –Ζ–Α ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –Μ―É–Ε–Η―Ü―΄. –û–Ζ–Ψ―Ä–Ϋ–Η―΅–Α–Μ–Η: –≥―Ä―΄–Ζ–Μ–Η –Ω–Β―Ä―΅–Α―²–Κ–Η, –≥–Α–Μ–Ψ―à–Η –Η –Κ–Ϋ–Η–≥–Η, ―¹―²–Α―â–Η–Μ–Η –Ψ–¥–Ϋ―É –Η–Ζ –Φ–Ψ–Η―Ö –Ζ–Α–≤–Β―²–Ϋ―΄―Ö ―²–Β―²―Ä–Α–¥–Β–Ι. –ü–Ψ―Ä–≤–Α–Μ–Η –Η –Η–Ζ–Ε–Β–≤–Α–Μ–Η –Β–Β. –£–Ψ―² –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É –Ψ–Ϋ–Α ―¹―²–Α–Μ–Α ―²–Ψ–Ϋ–Β–Ϋ―¨–Κ–Α―è...
–½–Α–Ω–Η―¹―΄–≤–Α―²―¨ ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α? –Γ–Κ―É―΅–Ϋ–Ψ–Β ―ç―²–Ψ –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η–Β. –£―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―²―¨ –Ω–Ψ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ―É ―Ä–Α–Ζ―É –Ϋ–Β –±―É–¥―É.
–ö–Ψ–≥–¥–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–≥–Ψ ―â–Β–Ϋ–Κ–Α –Ψ―²–¥–Α–Μ–Η –Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ ―Ö–Ψ–Ζ―è–Β–≤–Α–Φ, –‰–Ϋ–≥―Ä–Η–¥ –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –Η―¹–Κ–Α–Μ–Α –Β–≥–Ψ, ―¹–Ψ–≤–Α–Μ–Α –Φ–Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥ ―Ä―É–Κ―É ―É―à–Η, –Ζ–Α–≥–Μ―è–¥―΄–≤–Α–Μ–Α –≤ –≥–Μ–Α–Ζ–Α, –Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Α –Ω–Ψ–Φ–Ψ―΅―¨. –ü–Ψ–≥–Ψ―Ä–Β–≤–Α–≤, –Ψ–Ϋ–Α –Ϋ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü ―É―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Η–Μ–Α―¹―¨ –Η ―¹―²–Α–Μ–Α ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α ―Ä–Β–Ζ–≤–Η―²―¨―¹―è, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―è –Ω–Ψ–≤–Β–Μ –Β–Β –≤ –ö–Α–¥―Ä–Η–Ψ―Ä–≥. –Δ–Α–Φ –Φ―΄ –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ–Η –ö–Α―Ä–Η–Ϋ―É –Η –¦–Α―Ä―¹–Β–Ϋ–Α. –Θ–ï–½–•–ê–° –ü―Ä–Η―à–Μ–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Φ–Ϋ–Β ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α―²―¨―¹―è –≤ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Β. –û–Μ–Β–Ε–Κ–Α ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η ―²―Ä–Ψ–Ι–Κ–Α–Φ–Η –±–Β–Ζ–Ϋ–Α–¥–Β–Ε–Ϋ–Ψ –Ψ―¹―²–Α–Μ―¹―è –Ζ–Α –±–Ψ―Ä―²–Ψ–Φ, –Α –Ϋ–Α―¹ ―¹ –£–Α–¥–Η–Φ–Ψ–Φ –Κ –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η―è–Φ –¥–Ψ–Ω―É―¹―²–Η–Μ–Η.
βÄî –Γ―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤―Ü―΄! βÄî –Ζ–Α–≤–Η–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Α–Φ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ–Μ–Α―¹―¹–Ϋ–Η–Κ–Η.
–ê –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Ψ―Ä –Ω–Ψ–Ε–Β–Μ–Α–Μ –Ϋ–Α–Φ ―É―¹–Ω–Β―Ö–Α –Η ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –±―É–¥–Β―² ―Ä–Α–¥ ―É–≤–Η–¥–Β―²―¨ –Ϋ–Α―¹ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Α–Φ–Η.
–Δ―è–Ε–Β–Μ–Ψ ―É–Β–Ζ–Ε–Α―²―¨ –Η–Ζ ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ–Φ–Α βÄî –¥–Α–Ε–Β ―²―É–¥–Α, –Κ―É–¥–Α ―²–Β–±–Β ―Ö–Ψ―΅–Β―²―¹―è. –€–Α–Φ–Α –Ω–Μ–Α―΅–Β―², –Η ―è –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―é –Β–Ι:
βÄî –ù–Β –Ω–Μ–Α―΅―¨,βÄî –Ϋ–Ψ –Φ–Ϋ–Β ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ―É ―Ä–Β–≤–Β―²―¨ ―Ö–Ψ―΅–Β―²―¹―è.
–ê –Ψ―²–Β―Ü... –Ψ–Ϋ ―²–Β―Ä–Β–±–Η―² ―¹–≤–Ψ–Η ―É―¹–Η–Κ–Η. –½–Ϋ–Α―΅–Η―², ―Ä–Α―¹―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ. –· –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ―¹―è ―É–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α―²―¨ ―΅–Β–Φ–Ψ–¥–Α–Ϋ. –‰–Ϋ–≥―Ä–Η–¥ ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Η―² ―É–Φ–Ψ–Μ―è―é―â–Η–Φ–Η : ¬Ϊ–ù–Β―É–Ε–Β–Μ–Η –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Β –≤–Ψ–Ζ―¨–Φ–Β―à―¨?¬Μ βÄî ¬Ϊ–ù–Β –≤–Ψ–Ζ―¨–Φ―É¬Μ.βÄî ¬Ϊ–ö–Α–Κ –Ε–Β ―è –±–Β–Ζ ―²–Β–±―è? –ö―²–Ψ –±―É–¥–Β―² –Η–≥―Ä–Α―²―¨ ―¹–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–Ι –≤ –Φ―è―΅–Η–Κ, –Κ―²–Ψ ―É–≥–Ψ―¹―²–Η―² –Φ–Β–Ϋ―è –≤–Κ―É―¹–Ϋ–Β–Ϋ―¨–Κ–Η–Φ, –Κ―²–Ψ ―¹–Κ–Α–Ε–Β―², ―΅―²–Ψ ―É –Φ–Β–Ϋ―è –≤―¹–Β –Ϋ–Α –Φ–Β―¹―²–Β βÄî ―É―à–Η –Η –Ϋ–Ψ―¹, ―Ö–≤–Ψ―¹―² –Η –≥–Μ–Α–Ζ–Κ–Η?¬Μ –€–Ϋ–Β –Ε–Α–Μ―¨ –Β–Β. –†–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Η ―Ü–Β–Μ―΄–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –Ϋ–Α ―Ä–Α–±–Ψ―²–Β. –Δ–Β―²–Κ–Α –ù–Α―²–Α–Μ―¨―è ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α, ―΅―²–Ψ –Β–Β –Ϋ–Α–¥–Ψ ―¹–¥–Α―²―¨ –≤ –Ω–Η―²–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Κ. –· –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ―¹―è ―É–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α―²―¨ ―΅–Β–Φ–Ψ–¥–Α–Ϋ. –‰–Ϋ–≥―Ä–Η–¥ ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Η―² ―É–Φ–Ψ–Μ―è―é―â–Η–Φ–Η : ¬Ϊ–ù–Β―É–Ε–Β–Μ–Η –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Β –≤–Ψ–Ζ―¨–Φ–Β―à―¨?¬Μ βÄî ¬Ϊ–ù–Β –≤–Ψ–Ζ―¨–Φ―É¬Μ.βÄî ¬Ϊ–ö–Α–Κ –Ε–Β ―è –±–Β–Ζ ―²–Β–±―è? –ö―²–Ψ –±―É–¥–Β―² –Η–≥―Ä–Α―²―¨ ―¹–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–Ι –≤ –Φ―è―΅–Η–Κ, –Κ―²–Ψ ―É–≥–Ψ―¹―²–Η―² –Φ–Β–Ϋ―è –≤–Κ―É―¹–Ϋ–Β–Ϋ―¨–Κ–Η–Φ, –Κ―²–Ψ ―¹–Κ–Α–Ε–Β―², ―΅―²–Ψ ―É –Φ–Β–Ϋ―è –≤―¹–Β –Ϋ–Α –Φ–Β―¹―²–Β βÄî ―É―à–Η –Η –Ϋ–Ψ―¹, ―Ö–≤–Ψ―¹―² –Η –≥–Μ–Α–Ζ–Κ–Η?¬Μ –€–Ϋ–Β –Ε–Α–Μ―¨ –Β–Β. –†–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Η ―Ü–Β–Μ―΄–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –Ϋ–Α ―Ä–Α–±–Ψ―²–Β. –Δ–Β―²–Κ–Α –ù–Α―²–Α–Μ―¨―è ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α, ―΅―²–Ψ –Β–Β –Ϋ–Α–¥–Ψ ―¹–¥–Α―²―¨ –≤ –Ω–Η―²–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Κ.
βÄî –≠―²–Ψ–≥–Ψ –Β―â–Β –Ϋ–Β ―Ö–≤–Α―²–Α–Μ–Ψ! βÄî ―Ä–Α―¹―¹–Β―Ä–¥–Η–Μ―¹―è –Ψ―²–Β―Ü.
βÄî –ù―É, –Κ–Α–Κ –Ζ–Ϋ–Α–Β―²–Β. –ü–Ψ-–Φ–Ψ–Β–Φ―É, –Ψ–Ϋ–Α –≤–Α–Φ –±―É–¥–Β―² –Ψ–±―É–Ζ–Ψ–Ι.
–· –±–Β―Ä―É –Ϋ–Α –Ω–Ψ–≤–Ψ–¥–Ψ–Κ –‰–Ϋ–≥―Ä–Η–¥ (―¹ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²―¨―é –Ψ–Ϋ–Α –Ω―Ä―΄–≥–Α–Β―²! –€–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, –¥―É–Φ–Α–Β―², ―΅―²–Ψ ―è –Ϋ–Η–Κ―É–¥–Α –Ϋ–Β ―É–Β–¥―É), –Η –Φ―΄ –Η–¥–Β–Φ –≤ –ö–Α–¥―Ä–Η–Ψ―Ä–≥ βÄî ¬Ϊ–Ϋ–Α ―¹–≤–Η–¥–Α–Ϋ–Η–Β¬Μ, ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α –Φ–Ϋ–Β –≤―¹–Μ–Β–¥ ―²–Β―²–Κ–Α –ù–Α―²–Α–Μ―¨―è. –€―΄ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Β–Φ―¹―è ―¹ –ö–Α―Ä–Η–Ϋ–Ψ–Ι –Η –¦–Α―Ä―¹–Β–Ϋ–Ψ–Φ –≤–Ψ–Ζ–Μ–Β –Ω―Ä―É–¥–Α. –Γ–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―²–Β–Ω–Μ–Ψ, –Ψ–Ϋ–Α –≤ –±–Β–Μ–Ψ–Φ –Ω–Μ–Α―²―¨–Β; –¦–Α―Ä―¹–Β–Ϋ βÄî –≤ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Φ –Ψ―à–Β–Ι–Ϋ–Η–Κ–Β, –≤–Β―¹―¨ ―É–≤–Β―à–Α–Ϋ –Φ–Β–¥–Α–Μ―è–Φ–Η. –û–Ϋ –¥―Ä―É–Ε–Β–Μ―é–±–Ϋ–Ψ –Μ–Η–Ζ–Ϋ―É–Μ –‰–Ϋ–≥―Ä–Η–¥ –≤ –Ϋ–Ψ―¹.
βÄî –£–Ψ―² –≤–Η–¥–Η―à―¨, –Ψ–Ϋ–Η –Ω–Ψ–¥―Ä―É–Ε–Η–Μ–Η―¹―¨! βÄî ―Ä–Α–¥―É–Β―²―¹―è –ö–Α―Ä–Η–Ϋ–Α.βÄî –ü–Ψ–Ι–¥–Β–Φ-–Κ–Α –≤ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Κ―É, ―¹–Ω―É―¹―²–Η–Φ –Η―Ö ―¹ –Ω–Ψ–≤–Ψ–¥–Κ–Ψ–≤, –Ω―É―¹―²―¨ –Ω–Ψ–Η–≥―Ä–Α―é―²... –≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι ―Ä–Α–Ζ.
–Γ–Ψ–±–Α–Κ–Η –Ϋ–Ψ―¹―è―²―¹―è, –Κ–Α–Κ ―â–Β–Ϋ–Κ–Η. –‰–Φ –≤–Β―¹–Β–Μ–Ψ. –û–Ϋ–Η –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α―é―², ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α–¥–Ψ–Μ–≥–Ψ ―Ä–Α―¹―¹―²–Α–Ϋ―É―²―¹―è. –û–Ϋ–Η ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤–Β–Β –Φ–Β–Ϋ―è.
βÄî –£–Ψ―² ―²–≤–Ψ―è –Φ–Β―΅―²–Α –Η –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Μ–Α―¹―¨,βÄî –Ζ–Α–≤–Η–¥―É–Β―² –Φ–Ϋ–Β –ö–Α―Ä–Η–Ϋ–Α. βÄî –Ξ–Ψ―²–Β–Μ–Α –±―΄ ―è –Ϋ–Α ―²–Β–±―è –Ω–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨ ―²–Α–Φ, –≤ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ.
βÄî –ü―Ä–Η–Β–Ζ–Ε–Α–Ι –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥. βÄî –ê –≤–Ψ―² –≤–Ψ–Ζ―¨–Φ―É –Η –Ω―Ä–Η–Β–¥―É. –Θ –Φ–Β–Ϋ―è ―²–Α–Φ –Β―¹―²―¨ ―²–Β―²–Κ–Α. –ù–Α . –ü―Ä–Η–Β–¥―É, –Ω―Ä–Η–¥―É –Κ –≤–Α–Φ –≤ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Β. ¬Ϊ–£―΄ –Κ –Κ–Ψ–Φ―É? βÄî ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η―² –¥–Β–Ε―É―Ä–Ϋ―΄–Ι.βÄî –ö –±―Ä–Α―²―É?¬Μ βÄî ¬Ϊ–ù–Β―², –Κ –¥―Ä―É–≥―É. –· –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―Ö–Ψ―΅―É –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–≤–Η–¥–Α―²―¨¬Μ. βÄî ¬Ϊ–Γ–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –¥–Β–Ϋ―¨ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η–Β–Φ–Ϋ―΄–Ι, –Ϋ–Ψ ―Ä–Α–Ζ –≤―΄ –Ω―Ä–Η–Β―Ö–Α–Μ–Η –Η–Ζ–¥–Α–Μ–Β–Κ–Α... –£―΄ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²–Β, –Η–Ζ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α?¬Μ βÄî ¬Ϊ–î–Α, –Η–Ζ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α¬Μ.βÄî ¬Ϊ–Δ–Ψ–≥–¥–Α ―è –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–Ψ–≤―ɬΜ. βÄî –ê –≤–Ψ―² –≤–Ψ–Ζ―¨–Φ―É –Η –Ω―Ä–Η–Β–¥―É. –Θ –Φ–Β–Ϋ―è ―²–Α–Φ –Β―¹―²―¨ ―²–Β―²–Κ–Α. –ù–Α . –ü―Ä–Η–Β–¥―É, –Ω―Ä–Η–¥―É –Κ –≤–Α–Φ –≤ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Β. ¬Ϊ–£―΄ –Κ –Κ–Ψ–Φ―É? βÄî ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η―² –¥–Β–Ε―É―Ä–Ϋ―΄–Ι.βÄî –ö –±―Ä–Α―²―É?¬Μ βÄî ¬Ϊ–ù–Β―², –Κ –¥―Ä―É–≥―É. –· –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―Ö–Ψ―΅―É –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–≤–Η–¥–Α―²―¨¬Μ. βÄî ¬Ϊ–Γ–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –¥–Β–Ϋ―¨ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η–Β–Φ–Ϋ―΄–Ι, –Ϋ–Ψ ―Ä–Α–Ζ –≤―΄ –Ω―Ä–Η–Β―Ö–Α–Μ–Η –Η–Ζ–¥–Α–Μ–Β–Κ–Α... –£―΄ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²–Β, –Η–Ζ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α?¬Μ βÄî ¬Ϊ–î–Α, –Η–Ζ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α¬Μ.βÄî ¬Ϊ–Δ–Ψ–≥–¥–Α ―è –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–Ψ–≤―ɬΜ.
–ö–Α―Ä–Η–Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β―² –Ϋ–Α –Ω–Ψ–≤–Ψ–¥–Ψ–Κ –¦–Α―Ä―¹–Β–Ϋ–Α. –‰–Ϋ–≥―Ä–Η–¥ ―¹―É–Β―² –Φ–Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥ ―Ä―É–Κ―É ―²–Β–Ω–Μ―΄–Β ―É―à–Η.
βÄî –€―΄ ―¹ –¦–Α―Ä―¹–Β–Ϋ–Ψ–Φ –±―É–¥–Β–Φ ―¹–Κ―É―΅–Α―²―¨. –Δ―΄ –±―É–¥–Β―à―¨ –Ω–Η―¹–Α―²―¨ –Φ–Ϋ–Β?
βÄî –ß–Α―¹―²–Ψ.
βÄî –ù―É ―Ö–Ψ―²―è –±―΄ ―Ä–Α–Ζ –≤ –Φ–Β―¹―è―Ü. –Δ–Β–±–Β –Ω–Ψ―Ä–Α, –€–Α–Κ―¹–Η–Φ? –î–Ψ ―¹–≤–Η–¥–Α–Ϋ–Η―è!
βÄî –î–Ψ ―¹–≤–Η–¥–Α–Ϋ–Η―è, –ö–Α―Ä–Η–Ϋ–Α!
–· ―É–Ε–Α―¹–Ϋ–Ψ –±–Ψ―é―¹―¨, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Α –Φ–Β–Ϋ―è –Ψ–Ω―è―²―¨, –Κ–Α–Κ ―²–Ψ–≥–¥–Α, –Ζ–Η–Φ–Ψ–Ι, –Ω–Ψ―Ü–Β–Μ―É–Β―². –ù–Ψ –Ψ–Ϋ–Α –Φ–Β–Ϋ―è –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Β ―΅–Φ–Ψ–Κ–Ϋ―É–Μ–Α –≤ ―â–Β–Κ―É. –Γ–Μ–Α–≤–Α –±–Ψ–≥―É, –≤―¹–Β –Ψ–±–Ψ―à–Μ–Ψ―¹―¨ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ.
–· –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ ―¹–Φ–Ψ―²―Ä―é –≤―¹–Μ–Β–¥ –ö–Α―Ä–Η–Ϋ–Β –Η –¦–Α―Ä―¹–Β–Ϋ―É.
βÄî –‰–¥–Β–Φ, –‰–Ϋ–≥―Ä–Η–¥! –€―΄ ―¹–Ω–Β―à–Η–Φ –Ϋ–Α ―É–Μ–Η―Ü―É –¦–Β–Φ–±–Η―²―É.
–ù–Α―¹ ―É–Ε–Β –Ε–¥―É―² –±–Α–±–Α –ù–Η–Κ–Α –Η –¥–Β–¥. –û–Ϋ–Η –Ω―Ä–Η–Β―Ö–Α–Μ–Η –Φ–Β–Ϋ―è –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²―¨.
βÄî –†–Α―¹–Ω―Ä–Ψ―â–Α–Μ―¹―è ―¹ ―¹–Η–Φ–Ω–Α―²–Η–Β–Ι?.. βÄî ―è–Ζ–≤–Η―² ―²–Β―²–Κ–Α.
βÄî –ü–Ψ–Ω―Ä–Η–¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ–Α –±―΄, –ù–Α―²–Α–Μ―¨―è, ―è–Ζ―΄–Κ! βÄî –Ψ–±―Ä―΄–≤–Α–Β―² –Β–Β –±–Α–±–Α –ù–Η–Κ–Α.
–€―΄ ―¹–Α–¥–Η–Φ―¹―è –Ψ–±–Β–¥–Α―²―¨.
βÄî –ü–Ψ–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Η―¹―¨ –Ψ―² –Φ–Β–Ϋ―è ¬Ϊ–ê–≤―Ä–Ψ―Ä–Β¬Μ, –€–Α–Κ―¹–Η–Φ, βÄî –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² –¥–Β–¥. βÄî –≠―²–Ψ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ ―è –Ω–Μ–Α–≤–Α–Μ. –€―΄ ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –≤ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Ι –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥ –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥ –Γ–Κ–Α–Ϋ–¥–Η–Ϋ–Α–≤–Η–Η. –£ –Κ–Ψ―΅–Β–≥–Α―Ä–Κ–Α―Ö –≤–Α―Ö―²―΄ ―¹―²–Ψ―è–Μ–Η. –£ –ë–Β―Ä–≥–Β–Ϋ–Β ―è –≤ –Ψ–¥–Ϋ―É ―²–Α–Κ―É―é ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–Ϋ―¨–Κ―É―é –¥–Β–≤―΅―É―à–Κ―É –≤–Μ―é–±–Η–Μ―¹―è!.. –£–Β―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Κ–Α, –Ϋ–Β ―¹–Μ―É―à–Α–Ι!
βÄî –î–Α –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ ―²–Β–±–Β –≤―΄–¥―É–Φ―΄–≤–Α―²―¨! βÄî –Ψ―²–Κ–Μ–Η–Κ–Α–Β―²―¹―è –±–Α–±–Α –ù–Η–Κ–Α. –ù–Α –Β–Β ―΅–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Μ–Α―²―¨–Β –≥–Ψ―Ä–Η―² –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ –ë–Ψ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –½–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η.
–î–Β–¥ –≤ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ–Β–Ι―à–Β–Φ –Ϋ–Α―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η–Η. –û–Ϋ ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Ω–Ψ–¥―²―è–Ϋ―É―² –Η –≤–Ψ–≤―¹–Β –Ϋ–Β –≤―΄–≥–Μ―è–¥–Η―² ―¹―²–Α―Ä–Η–Κ–Ψ–Φ.
–€–Α–Φ–Α –≤―΄–Ϋ–Ψ―¹–Η―² –Η–Ζ –Κ―É―Ö–Ϋ–Η –±–Μ―é–¥–Ψ ―¹ –Ε–Α―Ä–Β–Ϋ―΄–Φ –Ω–Ψ―Ä–Ψ―¹–Β–Ϋ–Κ–Ψ–Φ.
βÄî –î–Ψ―¹―²–Α–Μ–Α ―¹ ―²―Ä―É–¥–Ψ–Φ, –Ϋ–Ψ –≤–Β–¥―¨ ―è –Ψ–±–Β―â–Α–Μ–Α ―²–Β–±–Β, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―²―΄ –Ω–Ψ–Β–¥–Β―à―¨ –≤ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Β...
–ù–Ψ –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Β ―Ä–Α–¥―É–Β―² –Ε–Α―Ä–Β–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ―Ä–Ψ―¹–Β–Ϋ–Ψ–Κ.
–‰–Ϋ–≥―Ä–Η–¥ –Ζ–Α–Ω–Μ–Α–Κ–Α–Μ–Α –≤ –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―è –≤–Ζ―è–Μ ―΅–Β–Φ–Ψ–¥–Α–Ϋ. –ë–Β–¥–Ϋ―è–Ε–Κ–Α! –ö–Ψ–≥–¥–Α ―è –Ω―Ä–Ψ―â–Α―é―¹―¨ ―¹ –Ϋ–Β–Ι, –Ω―Ä–Ψ―¹–Η―²: ¬Ϊ–ù–Β ―É–Β–Ζ–Ε–Α–Ι¬Μ. –™–Μ–Α–Ζ–Α –Β–Β –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄ ―¹–Μ–Β–Ζ. –ï–Β –Ζ–Α–Ω–Β―Ä–Μ–Η –≤ ―¹–Ω–Α–Μ―¨–Ϋ–Β. –û–Ϋ–Α ―¹–Κ―Ä–Β–±–Β―² –Μ–Α–Ω–Α–Φ–Η –¥–≤–Β―Ä―¨. –ü–Ψ–Ϋ―è–Μ–Α, ―΅―²–Ψ –Φ―΄ ―Ä–Α―¹―¹―²–Α–Β–Φ―¹―è –Ϋ–Α–¥–Ψ–Μ–≥–Ψ.
–ù–Α –≤–Ψ–Κ–Ζ–Α–Μ–Β, –Ω―Ä–Ψ―â–Α―è―¹―¨, –¥–Β–¥ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²:
βÄî –ù–Η –Ω―É―Ö–Α ―²–Β–±–Β, –Ϋ–Η –Ω–Β―Ä–Α –Η –Ω–Ψ–±–Ψ–Μ―¨―à–Β –≤–Ψ–¥―΄ –Ω–Ψ–¥ –Κ–Η–Μ–Β–Φ!
–€–Α―²―¨ –Η –Ψ―²–Β―Ü –Ψ–±–Ϋ–Η–Φ–Α―é―² –Φ–Β–Ϋ―è. –€–Α–Φ–Α –≤―΄―²–Η―Ä–Α–Β―² –≥–Μ–Α–Ζ–Α. –û―΅–Β–Ϋ―¨ –Ω–Ψ–Ζ–¥–Ϋ–Ψ ―É–Ε–Β, –Ϋ–Ψ ―¹–≤–Β―²–Μ–Ψ: –±–Β–Μ–Α―è –Ϋ–Ψ―΅―¨.
–£ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Β –Φ–Η–Ϋ―É―²―΄ –Ω―Ä–Η–±–Β–≥–Α―é―² –£–Α–¥–Η–Φ –Η –û–Μ–Β–Ε–Κ–Α. –û–Μ–Β–Ε–Κ–Α ―Ö–Ϋ―΄―΅–Β―²:
βÄî –Γ―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤―Ü―΄! –ê ―è –Ω–Ψ–≥–Ψ―Ä–Β–Μ. –· –Ζ–Α–≤–Η–¥―É―é, –±―Ä–Α―²―Ü―΄! –· ―É–Ε–Α―¹–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–≤–Η–¥―É―é...
–ß–Β–Φ–Ψ–¥–Α–Ϋ ―É –£–Α–¥–Η–Φ–Α ―²―è–Ε–Β–Μ―΄–Ι. –Γ ―²―Ä―É–¥–Ψ–Φ –Β–≥–Ψ –≤―²–Α―¹–Κ–Η–≤–Α–Β–Φ –≤ –≤–Α–≥–Ψ–Ϋ.
–ü–Ψ–Β–Ζ–¥ –Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―²―Ä–Ψ–≥–Α–Β―²―¹―è. –ê–Μ―΄–Ι ―³–Μ–Α–≥ ¬Ϊ¬Μ ―²―Ä–Β–Ω–Β―â–Β―² –Ϋ–Α–¥ –±–Α―à–Ϋ–Β–Ι –≤ –Ω―Ä–Η–Ζ―Ä–Α―΅–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–≤–Β―²–Β. –ê–Μ―΄–Ι ―³–Μ–Α–≥ ¬Ϊ¬Μ ―²―Ä–Β–Ω–Β―â–Β―² –Ϋ–Α–¥ –±–Α―à–Ϋ–Β–Ι –≤ –Ω―Ä–Η–Ζ―Ä–Α―΅–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–≤–Β―²–Β.
–ü―Ä–Ψ―â–Α–Ι, ―¹―²–Α―Ä―΄–Ι –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ, –Ω―Ä–Ψ―â–Α–Ι! –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―².

–£–Β―Ä―é–Ε―¹–Κ–Η–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–£–ù–ê), –™–Ψ―Ä–Μ–Ψ–≤ –û–Μ–Β–≥ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–û–ê–™), –€–Α–Κ―¹–Η–Φ–Ψ–≤ –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–€–£–£), –ö–Γ–£.
198188. –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥, ―É–Μ. –€–Α―Ä―à–Α–Μ–Α –™–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α, –¥–Ψ–Φ 11/3, –Κ–≤. 70. –ö–Α―Ä–Α―¹–Β–≤ –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅, –Α―Ä―Ö–Η–≤–Α―Ä–Η―É―¹.
26.03.201400:0426.03.2014 00:04:24
0
25.03.201400:2525.03.2014 00:25:48
–ü–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Α –Κ ―É–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Φ –±–Ψ―è–Φ –Λ―Ä–Ψ–Ϋ―², ―¹―²–Α–≤ –Β―â―ë –Ψ―¹–Β–Ϋ―¨―é ―¹―²–Α–±–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ, ―É–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Μ―¹―è –Ω―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ, –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―΄―Ö ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Ι –Ϋ–Α –Ϋ―ë–Φ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ. –ù–Ψ ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ –±―΄―²―¨ –≥–Ψ―²–Ψ–≤―΄–Φ–Η –Κ–Ψ –≤―¹–Β–Φ―É, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Η –Κ ―É–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Φ –±–Ψ―è–Φ. –™–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Α―è ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η―è –±―΄–Μ–Α ―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Α –Ϋ–Α ―¹–Β–Κ―²–Ψ―Ä―΄ –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄. –Γ–≤–Ψ–Η ―É―΅–Α―¹―²–Κ–Η –Ϋ–Α –Ζ–Α–Ω–Α―¹–Ϋ―΄―Ö –≤–Ϋ―É―²―Ä–Η–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Η―Ö ―Ä―É–±–Β–Ε–Α―Ö –Η–Φ–Β–Μ–Η –Η –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Η –Ζ–Η–Φ–Ψ–≤–Α–≤―à–Η―Ö –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι.
–û―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι ―É―΅–Α―¹―²–Ψ–Κ ―¹―É―Ö–Ψ–Ω―É―²–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄, –Ζ–Α–Κ―Ä–Β–Ω–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ζ–Α –Ϋ–Α―à–Β–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Ψ–Ι, –≤–Κ–Μ―é―΅–Α–Μ –Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―¹―²–≤–Ψ –Φ–Β–Ε–¥―É –Φ–Ψ―¹―²–Α–Φ–Η –†–Β―¹–Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ (–î–≤–Ψ―Ä―Ü–Ψ–≤―΄–Φ) –Η –ë–Ψ–Μ―¨―à–Β–Ψ―Ö―²–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ. –ö―Ä–Ψ–Φ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –Ψ―²–≤–Β―΅–Α–Μ–Η –Ζ–Α –¥–≤–Α ―É―΅–Α―¹―²–Κ–Α –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α―Ö –€–Α–Μ–Ψ–Ι –ù–Β–≤―΄, –Γ―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–Ι –Η –ë–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –ù–Β–≤–Κ–Η. –ù–Α –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ ―É―΅–Α―¹―²–Κ–Β, –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Β–Φ –Κ –ù–Β–≤–Β, ―¹–Ψ―¹–Β–¥―è–Φ–Η –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –±―΄–Μ–Η: ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Α βÄî ―¹―É―Ö–Ψ–Ω―É―²–Ϋ―΄–Β ―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä―΄, ―¹–Μ–Β–≤–Α βÄî –Ψ―²―Ä―è–¥–Α –≥–Η–¥―Ä–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö ―¹―É–¥–Ψ–≤. –£–Β―¹―¨ –Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Η –Ω–Μ–Α–≤–±–Α–Ζ ―Ä–Α―¹–Ω–Η―¹–Α–Μ–Η –Ω–Ψ ―Ä–Ψ―²–Α–Φ –Η –±–Α―²–Α–Μ―¨–Ψ–Ϋ–Α–Φ.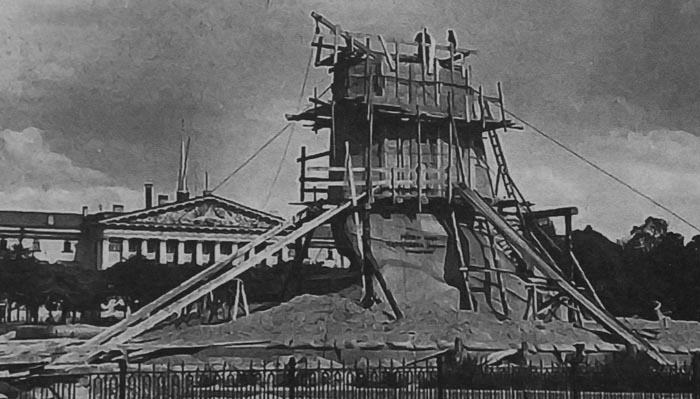 –Θ–Κ―Ä―΄―²–Η–Β –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ–Α –ü–Β―²―Ä―É –ü–Β―Ä–≤–Ψ–Φ―É. –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥, –Ψ―¹–Β–Ϋ―¨ 1941 –≥–Ψ–¥–Α–ö ―²–Ψ–Φ―É –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―è –Ω–Β―Ä–Β–±―Ä–Α–Μ―¹―è –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥, ―ç―²–Α –±–Ψ–Β–≤–Α―è –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―è –±―΄–Μ–Α ―É–Ε–Β –Ψ―²―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Ϋ–Α, –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Η ―É―¹–Ω–Β–Μ–Η –≤ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ –Φ–Β―Ä–Β –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Η―²―¨―¹―è ―¹ ―²–Α–Κ―²–Η–Κ–Ψ–Ι –±–Ψ―è –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β. –½–Α–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β ―è ―É–≤–Η–¥–Β–Μ, –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η ―¹–Ϋ–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η―¹―²–Ψ, ―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ ―É ―¹–Β–±―è –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β, –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η –Φ–Β―¹―²–Α –≤ –¥–Ψ―²–Α―Ö, –Ψ–±–Ψ―Ä―É–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―É –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Η –î–Β–Κ–Α–±―Ä–Η―¹―²–Ψ–≤, –≥–¥–Β ―¹―²–Ψ―è–Μ ―É–Κ―Ä―΄―²―΄–Ι –Ζ–Α―â–Η―²–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ―Ä–Ψ–±–Κ–Ψ–Ι –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ –ü–Β―²―Ä―É, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä―è–Μ–Η―¹―¨, –Ψ―²–Κ―É–¥–Α ―É–¥–Ψ–±–Ϋ–Β–Β –Φ–Β―²–Α―²―¨ –≥―Ä–Α–Ϋ–Α―²―΄. –Δ–Α–Κ–Η–Β ―É―΅–Β–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ ―Ä–Β–≥―É–Μ―è―Ä–Ϋ–Ψ. –Θ–Κ―Ä―΄―²–Η–Β –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ–Α –ü–Β―²―Ä―É –ü–Β―Ä–≤–Ψ–Φ―É. –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥, –Ψ―¹–Β–Ϋ―¨ 1941 –≥–Ψ–¥–Α–ö ―²–Ψ–Φ―É –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―è –Ω–Β―Ä–Β–±―Ä–Α–Μ―¹―è –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥, ―ç―²–Α –±–Ψ–Β–≤–Α―è –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―è –±―΄–Μ–Α ―É–Ε–Β –Ψ―²―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Ϋ–Α, –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Η ―É―¹–Ω–Β–Μ–Η –≤ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ –Φ–Β―Ä–Β –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Η―²―¨―¹―è ―¹ ―²–Α–Κ―²–Η–Κ–Ψ–Ι –±–Ψ―è –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β. –½–Α–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β ―è ―É–≤–Η–¥–Β–Μ, –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η ―¹–Ϋ–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η―¹―²–Ψ, ―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ ―É ―¹–Β–±―è –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β, –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η –Φ–Β―¹―²–Α –≤ –¥–Ψ―²–Α―Ö, –Ψ–±–Ψ―Ä―É–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―É –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Η –î–Β–Κ–Α–±―Ä–Η―¹―²–Ψ–≤, –≥–¥–Β ―¹―²–Ψ―è–Μ ―É–Κ―Ä―΄―²―΄–Ι –Ζ–Α―â–Η―²–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ―Ä–Ψ–±–Κ–Ψ–Ι –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ –ü–Β―²―Ä―É, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä―è–Μ–Η―¹―¨, –Ψ―²–Κ―É–¥–Α ―É–¥–Ψ–±–Ϋ–Β–Β –Φ–Β―²–Α―²―¨ –≥―Ä–Α–Ϋ–Α―²―΄. –Δ–Α–Κ–Η–Β ―É―΅–Β–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ ―Ä–Β–≥―É–Μ―è―Ä–Ϋ–Ψ.
–ö―²–Ψ –¥―É–Φ–Α–Μ –Β―â―ë –Ϋ–Β–¥–Α–≤–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ, –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, –Ω―Ä–Η–¥―ë―²―¹―è –≤―¹―²―É–Ω–Η―²―¨ –≤ –±–Ψ–Ι –Ζ–¥–Β―¹―¨, –≤ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Β –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Α? –î–Α –Η ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Ψ―¹―¨ –Φ–Α–Μ–Ψ–≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ―΄–Φ, ―΅―²–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Β―² –¥–Ψ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ–Ι―²–Η. –ù–Ψ –Β―¹–Μ–Η –±―΄ –¥–Ψ―à–Μ–Ψ, –Β―¹–Μ–Η –±―΄ ―³–Α―à–Η―¹―²―΄ –Ω―Ä–Ψ―Ä–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –≥–¥–Β-―²–Ψ –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥, ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ, βÄî –Η ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Μ–Ψ –±―΄ –Η–Φ –Ω–Ψ–±–Β–¥―΄, –Η―Ö ―à―²―É―Ä–Φ –Ζ–Α―Ö–Μ–Β–±–Ϋ―É–Μ―¹―è –±―΄ –Ϋ–Α –Μ–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥―è―Ö –Η ―É–Μ–Η―Ü–Α―Ö, –Ζ–Α–≤–Ψ–Β–≤–Α―²―¨ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ψ–Ϋ–Η –±―΄ –Ϋ–Β ―¹–Φ–Ψ–≥–Μ–Η!
–½–Α –Ζ–Α–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä―É–±–Β–Ε –≤ ―¹–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Β –Φ–Β–Ε–¥―É –†–Β―¹–Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ –Η –ë–Ψ–Μ―¨―à–Β–Ψ―Ö―²–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ –Φ–Ψ―¹―²–Α–Φ–Η –Ω–Β―Ä―¹–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ―²–≤–Β―΅–Α–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄, –Ζ–Α –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Η ―É –ë–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Η –Γ―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–Ι –ù–Β–≤–Κ–Η βÄî –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ –¥–≤―É―Ö –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Ψ–≤. –ë―΄–Μ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ –≤–Ϋ―É―²―Ä–Η–±―Ä–Η–≥–Α–¥–Ϋ―΄–Ι ―à―²–Α–± ―¹―É―Ö–Ψ–Ω―É―²–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –≤–Ψ–Ζ–≥–Μ–Α–≤–Μ―è–Μ ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Φ–Η–Ϋ―ë―Ä –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –Γ―²–Β―³–Α–Ϋ –‰–Ψ―¹–Η―³–Ψ–≤–Η―΅ –‰–Ψ–¥–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι, ―¹―²–Α–≤―à–Η–Ι –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Φ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –Κ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Φ –±–Ψ―è–Φ –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β. –ù–Α–Ω–Ψ–Φ–Ϋ―é, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α―à ―³–Μ–Α–≥–Φ–Η–Ϋ –Ω―Ä–Η―à―ë–Μ –Ϋ–Α ―³–Μ–Ψ―² –Η–Ζ –Α―Ä–Φ–Η–Η, –±―΄–Μ –≤ ―¹–≤–Ψ―ë –≤―Ä–Β–Φ―è –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ ―à―²–Α–±–Α ―¹―²―Ä–Β–Μ–Κ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –±–Α―²–Α–Μ―¨–Ψ–Ϋ–Α.
–£ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Α―Ö –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –±―΄–Μ–Α ―É―΅―²–Β–Ϋ–Α –Κ–Α–Ε–¥–Α―è –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Ω―É―à–Κ–Α. –î–Α–Ε–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Φ―΄ ―¹―²–Α―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨, –≥–¥–Β ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Ψ―¹―¨ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Φ, ―Ä–Α―¹―¹―²–Α–≤–Μ―è―²―¨ –Ϋ–Α –ù–Β–≤–Β ―²–Α–Κ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Η―Ö –Ψ―Ä―É–¥–Η―è–Φ–Η –Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Β–Μ–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―É–Μ–Η―Ü―΄ –Η –Ω―Ä–Ψ–Β–Ζ–¥―΄. –€–Α―¹–Κ–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Η –Ω–Μ–Α–≤–±–Α–Ζ –û―¹–Β–Ϋ―¨―é –¥–Ψ –Μ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Φ–Β–Ϋ―è―²―¨ ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Κ–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α–Μ–Ψ ―É–±–Β―Ä–Β–≥–Α―²―¨ –Η―Ö –Ψ―² ―É–¥–Α―Ä–Ψ–≤ ―¹ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Α, –¥–Α –Η –Ψ―² –Ψ–≥–Ϋ–Β–≤―΄―Ö –Ϋ–Α–Μ―ë―²–Ψ–≤ –Ω–Ψ –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Α–≤–Η–Α―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Η. –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ϋ–Α –ù–Β–≤–Β, ―¹–Κ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Μ―¨–¥–Ψ–Φ, ―ç―²–Ψ ―¹―²–Α–Μ–Ψ –≤–Β―¹―¨–Φ–Α –Ζ–Α―²―Ä―É–¥–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Β―â―ë –±–Ψ–Μ―¨―à–Β–Β –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β ―É–¥–Β–Μ―è–Μ–Ψ―¹―¨ –Φ–Α―¹–Κ–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι. –ü–Ψ―è–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ –≤ ―à―²–Α–±–Β –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –¥–Α–Ε–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Α―¹–Κ–Η―Ä–Ψ–≤―â–Η–Κ–Α. –ï―ë –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ –Ω–Ψ ―¹–Ψ–≤–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤―É –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ–Α –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ë.–î.–ê–Ϋ–¥―Ä―é–Κ, –Φ–Ψ–Ι ―¹–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η–≤–Β―Ü –Β―â―ë –Ω–Ψ –î–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Φ―É –£–Ψ―¹―²–Ψ–Κ―É. –û–Ϋ –Ω―Ä–Ψ―à―ë–Μ –Κ―Ä–Α―²–Κ–Ψ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ―΄–Β –Κ―É―Ä―¹―΄, –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―à―²–Α–±–Ψ–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Α –Ϋ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Η–Ζ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι, –≥–¥–Β –Ψ―¹–≤–Α–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ω―Ä–Η―ë–Φ―΄ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–≤–Ψ–Ζ–¥―É―à–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Α―¹–Κ–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Η. –ö –Ψ–±―É―΅–Β–Ϋ–Η―é –Φ–Α―¹–Κ–Η―Ä–Ψ–≤―â–Η–Κ–Ψ–≤ –Ω―Ä–Η–≤–Μ–Β–Κ–Μ–Η –Η ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Ψ–≤ –Η–Ζ –ê–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η ―Ö―É–¥–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤. –û–Ϋ–Η –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η, –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι ―ç―³―³–Β–Κ―² –Φ–Ψ–Ε–Β―² –¥–Α―²―¨ ―¹–Ψ―΅–Β―²–Α–Ϋ–Η–Β ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö –Κ―Ä–Α―¹–Ψ–Κ. –Λ–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Φ–Α―¹–Κ–Η―Ä–Ψ–≤―â–Η–Κ –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –ë.–î.–ê–Ϋ–¥―Ä―é–Κ–ö–Α–Φ―É―³–Μ―è–Ε–Ϋ–Α―è –Ω–Ψ–Κ―Ä–Α―¹–Κ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –±–Ψ―Ä―²–Ψ–≤ –Η –Ϋ–Α–¥―¹―²―Ä–Ψ–Β–Κ –Ω―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ―è–Μ–Α―¹―¨ ―¹ ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄. –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨, –Ϋ–Α –≤―Ä–Β–Φ―è –¥–Μ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Κ–Η, –Κ ―ç―²–Ψ–Φ―É –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Β –Ω―Ä–Η–±–Α–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨. –Λ–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Φ–Α―¹–Κ–Η―Ä–Ψ–≤―â–Η–Κ –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –ë.–î.–ê–Ϋ–¥―Ä―é–Κ–ö–Α–Φ―É―³–Μ―è–Ε–Ϋ–Α―è –Ω–Ψ–Κ―Ä–Α―¹–Κ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –±–Ψ―Ä―²–Ψ–≤ –Η –Ϋ–Α–¥―¹―²―Ä–Ψ–Β–Κ –Ω―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ―è–Μ–Α―¹―¨ ―¹ ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄. –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨, –Ϋ–Α –≤―Ä–Β–Φ―è –¥–Μ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Κ–Η, –Κ ―ç―²–Ψ–Φ―É –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Β –Ω―Ä–Η–±–Α–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨. –ü–Μ–Α–≤–±–Α–Ζ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ ¬Ϊ–‰―Ä―²―΄―à¬Μ –≤ –Ζ–Α–Φ–Α―¹–Κ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –≤–Η–¥–Β ―¹―²–Ψ–Η―² ―É –Ϋ–Α–±–Β―Ä–Β–Ε–Ϋ–Ψ–Ι –ù–Β–≤―΄ –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ –¦–Β―²–Ϋ–Β–≥–Ψ ―¹–Α–¥–Α. –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥, –Ψ―¹–Β–Ϋ―¨ 1941 –≥–Ψ–¥–Α–ü–Ψ―à–Μ–Α –≤ ―Ö–Ψ–¥ –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―Ü–Η―è ―¹–Β―²–Β–≤―è–Ζ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―³–Α–±―Ä–Η–Κ–Η –†―΄–±―³–Μ–Ψ―²–Α, –Ϋ–Ψ ―¹–Β―²–Β–Ι –¥–Μ―è –≤―¹–Β―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Ϋ–Β ―Ö–≤–Α―²–Α–Μ–Ψ. –‰–Ζ –Η–Ζ–¥–Β–Μ–Η–Ι –≥–Α―Ä–¥–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ-―²―é–Μ–Β–≤–Ψ–Ι ―³–Α–±―Ä–Η–Κ–Η –Κ―Ä–Ψ–Η–Μ–Η –Η ―¹―à–Η–≤–Α–Μ–Η (―¹ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨―é –Β―ë –Ε–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η―Ü) ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–Ι ―³–Ψ―Ä–Φ―΄ –Η ―Ü–≤–Β―²–Α –Ω–Ψ–Μ–Ψ―²–Ϋ–Η―â–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ζ–Α–Κ―Ä–Β–Ω–Μ―è–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α ―²―Ä–Ψ―¹–Α―Ö. –ü–Μ–Α–≤–±–Α–Ζ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ ¬Ϊ–‰―Ä―²―΄―à¬Μ –≤ –Ζ–Α–Φ–Α―¹–Κ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –≤–Η–¥–Β ―¹―²–Ψ–Η―² ―É –Ϋ–Α–±–Β―Ä–Β–Ε–Ϋ–Ψ–Ι –ù–Β–≤―΄ –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ –¦–Β―²–Ϋ–Β–≥–Ψ ―¹–Α–¥–Α. –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥, –Ψ―¹–Β–Ϋ―¨ 1941 –≥–Ψ–¥–Α–ü–Ψ―à–Μ–Α –≤ ―Ö–Ψ–¥ –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―Ü–Η―è ―¹–Β―²–Β–≤―è–Ζ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―³–Α–±―Ä–Η–Κ–Η –†―΄–±―³–Μ–Ψ―²–Α, –Ϋ–Ψ ―¹–Β―²–Β–Ι –¥–Μ―è –≤―¹–Β―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Ϋ–Β ―Ö–≤–Α―²–Α–Μ–Ψ. –‰–Ζ –Η–Ζ–¥–Β–Μ–Η–Ι –≥–Α―Ä–¥–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ-―²―é–Μ–Β–≤–Ψ–Ι ―³–Α–±―Ä–Η–Κ–Η –Κ―Ä–Ψ–Η–Μ–Η –Η ―¹―à–Η–≤–Α–Μ–Η (―¹ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨―é –Β―ë –Ε–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η―Ü) ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–Ι ―³–Ψ―Ä–Φ―΄ –Η ―Ü–≤–Β―²–Α –Ω–Ψ–Μ–Ψ―²–Ϋ–Η―â–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ζ–Α–Κ―Ä–Β–Ω–Μ―è–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α ―²―Ä–Ψ―¹–Α―Ö.
–Γ―²–Α―Ä―΄–Β –¥–Ψ―¹–Κ–Η –Η–Ζ ―Ä–Α–Ζ–±–Η―²―΄―Ö –¥–Ψ–Φ–Ψ–≤ –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–Μ–Η –Ω―Ä–Η–¥–Α―²―¨ –Η–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Β ―¹―Ö–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ ―¹ ―Ä–Β―΅–Ϋ–Ψ–Ι –±–Α―Ä–Ε–Ψ–Ι –Η–Μ–Η –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β ―¹–Μ–Η―²―¨ –Β―ë ―¹ –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ–Ι ―΅–Β―Ä―²–Ψ–Ι. –ü–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –Η –±–Ψ―Ü–Φ–Α–Ϋ―΄, –≤–Β–¥–Α–≤―à–Η–Β –Φ–Α―¹–Κ–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Α –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β, –≤–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η –≤ ―ç―²–Ψ –¥–Β–Μ–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Β―²–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –ö―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä―¹–Κ–Α―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –ö-51 –Ζ–Α–Φ–Α―¹–Κ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Α ―¹–Β―²―è–Φ–Η–ü–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α–Μ –Η ―¹–Ϋ–Β–≥, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι, –≤ –Ϋ–Α―Ä―É―à–Β–Ϋ–Η–Β –≤―¹–Β―Ö –Ω―Ä–Β–Ε–Ϋ–Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ, –Ϋ–Β ―¹–Φ–Β―²–Α–Μ–Η –Ϋ–Η ―¹ –Ω–Α–Μ―É–± –Η –Ϋ–Α–¥―¹―²―Ä–Ψ–Β–Κ, –Ϋ–Η –¥–Α–Ε–Β ―¹ –Ψ―Ä―É–¥–Η–Ι. –™–¥–Β ―¹–Ϋ–Β–≥ –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ –¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ―¹―è, –Ϋ–Α–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η –Ω―è―²–Ϋ–Α –Η–Ζ–≤–Β―¹―²―¨―é, ―¹–Φ–Β―à–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹ –±–Β–Μ–Η–Μ–Α–Φ–Η. –ö―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä―¹–Κ–Α―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –ö-51 –Ζ–Α–Φ–Α―¹–Κ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Α ―¹–Β―²―è–Φ–Η–ü–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α–Μ –Η ―¹–Ϋ–Β–≥, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι, –≤ –Ϋ–Α―Ä―É―à–Β–Ϋ–Η–Β –≤―¹–Β―Ö –Ω―Ä–Β–Ε–Ϋ–Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ, –Ϋ–Β ―¹–Φ–Β―²–Α–Μ–Η –Ϋ–Η ―¹ –Ω–Α–Μ―É–± –Η –Ϋ–Α–¥―¹―²―Ä–Ψ–Β–Κ, –Ϋ–Η –¥–Α–Ε–Β ―¹ –Ψ―Ä―É–¥–Η–Ι. –™–¥–Β ―¹–Ϋ–Β–≥ –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ –¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ―¹―è, –Ϋ–Α–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η –Ω―è―²–Ϋ–Α –Η–Ζ–≤–Β―¹―²―¨―é, ―¹–Φ–Β―à–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹ –±–Β–Μ–Η–Μ–Α–Φ–Η.
–¦―ë―²―΅–Η–Κ–Η, –±–Α―Ä―Ä–Α–Ε–Η―Ä–Ψ–≤–Α–≤―à–Η–Β –Ϋ–Α–¥ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Ψ–Φ, ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Α–Μ–Η: ―Ä–Α–Ζ–≥–Μ―è–¥–Β―²―¨ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ –¥–Α–Ε–Β ―²–Α–Φ, –≥–¥–Β ―¹―²–Ψ–Η―² –Η―Ö –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ä―è–¥–Ψ–Φ. –≠―²–Ψ –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Η ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–¥ –Ω―Ä–Η―Ü–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é –±–Ψ–Φ–±―ë–Ε–Κ―É –Ϋ–Α―à–Η –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Η, –¥–Α –Η –Ω–Μ–Α–≤–±–Α–Ζ―΄, –Ω–Ψ–Κ–Α –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ω–Α–¥–Α–Μ–Η. –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –¦-21 –¥–Μ―è –Φ–Α―¹–Κ–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Η –Ω–Ψ–Κ―Ä―΄―²–Α –±–Β–Μ–Ψ–Ι –Κ―Ä–Α―¹–Κ–Ψ–Ι. –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥, –Ζ–Η–Φ–Α 1942 –≥–Ψ–¥–Α–ù–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö, ―¹―²–Ψ―è–≤―à–Η―Ö –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β, –≤ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β –Ζ–Η–Φ―΄ –Β―â―ë –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ζ–Α–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≤ –Κ―Ä–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä―¨―¹–Κ–Η–Β –¥–Ϋ–Η –Ζ–Α―Ä―è–¥―΄ –≤–Ζ―Ä―΄–≤―΅–Α―²–Κ–Η. –Γ―΅–Η―²–Α–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ ―É–±–Η―Ä–Α―²―¨ –Η―Ö ―Ä–Α–Ϋ–Ψ. –ù–Β–Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ―΄–Ι ¬Ϊ–±–Α–Μ–Μ–Α―¹―²¬Μ ―΅–Β–Φ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄–≤–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ζ–Ψ–Μ–Η–Μ –≥–Μ–Α–Ζ–Α. –ö –ù–Ψ–≤–Ψ–Φ―É –≥–Ψ–¥―É –≤–Ζ―Ä―΄–≤―΅–Α―²–Κ–Η –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è―Ö ―É–Ε–Β –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ, –Η ―ç―²–Ψ –Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ –¥–Μ―è –≤―¹–Β―Ö, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Α ―¹―²–Α–Μ–Ψ –±–Ψ–Μ–Β–Β –Ω―Ä–Ψ―΅–Ϋ―΄–Φ. –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –¦-21 –¥–Μ―è –Φ–Α―¹–Κ–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Η –Ω–Ψ–Κ―Ä―΄―²–Α –±–Β–Μ–Ψ–Ι –Κ―Ä–Α―¹–Κ–Ψ–Ι. –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥, –Ζ–Η–Φ–Α 1942 –≥–Ψ–¥–Α–ù–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö, ―¹―²–Ψ―è–≤―à–Η―Ö –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β, –≤ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β –Ζ–Η–Φ―΄ –Β―â―ë –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ζ–Α–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≤ –Κ―Ä–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä―¨―¹–Κ–Η–Β –¥–Ϋ–Η –Ζ–Α―Ä―è–¥―΄ –≤–Ζ―Ä―΄–≤―΅–Α―²–Κ–Η. –Γ―΅–Η―²–Α–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ ―É–±–Η―Ä–Α―²―¨ –Η―Ö ―Ä–Α–Ϋ–Ψ. –ù–Β–Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ―΄–Ι ¬Ϊ–±–Α–Μ–Μ–Α―¹―²¬Μ ―΅–Β–Φ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄–≤–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ζ–Ψ–Μ–Η–Μ –≥–Μ–Α–Ζ–Α. –ö –ù–Ψ–≤–Ψ–Φ―É –≥–Ψ–¥―É –≤–Ζ―Ä―΄–≤―΅–Α―²–Κ–Η –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è―Ö ―É–Ε–Β –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ, –Η ―ç―²–Ψ –Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ –¥–Μ―è –≤―¹–Β―Ö, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Α ―¹―²–Α–Μ–Ψ –±–Ψ–Μ–Β–Β –Ω―Ä–Ψ―΅–Ϋ―΄–Φ.
–†–Α―¹―¹―Ä–Β–¥–Ψ―²–Ψ―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–Μ–Ψ –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η―²―¨ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö –Ω–Α―Ä–Ψ–Φ. –ù–Α ―²–Β―Ö, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ϋ–Β –Ψ―²–Α–Ω–Μ–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨, –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹ –Η –Φ–Α–≥–Η―¹―²―Ä–Α–Μ–Η –Ψ–±―Ä–Α―¹―²–Α–Μ–Η –Κ–Ψ–Μ―é―΅–Β–Ι –Ζ–Α–Η–Ϋ–¥–Β–≤–Β–Μ–Ψ–Ι ¬Ϊ―à―É–±–Ψ–Ι¬Μ. –£ –Ω―Ä–Ψ–Φ―ë―Ä–Ζ―à–Η―Ö –Ψ―²―¹–Β–Κ–Α―Ö ―²―É―¹–Κ–Μ–Ψ ―¹–≤–Β―²–Η–Μ–Η―¹―¨ ―¹–Α–Φ―΄–Β ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η―΅–Ϋ―΄–Β –Μ–Α–Φ–Ω–Ψ―΅–Κ–Η (–Ω–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –≤ –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Φ). –£–Α―Ö―²–Α, –Ψ–¥–Β―²–Α―è –≤ –Ω–Ψ–Μ―É―à―É–±–Κ–Η –Η –≤–Α–Μ–Β–Ϋ–Κ–Η, ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Α ―¹–Β–±―è –Ω–Ψ―΅―²–Η ―²–Α–Κ –Ε–Β, –Κ–Α–Κ –≤ –Ζ–Α―¹–Ϋ–Β–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ–Κ–Ψ–Ω–Β. –ê –≤ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ―¹―²―É ―¹―²–Ψ―è–Μ –Α―Ä–Φ–Β–Ι―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Ψ–Μ–Β–≤–Ψ–Ι ―²–Β–Μ–Β―³–Ψ–Ϋ, βÄî –Ω―Ä―è–Φ–Α―è ―¹–≤―è–Ζ―¨ ―¹–Ψ ―à―²–Α–±–Ψ–Φ. –£―¹―ë ―ç―²–Ψ ―è ―É–Ζ–Ϋ–Α–Μ –Η ―É–≤–Η–¥–Β–Μ –≤ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –¥–Ϋ–Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η―è –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥. –ù–Α –ü–¦ –Γ-13 ―¹ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨―é –¥–Ψ―¹–Ψ–Κ –Η –±―Ä–Β–Ζ–Β–Ϋ―²–Α –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Α –Κ–Ψ–Ϋ―³–Η–≥―É―Ä–Α―Ü–Η―è –Ψ–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è ―Ä―É–±–Κ–Η. –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥, –Ζ–Η–Φ–Α 1942 –≥–Ψ–¥–Α –ù–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ ―à―²–Α–±–Α –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –û―²―¹―é–¥–Α –Φ―΄ ―¹ –ï –≥–Η–Ω–Κ–Ψ –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Φ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ω–Ψ–Μ―É–≥–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥ –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ –¦–Η–±–Α–≤―É. –Δ –Β–Ω–Β―Ä―¨ –Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –±–Β―¹–Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ. –ê ―΅–Β–Φ –Φ–Ϋ–Β –Ϋ–Α–¥–Μ–Β–Ε–Η―² –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨―¹―è –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β, –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ε–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Α–Κ ―è –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Ψ–±–Ψ –≤―¹–Β―Ö –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α―Ö –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è –ö-51. –ù–Α –ü–¦ –Γ-13 ―¹ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨―é –¥–Ψ―¹–Ψ–Κ –Η –±―Ä–Β–Ζ–Β–Ϋ―²–Α –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Α –Κ–Ψ–Ϋ―³–Η–≥―É―Ä–Α―Ü–Η―è –Ψ–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è ―Ä―É–±–Κ–Η. –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥, –Ζ–Η–Φ–Α 1942 –≥–Ψ–¥–Α –ù–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ ―à―²–Α–±–Α –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –û―²―¹―é–¥–Α –Φ―΄ ―¹ –ï –≥–Η–Ω–Κ–Ψ –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Φ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ω–Ψ–Μ―É–≥–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥ –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ –¦–Η–±–Α–≤―É. –Δ –Β–Ω–Β―Ä―¨ –Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –±–Β―¹–Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ. –ê ―΅–Β–Φ –Φ–Ϋ–Β –Ϋ–Α–¥–Μ–Β–Ε–Η―² –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨―¹―è –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β, –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ε–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Α–Κ ―è –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Ψ–±–Ψ –≤―¹–Β―Ö –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α―Ö –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è –ö-51.
–ù–Β―É–¥–Α―΅–Α ―¹ –Β―ë –≤―΄–≤–Ψ–¥–Ψ–Φ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –≤–Ψ―¹–Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Α―¹―¨ ―É–Ε–Β ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ, –±–Μ–Α–≥–Ψ –Μ–Ψ–¥–Κ–Α ―Ü–Β–Μ–Α. –î–Α–≤ –Φ–Ϋ–Β ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―è –Ψ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Β –Ψ―²―΅―ë―²–Α –¥–Μ―è –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―²–Α, –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –Δ―Ä–Η–Ω–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Η–Ι ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ:
βÄî –ê ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨, –¦–Β–≤ –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Β–≤–Η―΅, –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Ι ―¹–≤–Ψ―é –Ω―Ä–Β–Ε–Ϋ―é―é –Κ–Α―é―²―É –Ϋ–Α ¬Ϊ–‰―Ä―²―΄―à–Β¬Μ –Η ―¹―΅–Η―²–Α–Ι ―¹–Β–±―è ―¹ ―¹–Β–≥–Ψ ―΅–Α―¹–Α –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è―é―â–Η–Φ –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α ―à―²–Α–±–Α. –ü–Ψ–Κ–Α –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è―é―â–Η–Φ –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, βÄî –¥–Ψ–±–Α–≤–Η–Μ –Ψ–Ϋ ―¹ –Ϋ–Α–Ε–Η–Φ–Ψ–Φ –Ϋ–Α ¬Ϊ–Ω–Ψ–Κ–Α¬Μ.
–· –Ϋ–Β ―É―¹–Ω–Β–Μ ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η―²―¨: ¬Ϊ–ê –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι?¬Μ. –ö–Ψ–Φ–±―Ä–Η–≥ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Η–Μ:
βÄî –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι –±―É–¥–Β―² –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è―²―¨ –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ–±―ä–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –±―Ä–Η–≥–Α–¥ ―²–Α–Κ–Α―è –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ω–Ψ ―à―²–Α―²―É –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Α, –≤–Ψ―² –Φ―΄ –Β―ë –Η –Ζ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Φ. –û ―Ä–Α―¹–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι –Φ–Β–Ε–¥―É –≤–Α–Φ–Η –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –Γ―²–Β–Ω–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ε–Β―² ―²–Β–±–Β ―¹–Α–Φ.
–£―΄―à–Μ–Ψ ―²–Α–Κ, ―΅―²–Ψ, –±―É–¥―É―΅–Η ―É–Ε–Β ―΅–Β―²–≤―ë―Ä―²―΄–Ι –Φ–Β―¹―è―Ü –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ–Β–Φ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 1-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤ ―à―²–Α–±–Β –Ψ–±―ä–Β–¥–Η–Ϋ―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄, ―è –Ζ–Α ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ϋ–Η ―Ä–Α–Ζ―É –Ϋ–Β –≤–Η–¥–Β–Μ―¹―è ―¹ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ ―à―²–Α–±–Α, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Α―Ä–Η–≤–Α–Μ –Η–Ζ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Α –Ω–Ψ ―²–Β–Μ–Β―³–Ψ–Ϋ―É. –û―²–Ω―Ä–Α–≤–Η–≤―à–Η―¹―¨ –Κ –Ϋ–Β–Φ―É –Ϋ–Α ¬Ϊ–ü–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ―É―é –Ζ–≤–Β–Ζ–¥―ɬΜ, –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β –Ζ–Α―²―Ä―É–¥–Ϋ―è–Μ―¹―è ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¨, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Μ―¹―è –≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι ―Ä–Α–Ζ ―¹ –±―΄–≤―à–Η–Φ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –≤ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Β ―²–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö ¬Ϊ–¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ―Ü–Β–≤¬Μ, –≥–¥–Β ―¹–Μ―É–Ε–±–Α –Β–≥–Ψ –≤–Ϋ–Β–Ζ–Α–Ω–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Β―Ä–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤ ―²―Ä–Η–¥―Ü–Α―²―¨ ―¹–Β–¥―¨–Φ–Ψ–Φ –≥–Ψ–¥―É –Η, –Κ ―¹―΅–Α―¹―²―¨―é, ―¹–Φ–Ψ–≥–Μ–Α –≤–Ψ–Ζ–Ψ–±–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¨―¹―è –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Β–Α–±–Η–Μ–Η―²–Α―Ü–Η–Η –≤ ―¹–Ψ―Ä–Ψ–Κ–Ψ–≤–Ψ–Φ.
–½–Ϋ–Α―è ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α―è –Γ―²–Β–Ω–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–Α, –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η–Μ―¹―è –Β–Φ―É ―¹ –Ω–Ψ–¥―΅―ë―Ä–Κ–Ϋ―É―²–Ψ–Ι –Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é. –†–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¹―è –≤ ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Ψ ―¹–Μ―É–Ε–Β–±–Ϋ–Ψ–Φ ―²–Ψ–Ϋ–Β, –Ϋ–Ψ ―¹–Α–Φ ―¹–Ψ–±–Ψ―é –Ω–Β―Ä–Β―à―ë–Μ –Ϋ–Α –±–Ψ–Μ–Β–Β ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Β―¹–Κ–Η–Ι. –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ –Ϋ–Α―à―É –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―¹–Κ―É―é –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―¹―²―¨, –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ, –Ϋ–Β ―²–Β ―²―è–Ε–Κ–Η–Β –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―²–Α–Φ –Ϋ–Β–Ζ–Α―¹–Μ―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ, –Α ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β–Φ–Α–Μ–Ψ, βÄî –Ψ―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι, –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥―΄... –ù–Ψ –Φ―΄ –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Η―¹―¨ –Κ –¥–Β–Μ–Α–Φ ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è―à–Ϋ–Η–Φ.
–‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –Κ–Ψ–Φ–±―Ä–Η–≥ –≤–Ψ–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –Ϋ–Α –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ζ–Α –≤―¹―ë, ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―¹ ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β–Φ –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –≤ ―¹―É―Ö–Ψ–Ω―É―²–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ϋ―É―²―Ä–Η–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β. –û―¹―²–Α–≤–Α–Μ―¹―è –Ψ–Ϋ –Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Ϋ–Β ―Ä–Α―¹―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–Κ–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥, ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è ¬Ϊ―¹–Ω–Β―Ü–Ζ–Α–¥–Α–Ϋ–Η―è¬Μ, βÄî ―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ψ–±―ä–Β–Κ―²–Ψ–≤ –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β –Ω―Ä–Η –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Β –≤―Ä–Α–≥–Α. –‰–Ζ ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Κ–Α―¹–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –Ζ–Α–Φ–Κ–Ψ–Φ–±―Ä–Η–≥–Α –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―΄–Μ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä-–Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –≤–Β–¥–Α―²―¨ –Ψ–±―â–Η–Φ–Η –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Α–Φ–Η –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Α, ―Ä–Β―à–Α―²―¨ –Η―Ö –≤ ―à―²–Α–±–Β ―³–Μ–Ψ―²–Α, ―²–Β―Ö–Ψ―²–¥–Β–Μ–Β –Η –Ϋ–Α –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Α―Ö. –£―¹―è –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è ―à―²–Α–±–Ϋ–Α―è ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α –Κ–Ψ –Φ–Ϋ–Β.
–ù–Β–Ψ―²–Μ–Ψ–Ε–Ϋ―΄―Ö –¥–Β–Μ –Ϋ–Α–Κ–Ψ–Ω–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ. –ü–Ψ–Φ–Η–Φ–Ψ –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―΅–Β–≥–Ψ, ―è ―¹―΅–Η―²–Α–Μ –±–Β–Ζ–Ψ―²–Μ–Α–≥–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –¥–Μ―è ―¹–Β–±―è –¥–Β―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Β –Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Μ–Β–Ϋ–Η–Β ―¹ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Β–Φ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –Η –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –≤―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Η―Ö ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β –≤ –¥―Ä―É–≥–Η–Β –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄, –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―¹―²–≤–Ψ ―¹ ―²–Β–Φ–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α–Φ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ω–Ψ–Κ–Α –Φ–Α–Μ–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Μ.
–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―â–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―²–Ψ–≥–¥–Α ―Ä–Α–Ζ–±―Ä–Ψ―¹–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ: –Κ–Ψ–Φ–±―Ä–Η–≥ –Ϋ–Α ¬Ϊ–Γ–Φ–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ¬Μ, –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι βÄî –Ϋ–Α ¬Ϊ–ü–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –Ζ–≤–Β–Ζ–¥–Β¬Μ, ―è –Ϋ–Α ¬Ϊ–‰―Ä―²―΄―à–Β¬Μ. –ü–Ψ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η–Φ –Ω–Μ–Α–≤–±–Α–Ζ–Α–Φ, ―¹―²–Ψ―è–≤―à–Η–Φ ―É ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α–±–Β―Ä–Β–Ε–Ϋ―΄―Ö, –±―΄–Μ–Η ―Ä–Α―¹―¹–Β–Μ–Β–Ϋ―΄ –Η ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Η ―à―²–Α–±–Α. –≠―²–Ψ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤–Α–Μ–Ψ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Β―É–¥–Ψ–±―¹―²–≤–Α, –Ψ–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Η–Φ–Β–Μ–Ψ ―²–Ψ―² –Ε–Β ―¹–Φ―΄―¹–Μ, ―΅―²–Ψ –Η ―Ä–Α―¹―¹―Ä–Β–¥–Ψ―²–Ψ―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ –ù–Β–≤–Β –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ. –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β, –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ω–Α―¹―²―¨ –≤―¹–Β–Φ –Ω–Ψ–¥ –Ψ–¥–Ϋ―É –±–Ψ–Φ–±―É.
–ü–Ψ–Ζ–Ε–Β –Φ―΄ ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤―¹–Β –≤–Φ–Β―¹―²–Β, –Ϋ–Ψ ―É–Ε–Β –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥―É.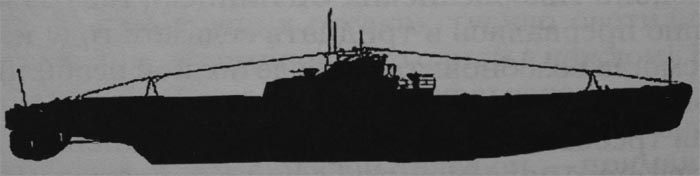 –Γ―Ä–Β–¥–Ϋ―è―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Ω―è―²–Ψ–Ι ―¹–Β―Ä–Η–Η ―²–Η–Ω–Α ¬Ϊ–©―É–Κ–Α¬Μ –™–Μ–Α–≤–Α ―à–Β―¹―²–Α―è –Γ―Ä–Β–¥–Ϋ―è―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Ω―è―²–Ψ–Ι ―¹–Β―Ä–Η–Η ―²–Η–Ω–Α ¬Ϊ–©―É–Κ–Α¬Μ –™–Μ–Α–≤–Α ―à–Β―¹―²–Α―è
–ß–Δ–û–ë–Ϊ –½–ê–£–Δ–£–ê –Γ–ù–û–£–ê –£ –ü–û–Ξ–û–î
–ë–Ψ–Β–≤–Α―è –Ζ–Α–¥–Α―΅–Α βÄî –Ψ―²―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤―¹–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Θ –Φ–Β–Ϋ―è –≤ –Κ–Α―é―²–Β, –≤ –¥–Η–Ϋ–Α–Φ–Η–Κ–Β, –Ω–Ψ–¥–Κ–Μ―é―΅―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Κ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–Ι ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Μ―è―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Β―²–Η, –Ϋ–Β–Ω―Ä–Β―Ä―΄–≤–Ϋ–Ψ ―²–Η–Κ–Α–Μ –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ―΄–Ι –≤―¹–Β–Φ, –Ω–Β―Ä–Β–Ε–Η–≤―à–Η–Φ –±–Μ–Ψ–Κ–Α–¥―É, –Μ–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Η–Ι –Φ–Β―²―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ. –ï―¹–Μ–Η –Ψ–Ϋ ―É–Φ–Ψ–Μ–Κ–Α–Μ, ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–≤–Β―â–Α–Μ–Ψ –Ψ–±―ä―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –≤–Ψ–Ζ–¥―É―à–Ϋ–Ψ–Ι ―²―Ä–Β–≤–Ψ–≥–Η. –€–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι ―¹―²―É–Κ –Φ–Β―²―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Α –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α–Μ –Μ–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―Ü–Α–Φ: ―³―Ä–Ψ–Ϋ―² –¥–Β―Ä–Ε–Η―²―¹―è, –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ –≤ –Ϋ–Α―à–Η―Ö ―Ä―É–Κ–Α―Ö.
–ê –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Α–Φ –Ϋ–Α ―¹–Κ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Μ―¨–¥–Ψ–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è―Ö –Ψ–Ϋ –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Φ―΄ –Ϋ–Β–Ψ―²–¥–Β–Μ–Η–Φ―΄ –Ψ―² –Ψ―¹–Α–Ε–¥―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α, ―΅―²–Ψ ―É –Ϋ–Α―¹ –Ψ–¥–Ϋ–Α ―¹ –Ϋ–Η–Φ ―¹―É–¥―¨–±–Α, –Η –Ω–Ψ–Κ–Α –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β–Φ –Ω–Μ–Α–≤–Α―²―¨, –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –±―΄―²―¨ –≥–Ψ―²–Ψ–≤―΄ –≤―¹―²―É–Ω–Η―²―¨ –≤ –±–Ψ–Ι –Ζ–Α –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α ―¹―É―à–Β.
–ù–Ψ –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è –±―΄–Μ–Ψ –Η –Ζ–Η–Φ–Ψ–Ι –Ϋ–Β –¥―É–Φ–Α―²―¨ –Ψ –±―É–¥―É―â–Β–Ι –Κ–Α–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Α –Φ–Ψ―Ä–Β, –Ψ –Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α―Ö. –½–Η–Φ–Α –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Β βÄî –≤―Ä–Β–Φ―è ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι. –£ ―²–Ψ–Φ –≥–Ψ–¥―É ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―² ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Β–Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Η–Ζ-–Ζ–Α –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ–Η –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Ι. –Θ―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è –¥–Μ―è –Ϋ–Β–≥–Ψ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Η―¹―¨ ―¹–Α–Φ―΄–Β –Ϋ–Β–±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ―΄–Β.
–û–±―΄―΅–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β –Ϋ–Α ―²–Β―Ö –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Α―Ö, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Η―Ö –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ–Η. –Δ–Α–Φ –Η–Φ–Β–Μ–Η―¹―¨ –Η –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ–Β –Ψ–±–Ψ―Ä―É–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β, –Η –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Φ–Α―¹―²–Β―Ä–Α-–Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―΄. –û–Ϋ–Η –Κ―Ä–Β–Ω–Κ–Ψ –≤―΄―Ä―É―΅–Α–Μ–Η –Ϋ–Α―¹ –Η –≤ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Β –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Μ–Β―²–Ψ. –Θ –Ζ–Α–≤–Ψ–¥―¹–Κ–Η―Ö –Ω―Ä–Η―΅–Α–Μ–Ψ–≤, –≤–Κ–Μ―é―΅–Α―è –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²―¹–Κ–Η–Ι –Φ–Ψ―Ä–Ζ–Α–≤–Ψ–¥, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ω―Ä–Β–¥–Ω―Ä–Η―è―²–Η―è –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α, –Ω–Β―Ä–Β–±―΄–≤–Α–Μ–Ψ –±–Ψ–Μ–Β–Β –Ω–Ψ–Μ―É―¹–Ψ―²–Ϋ–Η –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –Ϋ―É–Ε–¥–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è –≤ ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Φ ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Β, –Η –Ϋ–Β―Ä–Β–¥–Κ–Ψ –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–Β―Ä―¨―ë–Ζ–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è ―É―¹―²―Ä–Α–Ϋ―è–Μ–Η―¹―¨ –Ζ–Α ―΅–Β―²―΄―Ä–Β-–Ω―è―²―¨ ―¹―É―²–Ψ–Κ. –£ ―²–Β –Ε–Β –Φ–Β―¹―è―Ü―΄ ―΅–Β―²―΄―Ä–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –≤―΄―à–Μ–Η –Η–Ζ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Α, –Ϋ–Α―΅–Α―²–Ψ–≥–Ψ –Β―â―ë –¥–Ψ –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄, –Η ―΅–Β―²―΄―Ä–Β –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –±―΄–Μ–Η –¥–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ―΄.
–ù–Ψ ―¹ –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Ψ–≤ –Ω–Ψ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤―΄–≤–Ψ–Ζ–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≤ ―²―΄–Μ –Ϋ–Α–Η–±–Ψ–Μ–Β–Β ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ψ–±–Ψ―Ä―É–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β, ―ç–≤–Α–Κ―É–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Η –Μ―É―΅―à–Η–Β ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²―΄. –ê ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Η―Ö ―É―à–Μ–Ψ –Ζ–Α―â–Η―â–Α―²―¨ ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥! –Δ–Ψ–≥–¥–Α ―è –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Μ ―Ü–Η―³―Ä, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Φ–Ψ–≥―É –Ω―Ä–Η–≤–Β―¹―²–Η ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹. –‰–Ζ 16 –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Ψ- –Ω―É–Μ–Β–Φ―ë―²–Ϋ―΄―Ö –±–Α―²–Α–Μ―¨–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –Μ–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ù–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Ω–Ψ–Μ―΅–Β–Ϋ–Η―è ―¹–Β–Φ―¨ –±―΄–Μ–Η ―É–Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―²–Ψ–≤–Α–Ϋ―΄ ―¹―É–¥–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―è–Φ–Η, –Α –≤―¹–Β–≥–Ψ ―¹ –≤–Β―Ä―³–Β–Ι ―É―à–Μ–Ψ –≤ –Ψ–Ω–Ψ–Μ―΅–Β–Ϋ–Η–Β, –≤ –Η―¹―²―Ä–Β–±–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –±–Α―²–Α–Μ―¨–Ψ–Ϋ―΄, –≤ –Ω–Α―Ä―²–Η–Ζ–Α–Ϋ―΄, 17 ―²―΄―¹―è―΅ –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―Ü–Β–≤.
–Δ–Β –Ε–Β, –Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Η –Ϋ–Α –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Α―Ö, –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ–Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–¥–Α–Ϋ–Η–Ι, –Ϋ–Β ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹ ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ. –Γ―É–¥–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ–Η –Η–Ζ–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ―è–Μ–Η –±―Ä–Ψ–Ϋ–Β–Κ–Ψ–Μ–Ω–Α–Κ–Η –¥–Μ―è –¥–Ψ―²–Ψ–≤, ―²―Ä―É–±―΄ –¥–Μ―è –Μ–Α–¥–Ψ–Ε―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β―³―²–Β–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Α, –Φ–Η–Ϋ―΄, –¥–Β―²–Α–Μ–Η –¥–Μ―è ―²–Α–Ϋ–Κ–Ψ–≤, –Ψ―¹–Ϋ–Α―â–Α–Μ–Η –±―Ä–Ψ–Ϋ–Β–Ω–Ψ–Β–Ζ–¥–Α. –Γ–Μ―É–Ε–Α―â–Η–Β, ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η–Β –Η ―¹―²―É–¥–Β–Ϋ―²―΄ ―É―Ö–Ψ–¥―è―² –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Β–¥–Ψ–≤―É―é. –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥, –Ψ―¹–Β–Ϋ―¨ 1941 –≥–Ψ–¥–Α–£ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β 1942 –≥–Ψ–¥–Α –Ζ–Α–≤–Ψ–¥―΄ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Α, –≤–Φ–Β―¹―²–Β –≤–Ζ―è―²―΄–Β, –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―² –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Μ–Η―à―¨ –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ 500 ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η―Ö –Η –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Η―Ä–Ψ–≤. –ü―Ä–Η―΅―ë–Φ –±–Ψ–Μ―¨―à–Α―è ―΅–Α―¹―²―¨ –Η―Ö –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η. –û–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Β ―É―¹–Η–Μ–Η―è –Ω―Ä–Η–Μ–Α–≥–Α–Μ–Η―¹―¨ –¥–Μ―è –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η―è –≤ ―¹―²―Ä–Ψ–Ι –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Α ¬Ϊ–€–Α–Κ―¹–Η–Φ –™–Ψ―Ä―¨–Κ–Η–Ι¬Μ –Η –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥―ë–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―ç―¹–Φ–Η–Ϋ―Ü–Β–≤. –Γ–Μ―É–Ε–Α―â–Η–Β, ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η–Β –Η ―¹―²―É–¥–Β–Ϋ―²―΄ ―É―Ö–Ψ–¥―è―² –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Β–¥–Ψ–≤―É―é. –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥, –Ψ―¹–Β–Ϋ―¨ 1941 –≥–Ψ–¥–Α–£ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β 1942 –≥–Ψ–¥–Α –Ζ–Α–≤–Ψ–¥―΄ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Α, –≤–Φ–Β―¹―²–Β –≤–Ζ―è―²―΄–Β, –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―² –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Μ–Η―à―¨ –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ 500 ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η―Ö –Η –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Η―Ä–Ψ–≤. –ü―Ä–Η―΅―ë–Φ –±–Ψ–Μ―¨―à–Α―è ―΅–Α―¹―²―¨ –Η―Ö –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η. –û–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Β ―É―¹–Η–Μ–Η―è –Ω―Ä–Η–Μ–Α–≥–Α–Μ–Η―¹―¨ –¥–Μ―è –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η―è –≤ ―¹―²―Ä–Ψ–Ι –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Α ¬Ϊ–€–Α–Κ―¹–Η–Φ –™–Ψ―Ä―¨–Κ–Η–Ι¬Μ –Η –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥―ë–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―ç―¹–Φ–Η–Ϋ―Ü–Β–≤.
–£―¹―ë ―ç―²–Ψ –Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ: ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ϋ–Α–¥–Ψ –≤ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹–Η–Μ–Α–Φ–Η. –¦–Η―΅–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –Η ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ –≤ –Ζ–Η–Φ–Ϋ–Β–Ι –Ω–Β―Ä–Β–±–Ψ―Ä–Κ–Β –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ–Ψ–≤, –Η ―ç―²–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α–Μ–Ψ –Ψ―¹–≤–Α–Η–≤–Α―²―¨ ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ―É. –ù–Ψ ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨, –Α –≤–Ζ―è―²―¨ –Ϋ–Α ―¹–Β–±―è –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι –Ψ–±―ä―ë–Φ ―Ä–Α–±–Ψ―², –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É―è –Ζ–Α–≤–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–Β –Ψ–±–Ψ―Ä―É–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Η –Ϋ–Α―¹―²–Α–≤–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ―É―é –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Ψ–≤-–Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ–Ψ–≤.
–Γ–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β, –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―è–≤―à–Β–Β ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―² –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ―É –Η―Ö –Κ –Μ–Β―²–Ϋ–Β–Ι –Κ–Α–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η, –Κ–Α–Κ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―É―é –Ζ–Α–¥–Α―΅―É –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Φ―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α –Ϋ–Α –±–Μ–Η–Ε–Α–Ι―à–Β–Β –≤―Ä–Β–Φ―è, –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ –≤ ―è–Ϋ–≤–Α―Ä–Β 1942 –≥–Ψ–¥–Α –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―² –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Α. –£ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Η –±―΄–Μ –Ω―É–Ϋ–Κ―², –Ψ–±―è–Ζ―΄–≤–Α–≤―à–Η–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ ―¹―É―Ö–Ψ–Ω―É―²–Ϋ―΄―Ö ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι –≤–Β―Ä–Ϋ―É―²―¨ –≤ –±―Ä–Η–≥–Α–¥―É –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Ψ–≤, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Η―Ö―¹―è –Ϋ–Α ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Β. –û―¹―²–Α–≤―à–Η–Β―¹―è –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η–Β –Ω–Α―²―Ä―É–Μ–Η―Ä―É―é―² ―É–Μ–Η―Ü―΄ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α. –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥, –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ –Ζ–Η–Φ―΄ 1941 –≥–Ψ–¥–Α–ù–Ψ –≤–Β―Ä–Ϋ―É―²―¨―¹―è ―¹–Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ϋ–Β –≤―¹–Β, –Κ―²–Ψ ―É―à―ë–Μ ―¹ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –≤ ―¹–Α–Φ―΄–Β –≥―Ä–Ψ–Ζ–Ϋ―΄–Β –¥–Μ―è –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Α –¥–Ϋ–Η, –Η –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö ―É–Ε–Β –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –≤ –Ε–Η–≤―΄―Ö. –ù–Β –Ψ―²–Ω―É―¹―²–Η–Μ–Η –Ϋ–Α―à–Η―Ö –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―Ü–Β–≤, ―¹―Ä–Α–Ε–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è –≤ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Β―Ö–Ψ―²–Β –Ϋ–Α –û―Ä–Α–Ϋ–Η–Β–Ϋ–±–Α―É–Φ―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω–Μ–Α―Ü–¥–Α―Ä–Φ–Β. –‰ –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Φ―΄ –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ–Η ―Ä–Α–Ζ–≤―ë―Ä―²―΄–≤–Α―²―¨ ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―², –≤–Β―¹―¨ –Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –Β―â―ë –Ϋ–Α ―É―΅–Β–Ϋ–Η―è, ―²―Ä–Β–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Η –Η –≤ –¥–Ψ–Ζ–Ψ―Ä―΄ –Ϋ–Α –≤–Ϋ―É―²―Ä–Η–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Η―Ö –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―Ä―É–±–Β–Ε–Α―Ö. –û―¹―²–Α–≤―à–Η–Β―¹―è –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η–Β –Ω–Α―²―Ä―É–Μ–Η―Ä―É―é―² ―É–Μ–Η―Ü―΄ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α. –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥, –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ –Ζ–Η–Φ―΄ 1941 –≥–Ψ–¥–Α–ù–Ψ –≤–Β―Ä–Ϋ―É―²―¨―¹―è ―¹–Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ϋ–Β –≤―¹–Β, –Κ―²–Ψ ―É―à―ë–Μ ―¹ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –≤ ―¹–Α–Φ―΄–Β –≥―Ä–Ψ–Ζ–Ϋ―΄–Β –¥–Μ―è –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Α –¥–Ϋ–Η, –Η –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö ―É–Ε–Β –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –≤ –Ε–Η–≤―΄―Ö. –ù–Β –Ψ―²–Ω―É―¹―²–Η–Μ–Η –Ϋ–Α―à–Η―Ö –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―Ü–Β–≤, ―¹―Ä–Α–Ε–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è –≤ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Β―Ö–Ψ―²–Β –Ϋ–Α –û―Ä–Α–Ϋ–Η–Β–Ϋ–±–Α―É–Φ―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω–Μ–Α―Ü–¥–Α―Ä–Φ–Β. –‰ –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Φ―΄ –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ–Η ―Ä–Α–Ζ–≤―ë―Ä―²―΄–≤–Α―²―¨ ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―², –≤–Β―¹―¨ –Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –Β―â―ë –Ϋ–Α ―É―΅–Β–Ϋ–Η―è, ―²―Ä–Β–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Η –Η –≤ –¥–Ψ–Ζ–Ψ―Ä―΄ –Ϋ–Α –≤–Ϋ―É―²―Ä–Η–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Η―Ö –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―Ä―É–±–Β–Ε–Α―Ö. –•–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ―΄ –Η–Ζ–≥–Ψ―²–Α–≤–Μ–Η–≤–Α―é―² –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Η–Β ―¹–Ϋ–Α―Ä―è–¥―΄. –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥ –≤ –±–Μ–Ψ–Κ–Α–¥–Β, –Ζ–Η–Φ–Α 1942 –≥–Ψ–¥–Α–Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–Ε–Β, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Α –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ–Η–Μ–Α –Ψ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Η―²―¨ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ψ―² –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –≤–Α―Ö―²―΄ –Η ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Ι –Ϋ–Α –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥―è―Ö –Η –Ϋ–Α–±–Β―Ä–Β–Ε–Ϋ―΄―Ö, –≤ ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Β ―¹–Φ–Ψ–≥–Μ–Ψ –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ 1500 –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ―³–Μ–Ψ―²―Ü–Β–≤ –Η ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ. –•–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ―΄ –Η–Ζ–≥–Ψ―²–Α–≤–Μ–Η–≤–Α―é―² –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Η–Β ―¹–Ϋ–Α―Ä―è–¥―΄. –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥ –≤ –±–Μ–Ψ–Κ–Α–¥–Β, –Ζ–Η–Φ–Α 1942 –≥–Ψ–¥–Α–Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–Ε–Β, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Α –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ–Η–Μ–Α –Ψ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Η―²―¨ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ψ―² –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –≤–Α―Ö―²―΄ –Η ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Ι –Ϋ–Α –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥―è―Ö –Η –Ϋ–Α–±–Β―Ä–Β–Ε–Ϋ―΄―Ö, –≤ ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Β ―¹–Φ–Ψ–≥–Μ–Ψ –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ 1500 –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ―³–Μ–Ψ―²―Ü–Β–≤ –Η ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ. –€–Ψ―²–Ψ―Ä–Η―¹―²―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –©-309 ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Η―Ä―É―é―² –¥–Η–Ζ–Β–Μ―¨. –†–Α–±–Ψ―²–Α–Φ–Η ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―² –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä-–Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ –£.–ê–≤–Β―Ä―¨―è–Ϋ–Ψ–≤. –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥, –Ζ–Η–Φ–Α 1942 –≥–Ψ–¥–Α–½–Α–≤–Ψ–¥―¹–Κ–Η―Ö ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η―Ö –±―΄–Μ–Ψ –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Ψ –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö –≤ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ä–Α–Ζ –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β. –ù–Ψ –Κ–Α–Ε–¥―΄–Φ –Κ–Α–¥―Ä–Ψ–≤―΄–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ–Ψ–Φ –¥–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Η–Μ–Η, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α. –ü–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α–Μ–Η ―²–Α–Κ–Η–Φ –Φ–Α―¹―²–Β―Ä–Α–Φ, ―΅–Β–Φ –Φ–Ψ–≥–Μ–Η, –¥–Β–Μ–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ψ―¹―²–Α―²–Κ–Α–Φ–Η ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ ―¹―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η–Μ–Η –≤ –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α―Ö. –ù–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η―Ö ―É―¹―²―Ä–Α–Η–≤–Α–Μ–Η –Ε–Η―²―¨ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Α–Φ–Η –Ϋ–Α –Ω–Μ–Α–≤–±–Α–Ζ–Α―Ö. –≠―²–Ψ ―¹–±–Β―Ä–Β–≥–Α–Μ–Ψ –Μ―é–¥―è–Φ ―¹–Η–Μ―΄. –Δ―É―² –±―΄–Μ–Η ―Ä–Β–¥–Κ–Ψ―¹―²–Ϋ―΄–Β –≤ –±–Μ–Ψ–Κ–Α–¥–Ϋ–Ψ–Φ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β –±–Μ–Α–≥–Α: –≤ –Κ―É–±―Ä–Η–Κ–Α―Ö –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ ―¹–Ϋ–Ψ―¹–Ϋ–Α―è ―²–Β–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Α, –≥–Ψ―Ä–Β–Μ ―¹–≤–Β―². –€–Ψ―²–Ψ―Ä–Η―¹―²―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –©-309 ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Η―Ä―É―é―² –¥–Η–Ζ–Β–Μ―¨. –†–Α–±–Ψ―²–Α–Φ–Η ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―² –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä-–Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ –£.–ê–≤–Β―Ä―¨―è–Ϋ–Ψ–≤. –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥, –Ζ–Η–Φ–Α 1942 –≥–Ψ–¥–Α–½–Α–≤–Ψ–¥―¹–Κ–Η―Ö ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η―Ö –±―΄–Μ–Ψ –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Ψ –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö –≤ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ä–Α–Ζ –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β. –ù–Ψ –Κ–Α–Ε–¥―΄–Φ –Κ–Α–¥―Ä–Ψ–≤―΄–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ–Ψ–Φ –¥–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Η–Μ–Η, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α. –ü–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α–Μ–Η ―²–Α–Κ–Η–Φ –Φ–Α―¹―²–Β―Ä–Α–Φ, ―΅–Β–Φ –Φ–Ψ–≥–Μ–Η, –¥–Β–Μ–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ψ―¹―²–Α―²–Κ–Α–Φ–Η ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ ―¹―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η–Μ–Η –≤ –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α―Ö. –ù–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η―Ö ―É―¹―²―Ä–Α–Η–≤–Α–Μ–Η –Ε–Η―²―¨ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Α–Φ–Η –Ϋ–Α –Ω–Μ–Α–≤–±–Α–Ζ–Α―Ö. –≠―²–Ψ ―¹–±–Β―Ä–Β–≥–Α–Μ–Ψ –Μ―é–¥―è–Φ ―¹–Η–Μ―΄. –Δ―É―² –±―΄–Μ–Η ―Ä–Β–¥–Κ–Ψ―¹―²–Ϋ―΄–Β –≤ –±–Μ–Ψ–Κ–Α–¥–Ϋ–Ψ–Φ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β –±–Μ–Α–≥–Α: –≤ –Κ―É–±―Ä–Η–Κ–Α―Ö –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ ―¹–Ϋ–Ψ―¹–Ϋ–Α―è ―²–Β–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Α, –≥–Ψ―Ä–Β–Μ ―¹–≤–Β―². –û―²–Μ–Η―΅–Η–≤―à–Η―Ö―¹―è –Ω―Ä–Η ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤, ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ –Η ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η―Ö –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Μ–Η –≥―Ä–Α–Φ–Ψ―²–Α–Φ–Η–ß―²–Ψ–±―΄ –¥–Α―²―¨ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹ ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Ψ–Φ ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ―¹―²―è―Ö, –Ϋ–Α–¥–Ψ –Β―â―ë ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Η –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄―Ö ―¹―É–¥–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Β–¥–Ω―Ä–Η―è―²–Η–Ι –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η―¹―¨ –Κ ―²–Β–Φ –Φ–Β―¹―²–Α–Φ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―΅–Α―â–Β –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Β―Ä–≥–Α–Μ–Η―¹―¨ –Α―Ä―²–Ψ–±―¹―²―Ä–Β–Μ―É –Η –±–Ψ–Φ–±―ë–Ε–Κ–Α–Φ (–Ψ―² –Ϋ–Η―Ö –Η ―¹–Ω–Α―¹–Α–Μ–Η, –≤―΄–≤–Ψ–Ζ―è –Ψ–±–Ψ―Ä―É–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β). –û―²–Μ–Η―΅–Η–≤―à–Η―Ö―¹―è –Ω―Ä–Η ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤, ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ –Η ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η―Ö –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Μ–Η –≥―Ä–Α–Φ–Ψ―²–Α–Φ–Η–ß―²–Ψ–±―΄ –¥–Α―²―¨ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹ ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Ψ–Φ ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ―¹―²―è―Ö, –Ϋ–Α–¥–Ψ –Β―â―ë ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Η –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄―Ö ―¹―É–¥–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Β–¥–Ω―Ä–Η―è―²–Η–Ι –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η―¹―¨ –Κ ―²–Β–Φ –Φ–Β―¹―²–Α–Φ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―΅–Α―â–Β –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Β―Ä–≥–Α–Μ–Η―¹―¨ –Α―Ä―²–Ψ–±―¹―²―Ä–Β–Μ―É –Η –±–Ψ–Φ–±―ë–Ε–Κ–Α–Φ (–Ψ―² –Ϋ–Η―Ö –Η ―¹–Ω–Α―¹–Α–Μ–Η, –≤―΄–≤–Ψ–Ζ―è –Ψ–±–Ψ―Ä―É–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β).
–€–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β ―Ü–Β―Ö–Α –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²―΄―Ö –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Ψ–≤ –±―΄–Μ–Η ―Ä–Α–Ζ―Ä―É―à–Β–Ϋ―΄ –Η–Μ–Η –Ψ–Ω―É―¹―²–Β–Μ–Η. –‰ –≤―¹―ë-―²–Α–Κ–Η ―ç―²–Η –Ζ–Α–≤–Ψ–¥―΄ ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ–Η –Ψ–Ω–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –±–Α–Ζ–Ψ–Ι ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Α. –ë–Ψ–Μ―¨―à–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –Ω–Ψ–¥ –Ψ–≥–Ϋ―ë–Φ, –Ω―Ä–Η –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Ι –Ϋ–Β―Ö–≤–Α―²–Κ–Β –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ–Ψ–≤, –¥–Β–Ι―¹―²–≤―É―é―â–Η―Ö ―¹―²–Α–Ϋ–Κ–Ψ–≤ –Η ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η―Ö ―Ä―É–Κ, –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ–Α―¹―¨ –¥–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ–Α –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –Ζ–Α–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –¥–Ψ –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄.
3 ―è–Ϋ–≤–Α―Ä―è –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η ―É–≤–Β–Μ–Η―΅–Η–≤–Α―²―¨ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Ψ―Ä–Φ―΄. –≠―²–Ψ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ–Α –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Φ –Μ–Α–¥–Ψ–Ε―¹–Κ–Α―è –î–Ψ―Ä–Ψ–≥–Α –•–Η–Ζ–Ϋ–Η. –ù–Ψ ―Ö–Μ–Β–±–Ϋ–Α―è –Ω―Ä–Η–±–Α–≤–Κ–Α –≤ –Ω–Ψ–Μ―²–Ψ―Ä–Α―¹―²–Α-–¥–≤–Β―¹―²–Η –≥―Ä–Α–Φ–Φ–Ψ–≤ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Α ―¹–Ω–Α―¹―²–Η ―²–Β―Ö, ―É –Κ–Ψ–≥–Ψ –¥–Η―¹―²―Ä–Ψ―³–Η―è –Ζ–Α―à–Μ–Α –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ, –Η –Μ―é–¥–Η –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ–Η ―É–Φ–Η―Ä–Α―²―¨ –Ψ―² –≥–Ψ–Μ–Ψ–¥–Α. –Γ –Ω–Α–Μ―É–±―΄ ¬Ϊ–‰―Ä―²―΄―à–Α¬Μ –±―΄–Μ–Ψ –≤–Η–¥–Ϋ–Ψ, –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ –Ϋ–Α–±–Β―Ä–Β–Ε–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Β–Ζ―É―² –Η –≤–Β–Ζ―É―² ―É–Φ–Β―Ä―à–Η―Ö –Ϋ–Α –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Η―Ö ―¹–Α–Ϋ–Ψ―΅–Κ–Α―Ö. –ù–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η–Β –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Μ–Α–±―΄, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β ―É–¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ–Η―¹―¨ –±―΄ –Ϋ–Α –≤–Β―Ä―²–Η–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ ―²―Ä–Α–Ω–Β, –Η –Η―Ö –Ω―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Μ―é–Κ–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Ϋ–Α ―Ä―É–Κ–Α―Ö. –†–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ –Ψ–Ϋ–Η –Φ–Ψ–≥–Μ–Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Η–¥―è, –Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Φ –Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Η ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–Μ–Η –¥–Α–Ε–Β –Η―Ö ―¹–Ψ–≤–Β―²―΄. –ö–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α –≤–Β–¥―É―² –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι –Ψ–≥–Ψ–Ϋ―¨ ―¹ –ù–Β–≤―΄ –Ω–Ψ –≤―Ä–Α–Ε–Β―¹–Κ–Η–Φ –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η―è–Φ. –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥, ―è–Ϋ–≤–Α―Ä―¨ 1942 –≥–Ψ–¥–Α. –ö–Α―Ä―²–Η–Ϋ–Α ―Ö―É–¥–Ψ–Ε–Ϋ–Η–Κ–Α –·.–î.–†–Ψ–Φ–Α―¹–Α–ß―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β ―²–Α–Κ –Ψ–±–Ε–Η–≥–Α–Μ ―Ä―É–Κ–Η ―¹―²―΄–Μ―΄–Ι –Φ–Β―²–Α–Μ–Μ, –≤ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ―¹―²–Α―Ö –Η –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β–≤―΄―Ö –Ψ―²―¹–Β–Κ–Α―Ö, –≥–¥–Β –Β―¹―²―¨ –Μ―é–Κ–Η, ―¹–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Α–Μ–Η –Ω–Β―΅―É―Ä–Κ–Η –Η–Ζ –Ψ–±–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Κ–Η―Ä–Ω–Η―΅–Ψ–Φ –±–Ψ―΅–Β–Κ ―¹ –≤―΄–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Α―Ä―É–Ε―É ―²―Ä―É–±–Ψ–Ι. –Δ–Ψ–Ω–Η–Μ–Η –Η―Ö ―É–≥–Μ―ë–Φ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ, –Α ―΅–Α―â–Β –¥–Ψ―¹–Κ–Α–Φ–Η, –Η –≤ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Α―Ö ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≤–Β―¹–Β–Μ–Β–Β. –Δ―Ä―É–¥–Ϋ–Β–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ψ–±–Ψ–≥―Ä–Β―²―¨ ―Ü–Β―Ö–Α –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Ψ–≤, –≥–¥–Β –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ―³–Μ–Ψ―²―Ü―΄, –Η–Φ–Β–≤―à–Η–Β –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄–Β –Ϋ–Α–≤―΄–Κ–Η, ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Κ ―É―Ü–Β–Μ–Β–≤―à–Η–Φ ―¹―²–Α–Ϋ–Κ–Α–Φ –Η –≤―΄―²–Α―΅–Η–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄–Β –¥–Β―²–Α–Μ–Η. –€–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –¥–Β–Μ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β, –Η–Ζ–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ―è–Μ–Η –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Η-―É–Φ–Β–Μ―¨―Ü―΄ –≤ –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Η―Ö –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Φ–Α―¹―²–Β―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Ϋ–Α –Ω–Μ–Α–≤–±–Α–Ζ–Α―Ö. –ö–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α –≤–Β–¥―É―² –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι –Ψ–≥–Ψ–Ϋ―¨ ―¹ –ù–Β–≤―΄ –Ω–Ψ –≤―Ä–Α–Ε–Β―¹–Κ–Η–Φ –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η―è–Φ. –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥, ―è–Ϋ–≤–Α―Ä―¨ 1942 –≥–Ψ–¥–Α. –ö–Α―Ä―²–Η–Ϋ–Α ―Ö―É–¥–Ψ–Ε–Ϋ–Η–Κ–Α –·.–î.–†–Ψ–Φ–Α―¹–Α–ß―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β ―²–Α–Κ –Ψ–±–Ε–Η–≥–Α–Μ ―Ä―É–Κ–Η ―¹―²―΄–Μ―΄–Ι –Φ–Β―²–Α–Μ–Μ, –≤ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ―¹―²–Α―Ö –Η –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β–≤―΄―Ö –Ψ―²―¹–Β–Κ–Α―Ö, –≥–¥–Β –Β―¹―²―¨ –Μ―é–Κ–Η, ―¹–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Α–Μ–Η –Ω–Β―΅―É―Ä–Κ–Η –Η–Ζ –Ψ–±–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Κ–Η―Ä–Ω–Η―΅–Ψ–Φ –±–Ψ―΅–Β–Κ ―¹ –≤―΄–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Α―Ä―É–Ε―É ―²―Ä―É–±–Ψ–Ι. –Δ–Ψ–Ω–Η–Μ–Η –Η―Ö ―É–≥–Μ―ë–Φ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ, –Α ―΅–Α―â–Β –¥–Ψ―¹–Κ–Α–Φ–Η, –Η –≤ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Α―Ö ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≤–Β―¹–Β–Μ–Β–Β. –Δ―Ä―É–¥–Ϋ–Β–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ψ–±–Ψ–≥―Ä–Β―²―¨ ―Ü–Β―Ö–Α –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Ψ–≤, –≥–¥–Β –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ―³–Μ–Ψ―²―Ü―΄, –Η–Φ–Β–≤―à–Η–Β –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄–Β –Ϋ–Α–≤―΄–Κ–Η, ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Κ ―É―Ü–Β–Μ–Β–≤―à–Η–Φ ―¹―²–Α–Ϋ–Κ–Α–Φ –Η –≤―΄―²–Α―΅–Η–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄–Β –¥–Β―²–Α–Μ–Η. –€–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –¥–Β–Μ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β, –Η–Ζ–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ―è–Μ–Η –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Η-―É–Φ–Β–Μ―¨―Ü―΄ –≤ –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Η―Ö –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Φ–Α―¹―²–Β―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Ϋ–Α –Ω–Μ–Α–≤–±–Α–Ζ–Α―Ö.
–ù–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―²–Ψ―Ä–Α–Φ–Η ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Α, –Κ–Α–Κ –≤―¹–Β–≥–¥–Α, –±―΄–Μ–Η ―à―²–Α–±–Ϋ―΄–Β –Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä―΄-–Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ–Η. –Λ–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ–Α –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –ù.–Λ.–ë―É–Ι–≤–Ψ–Μ–Ψ–≤–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―¨–Β, –Η –Β–≥–Ψ –≤―¹–Κ–Ψ―Ä–Β ―¹–Φ–Β–Ϋ–Η–Μ –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 2-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ï.–ê.–£–Β―¹–Β–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι. –Δ–Ψ―² ―¹–Α–Φ―΄–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―²–Α–Κ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ –¥–Μ―è –Ψ―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α.
–Γ–Μ―É―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ –≤―΄―è―¹–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ, –¥–Ψ–±–Η–≤―à–Η―¹―¨ –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α –¥–Β–Ι―¹―²–≤―É―é―â–Η–Ι ―³–Μ–Ψ―², ―¹–Μ―É–Ε–Η―², –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Φ–Ϋ―é ―É–Ε –≤ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ϋ–Α –¦–Α–¥–Ψ–≥–Β. –½–Ϋ–Α–≤―à–Η–Β –ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η―è –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Α ―É–±–Β–¥–Η–Μ–Η –Κ–Ψ–Φ–±―Ä–Η–≥–Α –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Η―²―¨ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Β–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–Μ–Η –Κ –Ϋ–Α–Φ, –Η ―ç―²–Ψ ―è–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–Ι –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Κ–Ψ–Ι –¥–Μ―è –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄.
–‰–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―³–Μ–Α–≥–Φ–Β―Ö, –Κ–Α–Κ –£–Β―¹–Β–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι, ―¹ –Β–≥–Ψ ―ç–Ϋ–Β―Ä–≥–Η–Β–Ι –Η –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Η–Φ –Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Β–Φ ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Η, ―¹ –Β–≥–Ψ ―É–Φ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ω―Ä–Β–Ψ–¥–Ψ–Μ–Β–≤–Α―²―¨ –≤―¹–Β –Ω―Ä–Β–Ω―è―²―¹―²–≤–Η―è, –Ϋ―É–Ε–Β–Ϋ –±―΄–Μ –≤ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Η–≤―à–Β–Ι―¹―è –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Β. –û–Ϋ –Ϋ–Α–Ω–Ψ―Ä–Η―¹―²–Ψ –≤–Ψ―à―ë–Μ –≤ ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Ϋ―É―é ―¹―²―Ä–Α–¥―É, –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –Ζ–Α–≤–Ψ–Β–≤–Α–Μ –Α–≤―²–Ψ―Ä–Η―²–Β―² –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è―Ö –Η –Ϋ–Α –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Α―Ö. –Λ–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –£–Β―¹–Β–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι–ù–Ψ –Η –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Η ―É ―³–Μ–Α–≥–Φ–Β―Ö–Α –±―΄–Μ–Η –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Β: –¥–≤–Α ―à―²–Α―²–Ϋ―΄―Ö –≤ ―à―²–Α–±–Β –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä―΄ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ―΄ 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ë.–î.–ê–Ϋ–¥―Ä―é–Κ –Η –ù.–ù.–™–Ψ–Μ–Β–Ϋ–±–Α–Κ–Ψ–≤ –Η –Ψ–Ω―΄―²–Ϋ―΄–Β –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä-–Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ–Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ―΄ 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –‰.–†.–†–Α–Φ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ψ–≤, –‰.–ü.–®–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Ϋ, –ù.–‰.–€–Α–Φ–Ψ–Ϋ―²–Ψ–≤, –ê.–ö.–ö–Ψ–Ζ–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι, –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –€.–Λ.–£–Α–Ι–Ϋ―à―²–Β–Ι–Ϋ. –Λ–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –£–Β―¹–Β–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι–ù–Ψ –Η –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Η ―É ―³–Μ–Α–≥–Φ–Β―Ö–Α –±―΄–Μ–Η –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Β: –¥–≤–Α ―à―²–Α―²–Ϋ―΄―Ö –≤ ―à―²–Α–±–Β –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä―΄ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ―΄ 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ë.–î.–ê–Ϋ–¥―Ä―é–Κ –Η –ù.–ù.–™–Ψ–Μ–Β–Ϋ–±–Α–Κ–Ψ–≤ –Η –Ψ–Ω―΄―²–Ϋ―΄–Β –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä-–Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ–Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ―΄ 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –‰.–†.–†–Α–Φ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ψ–≤, –‰.–ü.–®–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Ϋ, –ù.–‰.–€–Α–Φ–Ψ–Ϋ―²–Ψ–≤, –ê.–ö.–ö–Ψ–Ζ–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι, –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –€.–Λ.–£–Α–Ι–Ϋ―à―²–Β–Ι–Ϋ. –î–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä―΄-–Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ–Η –ù.–‰.–€–Α–Φ–Ψ–Ϋ―²–Ψ–≤ –‰.–†.–†–Α–Φ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ψ–≤ –‰.–ü.–®–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Ϋ–†–Β–Φ–Ψ–Ϋ―², ―¹–Ψ–Ω―Ä―è–Ε―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–¥―΅–Α―¹ ―¹ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ϋ–Β–≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ―΄–Φ–Η ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ―¹―²―è–Φ–Η, ―¹―É―Ä–Ψ–≤–Ψ –Η―¹–Ω―΄―²―΄–≤–Α–Μ –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ–Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö. –î–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä―΄-–Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ–Η –ù.–‰.–€–Α–Φ–Ψ–Ϋ―²–Ψ–≤ –‰.–†.–†–Α–Φ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ψ–≤ –‰.–ü.–®–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Ϋ–†–Β–Φ–Ψ–Ϋ―², ―¹–Ψ–Ω―Ä―è–Ε―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–¥―΅–Α―¹ ―¹ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ϋ–Β–≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ―΄–Φ–Η ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ―¹―²―è–Φ–Η, ―¹―É―Ä–Ψ–≤–Ψ –Η―¹–Ω―΄―²―΄–≤–Α–Μ –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ–Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö.
–û―²–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η ―¹–Β–±―è –≤ ―ç―²–Η―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –™.–ê.–Γ–Α―³–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –Ϋ–Α –Γ-9, –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –£.–ï.–ö–Ψ―Ä–Ε –Ϋ–Α –Γ-13, –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –€.–ê.–ö―Ä–Α―¹―²–Β–Μ―ë–≤ –Ϋ–Α –¦-3 –Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –¥―Ä―É–≥–Η–Β.
–Θ―¹–Η–Μ–Η―è–Φ–Η –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä-–Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Η―Ö –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Β―²–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –≤ –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Β―Ä–Β –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤ ―²―É ―²―è–Ε–Κ―É―é –Ζ–Η–Φ―É –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤―΄–≤–Β―¹―²–Η –Ϋ–Α―à–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –≤–Β―¹–Ϋ–Ψ–Ι –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β.
–Λ–Μ–Α–≥–Φ–Β―Ö –±―΄–Μ –Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Η–Ζ ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Ψ–≤, –Η–Φ–Β–≤―à–Η–Φ –≤ ―¹–≤–Ψ―ë–Φ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Α–≤―²–Ψ–Φ–Α―à–Η–Ϋ―É. –≠―²–Ψ―² –Ω–Η–Κ–Α–Ω –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ –¥–Μ―è –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–Ζ–Κ–Η ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Η―Ä―É–Β–Φ―΄―Ö –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ–Ψ–≤ ―¹ –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Ϋ–Α –Ζ–Α–≤–Ψ–¥―΄ –Η –Ψ–±―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ. –ê ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –≤ –Φ–Α―à–Η–Ϋ―É –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –≤–Β–Ζ–Μ–Η, –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ω–Ψ–Μ–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α, –Ϋ–Α ―¹–Α–Ϋ―è―Ö, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –≤–Ω―Ä―è–≥–Α–Μ–Η―¹―¨ –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ―³–Μ–Ψ―²―Ü―΄.
–ë―΄–≤–Α–Μ–Η –Η ―ç–Κ―¹―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≤―΄–Β–Ζ–¥―΄, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ω―Ä–Ψ–±–Η–≤–Α–Μ–Η –Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ–Κ–Η –±–Ψ–Φ–±―΄ –Η–Μ–Η ―¹–Ϋ–Α―Ä―è–¥–Α. –ö –Φ–Β―¹―²―É –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―à–Β―¹―²–≤–Η―è –Φ―΅–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹–Α–Φ –£–Β―¹–Β–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι –Η –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ –Ω–Ψ –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η―é –Ε–Η–≤―É―΅–Β―¹―²–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –ë–Ψ―Ä–Η―¹ –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Β–≤–Η―΅ –ê–Ϋ–¥―Ä―é–Κ ―¹ –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Α–≤–Α―Ä–Η–Ι–Ϋ–Ψ–Ι –≥―Ä―É–Ω–Ω–Ψ–Ι. –£ –Β―ë ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –≤―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –≤–Ψ–¥–Ψ–Μ–Α–Ζ―΄, –Κ–Α–Κ ¬Ϊ―²―è–Ε―ë–Μ―΄–Β¬Μ, ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–≤―à–Η–Β –≤ ―¹–Κ–Α―³–Α–Ϋ–¥―Ä–Α―Ö, ―²–Α–Κ –Η ¬Ϊ–Μ―ë–≥–Κ–Η–Β¬Μ, –Ψ–±―É―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≤―¹–Β–Φ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Φ ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Α–Φ –Ζ–Α–¥–Β–Μ–Κ–Η –Ω―Ä–Ψ–±–Ψ–Η–Ϋ.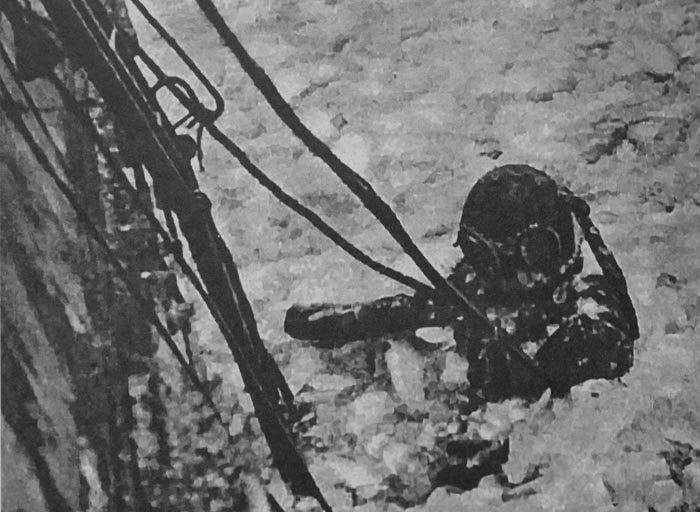 –Γ–Ω―É―¹–Κ –≤–Ψ–¥–Ψ–Μ–Α–Ζ–Α –¥–Μ―è –Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Α –≤–Η–Ϋ―²–Ψ–≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η. –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥, –Ζ–Η–Φ–Α 1942 –≥–Ψ–¥–Α–¦―É―΅―à–Η–Φ –≤–Ψ–¥–Ψ–Μ–Α–Ζ–Ψ–Φ ―¹―΅–Η―²–Α–Μ―¹―è ―É –Ϋ–Α―¹ –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ –°―Ä–Κ–Β–≤–Η―΅. –Γ–Μ–Α–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Φ–Α―¹―²–Β―Ä―¹―²–≤–Ψ–Φ ―²–Α–Κ–Ε–Β –≤–Ψ–¥–Ψ–Μ–Α–Ζ–Ϋ―΄–Β ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ―΄ –‰–≤–Α–Ϋ –ë–Ψ–Ι―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ, –ê―³–Α–Ϋ–Α―¹–Η–Ι –†–Α–Ι―¹–Κ–Η–Ι. –Δ–Ψ―² ―³–Α–Κ―², ―΅―²–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –Φ–Ψ–≥ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―²―¨ –±–Ψ–Β–≤―΄–Β –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Β –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β, –Α –≤ –Μ―é–±–Ψ–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –Η ―΅–Α―¹ ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Κ–Η –≤ –±–Α–Ζ–Β –≤ –Ω–Ψ―Ä―É ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Α, –±―΄–Μ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ –≥―Ä–Ψ–Ζ–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Η–Φ–Β―² –±–Μ–Ψ–Κ–Α–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Ζ–Η–Φ―΄. –‰ –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι ―Ä–Α–Ζ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―²–Α–Κ–Η―Ö ―¹–Μ―É―΅–Α–Β–≤ –Ζ–Α–Ϋ–Ψ–≤–Ψ –≤―¹―²–Α–≤–Α–Μ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹: ―¹–Φ–Ψ–Ε–Β―² –Μ–Η ―²–Α–Κ–Α―è-―²–Ψ –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Α –≤–Ψ–Β–≤–Α―²―¨ –≤ –Ϋ―΄–Ϋ–Β―à–Ϋ–Β–Φ –≥–Ψ–¥―É? –Γ–Ω―É―¹–Κ –≤–Ψ–¥–Ψ–Μ–Α–Ζ–Α –¥–Μ―è –Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Α –≤–Η–Ϋ―²–Ψ–≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η. –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥, –Ζ–Η–Φ–Α 1942 –≥–Ψ–¥–Α–¦―É―΅―à–Η–Φ –≤–Ψ–¥–Ψ–Μ–Α–Ζ–Ψ–Φ ―¹―΅–Η―²–Α–Μ―¹―è ―É –Ϋ–Α―¹ –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ –°―Ä–Κ–Β–≤–Η―΅. –Γ–Μ–Α–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Φ–Α―¹―²–Β―Ä―¹―²–≤–Ψ–Φ ―²–Α–Κ–Ε–Β –≤–Ψ–¥–Ψ–Μ–Α–Ζ–Ϋ―΄–Β ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ―΄ –‰–≤–Α–Ϋ –ë–Ψ–Ι―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ, –ê―³–Α–Ϋ–Α―¹–Η–Ι –†–Α–Ι―¹–Κ–Η–Ι. –Δ–Ψ―² ―³–Α–Κ―², ―΅―²–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –Φ–Ψ–≥ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―²―¨ –±–Ψ–Β–≤―΄–Β –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Β –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β, –Α –≤ –Μ―é–±–Ψ–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –Η ―΅–Α―¹ ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Κ–Η –≤ –±–Α–Ζ–Β –≤ –Ω–Ψ―Ä―É ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Α, –±―΄–Μ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ –≥―Ä–Ψ–Ζ–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Η–Φ–Β―² –±–Μ–Ψ–Κ–Α–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Ζ–Η–Φ―΄. –‰ –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι ―Ä–Α–Ζ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―²–Α–Κ–Η―Ö ―¹–Μ―É―΅–Α–Β–≤ –Ζ–Α–Ϋ–Ψ–≤–Ψ –≤―¹―²–Α–≤–Α–Μ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹: ―¹–Φ–Ψ–Ε–Β―² –Μ–Η ―²–Α–Κ–Α―è-―²–Ψ –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Α –≤–Ψ–Β–≤–Α―²―¨ –≤ –Ϋ―΄–Ϋ–Β―à–Ϋ–Β–Φ –≥–Ψ–¥―É? –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ–Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Γ-13 –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä –ï–Φ–Β–Μ―¨―è–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –ö–Ψ―Ä–Ε–ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ–Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Γ-13 –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä –ï–Φ–Β–Μ―¨―è–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –ö–Ψ―Ä–Ε–ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―²
25.03.201400:2525.03.2014 00:25:48
0
25.03.201400:1725.03.2014 00:17:09
–û―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–Ι, –Ω―è―²―΄–Ι –Ω–Ψ ―¹―΅–Β―²―É, –≤―΄–Ω―É―¹–Κ 2-–≥–Ψ –£―΄―¹―à–Β–≥–Ψ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ―¹―è 5 –¥–Β–Κ–Α–±―Ä―è 1958 –≥. –£―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –≤ –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²―¹–Κ–Ψ–Ι ―³–Ψ―Ä–Φ–Β (―¹ –Ω–Ψ–≥–Ψ–Ϋ–Α–Φ–Η –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ–Ψ–≤ –Η –≤ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Η―Ö ―³―É―Ä–Α–Ε–Κ–Α―Ö) –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ–Η –≤–Ψ –¥–≤–Ψ―Ä–Β ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Α. –½–Α―΅–Η―²–Α–Μ–Η –ü―Ä–Η–Κ–Α–Ζ –€–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä–Α –û–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Γ–Γ–Γ–† ⳕ 03024, –Ω–Ψ–¥–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι 2 –¥–Β–Κ–Α–±―Ä―è 1958 –≥. –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β.
–£―¹―é –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β–¥―É―Ä―É –≤―Ä―É―΅–Β–Ϋ–Η―è –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ–≥–Ψ–Ϋ, –¥–Η–Ω–Μ–Ψ–Φ–Ψ–≤ –Η –Κ–Ψ―Ä―²–Η–Κ–Ψ–≤ –Ω–Ψ–Φ–Ϋ―é –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ. –Γ―É–¥―è –Ω–Ψ ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–≤―à–Β–Φ―É―¹―è ―¹–Ϋ–Η–Φ–Κ―É, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Κ―²–Ψ-―²–Ψ –Ζ–Α–Ω–Β―΅–Α―²–Μ–Β–Μ –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―² –Φ–Ψ–Β–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Ψ–¥–Β–≤–Α–Ϋ–Η―è –≤ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ―É―é ―à–Η–Ϋ–Β–Μ―¨, –Ϋ–Α–Φ –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –¥–Μ―è ―ç―²–Ψ–≥–Ψ. –£ ―Ä―É–Κ–Α―Ö ―É –Φ–Β–Ϋ―è –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²―¹–Κ–Α―è ―à–Η–Ϋ–Β–Μ―¨ ―¹ –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ–Η –Ω–Ψ–≥–Ψ–Ϋ–Α–Φ–Η, ―΅–Β―¹―²–Ϋ–Ψ –Ψ―²―¹–Μ―É–Ε–Η–≤―à–Α―è –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹―Ä–Ψ–Κ. –ù–Α–¥–Ω–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ―²–Β: ¬Ϊ5 –¥–Β–Κ–Α–±―Ä―è 1958 –≥.¬Μ–Γ–Ϋ–Ψ–≤–Α –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≤–Ψ –¥–≤–Ψ―Ä–Β, ―É–Ε–Β –≤ –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²―¹–Κ–Ψ–Ι ―³–Ψ―Ä–Φ–Β, –Φ―΄ –≤―΄―¹–Μ―É―à–Α–Μ–Η –ü―Ä–Η–Κ–Α–Ζ –Ψ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Η –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ω–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α–Φ, –Α –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö βÄ™ –≤ –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―Ä–Β―²–Ϋ―΄–Β –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Β ―΅–Α―¹―²–Η. –Γ–≤–Ψ–Β–Ι ―³–Α–Φ–Η–Μ–Η–Η ―è –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Β –Ϋ–Β ―É―¹–Μ―΄―à–Α–Μ. –ö–Α–Κ –≤―΄―è―¹–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―΅―É―²―¨ –Ω–Ψ–Ζ–Ε–Β, –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―è –Ψ–¥–Η–Ϋ. –ß–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –≥―Ä―É–Ω–Ω―É –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Ψ–≤ –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―¹–Η–Μ–Η –≤ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ –Κ–Α–±–Η–Ϋ–Β―² –Η –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ–Η–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Φ―΄ –±―É–¥–Β–Φ ―¹–Μ―É–Ε–Η―²―¨ –Ϋ–Α ¬Ϊ–Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Β¬Μ –Η –Φ–Β―¹―²–Ψ ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –±―É–¥–Β―² ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ψ –≤ –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η–Η. –Δ–Ψ–≥–¥–Α ―è –Ϋ–Β –Ψ–±―Ä–Α―²–Η–Μ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –≤ ―ç―²–Ψ–Ι –≥―Ä―É–Ω–Ω–Β –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤―¹–Β –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–≤―à–Η–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β ―¹ –Φ–Β–¥–Α–Μ―¨―é, –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β –Φ–Β–Ϋ―è –Η –Γ–Α―à–Η –ß–Β―²―΄―Ä–±–Ψ–Κ–Α. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ–Η –≠.–ö–Ψ–≤―²―É–Ϋ, –¦.–Γ–Μ–Ψ―²–Η–Ϋ―Ü–Β–≤, –™.–Ξ–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Μ–Ψ–≤, –£.–Γ–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≤, –ê.–¦–Α―É―Ä–Α–Ι―²–Η―¹ –Η –¥―Ä. –ù–Α–¥–Ω–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ―²–Β: ¬Ϊ5 –¥–Β–Κ–Α–±―Ä―è 1958 –≥.¬Μ–Γ–Ϋ–Ψ–≤–Α –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≤–Ψ –¥–≤–Ψ―Ä–Β, ―É–Ε–Β –≤ –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²―¹–Κ–Ψ–Ι ―³–Ψ―Ä–Φ–Β, –Φ―΄ –≤―΄―¹–Μ―É―à–Α–Μ–Η –ü―Ä–Η–Κ–Α–Ζ –Ψ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Η –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ω–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α–Φ, –Α –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö βÄ™ –≤ –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―Ä–Β―²–Ϋ―΄–Β –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Β ―΅–Α―¹―²–Η. –Γ–≤–Ψ–Β–Ι ―³–Α–Φ–Η–Μ–Η–Η ―è –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Β –Ϋ–Β ―É―¹–Μ―΄―à–Α–Μ. –ö–Α–Κ –≤―΄―è―¹–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―΅―É―²―¨ –Ω–Ψ–Ζ–Ε–Β, –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―è –Ψ–¥–Η–Ϋ. –ß–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –≥―Ä―É–Ω–Ω―É –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Ψ–≤ –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―¹–Η–Μ–Η –≤ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ –Κ–Α–±–Η–Ϋ–Β―² –Η –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ–Η–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Φ―΄ –±―É–¥–Β–Φ ―¹–Μ―É–Ε–Η―²―¨ –Ϋ–Α ¬Ϊ–Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Β¬Μ –Η –Φ–Β―¹―²–Ψ ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –±―É–¥–Β―² ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ψ –≤ –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η–Η. –Δ–Ψ–≥–¥–Α ―è –Ϋ–Β –Ψ–±―Ä–Α―²–Η–Μ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –≤ ―ç―²–Ψ–Ι –≥―Ä―É–Ω–Ω–Β –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤―¹–Β –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–≤―à–Η–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β ―¹ –Φ–Β–¥–Α–Μ―¨―é, –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β –Φ–Β–Ϋ―è –Η –Γ–Α―à–Η –ß–Β―²―΄―Ä–±–Ψ–Κ–Α. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ–Η –≠.–ö–Ψ–≤―²―É–Ϋ, –¦.–Γ–Μ–Ψ―²–Η–Ϋ―Ü–Β–≤, –™.–Ξ–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Μ–Ψ–≤, –£.–Γ–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≤, –ê.–¦–Α―É―Ä–Α–Ι―²–Η―¹ –Η –¥―Ä.
–Γ―Ä–Α–Ζ―É –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―ç―²–Ψ–Ι –±–Β―¹–Β–¥―΄ ―è –≤―΄―à–Β–Μ –Η–Ζ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Η –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¹―è –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω―Ä–Β–¥―É–Ω―Ä–Β–¥–Η―²―¨ –¦–Α―Ä―É –Ψ ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ–±–Β–¥–Β –≤ –Ϋ–Α―à–Β–Ι –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ι, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Φ―΄ –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―à–Β–Ϋ―΄. –‰–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ ―ç―²–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Β―² –Ϋ–Α –≥―Ä―É–Ω–Ω–Ψ–≤–Ψ–Ι ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Η –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –≥–¥–Β –≤ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Β –ö.–ê.–ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤. –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –Ω―Ä–Η―à–Β–Μ –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Η―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Ω–Η―²–Ψ–Φ―Ü–Β–≤, ―Ö–Ψ―²―è –Κ ―ç―²–Ψ–Φ―É –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –±―΄–Μ –Ϋ–Α –Ω–Β–Ϋ―¹–Η–Η ―É–Ε–Β –Ω–Ψ–Μ―²–Ψ―Ä–Α-–¥–≤–Α –≥–Ψ–¥–Α (―¹ 1956 –≥.) –ü―è―²―΄–Ι –≤―΄–Ω―É―¹–Κ 2-–≥–Ψ –£–£–€–Θ–ü–ü. –£ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Β βÄ™ –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –ö.–ê.–ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤, –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –≤ 1954-1956 –≥–≥. –Λ–Ψ―²–Ψ 05.12.1958 –≥. –†–Η–≥–Α.–Γ–Ψ―¹―²–Ψ―è–≤―à–Η–Ι―¹―è –≤ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ψ–±–Β–¥ –Ω–Ψ ―¹–Μ―É―΅–Α―é –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Α –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β–Μ –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―É–Ϋ―΄–Μ–Ψ–Β –≤–Ω–Β―΅–Α―²–Μ–Β–Ϋ–Η–Β. –£ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Α–Ϋ―²–Η–Α–Μ–Κ–Ψ–≥–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Β–Ι –Φ―΄ –±―΄–Μ–Η –Ω―Ä–Β–¥―É–Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ―΄, ―΅―²–Ψ –Ζ–Α–Ω―Ä–Β―â–Α–Β―²―¹―è –Ω―Ä–Η–Ϋ–Ψ―¹–Η―²―¨ –¥–Α–Ε–Β ―à–Α–Φ–Ω–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Β. –ü–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Α–Φ, –Η –Ω–Ψ ―ç―²–Ψ–Ι –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β, –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―à–Μ–Η –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η–Β. –‰–Ζ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Η –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Φ–Ϋ―é, –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―è –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α 1-–≥–Ψ ―³–Α–Κ―É–Μ―¨―²–Β―²–Α –Ω–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Η―²―΅–Α―¹―²–Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 2 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –½–Β–Μ–Η–Ϋ–Α. –ü―è―²―΄–Ι –≤―΄–Ω―É―¹–Κ 2-–≥–Ψ –£–£–€–Θ–ü–ü. –£ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Β βÄ™ –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –ö.–ê.–ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤, –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –≤ 1954-1956 –≥–≥. –Λ–Ψ―²–Ψ 05.12.1958 –≥. –†–Η–≥–Α.–Γ–Ψ―¹―²–Ψ―è–≤―à–Η–Ι―¹―è –≤ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ψ–±–Β–¥ –Ω–Ψ ―¹–Μ―É―΅–Α―é –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Α –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β–Μ –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―É–Ϋ―΄–Μ–Ψ–Β –≤–Ω–Β―΅–Α―²–Μ–Β–Ϋ–Η–Β. –£ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Α–Ϋ―²–Η–Α–Μ–Κ–Ψ–≥–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Β–Ι –Φ―΄ –±―΄–Μ–Η –Ω―Ä–Β–¥―É–Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ―΄, ―΅―²–Ψ –Ζ–Α–Ω―Ä–Β―â–Α–Β―²―¹―è –Ω―Ä–Η–Ϋ–Ψ―¹–Η―²―¨ –¥–Α–Ε–Β ―à–Α–Φ–Ω–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Β. –ü–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Α–Φ, –Η –Ω–Ψ ―ç―²–Ψ–Ι –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β, –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―à–Μ–Η –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η–Β. –‰–Ζ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Η –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Φ–Ϋ―é, –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―è –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α 1-–≥–Ψ ―³–Α–Κ―É–Μ―¨―²–Β―²–Α –Ω–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Η―²―΅–Α―¹―²–Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 2 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –½–Β–Μ–Η–Ϋ–Α.  –ü–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²―¹–Κ–Η–Ι –Ψ–±–Β–¥. –½–Α ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–Φ ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Α –Ϋ–Α–Μ–Β–≤–Ψ: –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –£–Α–Μ–Β―Ä–Η–Ι –¦–Α–≤―Ä–Ψ–≤, –¦–Α―Ä–Η―¹–Α –¦–Α–≤―Ä–Ψ–≤–Α, –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 2 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –½–Β–Μ–Η–Ϋ, –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –ß–Β―²―΄―Ä–±–Ψ–Κ.–ü–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ–±–Β–¥–Α ―¹―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ ―³–Ψ–Ι–Β –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ι ―É –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Μ–Β–Ω–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Ψ–¥–Β–Μ–Η –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Α ¬Ϊ–ö–Η―Ä–Ψ–≤¬Μ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ζ–Α–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α–Φ ―¹ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ι –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ–Η. –ü–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²―¹–Κ–Η–Ι –Ψ–±–Β–¥. –½–Α ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–Φ ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Α –Ϋ–Α–Μ–Β–≤–Ψ: –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –£–Α–Μ–Β―Ä–Η–Ι –¦–Α–≤―Ä–Ψ–≤, –¦–Α―Ä–Η―¹–Α –¦–Α–≤―Ä–Ψ–≤–Α, –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 2 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –½–Β–Μ–Η–Ϋ, –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –ß–Β―²―΄―Ä–±–Ψ–Κ.–ü–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ–±–Β–¥–Α ―¹―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ ―³–Ψ–Ι–Β –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ι ―É –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Μ–Β–Ω–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Ψ–¥–Β–Μ–Η –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Α ¬Ϊ–ö–Η―Ä–Ψ–≤¬Μ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ζ–Α–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α–Φ ―¹ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ι –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ–Η. –ù–Α ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ ―É –Ϋ–Α―¹ –±―΄–Μ–Α –Ζ–Α–Ω–Μ–Α–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Α –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α –≤ ―É–Ζ–Κ–Ψ–Φ –Κ―Ä―É–≥―É –≤ ―Ä–Β―¹―²–Ψ―Ä–Α–Ϋ–Β ¬Ϊ–ê―¹―²–Ψ―Ä–Η―è¬Μ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α 3 ―ç―²–Α–Ε–Β –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ ―¹–Α–Φ―΄―Ö –±–Ψ–Μ―¨―à–Η―Ö ―É–Ϋ–Η–≤–Β―Ä–Φ–Α–≥–Ψ–≤ –≤ –†–Η–≥–Β. –û–± ―ç―²–Ψ–Φ –≤–Β―΅–Β―Ä–Β –Ϋ–Α –≤―¹―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Ψ―¹―²–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹–≤–Β―²–Μ―΄–Β –Η ―²–Β–Ω–Μ―΄–Β –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è. –Γ–Ψ―¹–Β–¥―è–Φ–Η –Ω–Ψ ―¹―²–Ψ–Μ–Η–Κ―É –±―΄–Μ–Α –Ψ―΅–Α―Ä–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Ω–Α―Ä–Α βÄ™ –‰–Ϋ–Ϋ–Α –Η –™–Β–Ϋ–Ϋ–Α–¥–Η–Ι –™–Ψ–Μ―É–±–Β―Ü. –ù–Α ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ ―É –Ϋ–Α―¹ –±―΄–Μ–Α –Ζ–Α–Ω–Μ–Α–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Α –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α –≤ ―É–Ζ–Κ–Ψ–Φ –Κ―Ä―É–≥―É –≤ ―Ä–Β―¹―²–Ψ―Ä–Α–Ϋ–Β ¬Ϊ–ê―¹―²–Ψ―Ä–Η―è¬Μ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α 3 ―ç―²–Α–Ε–Β –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ ―¹–Α–Φ―΄―Ö –±–Ψ–Μ―¨―à–Η―Ö ―É–Ϋ–Η–≤–Β―Ä–Φ–Α–≥–Ψ–≤ –≤ –†–Η–≥–Β. –û–± ―ç―²–Ψ–Φ –≤–Β―΅–Β―Ä–Β –Ϋ–Α –≤―¹―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Ψ―¹―²–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹–≤–Β―²–Μ―΄–Β –Η ―²–Β–Ω–Μ―΄–Β –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è. –Γ–Ψ―¹–Β–¥―è–Φ–Η –Ω–Ψ ―¹―²–Ψ–Μ–Η–Κ―É –±―΄–Μ–Α –Ψ―΅–Α―Ä–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Ω–Α―Ä–Α βÄ™ –‰–Ϋ–Ϋ–Α –Η –™–Β–Ϋ–Ϋ–Α–¥–Η–Ι –™–Ψ–Μ―É–±–Β―Ü. –ü–Ψ–¥–Ω–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ―²–Β: ¬Ϊ–¦–Α―Ä–Ψ―΅–Κ–Β –Η –£–Α–Μ–Β―Ä–Η–Κ―É –Ψ―² –‰–Ϋ–Ϋ―΄ –Η –™–Β–Ϋ–Ϋ–Α–¥–Η―è –™–Ψ–Μ―É–±–Β―Ü. –™.–†–Η–≥–Α. 04.03.1959 –≥.¬Μ–½–Α ―¹―²–Ψ–Μ–Η–Κ–Ψ–Φ ―Ä―è–¥–Ψ–Φ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Μ–Η―¹―¨ –Δ–Α–Ϋ―è –Η –≠–¥–Η–Κ –ü–Α―Ä–Α–Φ–Ψ–Ϋ–Ψ–≤―΄. –ö ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Ϋ–Η―é, ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Η ―ç―²–Ψ–Ι –Ω–Α―Ä―΄ ―É –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Β―². –ù–Ψ –Β―¹―²―¨ ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―è –≠–¥–Η–Κ–Α ―¹ –Ϋ–Α–¥–Ω–Η―¹―¨―é –Ϋ–Α –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ―²–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –≥―Ä–Β–Β―² –Φ–Β–Ϋ―è –¥–Ψ ―¹–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä. –ü–Ψ–¥–Ω–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ―²–Β: ¬Ϊ–¦–Α―Ä–Ψ―΅–Κ–Β –Η –£–Α–Μ–Β―Ä–Η–Κ―É –Ψ―² –‰–Ϋ–Ϋ―΄ –Η –™–Β–Ϋ–Ϋ–Α–¥–Η―è –™–Ψ–Μ―É–±–Β―Ü. –™.–†–Η–≥–Α. 04.03.1959 –≥.¬Μ–½–Α ―¹―²–Ψ–Μ–Η–Κ–Ψ–Φ ―Ä―è–¥–Ψ–Φ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Μ–Η―¹―¨ –Δ–Α–Ϋ―è –Η –≠–¥–Η–Κ –ü–Α―Ä–Α–Φ–Ψ–Ϋ–Ψ–≤―΄. –ö ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Ϋ–Η―é, ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Η ―ç―²–Ψ–Ι –Ω–Α―Ä―΄ ―É –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Β―². –ù–Ψ –Β―¹―²―¨ ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―è –≠–¥–Η–Κ–Α ―¹ –Ϋ–Α–¥–Ω–Η―¹―¨―é –Ϋ–Α –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ―²–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –≥―Ä–Β–Β―² –Φ–Β–Ϋ―è –¥–Ψ ―¹–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä. ¬Ϊ–™―Ä–Ψ–Ζ–Β –Φ–Ψ―Ä–Β–Ι¬Μ –Ψ―² –±―É–¥―É―â–Β–≥–Ψ ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Α. –ü―É―¹―²―¨ –Κ―Ä–Β–Ω–Ϋ–Β―² –¥―Ä―É–Ε–±–Α –Ϋ–Α ―¹―²―Ä–Α―Ö ¬Ϊ–≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ―É¬Μ. –‰–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ―â–Β βÄ™ –£–Α–Μ–Β―Ä–Κ–Β –Ψ―² –≠–¥–¥–Α –ü–Α―Ä–Α–Φ–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Α –≤ –Ω–Α–Φ―è―²―¨ –Ψ–± ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Ϋ―΄―Ö –≥–Ψ–¥–Α―Ö. 28.07.1958 –≥. Riga.–Θ –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ –Ϋ–Α―¹ ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η―²―¹―è –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Α―è ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―è. –Δ–Α–Κ –Κ–Α–Κ –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²―¹–Κ–Η–Β ―²―É–Ε―É―Ä–Κ–Η –¥–Μ―è –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–≥–Ψ –Β―â–Β –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Η –≥–Ψ―²–Ψ–≤―΄, –Α ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Η –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Η –±―΄―²―¨ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Ϋ―΄ –Ζ–Α―Ä–Α–Ϋ–Β–Β, ―²–Ψ –≤―¹–Β―Ö ―¹–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η ―²–Ψ–Ι –Ε–Β ―²―É–Ε―É―Ä–Κ–Β. –ù–Ψ ―É –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–≥–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β –Μ–Η―Ü–Ψ, ―¹–≤–Ψ–Ι ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä –Η ―¹–≤–Ψ―è ―¹―É–¥―¨–±–Α. ¬Ϊ–™―Ä–Ψ–Ζ–Β –Φ–Ψ―Ä–Β–Ι¬Μ –Ψ―² –±―É–¥―É―â–Β–≥–Ψ ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Α. –ü―É―¹―²―¨ –Κ―Ä–Β–Ω–Ϋ–Β―² –¥―Ä―É–Ε–±–Α –Ϋ–Α ―¹―²―Ä–Α―Ö ¬Ϊ–≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ―É¬Μ. –‰–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ―â–Β βÄ™ –£–Α–Μ–Β―Ä–Κ–Β –Ψ―² –≠–¥–¥–Α –ü–Α―Ä–Α–Φ–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Α –≤ –Ω–Α–Φ―è―²―¨ –Ψ–± ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Ϋ―΄―Ö –≥–Ψ–¥–Α―Ö. 28.07.1958 –≥. Riga.–Θ –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ –Ϋ–Α―¹ ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η―²―¹―è –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Α―è ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―è. –Δ–Α–Κ –Κ–Α–Κ –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²―¹–Κ–Η–Β ―²―É–Ε―É―Ä–Κ–Η –¥–Μ―è –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–≥–Ψ –Β―â–Β –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Η –≥–Ψ―²–Ψ–≤―΄, –Α ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Η –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Η –±―΄―²―¨ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Ϋ―΄ –Ζ–Α―Ä–Α–Ϋ–Β–Β, ―²–Ψ –≤―¹–Β―Ö ―¹–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η ―²–Ψ–Ι –Ε–Β ―²―É–Ε―É―Ä–Κ–Β. –ù–Ψ ―É –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–≥–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β –Μ–Η―Ü–Ψ, ―¹–≤–Ψ–Ι ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä –Η ―¹–≤–Ψ―è ―¹―É–¥―¨–±–Α.
–£―΄–Ω―É―¹–Κ 2-–≥–Ψ –£–£–€–Θ–ü–ü 1958 –≥. (―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι ―³–Α–Κ―É–Μ―¨―²–Β―²)
–£―΄–Ω―É―¹–Κ 2-–≥–Ψ –£–£–€–Θ–ü–ü 1958 –≥. (–Φ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ-―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄–Ι ―³–Α–Κ―É–Μ―¨―²–Β―²)
25.03.201400:1725.03.2014 00:17:09
–Γ―²―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü―΄:
–ü―Ä–Β–¥.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
...
|
12
|
–Γ–Μ–Β–¥.
|





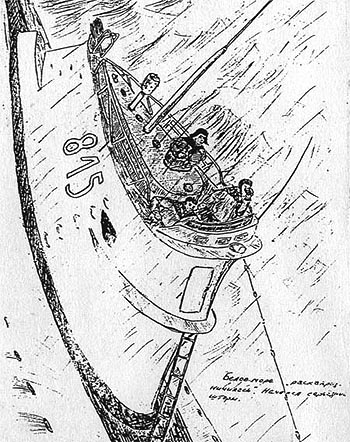











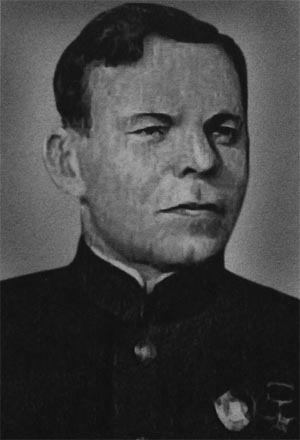










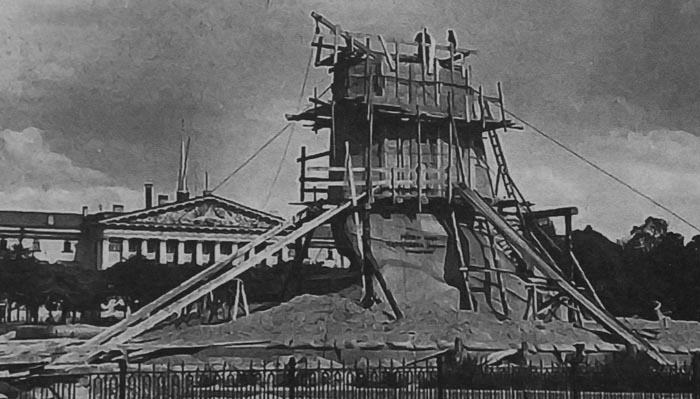





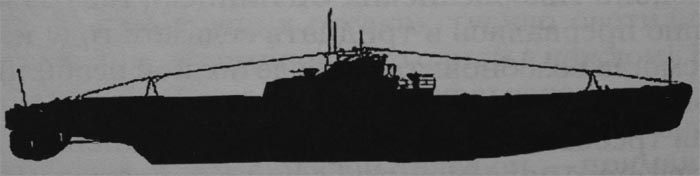








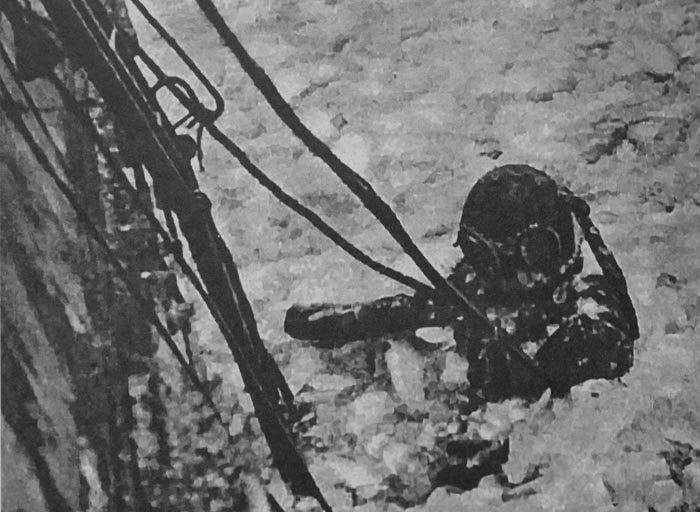









.jpg)


