–ë–Α–Ϋ–Ϋ–Β―Ä

–‰–Φ–Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–Ζ–Α–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η–Β
―¹―É–¥–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±–Ψ―Ä―É–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è
–¥–Μ―è –£–€–Λ
|
–£―¹–Κ–Ψ―Ä–Φ–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹ –Κ–Ψ–Ω―¨―è
0
31.05.201108:3431.05.2011 08:34:23
–ü–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –≤ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Β ―²–Β―¹–Ϋ–Ψ, ―²–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ë–ß-2 –€–Η―à–Α –ö–Ψ–Ϋ–Α–Ϋ―΄–Κ–Η–Ϋ, ¬Ϊ―Ö–Ψ–Ζ―è–Η–Ϋ¬Μ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è, –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―à–Α–Β―² –Ϋ–Α―¹ –Ω–Ψ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Η –Κ ―¹–Β–±–Β –≤ –Κ–Α―é―²―É, ―΅―²–Ψ–±―΄ ¬Ϊ–Ω―Ä–Η―΅–Α―¹―²–Η―²―¨―¹―è¬Μ –Ω–Ψ ―¹–Μ―É―΅–Α―é ―É–¥–Α―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―É―¹–Κ–Α. –ö–Α―é―²–Α ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Α―è, ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Α –Ϋ–Α –≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Β–Ι –Ω–Α–Μ―É–±–Β ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Α. –Γ–Ω–Η―Ä―² –Η–Ζ –Κ–Α–Ϋ–Η―¹―²―Ä―΄ –Ϋ–Α–Μ–Η–≤–Α–Β―²―¹―è –≤ ―¹―²–Α–Κ–Α–Ϋ―΄, –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ –Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –Δ―É―² –Ε–Β ―¹―²–Ψ–Η―² –≥―Ä–Α―³–Η–Ϋ ―¹ –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι –Η –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è, ―΅–Β–Φ –Ζ–Α–Κ―É―¹–Η―²―¨. –Γ–Α–Φ ¬Ϊ―Ö–Ψ–Ζ―è–Η–Ϋ¬Μ –Ϋ–Β –Ω―¨―ë―², ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―É–≥–Ψ―â–Α–Β―² βÄî –Ψ–Ϋ –Β―â–Β –Ϋ–Α ―¹–Μ―É–Ε–±–Β, ―ç―²–Ψ –Φ―΄ ¬Ϊ–Ψ―²―¹―²―Ä–Β–Μ―è–Μ–Η―¹―¨¬Μ.
–ü―Ä–Η–¥―è –≤ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–Β –Ϋ–Α―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η–Β, ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Β–Φ―¹―è –Ϋ–Α ¬Ϊ―Ä–Α―¹–Κ–Μ–Α–¥―É―à–Κ–Α―Ö¬Μ (–Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Η―Ö ―Ä–Α―¹–Κ–Μ–Α–¥–Ϋ―΄―Ö ―¹–Η–¥–Β–Ϋ–Η―è―Ö) –Ϋ–Α ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–Ι –Ω–Α–Μ―É–±–Β –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ –Ψ―²―¹―²―Ä–Β–Μ―è–≤―à–Β–Ι ―à–Α―Ö―²―΄ –Η –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β–Φ –Ψ–±―â–Η–Ι ¬Ϊ―²―Ä–Β–Ω¬Μ –Ψ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Η ―Ä–Α–±–Ψ―²–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Β―²―¹―è –¥–Ψ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Α –≤ –±–Α–Ζ―É. –ù–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü, –Η–Ζ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Α―é―², ―΅―²–Ψ –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Ψ―à–≤–Α―Ä―²–Ψ–≤–Α–Ϋ–Α –Η –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –Ϋ–Α–≤–Β―Ä―Ö. –£―΄–Μ–Β–Ζ–Α―è –Η–Ζ –≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Β–≥–Ψ ―Ä―É–±–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ―é–Κ–Α –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –Ω―Ä–Ψ―â–Α–Β―²―¹―è –Ζ–Α ―Ä―É–Κ―É ―¹ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è, ―¹―²–Ψ―è―â–Η–Φ –≤ –Ψ–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Η ―Ä―É–±–Κ–Η. –ù–Α –Ω–Η―Ä―¹–Β –Ϋ–Α―¹ –Ε–¥―É―² –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α―é―â–Η–Β –Η ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―². –£―΄―Ö–Ψ–¥ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Ζ–Α–Κ–Α–Ϋ―΅–Η–≤–Α–Β―²―¹―è –≤ –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Β –≤―¹–Β–Ψ–±―â–Β–Ι ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Η –Η –¥―É―à–Β–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥―ä–Β–Φ–Α.
–ê –Ζ–Α―²–Β–Φ –Ω–Ψ–±–Β–Ε–Α–Μ–Η ―²―Ä―É–¥–Ψ–≤―΄–Β –±―É–¥–Ϋ–Η βÄî –Ω―É―¹–Κ–Η ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Ψ–¥–Η–Ϋ –Ζ–Α –¥―Ä―É–≥–Η–Φ, ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤–Α–Β–Φ–Α―è ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Α ―²―â–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ―²―Ä–Α–±–Α―²―΄–≤–Α–Μ–Α―¹―¨. –†–Α–Κ–Β―²–Α ―¹ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Ω–Ψ–Μ–Β―²–Α 1400 –Κ–Φ, ―¹―²–Α―Ä―²―É―é―â–Α―è –Η–Ζ-–Ω–Ψ–¥ –≤–Ψ–¥―΄, ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ ―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é.
–ù–Α –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η―è―Ö –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β ―¹–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―²–Β―¹–Ϋ–Ψ–Β –≤–Ζ–Α–Η–Φ–Ψ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Β ―Ä–Α–Ζ―Ä–Α–±–Ψ―²―΅–Η–Κ–Ψ–≤ –¥–≤―É―Ö ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Β–Ι―à–Η―Ö ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö ―¹–Η―¹―²–Β–Φ βÄî ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―¹–Α –Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, –Ω―Ä–Η–Ζ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –≥–Α―Ä–Φ–Ψ–Ϋ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Β –Β–¥–Η–Ϋ–Ψ–Β ―Ü–Β–Μ–Ψ–Β. –Θ―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Α―è ―Ä–Β–Α–Μ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―è ―ç―²–Ψ–Ι –Ζ–Α–¥–Α―΅–Η –±―΄–Μ–Α –±―΄ –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Α –±–Β–Ζ –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–Ε–Β–Μ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Α –Μ―é–¥–Β–Ι, ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α―é―â–Η―Ö ―ç―²–Η ―¹–Η―¹―²–Β–Φ―΄. –£–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β ―Ä–Β―à–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Β ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Ζ–Α–¥–Α―΅–Η ―Ä–Β–Α–Μ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹―²–Α―Ä―²–Α –±–Α–Μ–Μ–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Α–Κ–Β―²―΄, –Β–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Β―²–Α –Ω–Ψ –Ζ–Α–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―²―Ä–Α–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Η–Η –Η –Ω–Ψ–Ω–Α–¥–Α–Ϋ–Η―è –≤ ―Ü–Β–Μ―¨, ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Ϋ–Α ―Ä–Α―¹―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Η –±–Ψ–Μ–Β–Β ―²―΄―¹―è―΅–Η –Κ–Η–Μ–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤. –î–Β―¹―è―²–Κ–Η –Μ―é–¥–Β–Ι, –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–≤―à–Η―Ö ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Β–¥–Ω―Ä–Η―è―²–Η―è –Η –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η, ―¹ ―ç–Ϋ―²―É–Ζ–Η–Α–Ζ–Φ–Ψ–Φ –¥–Β–Μ–Α–Μ–Η –Ψ–±―â–Β–Β –¥–Β–Μ–Ψ. –û―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è –Φ–Β–Ε–¥―É –Μ―é–¥―¨–Φ–Η –±―΄–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ―¹―²―΄–Φ–Η –Η –¥–Ψ–±―Ä―΄–Φ–Η, –Μ―é–¥–Η –≤―¹–Β–≥–¥–Α –≥–Ψ―²–Ψ–≤―΄ –±―΄–Μ–Η –Ω–Ψ–Φ–Ψ―΅―¨ –¥―Ä―É–≥ –¥―Ä―É–≥―É, –Ω–Ψ–¥–Β–Μ–Η―²―¨―¹―è –Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è–Φ–Η –Η –Ψ–Ω―΄―²–Ψ–Φ. –û–±―â–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Ψ ―¹–≤–Β―Ä―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η –±―΄–Μ–Ψ ¬Ϊ–Ϋ–Α ―²―΄¬Μ, –Ϋ–Β–Ζ–Α–≤–Η―¹–Η–Φ–Ψ –Ψ―² ―¹–Μ―É–Ε–Β–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Η –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Β–Φ―΄―Ö ―³―É–Ϋ–Κ―Ü–Η–Ι. –î–Ψ–±―Ä―΄–Β –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è, ―¹–Μ–Ψ–Ε–Η–≤―à–Η–Β―¹―è ―É –Φ–Β–Ϋ―è ―²–Ψ–≥–¥–Α ―¹ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ–Η –Μ―é–¥―¨–Φ–Η, –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Η –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –¥–Ψ–Μ–≥–Η–Β –≥–Ψ–¥―΄ ―¹–Ψ–≤–Φ–Β―¹―²–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α–±–Ψ―². –ë–Β–Ε–Α–Μ–Η –≥–Ψ–¥―΄, ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―¹―΄, –Μ―é–¥–Η –Φ–Β–Ϋ―è–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Η ―¹–Μ―É–Ε–Β–±–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è, –Η –Φ―΄ –Ω–Ψ–¥–Ψ–Μ–≥―É –Ϋ–Β –≤–Η–¥–Β–Μ–Η―¹―¨, –Ϋ–Ψ, –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α―è―¹―¨ ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –Ϋ–Α ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Ψ–¥–Α ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö ―¹–Ψ–≤–Β―â–Α–Ϋ–Η―è―Ö, –¥–Β–Μ–Ψ–≤―΄―Ö –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α―Ö –Η–Μ–Η –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η―è―Ö –Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö ―Ä–Α–Κ–Β―², –Φ―΄ ―¹ ―²–Β–Ω–Μ–Ψ―²–Ψ–Ι –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Μ–Η –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η–Ι ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―¹–Α –Η –≤―¹–Β–≥–¥–Α –¥–Ψ–≤–Β―Ä–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η―¹―¨ –¥―Ä―É–≥ –Κ –¥―Ä―É–≥―É.
–‰―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η―è ―Ä–Α―¹―²―è–Ϋ―É–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –¥–≤–Α –≥–Ψ–¥–Α. –£ ―²–Β–Κ―É―â–Η―Ö –Ζ–Α–±–Ψ―²–Α―Ö –Ω―Ä–Ψ–Μ–Β―²–Α–Μ–Η –¥–Ϋ–Η –Η –Φ–Β―¹―è―Ü―΄, ―è –Ϋ–Α–±–Η―Ä–Α–Μ―¹―è –Ψ–Ω―΄―²–Α –Η –Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö –Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Ι. –£―¹–Β –±–Ψ–Μ–Β–Β –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―΄–Φ–Η ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Μ―é–¥–Η, –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Α–≤―à–Η–Β –Φ–Β–Ϋ―è, –≤―¹–Β –±–Ψ–Μ–Β–Β –Ω―Ä–Η–≤―΄―΅–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤―΄―Ö–Ψ–¥―΄ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Η –Ω―É―¹–Κ–Η ―Ä–Α–Κ–Β―². –ü―Ä–Η–≤―΄―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Α–Μ–Α ―¹–≤–Ψ–Β–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Α―è –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –≤ ¬Ϊ–Ζ–Α–Κ―Ä―΄―²–Ψ–Φ¬Μ ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–Φ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β, –Ω―Ä–Η–≤―΄―΅–Ϋ―΄–Φ ―¹―²–Α–Μ –Η ―ç―²–Ψ―² ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι –Κ―Ä–Α–Ι ―¹ –Β–≥–Ψ –¥–Μ–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Η ―²–Β–Φ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ψ―¹–Β–Ϋ―¨―é –Η –Ζ–Η–Φ–Ψ–Ι, ―è―Ä–Κ–Ψ–Ι ―¹–Ψ–Μ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Β―¹–Ϋ–Ψ–Ι –Η –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Η–Φ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Μ–Α–¥–Ϋ―΄–Φ –Μ–Β―²–Ψ–Φ.
–Γ―Ä–Β–¥–Η –Ϋ–Α―¹―΄―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –±―É–¥–Ϋ–Β–Ι –±―΄–≤–Α–Μ–Η –Η –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η. –€–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Η–Φ –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ –≤–Β―¹―¨–Φ–Α ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ ―¹―É―Ä–Ψ–≤―΄–Ι ¬Ϊ―¹―É―Ö–Ψ–Ι –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ¬Μ, –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–≤―à–Η–Ι ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ω–Ψ –≤―¹–Β–Ι –Ζ–Α–Κ―Ä―΄―²–Ψ–Ι –Ζ–Ψ–Ϋ–Β –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α. –£ ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö ¬Ϊ―¹―É―Ö–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Α¬Μ –≤ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Φ ―Ö–Ψ–¥―É –±―΄–Μ–Ψ ¬Ϊ―à–Η–Μ–Ψ¬Μ βÄî ―²–Α–Κ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ―¹―è –≤ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Β ―¹–Ω–Η―Ä―², –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Α–≤―à–Η–Ι –¥–Μ―è –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Η―è –≤―¹–Β―Ö –≤–Η–¥–Ψ–≤ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤–Α–Β–Φ–Ψ–Ι –Η –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Η –≤ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ψ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Η. ¬Ϊ–®–Η–Μ–Ψ¬Μ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Ψ –Ϋ–Β–Φ–Α–Μ–Ψ –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―΄ –¥–Μ―è –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è―²–Η―è –Φ–Ψ―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥―É―Ö–Α –Η ―¹–Ω–Μ–Ψ―΅–Β–Ϋ–Η―è –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–Κ―²–Η–≤–Α. –ù–Α–¥–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –Ω―¨―è–Ϋ―¹―²–≤–Ψ –≤ ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Φ, –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Α–≤―à–Η–Β –Η–Ζ―Ä–Β–¥–Κ–Α ―ç–Κ―¹―Ü–Β―¹―¹―΄ –Ω―Ä–Β―¹–Β–Κ–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹–Α–Φ―΄–Φ ―Ä–Β―à–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ, –Α –≤―¹–Β –≤–Η–¥―΄ ―¹–Ω–Η―Ä―²–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α–Ω–Η―²–Κ–Ψ–≤ ―É–Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Μ―è–Μ–Η―¹―¨ –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ ―¹ –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–Ι βÄî –¥–Μ―è –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Η―è ―²–Ψ–Ϋ―É―¹–Α –Η–Μ–Η –≤ –Μ–Β―΅–Β–±–Ϋ―΄―Ö ―Ü–Β–Μ―è―Ö. –ü–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É ¬Ϊ―à–Η–Μ–Ψ¬Μ –±―΄–Μ–Ψ –Ψ–±―΄–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ, ―²–Ψ –Ω–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Μ―é–±―΄―Ö ―Ü–Η–≤–Η–Μ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α–Ω–Η―²–Κ–Ψ–≤, ―²–Α–Ι–Κ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–Ζ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Κ–Ψ―Ä–¥–Ψ–Ϋ, –Ϋ–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α ¬Ϊ―¹―É―Ö–Ψ–Ι –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ¬Μ, –≤―¹–Β–≥–¥–Α ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η―É―Ä–Ψ―΅–Η–≤–Α–Μ―¹―è –Κ –Κ–Α–Κ–Η–Φ-–Μ–Η–±–Ψ ―²―Ä―É–¥–Ψ–≤―΄–Φ –Ω–Ψ–±–Β–¥–Α–Φ –Η–Μ–Η –¥–Ϋ―è–Φ ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è. –ß–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Μ–Β―² ―¹―É―Ö–Ψ–Ι –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ –≤ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ψ–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Β –±―΄–Μ –Ψ―²–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ βÄî –Η―¹―΅–Β–Ζ–Μ–Α –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ–Α –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è ―¹–Ω–Η―Ä―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Ϋ–Ψ –Ζ–Α―²–Ψ –Ϋ–Β ―¹―²–Α–Μ–Ψ –Η ―²–Ψ–≥–Ψ ―É–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η―è, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β –Η―¹–Ω―΄―²―΄–≤–Α–Μ–Η –Μ―é–¥–Η –Ω―Ä–Η –Β–≥–Ψ –¥–Ψ–±―΄―΅–Β.
–£ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –≤–Ψ―¹–Κ―Ä–Β―¹–Ϋ―΄―Ö –Φ–Α―Ä―²–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö –¥–Ϋ–Β–Ι –Φ–Ϋ–Β –¥–Ψ–≤–Β–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ–±―΄–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Α ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ¬Ϊ–Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ–Β –Γ–Β–≤–Β―Ä–Α¬Μ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –≤ –€―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Β. –ü–Ψ–Β–Ζ–¥–Κ–Α –±―΄–Μ–Α –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Α ―Ä–Α–Κ–Β―²―΅–Η–Κ–Α–Φ–Η, ―É –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –±―΄–Μ ―¹–≤–Ψ–Ι –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―É–¥–Ψ–±–Ϋ―΄–Ι –Α–≤―²–Ψ–±―É―¹. –£ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹―²–Ψ―è–Μ–Α ―΅―É–¥–Β―¹–Ϋ–Α―è –Ω–Ψ–≥–Ψ–¥–Α: ―Ü–Β–Μ―΄–Φ–Η –¥–Ϋ―è–Φ–Η ―¹–≤–Β―²–Η–Μ–Ψ ―¹–Ψ–Μ–Ϋ―Ü–Β, –Β―â–Β –¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Φ–Ψ―Ä–Ψ–Ζ, –Η –≤―¹–Β –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥ –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ–Κ―Ä―΄―²–Ψ –±–Μ–Β―¹―²―è―â–Η–Φ –±–Β–Μ―΄–Φ ―¹–Ϋ–Β–≥–Ψ–Φ. –£―¹―é –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥―É –¥–Ψ –€―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Α –Φ―΄ –Μ―é–±–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ―è―Ä–Κ–Η–Φ–Η –±–Β–Μ―΄–Φ–Η ―¹–Ψ–Ω–Κ–Α–Φ–Η, ―¹–Η―è–≤―à–Η–Φ–Η –Ϋ–Α ―³–Ψ–Ϋ–Β ―΅–Η―¹―²–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ–Μ―É–±–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β–±–Α. –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Β–Φ –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α –±―΄–Μ–Η –≥–Ψ–Ϋ–Κ–Η –Ψ–Μ–Β–Ϋ―¨–Η―Ö ―É–Ω―Ä―è–Ε–Β–Κ, –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Η–Β –Ϋ–Α –Ψ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ–Β –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –Ω―Ä–Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Φ ―¹―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Α. –ö―Ä–Α―¹–Η–≤―΄–Φ–Η –Ψ–Μ–Β–Ϋ―è–Φ–Η ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Μ–Η –Ϋ–Β–Ϋ―Ü―΄, ―Ä–Α–Ζ–Ψ–¥–Β―²―΄–Β –≤ ―à–Η–Κ–Α―Ä–Ϋ―΄–Β –Φ–Β―Ö–Ψ–≤―΄–Β –Ψ–¥–Β–Ε–¥―΄, –Α–Ζ–Α―Ä―² ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Η –Ζ―Ä–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –±―΄–Μ –Ϋ–Β–Ψ–Ω–Η―¹―É–Β–Φ. –Δ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ ―è―Ä–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η –Κ―Ä–Α―¹–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ―Ä–Β–Μ–Η―â–Α –Φ–Ϋ–Β –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≤–Η–¥–Β―²―¨.
–ö–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Ψ–Β ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β –Μ–Β―²–Ψ –Η–Φ–Β–Β―² ―¹–≤–Ψ―é –Ω―Ä–Β–Μ–Β―¹―²―¨. –û–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ –±–Β–Μ–Ψ–Ι –Η―é–Ϋ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Ψ―΅―¨―é –Φ―΄ –≤―΄―à–Μ–Η –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è―è―¹―¨ –Ϋ–Α ―¹―²–Α―Ä―²–Ψ–≤―É―é –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η―é, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Η –Ω―É―¹–Κ ―Ä–Α–Κ–Β―²―΄ ―Ä–Α–Ϋ–Ψ ―É―²―Ä–Ψ–Φ. –¦–Ψ–¥–Κ–Α ―à–Μ–Α, –Κ–Α–Κ –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ, –≤ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η. –ö–Ψ–Μ–Μ–Β–≥–Η –Φ–Ψ–Η ―¹–Ω–Α–Μ–Η, –Κ―²–Ψ –≥–¥–Β ―¹–Φ–Ψ–≥ ―É―¹―²―Ä–Ψ–Η―²―¨―¹―è, –Α –Φ–Ϋ–Β –Ϋ–Β ―¹–Ω–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –Η ―è, ―¹ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α, –≤―΄–Μ–Β–Ζ ¬Ϊ–Ϋ–Α–≤–Β―Ä―Ö¬Μ. –ù–Α –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Β –Ϋ–Β―¹ –≤–Α―Ö―²―É –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ –†―É–¥–Η–Κ –Γ―²–Α―Ä–Κ–Η–Ϋ, ―¹ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –Φ―΄ –≤ –Ψ–¥–Η–Ϋ –≥–Ψ–¥ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ–Η ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α. –€―΄ –Ω–Ψ–¥―Ä―É–Ε–Η–Μ–Η―¹―¨ –Β―â–Β –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö –Ω―É―¹–Κ–Α―Ö, –Η –Ψ–Ϋ –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–Ε–Β–Μ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―¹–Η–Μ –Φ–Β–Ϋ―è ―É―¹―²―Ä–Ψ–Η―²―¨―¹―è –Ω–Ψ―É–¥–Ψ–±–Ϋ–Β–Β, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Μ―É―΅―à–Β –≤–Η–¥–Β―²―¨ –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Α―é―â―É―é –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ―É. –ù–Α –Φ–Ψ―Ä–Β –±―΄–Μ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Ι ―à―²–Η–Μ―¨, ―¹―²–Ψ―è–Μ–Α ―²–Η―à–Η–Ϋ–Α, –Ϋ–Α―Ä―É―à–Α–Β–Φ–Α―è –Φ–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ ―¹―²―É–Κ–Ψ–Φ –¥–Η–Ζ–Β–Μ–Β–Ι. –€–Ψ―Ä–Β –Η –Ϋ–Β–±–Ψ –±―΄–Μ–Η ―É–¥–Η–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Κ―Ä–Α―¹–Η–≤―΄, –Ϋ–Ψ –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Κ―Ä–Α―¹–Η–≤―΄ –±―΄–Μ–Η ―¹–Κ–Α–Μ–Η―¹―²―΄–Β –±–Β―Ä–Β–≥–Α, –≤–Η–¥–Ϋ–Β–≤―à–Η–Β―¹―è –Ϋ–Β–≤–¥–Α–Μ–Β–Κ–Β. –ö–Ψ–≥–¥–Α ―¹―Ä–Β–¥–Η –Ω–Ψ–≤―¹–Β–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α–±–Ψ―² –≤–¥―Ä―É–≥ –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β―à―¨ ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –Κ―Ä–Α―¹–Ψ―²―É –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Α―é―â–Β–≥–Ψ –Φ–Η―Ä–Α, ―²–Ψ ―ç―²–Ψ βÄî ―²–Ψ–Ε–Β 
–ö–Ψ–≥–¥–Α –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ–¥–Ψ–Μ–≥―É ―¹–Η–¥–Β―²―¨ –≤ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Β, ―²–Ψ –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ –Μ―é–±–Α―è –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―¹―ä–Β–Ζ–¥–Η―²―¨ –Ϋ–Α –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Ϋ–Β–Ι –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι. –ï―¹–Μ–Η –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–Μ–Η –¥–Β–Μ–Α, ―²–Ψ –Ϋ–Α―¹ –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –Ω–Ψ–±―΄–≤–Κ―É –±–Β–Ζ –≤―¹―è–Κ–Η―Ö ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι, –Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ–Α –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―¹―É–Φ–Β―²―¨ ―É–Β―Ö–Α―²―¨. –Ξ–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Β―Ä―²–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ―Ä–Α―è –±―΄–Μ–Η –≤–Β–Μ–Η–Κ–Η–Β –Φ–Η–≥―Ä–Α―Ü–Η–Η –Ϋ–Α―¹–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è, ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α–Φ–Η –≥–Ψ–¥–Α. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Α–Μ–Ψ –Μ–Β―²–Ψ, –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ―΄ ―¹ –¥–Β―²―¨–Φ–Η –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ–Η –¥–≤–Η–≥–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Α ―é–≥, ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ –Ϋ–Α –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥ –Η –Ϋ–Α –€–Ψ―¹–Κ–≤―É. –Γ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –Φ–Α―è –¥–Ψ ―¹–Β―Ä–Β–¥–Η–Ϋ―΄ –Η―é–Μ―è –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –¥–Ψ―¹―²–Α―²―¨ –±–Η–Μ–Β―²―΄ –Ϋ–Η –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥–Α, –Ϋ–Η –Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²―΄, ―É―Ö–Ψ–¥―è―â–Η–Β –Η–Ζ –€―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Α. –£―¹–Β –Ε–Β ―É–Β–Ζ–Ε–Α―²―¨ –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Κ–Α–Κ-―²–Ψ ―É–¥–Α–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨: ―²–Ψ –Μ–Η –Ω–Ψ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―¹―²–Η –≤–Β–Ζ–Μ–Ψ, ―²–Ψ –Μ–Η –Μ―é–¥–Η ―²–Ψ–≥–¥–Α –±―΄–Μ–Η –¥–Ψ–±―Ä–Β–Β. –ë―΄–≤–Α–Μ–Η –Η ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Β–Ψ–±―΄―΅–Ϋ―΄–Β ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η–Η.
–ö–Α–Κ-―²–Ψ ―Ä–Α–Ζ –Ζ–Η–Φ–Ψ–Ι ―è –±–Β–Ζ –±–Η–Μ–Β―²–Α –Ω―Ä–Η–Β―Ö–Α–Μ –≤ –Α―ç―Ä–Ψ–Ω–Ψ―Ä―². –£ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Α―ç―Ä–Ψ–Ω–Ψ―Ä―² –≤ –€―É―Ä–Φ–Α―à–Α―Ö –±―΄–Μ –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Η–Φ, ―¹ –≥―Ä―É–Ϋ―²–Ψ–≤―΄–Φ–Η –≤–Ζ–Μ–Β―²–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω–Ψ–Μ–Ψ―¹–Α–Φ–Η. –ù–Α –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥ –Μ–Β―²–Α–Μ–Η –≤–Η–Ϋ―²–Ψ–Φ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ϋ―΄–Β ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²―΄ –‰–¦-14. –ù–Α ―É―Ö–Ψ–¥―è―â–Η–Ι ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―² ―è –Ϋ–Β ―¹–Β–Μ, ―²–Α–Κ–Η―Ö –Ε–Β–Μ–Α―é―â–Η―Ö –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Μ–Η―à–Κ–Ψ–Φ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ. –Γ–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Ι ―Ä–Β–Ι―¹ –Ψ–Ε–Η–¥–Α–Μ―¹―è ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ζ–Α–≤―²―Ä–Α ―É―²―Ä–Ψ–Φ. –î–Β–Μ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –≤–Β―΅–Β―Ä–Ψ–Φ, –¥–Β–Μ–Α―²―¨ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β―΅–Β–≥–Ψ βÄî –Ϋ–Α–¥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ε–¥–Α―²―¨ ―É―²―Ä–Α. –ê―ç―Ä–Ψ–≤–Ψ–Κ–Ζ–Α–Μ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –±–Ψ–Μ―¨―à―É―é –¥–Β―Ä–Β–≤―è–Ϋ–Ϋ―É―é –Η–Ζ–±―É, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –±―΄–Μ –Ζ–Α–Μ –Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Η―è ―¹–Ψ ―¹–Κ–Α–Φ–Β–Ι–Κ–Α–Φ–Η. –ù–Α―Ä–Ψ–¥―É –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, ―¹–Η–Ε―É –≥―Ä―É―¹―²–Ϋ―΄–Ι, –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Η―Ö –Ω–Β―Ä―¹–Ω–Β–Κ―²–Η–≤. –£–¥―Ä―É–≥ –≤―Ö–Ψ–¥–Η―² –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ –Μ–Β―²―΅–Η–Κ –Η –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²: ¬Ϊ–ö―²–Ψ ―Ö–Ψ―΅–Β―² ―É–Μ–Β―²–Β―²―¨ –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥ –Ϋ–Α –≥―Ä―É–Ζ–Ψ–≤–Ψ–Φ ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Β –±–Β–Ζ ―É–¥–Ψ–±―¹―²–≤, –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –Ω–Ψ–Κ―É–Ω–Α–Ι―²–Β –±–Η–Μ–Β―²―΄¬Μ. –•–Β–Μ–Α―é―â–Η―Ö –Ϋ–Α–±―Ä–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Ψ–¥–Ϋ–Η –Φ―É–Ε–Η–Κ–Η. –ß–Β―Ä–Β–Ζ –Ω–Ψ–Μ―΅–Α―¹–Α –Ζ–Α–≥―Ä―É–Ε–Α–Β–Φ―¹―è –≤ ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―² –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Ω–Ψ –±–Ψ―Ä―²–Α–Φ ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ―΄ –¥–≤–Β –¥–Μ–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹–Κ–Α–Φ–Β–Ι–Κ–Η. –€―΄ ―É―¹–Α–Ε–Η–≤–Α–Β–Φ―¹―è –Ϋ–Α –Ϋ–Η―Ö ―Ä―è–¥–Κ–Ψ–Φ, –¥–Β―Ä–Ε–Α―¹―¨ ―Ä―É–Κ–Α–Φ–Η –Ζ–Α ―¹–Κ–Α–Φ–Β–Ι–Κ–Η, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ ―ç―²–Ψ―² ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―² –Ω―Ä–Η ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Κ–Β –Ϋ–Α –Ζ–Β–Φ–Μ–Β –Η–Φ–Β–Β―² –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Ϋ–Α–Κ–Μ–Ψ–Ϋ –≤ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―É ―Ö–≤–Ψ―¹―²–Α. –ù–Η–Κ–Α–Κ–Η―Ö –Ω―Ä–Η―¹―²–Β–Ε–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Β–Φ–Ϋ–Β–Ι –≤ –Ϋ–Β–Φ –Ϋ–Β―². –€–Ψ―²–Ψ―Ä―΄ –Ζ–Α―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Η, –Η –Φ―΄ –≤–Ζ–Μ–Β―²–Β–Μ–Η. –¦–Β―²–Η–Φ, ―²–Β–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Α –≤ –≥―Ä―É–Ζ–Ψ–≤–Ψ–Φ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Β, –≥–¥–Β –Φ―΄ ―¹–Η–¥–Η–Φ, –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β―² ―¹–Ϋ–Η–Ε–Α―²―¨―¹―è. –Γ―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¹―è ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ–Ψ, –Η –Φ―΄ ―¹―²―É―΅–Η–Φ―¹―è –≤ –Κ–Α–±–Η–Ϋ―É –Κ –Μ–Β―²―΅–Η–Κ–Α–Φ –Η –Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Φ ―΅―²–Ψ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Α–Φ –Ϋ–Β –Ζ–Α–Φ–Β―Ä–Ζ–Ϋ―É―²―¨. –™–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―² βÄî ―¹–¥–Β–Μ–Α–Β–Φ. –û―²–Κ―É–¥–Α-―²–Ψ ―¹–≤–Β―Ä―Ö―É –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β―² –±–Η―²―¨ –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Φ–Ψ―â–Ϋ–Α―è ―¹―²―Ä―É―è –≥–Ψ―Ä―è―΅–Β–≥–Ψ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Α, –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ―² –¥–≤–Η–≥–Α―²–Β–Μ–Β–Ι. –ß–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –≤ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Β ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¨―¹―è –Ε–Α―Ä–Κ–Ψ. –ù–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β–Φ ―Ä–Α–Ζ–¥–Β–≤–Α―²―¨―¹―è, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Ψ–Ω―è―²―¨ ―¹―²―É―΅–Η–Φ―¹―è –Κ –Μ–Β―²―΅–Η–Κ–Α–Φ, –Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Φ ―É–±―Ä–Α―²―¨ –Ψ―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β. –Δ–Β–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Α –≤ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Β –Ψ–Ω―è―²―¨ –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β―² –Ω–Α–¥–Α―²―¨. –û–¥–Β–≤–Α–Β–Φ―¹―è, –Φ–Β―Ä–Ζ–Ϋ–Β–Φ, –Ψ–Ω―è―²―¨ ―¹―²―É―΅–Η–Φ―¹―è –Κ –Μ–Β―²―΅–Η–Κ–Α–Φ –Η ―²–Α–Κ –¥–Α–Μ–Β–Β. –£ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Ψ–≤, –Ω―Ä–Η–Μ–Β―²–Α–Β–Φ –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥ –Η ―¹–Α–¥–Η–Φ―¹―è –≥–¥–Β-―²–Ψ –Ϋ–Α –Ψ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ–Β ―¹―²–Α―Ä–Ψ–≥–Ψ –Α―ç―Ä–Ψ–Ω–Ψ―Ä―²–Α. –‰ –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É–Ϋ–Ψ―΅–Η ―è –Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é―¹―¨ –¥–Ψ–Φ–Α.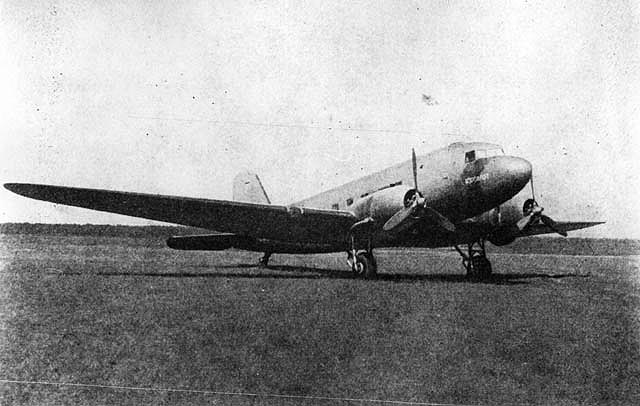 –ù–Α –Ζ–Α–≤–Β―Ä―à–Α―é―â–Β–Φ ―ç―²–Α–Ω–Β –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η–Ι –Φ–Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ω–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨ –Ϋ–Α –Ω―É―¹–Κ ―Ä–Α–Κ–Β―²―΄ ―¹ –±–Ψ―Ä―²–Α –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–≤–Α―é―â–Β–≥–Ψ ―ç―¹–Φ–Η–Ϋ―Ü–Α, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ ―΅–Μ–Β–Ϋ―΄ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η–Η –Ω–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―é –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η–Ι. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ζ–Α―Ö–≤–Α―²―΄–≤–Α―é―â–Β–Β –Ζ―Ä–Β–Μ–Η―â–Β. –†–Α–Κ–Β―²–Α –≤―΄―à–Μ–Α –Η–Ζ-–Ω–Ψ–¥ –≤–Ψ–¥―΄, ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Α–Β–Φ–Α―è –Φ–Ψ―â–Ϋ―΄–Φ ―Ä–Β–≤–Ψ–Φ –¥–≤–Η–≥–Α―²–Β–Μ―è –Η ―è―Ä–Κ–Ψ–Ι ―¹―²―Ä―É–Β–Ι –Ω–Μ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η, –≤―΄–±―Ä–Α―¹―΄–≤–Α–Β–Φ–Ψ–Ι –Η–Ζ –Β–≥–Ψ ―¹–Ψ–Ω–Β–Μ, ―¹–Μ–Β–≥–Κ–Α –Ω–Ψ–Κ–Α―΅–Ϋ―É–Μ–Α―¹―¨ –Η ―²―É―² –Ε–Β –≤―΄–Ω―Ä―è–Φ–Η–Μ–Α―¹―¨ βÄî ―ç―²–Ψ ―Ä―É–Μ–Η –Ψ―²―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Η –≤–Ψ–Ζ–Φ―É―â–Β–Ϋ–Η–Β, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Η –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Β –Η–Ζ –≤–Ψ–¥―΄ –≤ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö, –Η –Ω–Ψ―à–Μ–Α –≤ –Ϋ–Β–±–Ψ βÄî –≤―¹–Β –≤―΄―à–Β –Η –≤―΄―à–Β, –Ω–Ψ–Κ–Α –Ϋ–Β ―¹–Κ―Ä―΄–Μ–Α―¹―¨ –Η–Ζ –≤–Η–¥–Α. –‰ –≤ ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è ―²―΄ –Ψ―²―΅–Β―²–Μ–Η–≤–Ψ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―à―¨, –Κ–Α–Κ –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –Ψ–Ϋ–Α ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –Ω–Ψ–Μ–Β―²–Η―². –£―¹–Β ―ç―²–Ψ –Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―²–Ψ–≥–¥–Α ―΅―É–¥–Ψ–Φ ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Η. –ù–Α –Ζ–Α–≤–Β―Ä―à–Α―é―â–Β–Φ ―ç―²–Α–Ω–Β –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η–Ι –Φ–Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ω–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨ –Ϋ–Α –Ω―É―¹–Κ ―Ä–Α–Κ–Β―²―΄ ―¹ –±–Ψ―Ä―²–Α –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–≤–Α―é―â–Β–≥–Ψ ―ç―¹–Φ–Η–Ϋ―Ü–Α, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ ―΅–Μ–Β–Ϋ―΄ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η–Η –Ω–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―é –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η–Ι. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ζ–Α―Ö–≤–Α―²―΄–≤–Α―é―â–Β–Β –Ζ―Ä–Β–Μ–Η―â–Β. –†–Α–Κ–Β―²–Α –≤―΄―à–Μ–Α –Η–Ζ-–Ω–Ψ–¥ –≤–Ψ–¥―΄, ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Α–Β–Φ–Α―è –Φ–Ψ―â–Ϋ―΄–Φ ―Ä–Β–≤–Ψ–Φ –¥–≤–Η–≥–Α―²–Β–Μ―è –Η ―è―Ä–Κ–Ψ–Ι ―¹―²―Ä―É–Β–Ι –Ω–Μ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η, –≤―΄–±―Ä–Α―¹―΄–≤–Α–Β–Φ–Ψ–Ι –Η–Ζ –Β–≥–Ψ ―¹–Ψ–Ω–Β–Μ, ―¹–Μ–Β–≥–Κ–Α –Ω–Ψ–Κ–Α―΅–Ϋ―É–Μ–Α―¹―¨ –Η ―²―É―² –Ε–Β –≤―΄–Ω―Ä―è–Φ–Η–Μ–Α―¹―¨ βÄî ―ç―²–Ψ ―Ä―É–Μ–Η –Ψ―²―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Η –≤–Ψ–Ζ–Φ―É―â–Β–Ϋ–Η–Β, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Η –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Β –Η–Ζ –≤–Ψ–¥―΄ –≤ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö, –Η –Ω–Ψ―à–Μ–Α –≤ –Ϋ–Β–±–Ψ βÄî –≤―¹–Β –≤―΄―à–Β –Η –≤―΄―à–Β, –Ω–Ψ–Κ–Α –Ϋ–Β ―¹–Κ―Ä―΄–Μ–Α―¹―¨ –Η–Ζ –≤–Η–¥–Α. –‰ –≤ ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è ―²―΄ –Ψ―²―΅–Β―²–Μ–Η–≤–Ψ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―à―¨, –Κ–Α–Κ –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –Ψ–Ϋ–Α ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –Ω–Ψ–Μ–Β―²–Η―². –£―¹–Β ―ç―²–Ψ –Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―²–Ψ–≥–¥–Α ―΅―É–¥–Ψ–Φ ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Η.
–ù–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à―É―é –Ψ–±―â―É―é –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―é ―Ä–Α–±–Ψ―², –Ϋ–Β–Ζ–Α–¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –¥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Α –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η–Ι –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Ψ –Ω–Β―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Β: ―²―Ä–Α–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Ω–Ψ–≥–Η–± –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ ―¹―²–Α―Ä―²–Ψ–≤–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄ –Φ–Α–Ι–Ψ―Ä –ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η–Ι –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –ü–Α–Ϋ–Κ–Ψ–≤ βÄî –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―², ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –Κ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ―É –≤―¹–Β, –Κ–Ψ–Φ―É –¥–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β, –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η―¹―¨ ―¹ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι ―¹–Η–Φ–Ω–Α―²–Η–Β–Ι.
–Δ―Ä–Α–≥–Β–¥–Η―è –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Α ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ. –î–Μ―è –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ω―É―¹–Κ–Α ―Ä–Α–Κ–Β―²―΄ –Ϋ–Α –Φ–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ―É―é –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –≤ –ë–Α―Ä–Β–Ϋ―Ü–Β–≤–Ψ –Φ–Ψ―Ä–Β (–Ψ―²–¥–Α–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―²–Ψ―΅–Κ–Η ―¹―²–Α―Ä―²–Α –±―΄–Μ–Α –Ψ–±―É―¹–Μ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Α –Φ–Β―¹―²–Ψ–Φ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è –±–Ψ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ―è, –Ω–Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–±–Α). –ü―É―¹–Κ –Ω―Ä–Ψ―à–Β–Μ ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ, –≤―¹–Β –±―΄–Μ–Η –≤ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–Φ –Ϋ–Α―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η–Η, –Μ–Ψ–¥–Κ–Α ―à–Μ–Α –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι –≤ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η. –ü–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É ―¹―²–Α―Ä―²–Ψ–≤–Α―è –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η―è, ―¹ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤―¹–Β –Ω―Ä–Β–¥―΄–¥―É―â–Η–Β –Ω―É―¹–Κ–Η, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Β–¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –Ψ―² –≤―Ö–Ψ–¥–Α –≤ –ö–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Η–Ι –Ζ–Α–Μ–Η–≤, –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –≤―¹–Β–≥–¥–Α –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤ –±–Α–Ζ―É, –¥–≤–Η–≥–Α―è―¹―¨ –≤ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η, –Η –Η―¹–Ω―΄―²–Α―²–Β–Μ–Η –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η ¬Ϊ–Ϋ–Α–≤–Β―Ä―Ö¬Μ, ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ –≤ –Ψ–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β ―Ä―É–±–Κ–Η, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Ψ–Κ―É―Ä–Η―²―¨ –Η–Μ–Η –Ω–Ψ–¥―΄―à–Α―²―¨ ―¹–≤–Β–Ε–Η–Φ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Ψ–Φ. –ù–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö ―¹―É―â–Β―¹―²–≤―É–Β―² –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Ψ–Κ –Ω–Ψ–Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Α –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α ¬Ϊ–Ϋ–Α–≤–Β―Ä―Ö¬Μ, –Ϋ–Ψ –Ζ–Α –≤―Ä–Β–Φ―è –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η–Ι ―¹–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Α―¹―¨ ―²–Α–Κ–Α―è –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ–Α, ―΅―²–Ψ ¬Ϊ―ç–Μ–Η―²–Α¬Μ –Η―¹–Ω―΄―²–Α―²–Β–Μ–Β–Ι –Ω―Ä–Η ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–Ι –Ω–Ψ–≥–Ψ–¥–Β –Ω–Ψ–¥–Ψ–Μ–≥―É –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ ¬Ϊ–Ϋ–Α–≤–Β―Ä―Ö―É¬Μ, –≤–±–Μ–Η–Ζ–Η ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Α –Η –≤ –Ω–Ψ–Μ–Β –Ζ―Ä–Β–Ϋ–Η―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Η–Μ–Η –≤–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α. –ü–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥ –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –≤ –±–Α–Ζ―É –±―΄–≤–Α–Μ ―¹―Ä–Α–≤–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β–¥–Ψ–Μ–≥–Η–Φ –Η –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –≤–±–Μ–Η–Ζ–Η ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤ βÄî –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Η―Ö –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ ―¹ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Η―¹–Ω―΄―²–Α―²–Β–Μ–Β–Ι ¬Ϊ–Ϋ–Α–≤–Β―Ä―Ö―É¬Μ –Ϋ–Β –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Α–Μ–Ψ.
–£ ―ç―²–Ψ―² ―Ä–Α–Ζ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Β –±―΄–Μ–Ψ –¥–Ψ–Μ–≥–Η–Φ. –¦–Ψ–¥–Κ–Α ―à–Μ–Α –≤ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η, –Ω–Ψ–≥–Ψ–¥–Α –±―΄–Μ–Α –Ω―Ä–Ψ―Ö–Μ–Α–¥–Ϋ–Ψ–Ι, –≤―¹–Β –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ ―É–Ε–Β –Ϋ–Α–Κ―É―Ä–Η–Μ–Η―¹―¨, –Ϋ–Α–¥―΄―à–Α–Μ–Η―¹―¨ –Η ―É―à–Μ–Η ¬Ϊ–≤–Ϋ–Η–Ζ¬Μ, ―Ä–Α–Ζ–Ψ–Ι–¥―è―¹―¨ –Ω–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Φ–Β―¹―²–Α–Φ –≤ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Α―Ö –Ω―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Α. ¬Ϊ–ù–Α–≤–Β―Ä―Ö―É¬Μ, –Κ–Α–Κ –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ, –±―΄–Μ–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Η –≤–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –±―΄–Μ ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α–≤–Β―Ä―Ö―É, –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β –Ϋ–Η―Ö, –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β―². –ï–Φ―É –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β–≤–¥–Ψ–Φ–Β–Κ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ ―¹―²–Α―Ä―²–Ψ–≤–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄, –≤ ―¹–Η–Μ―É ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –≤―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²―Ä―É–¥–Ψ–Μ―é–±–Η―è, –Ω–Ψ–Μ–Ζ–Α–Β―² –≤ –Ψ–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Η ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ―΄―Ö ―à–Α―Ö―², –≤–Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ―è –Ζ―Ä–Β–Ϋ–Η―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α, –Η ―΅―²–Ψ-―²–Ψ ―²–Α–Φ –Ψ―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α–Β―² –ü–Ψ-–≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ–Φ―É, –ü–Α–Ϋ–Κ–Ψ–≤―É ―²–Ψ–Ε–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β–≤–¥–Ψ–Φ–Β–Κ, ―΅―²–Ψ –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Φ–Ψ–Ε–Β―² –≤–¥―Ä―É–≥ ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ζ–Η―²―¨―¹―è.
–ù–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Β –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ―¹―è ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²-―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥―΅–Η–Κ –ù–ê–Δ–û. –£ ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Η–Η ―¹ –Η–Φ–Β–≤―à–Η–Φ―¹―è –Ϋ–Α ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –¥–Α–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É: ¬Ϊ–£―¹–Β –≤–Ϋ–Η–Ζ, ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Β!¬Μ –‰, –±―É–¥―É―΅–Η –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Φ ―É―Ö–Ψ–¥–Η―² ―¹ –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Α, –Ζ–Α–Κ―Ä―΄–Μ –Ζ–Α ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –Κ―Ä―΄―à–Κ―É –≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Β–≥–Ψ ―Ä―É–±–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ―é–Κ–Α. –¦–Ψ–¥–Κ–Α –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ζ–Η–Μ–Α―¹―¨ –≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Η –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ–Α ―¹–≤–Ψ–Ι –Ω―É―²―¨. –ß–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä–Ψ–≤ ―¹―²–Α―Ä―²–Ψ–≤–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄ ―¹―²–Α–Μ –Ω–Ψ –Κ–Α–Κ–Ψ–Φ―É-―²–Ψ –¥–Β–Μ―É –Η―¹–Κ–Α―²―¨ –ü–Α–Ϋ–Κ–Ψ–≤–Α, –Ϋ–Ψ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Η–≥–¥–Β –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ. –Δ–Ψ–≥–¥–Α, ―¹ –Ϋ–Α―Ä–Α―¹―²–Α―é―â–Β–Ι ―²―Ä–Β–≤–Ψ–≥–Ψ–Ι, –Β–≥–Ψ ―¹―²–Α–Μ–Η –Η―¹–Κ–Α―²―¨ –Ω–Ψ –≤―¹–Β–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –Η ―¹ ―É–Ε–Α―¹–Ψ–Φ ―É–±–Β–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –≤ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Α―Ö –Ω―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Α –Β–≥–Ψ –Ϋ–Β―². –£―¹–Ω–Μ―΄–Μ–Η –≤ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Η –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ ―¹―²–Α―Ä―²–Ψ–≤–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄ –Ψ―¹―²–Α–Μ―¹―è –≤ –Μ–Β–¥―è–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–¥–Β –ë–Α―Ä–Β–Ϋ―Ü–Β–≤–Α –Φ–Ψ―Ä―è. –£–Η–¥–Η–Φ–Ψ, –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β ―¹–Μ―΄―à–Α–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, –Α –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―É–≤–Η–¥–Β–Μ, ―΅―²–Ψ –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Α–Β―²―¹―è, ―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―É–Ε–Β –Ω–Ψ–Ζ–¥–Ϋ–Ψ.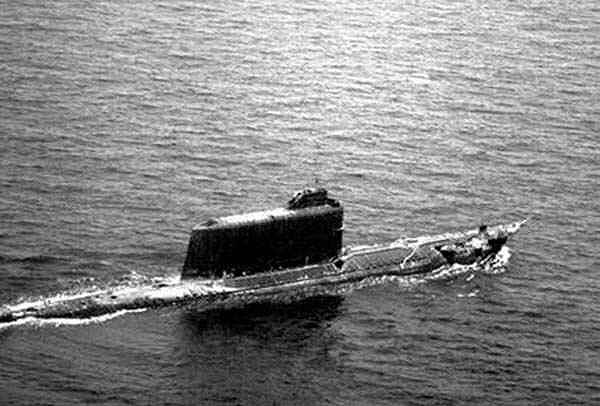 –ü–Ψ–Ω―΄―²–Κ–Η –Η―¹–Κ–Α―²―¨ –ü–Α–Ϋ–Κ–Ψ–≤–Α –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –±―΄–Μ–Η –±–Β–Ζ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ―΄ βÄî ―É―¹–Ω–Β–Μ–Α ―É–Ι―²–Η –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –Ψ―² –Φ–Β―¹―²–Α ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è. –ü–Ψ―²–Β―Ä―è –±―΄–Μ–Α –≥–Ψ―Ä―¨–Κ–Ψ–Ι. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –±―΄–Μ –Ω–Ψ―²―Ä―è―¹–Β–Ϋ ―¹–Μ―É―΅–Η–≤―à–Η–Φ―¹―è, –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –Φ―Ä–Α―΅–Ϋ–Β–Β ―²―É―΅–Η. –ï–≥–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Ϋ―è–Μ–Η ―¹ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η βÄî –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η―è –≤―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Η –≤ –Ζ–Α–≤–Β―Ä―à–Α―é―â–Η–Ι ―ç―²–Α–Ω, –Η –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Φ–Ψ–≥–Μ–Ψ –±―΄ –Ϋ–Α―Ä―É―à–Η―²―¨ –Ψ―²―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Ψ–Κ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è ―Ä–Α–±–Ψ―². –ù–Ψ –Κ–Α―Ä―¨–Β―Ä–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α –±―΄–Μ–Α –¥–Μ―è –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Β–Ϋ–Α βÄî ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η―è –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η–Ι –Ψ–Ϋ ―¹―²–Α–Μ –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ–Β–Φ –≤ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è. –ü–Ψ–Ω―΄―²–Κ–Η –Η―¹–Κ–Α―²―¨ –ü–Α–Ϋ–Κ–Ψ–≤–Α –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –±―΄–Μ–Η –±–Β–Ζ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ―΄ βÄî ―É―¹–Ω–Β–Μ–Α ―É–Ι―²–Η –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –Ψ―² –Φ–Β―¹―²–Α ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è. –ü–Ψ―²–Β―Ä―è –±―΄–Μ–Α –≥–Ψ―Ä―¨–Κ–Ψ–Ι. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –±―΄–Μ –Ω–Ψ―²―Ä―è―¹–Β–Ϋ ―¹–Μ―É―΅–Η–≤―à–Η–Φ―¹―è, –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –Φ―Ä–Α―΅–Ϋ–Β–Β ―²―É―΅–Η. –ï–≥–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Ϋ―è–Μ–Η ―¹ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η βÄî –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η―è –≤―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Η –≤ –Ζ–Α–≤–Β―Ä―à–Α―é―â–Η–Ι ―ç―²–Α–Ω, –Η –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Φ–Ψ–≥–Μ–Ψ –±―΄ –Ϋ–Α―Ä―É―à–Η―²―¨ –Ψ―²―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Ψ–Κ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è ―Ä–Α–±–Ψ―². –ù–Ψ –Κ–Α―Ä―¨–Β―Ä–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α –±―΄–Μ–Α –¥–Μ―è –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Β–Ϋ–Α βÄî ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η―è –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η–Ι –Ψ–Ϋ ―¹―²–Α–Μ –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ–Β–Φ –≤ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è.
–‰―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η―è –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―¹–Α –î-4 –±―΄–Μ–Η ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ―΄. –Γ–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―¹–Α –Ψ―²–Κ―Ä―΄–Μ–Ψ ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η―è ―É –Ϋ–Α―¹ –≤ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è ―¹―²―Ä–Α―²–Β–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Ι –Η ―¹―²–Α–Μ–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ–Φ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Μ–Β―²–Ϋ–Β–Ι –Ϋ–Β–Ω―Ä–Β―Ä―΄–≤–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –Ω–Ψ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η―é –Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö, –≤―¹–Β –±–Ψ–Μ–Β–Β ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―¹–Ψ–≤ –Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι, –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Α–Β–Φ―΄―Ö ―ç―²–Η–Φ–Η –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―¹–Α–Φ–Η. –‰ ―è –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –≤ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―ç―²–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄.
–ü–Ψ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η–Η –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η–Ι ―è –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ―¹―è –≤ –±―é―Ä–Ψ –Η –≤–Κ–Μ―é―΅–Η–Μ―¹―è –≤ ―Ä–Α–±–Ψ―²―É ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ ―¹–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Α. –Γ–Β–Κ―²–Ψ―Ä ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è –±―΄–Μ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ –Η –Ϋ–Α –¥–≤–Β ―²―Ä–Β―²–Η ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ –Η–Ζ –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ, ―΅–Α―¹―²―¨ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Β–±―΄–≤–Α–Μ–Α –≤ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Α―Ö βÄî –Ϋ–Α ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–Μ–Η–≥–Ψ–Ϋ–Α―Ö, –Ϋ–Α –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Α―Ö-―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―è―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –Ϋ–Α –Ω―Ä–Β–¥–Ω―Ä–Η―è―²–Η―è―Ö βÄî –Ω–Α―Ä―²–Ϋ–Β―Ä–Α―Ö. –•–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ―΄ –≤ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Η –Ϋ–Β –Β–Ζ–¥–Η–Μ–Η –Η –±―΄–Μ–Η –Ζ–Α–Ϋ―è―²―΄ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Α–±–Ψ―²–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η―Ö ―΅–Β―Ä―²–Β–Ε–Β–Ι. –‰―Ö –Ζ–Α–±–Ψ―²–Α–Φ–Η –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ―É―é―²–Ϋ–Α―è –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Α –≤ ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Β–Φ –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η–Η –Η ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Κ–Μ–Η–Φ–Α―² –≤ –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–Κ―²–Η–≤–Β. –ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ ―¹–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Α –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Β–≤–Η―΅ –ü–Β―²–Μ–Η–Ϋ, –±―΄–≤―à–Η–Ι –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ, ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤–Α–Μ –≤ ―¹–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Β –±–Ψ–¥―Ä―΄–Ι –¥–Β–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ϋ–Α―¹―²―Ä–Ψ–Ι. –û–±–Μ–Α–¥–Α―è –Ε–Η–≤―΄–Φ ―É–Φ–Ψ–Φ –Η –±―΄―¹―²―Ä–Ψ–Ι ―Ä–Β–Α–Κ―Ü–Η–Β–Ι, –Ψ–Ϋ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ψ―Ä–Η–Β–Ϋ―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è –≤–Ψ –≤―¹–Β–Φ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Η–Η –Ζ–Α–¥–Α―΅, ―Ä–Β―à–Α–Β–Φ―΄―Ö ―¹–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ, –Η ―ç–Ϋ–Β―Ä–≥–Η―΅–Ϋ–Ψ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ –Μ―é–¥―¨–Φ–Η, –≤ –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η βÄî –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄–Φ–Η –Η –Ω–Β―Ä―¹–Ω–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ―΄–Φ–Η, –Ζ–Α―¹―²–Α–≤–Μ―è―è –Η―Ö ¬Ϊ–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ―Ä―É―²–Η―²―¨―¹―è –Η –±―΄―¹―²―Ä–Ψ ―¹–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Α―²―¨¬Μ.
–ù–Α –Ψ–±―â–Β–Φ ―³–Ψ–Ϋ–Β ¬Ϊ–Ω–Ψ―¹–Μ–Β–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ¬Μ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α ―¹–Ψ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―¹–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Α –≤―΄–¥–Β–Μ―è–Μ–Η―¹―¨ –¥–≤–Α –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ–Α –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄, –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –Η–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Η–Φ–Β–Μ –Ζ–Α –Ω–Μ–Β―΅–Α–Φ–Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ψ–Ω―΄―². –û–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö, –Ψ―²―¹―²–Α–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅ –½–Β–≤–Β–Μ―¨―², –Ψ–±–Μ–Α–¥–Α–Μ –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η–Φ ―Ä–Ψ―¹―²–Ψ–Φ, ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Η–Φ–Η –Ω–Μ–Β―΅–Α–Φ–Η –Η ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ι, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –≤―΄–¥–Β–Μ―è–Μ–Α―¹―¨ –Ω―Ä―è–Φ–Ψ―É–≥–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Α―è ¬Ϊ–Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Α―è¬Μ ―΅–Β–Μ―é―¹―²―¨. –ù–Α –≤–Β―Ä―à–Η–Ϋ–Β ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―¹–Μ―É–Ε–Β–±–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Α―Ä―¨–Β―Ä―΄ –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Φ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α―é―â–Η–Φ –Ζ–Α –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Η–Φ –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ–≥–Ψ –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ ―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ―¹―è –≤ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Β –Ω–Ψ –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Φ―É ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―é –Γ―²–Α–Μ–Η–Ϋ–Α. –½–Β–≤–Β–Μ―¨―² –Μ―é–±–Η–Μ –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―²―¨ –Ψ ―²–Ψ–Φ, –Κ–Α–Κ –Ψ–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ –≤―΄–Ζ–≤–Α–Ϋ –Κ –Γ―²–Α–Μ–Η–Ϋ―É –¥–Μ―è –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Α –Ψ ―Ö–Ψ–¥–Β ―Ä–Α–±–Ψ―² –Ω–Ψ –Η–Ζ–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―é –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Η –¥–Μ―è –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Α, ―¹ –Κ–Α–Κ–Η–Φ ―¹―²―Ä–Α―Ö–Ψ–Φ –Ψ–Ϋ ―à–Β–Μ –Ω–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Η–¥–Ψ―Ä–Α–Φ –ö―Ä–Β–Φ–Μ―è –Ω–Ψ–¥ –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ–Β–Φ –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―è –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –≤ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β –Ϋ–Β―É–¥–Α―΅–Η ―ç―²–Ψ―² –≤–Η–Ζ–Η―² –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η―²―¨―¹―è –¥–Μ―è –Ϋ–Β–≥–Ψ –≤–Β―¹―¨–Φ–Α –Ω–Μ–Α―΅–Β–≤–Ϋ–Ψ, –Η –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤―¹–Β –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω–Ψ–Μ―É―΅–Ϋ–Ψ. –û–Ϋ –Μ―é–±–Η–Μ ―²–Α–Κ–Ε–Β ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―²―¨ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Β –±–Α–Ι–Κ–Η –Ψ –Μ―é–¥―è―Ö, –Ϋ–Β–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–≤―à–Η―Ö –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η–Β –Ω–Ψ―¹―²―΄ –≤ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β, –¥–Α–≤–Α―è ―²–Β–Φ ―¹–Α–Φ―΄–Φ –Ω–Ψ–Ϋ―è―²―¨ –Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–Φ. –½–Α–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ –≤ 1951 –≥., –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –¥–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ. –ü–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Β –≤–Ψ–¥–Ψ–Η–Ζ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η–Β βÄî 42 300 ―². –î–Μ–Η–Ϋ–Α –Ϋ–Α–Η–±–Ψ–Μ―¨―à–Α―è βÄî 273,6 –Φ, ―à–Η―Ä–Η–Ϋ–Α βÄî 32 –Φ, –Ψ―¹–Α–¥–Κ–Α βÄî 9,2 –Φ. –€–Ψ―â–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―²―É―Ä–±–Η–Ϋ βÄî 280 000 –Μ. ―¹., ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²―¨ βÄî 35,2 ―É–Ζ–Μ–Α (65 –Κ–Φ/―΅). –Δ–Ψ–Μ―â–Η–Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―²–Ψ–≤–Ψ–Ι –±―Ä–Ψ–Ϋ–Η βÄî –¥–Ψ 180 –Φ–Φ, –±–Α―à–Β–Ϋ βÄî –¥–Ψ 240 –Φ–Φ. –£–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Β: 9 βÄî 305-–Φ–Φ –Η 12 βÄî 130–Φ–Φ –Ψ―Ä―É–¥–Η–Ι, 24 βÄî 45-–Φ–Φ –Η 40 βÄî 25-–Φ–Φ –Α–≤―²–Ψ–Φ–Α―²–Ψ–≤. –½–Α–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ –≤ 1951 –≥., –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –¥–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ. –ü–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Β –≤–Ψ–¥–Ψ–Η–Ζ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η–Β βÄî 42 300 ―². –î–Μ–Η–Ϋ–Α –Ϋ–Α–Η–±–Ψ–Μ―¨―à–Α―è βÄî 273,6 –Φ, ―à–Η―Ä–Η–Ϋ–Α βÄî 32 –Φ, –Ψ―¹–Α–¥–Κ–Α βÄî 9,2 –Φ. –€–Ψ―â–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―²―É―Ä–±–Η–Ϋ βÄî 280 000 –Μ. ―¹., ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²―¨ βÄî 35,2 ―É–Ζ–Μ–Α (65 –Κ–Φ/―΅). –Δ–Ψ–Μ―â–Η–Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―²–Ψ–≤–Ψ–Ι –±―Ä–Ψ–Ϋ–Η βÄî –¥–Ψ 180 –Φ–Φ, –±–Α―à–Β–Ϋ βÄî –¥–Ψ 240 –Φ–Φ. –£–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Β: 9 βÄî 305-–Φ–Φ –Η 12 βÄî 130–Φ–Φ –Ψ―Ä―É–¥–Η–Ι, 24 βÄî 45-–Φ–Φ –Η 40 βÄî 25-–Φ–Φ –Α–≤―²–Ψ–Φ–Α―²–Ψ–≤.
–·―Ä–Κ–Ψ–Ι –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –±―΄–Μ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ - –Ψ―²―¹―²–Α–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ―Ä―É―΅–Η–Κ –£–Ψ–Ι―¹–Κ–Α –ü–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –£–Μ–Α–¥–Η―¹–Μ–Α–≤ –£–Μ–Α–¥–Η―¹–Μ–Α–≤–Ψ–≤–Η―΅ –½–Β–Ϋ–Κ–Β–≤–Η―΅. –Γ–Φ–Β―à–Α–≤ ―Ä―É―¹―¹–Κ―É―é –Η –Ω–Ψ–Μ―¨―¹–Κ―É―é –Κ―Ä–Ψ–≤―¨, –Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–¥–Α ―¹–Ψ―²–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Α ―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–≤–Β―²–Μ–Ψ–≤–Ψ–Μ–Ψ―¹–Ψ–≥–Ψ –Κ―Ä–Α―¹–Α–≤―Ü–Α, –Ϋ–Α–¥–Β–Μ–Η–≤ –Β–≥–Ψ –±―É–Ι–Ϋ–Ψ–Ι ―ç–Ϋ–Β―Ä–≥–Η–Β–Ι, –Α–≤–Α–Ϋ―²―é―Ä–Ϋ―΄–Φ ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Ψ–Φ –Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Φ–Η ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²―è–Φ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –Ϋ–Β ―¹―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ-–Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–Φ―É ―Ä–Α―¹–Κ―Ä―΄―²―¨―¹―è. –£–Ψ―¹–Β–Φ–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²–Η–Μ–Β―²–Ϋ–Η–Φ ―é–Ϋ–Ψ―à–Β–Ι –Ψ–Ϋ –≤―¹―²―É–Ω–Η–Μ –≤ –Ω–Ψ–Μ―¨―¹–Κ―É―é –Α―Ä–Φ–Η―é, ―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–≤―à―É―é―¹―è –Ϋ–Α –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Η, ―¹―²–Α–Μ –Μ–Η―Ö–Η–Φ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥―΅–Η–Κ–Ψ–Φ, –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Μ―¹―è –Ζ–Α –±–Ψ–Β–≤―΄–Β ―É―¹–Ω–Β―Ö–Η –Η ―Ö―Ä–Α–±―Ä–Ψ―¹―²―¨ –Η, –Ϋ–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Β –Κ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ-–Μ–Η–±–Ψ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è, –±―΄–Μ ―¹–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Β–Φ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β–¥–Β–Ϋ –≤ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄. –û–Ϋ –±―΄–Μ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ –¥–Μ―è –Α―Ä–Φ–Η–Η, –Ϋ–Ψ ―¹―É–¥―¨–±–Α ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―è–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ –Η–Ϋ–Α―΅–Β βÄî –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ –Η, ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –¥–Β–Φ–Ψ–±–Η–Μ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ. –•–Β–Ϋ–Η–≤―à–Η―¹―¨, –Ψ–Ϋ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ –Η –≤ –Π–ö–ë-16. –½–¥–Β―¹―¨ –Ψ–Ϋ –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –Ψ―¹–≤–Ψ–Η–Μ―¹―è –Η ―¹―²–Α–Μ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ ―Ä–Ψ–¥–Α ¬Ϊ–Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–Φ –¥–Μ―è –Ψ―¹–Ψ–±―΄―Ö –Ω–Ψ―Ä―É―΅–Β–Ϋ–Η–Ι¬Μ, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ –Ψ–±–Μ–Α–¥–Α–Μ ―Ä–Β–¥–Κ–Η–Φ–Η ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²―è–Φ–Η βÄî –±―΄―¹―²―Ä–Ψ, –≤–Β―¹–Β–Μ–Ψ –Η ―ç–Ϋ–Β―Ä–≥–Η―΅–Ϋ–Ψ ―¹―ä–Β–Ζ–¥–Η―²―¨, –Κ―É–¥–Α –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ, –≤–Ψ–Ι―²–Η –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―²–Α–Κ―², ―¹ –Κ–Β–Φ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ, –¥–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨―¹―è, –Ψ ―΅–Β–Φ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ. –û–Ϋ –Μ–Β–≥–Κ–Ψ ―¹―Ö–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è ―¹ –Μ―é–±―΄–Φ–Η –Μ―é–¥―¨–Φ–Η, –Ϋ–Β–Ζ–Α–≤–Η―¹–Η–Φ–Ψ –Ψ―² –Η―Ö ―¹–Μ―É–Ε–Β–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è: ―¹–Β–Κ―Ä–Β―²–Α―Ä―à–Η –¥–Α–≤–Α–Μ–Η –Β–Φ―É –Ϋ―É–Ε–Ϋ―É―é –Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η―é –Η –Ω―Ä–Ψ–Ω―É―¹–Κ–Α–Μ–Η –≤ –Κ–Α–±–Η–Ϋ–Β―²―΄ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η―Ö –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –±–Β–Ζ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Η, –Α –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Η –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η―¹―¨ –Κ –Ϋ–Β–Φ―É ―É–≤–Α–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ. –≠―²–Ψ–Φ―É –≤ –Ϋ–Β–Φ–Α–Μ–Ψ–Ι ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Η ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Α –Β–≥–Ψ –Ψ–±–Α―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è –≤–Ϋ–Β―à–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –£ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Ψ–Ϋ –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―΄–Μ –Ϋ–Ψ―¹–Η―²―¨ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ―Ä―¹–Β―², –≤–Β―Ä―Ö–Ϋ―è―è ―΅–Α―¹―²―¨ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –≤―΄–≥–Μ―è–¥―΄–≤–Α–Μ–Α –Η–Ζ-–Ω–Ψ–¥ –≤–Ψ―Ä–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Α ―Ä―É–±–Α―à–Κ–Η, –Η –Ω―Ä–Η ―Ö–Ψ–¥―¨–±–Β –Ψ–Ω–Η―Ä–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –Ω–Α–Μ–Κ―É. –≠―²–Ψ –Ϋ–Β –Φ–Β―à–Α–Μ–Ψ –Β–Φ―É –±―΄―²―¨ ―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Ϋ―΄–Φ –Η –Ω–Ψ–¥―²―è–Ϋ―É―²―΄–Φ. –û–Ϋ –Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ ―¹―à–Η―²―΄–Ι –Κ–Ψ―¹―²―é–Φ ―¹ ―Ä―è–¥–Α–Φ–Η –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Μ–Β–Ϋ―²–Ψ―΅–Β–Κ –Η ―¹–≤–Β–Ε–Β–≤―΄–≥–Μ–Α–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―Ä―É–±–Α―à–Κ–Η, ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –≤―¹–Β–≥–¥–Α –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –Η ―¹―²―Ä–Β–Φ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, ―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ –Κ―É–¥–Α-―²–Ψ –Ψ–Ω–Α–Ζ–¥―΄–≤–Α–Μ, –Η –≤–Β―¹―¨ –±―΄–Μ –≤–Ψ–Ω–Μ–Ψ―â–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α, ―΅–Β–Φ –≤―΄–Ζ―΄–≤–Α–Μ ―¹–Η–Φ–Ω–Α―²–Η–Η –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Α―é―â–Η―Ö. –£ –Φ–Β―¹―²–Α―Ö –Κ―É―Ä–Β–Ϋ–Η―è –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ –Ω–Ψ –≤―¹–Β–Φ―É –±―é―Ä–Ψ –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ –Ω–Ψ–Ω―É–Μ―è―Ä–Ϋ―΄–Φ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΅–Η–Κ–Ψ–Φ –≤―¹–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄―Ö –±–Α–Β–Κ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ζ–Ϋ–Α–Μ –Φ–Ϋ–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ, –Η –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –±―΄–Μ–Η ―¹ –Ϋ–Η–Φ –Ϋ–Α ¬Ϊ―²―΄¬Μ. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ, –Ϋ–Β―É–Β–Φ–Ϋ–Α―è ―ç–Ϋ–Β―Ä–≥–Η―è –£–Μ–Α–¥–Η―¹–Μ–Α–≤–Α –Ϋ–Β ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Α ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η―é –Β–≥–Ψ –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―¨―è, –Η –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Ψ–≤ –Ψ–Ϋ –≤―΄–Ϋ―É–Ε–¥–Β–Ϋ –±―΄–Μ –Ψ―¹–Β―¹―²―¨ –Ζ–Α –Κ–Ψ–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―²–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Φ ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–Φ. –½–¥–Β―¹―¨ –Ψ–Ϋ ―¹―²–Α–Μ ―É–¥–Η–≤–Μ―è―²―¨ –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Α―é―â–Η―Ö –±–Β―¹–Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ –±―΄―¹―²―Ä―΄–Φ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―΅–Β―Ä―²–Β–Ε–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α–±–Ψ―² –Η –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Μ–Β–Ω–Ϋ–Ψ–Ι –≥―Ä–Α―³–Η–Κ–Ψ–Ι. –ü―Ä–Α–≤–¥–Α, –Β–≥–Ψ –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Η–Ζ–Ψ–±–Η–Μ–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Ψ―à–Η–±–Κ–Α–Φ–Η –Η –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Η ―²―â–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Κ–Η, ―É–≤―΄, –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è. –ü―Ä–Η ―Ä–Α–±–Ψ―²–Β –≤ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Φ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β –Κ―Ä―É–≥ –Φ–Ψ–Η―Ö ―¹–Μ―É–Ε–Β–±–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ–Ϋ―²–Α–Κ―²–Ψ–≤ –≤ –±―é―Ä–Ψ ―Ä–Α―¹―à–Η―Ä–Η–Μ―¹―è βÄî ―è –Ψ–±―â–Α–Μ―¹―è ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ ―¹ ―¹–Η―¹―²–Β–Φ―â–Η–Κ–Α–Φ–Η, ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Η–Κ–Α–Φ–Η, –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η –Η ―¹ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―΄–Φ–Η –Φ–Ϋ–Β ―¹–Ψ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²–¥–Β–Μ–Α. –ë―΄–≤–Α―è –≤ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è―Ö –±―é―Ä–Ψ –Η –Ψ–±―â–Α―è―¹―¨ ―¹ –Η―Ö ―¹–Ψ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η, ―è –Ω–Ψ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–≤–Α–Μ –≤ –¥–Β―²–Α–Μ―è―Ö ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β―¹―¹ –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Η ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ―¹―è ¬Ϊ―¹–≤–Ψ–Η–Φ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Φ¬Μ –≤ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι ―¹―Ä–Β–¥–Β –Κ–Ψ–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–≤. –ü―Ä–Η ―Ä–Α–±–Ψ―²–Β –≤ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Φ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β –Κ―Ä―É–≥ –Φ–Ψ–Η―Ö ―¹–Μ―É–Ε–Β–±–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ–Ϋ―²–Α–Κ―²–Ψ–≤ –≤ –±―é―Ä–Ψ ―Ä–Α―¹―à–Η―Ä–Η–Μ―¹―è βÄî ―è –Ψ–±―â–Α–Μ―¹―è ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ ―¹ ―¹–Η―¹―²–Β–Φ―â–Η–Κ–Α–Φ–Η, ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Η–Κ–Α–Φ–Η, –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η –Η ―¹ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―΄–Φ–Η –Φ–Ϋ–Β ―¹–Ψ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²–¥–Β–Μ–Α. –ë―΄–≤–Α―è –≤ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è―Ö –±―é―Ä–Ψ –Η –Ψ–±―â–Α―è―¹―¨ ―¹ –Η―Ö ―¹–Ψ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η, ―è –Ω–Ψ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–≤–Α–Μ –≤ –¥–Β―²–Α–Μ―è―Ö ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β―¹―¹ –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Η ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ―¹―è ¬Ϊ―¹–≤–Ψ–Η–Φ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Φ¬Μ –≤ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι ―¹―Ä–Β–¥–Β –Κ–Ψ–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–≤.
–£ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β ―à–Β―¹―²―¨–¥–Β―¹―è―² –Ω―è―²–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ–¥–Α –±―é―Ä–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Β―Ö–Α–Μ–Ψ –≤ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Β, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β, –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Β –Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α ―É–Μ–Η―Ü–Β –Λ―Ä―É–Ϋ–Ζ–Β, ―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Α–Φ –¥–Μ―è ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η―è –¥–≤―É―Ö –Κ–Ψ–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―²–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –±―é―Ä–Ψ. –½–¥–Α–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–Β –≤–Ω–Β―΅–Α―²–Μ–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ϋ–Ψ–≤–Η–Ζ–Ϋ–Ψ–Ι, –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ–Η ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―Ä–Α–Φ–Η, –Ϋ–Β–Ψ–±―΄―΅–Ϋ―΄–Φ –Ζ–Β–Μ–Β–Ϋ–Ψ–≤–Α―²–Ψ-―¹–Β―Ä–Ψ–≤–Α―²―΄–Φ ―Ü–≤–Β―²–Ψ–Φ, –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹–Η―è―é―â–Η–Φ–Η –Ψ–Κ–Ϋ–Α–Φ–Η –Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Φ–Β―²–Α–Μ–Μ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―³–Η–≥―É―Ä–Ψ–Ι –Κ–Ψ―¹–Φ–Ψ–Ϋ–Α–≤―²–Α, ―É–Κ―Ä–Β–Ω–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Α –±–Ψ–Κ–Ψ–≤–Ψ–Ι ―¹―²–Β–Ϋ–Β –Ζ–¥–Α–Ϋ–Η―è –≤ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β ―É–Κ―Ä–Α―à–Β–Ϋ–Η―è. –ù–Α–Φ ―²–Α–Κ –Η –Ψ―¹―²–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Β–Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄–Φ, –±―΄–Μ–Ψ –Μ–Η ―ç―²–Ψ ―É–Κ―Ä–Α―à–Β–Ϋ–Η–Β –Ζ–Α–¥―É–Φ–Κ–Ψ–Ι –Α―Ä―Ö–Η―²–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Α –Η–Μ–Η ―²–Ψ–Ϋ–Κ–Η–Φ ―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ ―Ä–Β–Ε–Η–Φ–Ϋ―΄―Ö –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Ψ–≤. –£–Ψ –≤―¹―è–Κ–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β, –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö –Μ–Β―² –≤―¹―è –Ψ–Κ―Ä―É–≥–Α –±―΄–Μ–Α ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Α –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Η –¥–Β–Μ–Α―é―² ―΅―²–Ψ-―²–Ψ, ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―¹ –Κ–Ψ―¹–Φ–Ψ―¹–Ψ–Φ.
–€―΄ ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―¹―²–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Φ –Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Η ―¹ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ –Κ–Ψ–Φ―³–Ψ―Ä―²–Ψ–Φ. –ë–Ψ–Μ―¨―à–Η–Β ―¹–≤–Β―²–Μ―΄–Β –Κ–Ψ–Φ–Ϋ–Α―²―΄ –¥–Μ―è –Κ–Ψ–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–≤, –Ϋ–Β–Ψ–±―΄―΅–Ϋ―΄–Β ―¹―²–Β–Κ–Μ―è–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹―²–Β–Ϋ―΄ –≤–¥–Ψ–Μ―¨ –Κ–Ψ―Ä–Η–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤, –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ϋ―΄–Β –Κ–Α–±–Η–Ϋ–Β―²―΄ –¥–Μ―è –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Κ–Ψ–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―²–Ψ―Ä―¹–Κ–Α―è –Η –Ψ―³–Η―¹–Ϋ–Α―è –Φ–Β–±–Β–Μ―¨, –±–Ψ–Μ―¨―à–Α―è ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–≤–Α―è –Η ―à–Η–Κ–Α―Ä–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ ―²–Β–Φ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α–Φ –Α–Κ―²–Ψ–≤―΄–Ι –Ζ–Α–Μ βÄî –≤―¹–Β ―ç―²–Ψ –±–Μ–Α–≥–Ψ―²–≤–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ –≤–Ψ–Ζ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ –Ϋ–Α –Ψ–±–Η―²–Α―²–Β–Μ–Β–Ι –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ζ–¥–Α–Ϋ–Η―è, ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤–Α―è ―É –Ϋ–Η―Ö ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–Β –Ϋ–Α―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η–Β. –ü–Ψ―¹–Μ–Β ―²–Β―Ö, ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Β–Κ–Ψ–Φ―³–Ψ―Ä―²–Ϋ―΄―Ö, ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η–Ι, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Φ―΄ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Η ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β, –±―΄–Μ–Ψ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ ―É―²―Ä–Α–Φ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –Ϋ–Α ―Ä–Α–±–Ψ―²―É –≤ ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Β –Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Β, ―Ä–Α–Ζ–¥–Β–≤–Α―²―¨―¹―è –≤ ―Ü–Η–≤–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –≥–Α―Ä–¥–Β―Ä–Ψ–±–Β, –Η–¥―²–Η –Ω–Ψ ―¹–≤–Β―²–Μ―΄–Φ –Μ–Β―¹―²–Ϋ–Η―Ü–Α–Φ –Η –Κ–Ψ―Ä–Η–¥–Ψ―Ä–Α–Φ, –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α―è―¹―¨ ―¹ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω―Ä–Η―è―²–Β–Μ―è–Φ–Η –Η –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―΄–Φ–Η –Μ―é–¥―¨–Φ–Η, –Η –Ζ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –≤ ―¹–≤–Ψ―é –±–Ψ–Μ―¨―à―É―é –Η ―¹–≤–Β―²–Μ―É―é –Κ–Ψ–Φ–Ϋ–Α―²―É, –≥–¥–Β –±―΄–Μ–Ψ ―΅–Η―¹―²–Ψ –Η ―É―é―²–Ϋ–Ψ, –Η ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–≥–Η, ―¹ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ–Η ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Ψ―¹―¨. –ù–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Β―¹―è―Ü–Β–≤ ―è –Ϋ–Α―¹–Μ–Α–Ε–¥–Α–Μ―¹―è ―¹–Μ―É–Ε–Β–±–Ϋ―΄–Φ –Κ–Ψ–Φ―³–Ψ―Ä―²–Ψ–Φ –Η ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ–Ι –Η ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨―é. –ù–Ψ ―ç―²–Ψ –¥–Μ–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Β–¥–Ψ–Μ–≥–Ψ. –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―².

–£–Β―Ä―é–Ε―¹–Κ–Η–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–£–ù–ê), –™–Ψ―Ä–Μ–Ψ–≤ –û–Μ–Β–≥ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–û–ê–™), –€–Α–Κ―¹–Η–Φ–Ψ–≤ –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–€–£–£), –ö–Γ–£.
198188. –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥, ―É–Μ. –€–Α―Ä―à–Α–Μ–Α –™–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α, –¥–Ψ–Φ 11/3, –Κ–≤. 70. –ö–Α―Ä–Α―¹–Β–≤ –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅, –Α―Ä―Ö–Η–≤–Α―Ä–Η―É―¹.
–Γ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Α–Φ–Η –Η –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η –Ψ–±―Ä–Α―â–Α―²―¨―¹―è fregat@ post.com –€–Α–Κ―¹–Η–Φ–Ψ–≤ –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅
31.05.201108:3431.05.2011 08:34:23
0
30.05.201108:3630.05.2011 08:36:37
βÄî –Δ―΄, –£–Η―²–Β–Κ, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –≥–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ―è –Κ –Ϋ–Α–Φ –Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α–Ι―¹―è, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨, ―é–Ϋ–≥–Ψ–Ι, βÄî ―É–≥–Ψ–≤–Α―Ä–Η–≤–Α–Μ–Η –Ω–Ψ–Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ.
–· ―²–Ψ–Ε–Β –Ω–Ψ–Μ―é–±–Η–Μ ―ç―²–Η―Ö –¥–Ψ–±―Ä―΄―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι, –Ω–Ψ–Μ―é–±–Η–Μ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨. –‰ ―Ä–Β―à–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –Ψ–±―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹―²–Α–Ϋ―É –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–Φ. –£–Β–¥―¨ –Μ―é–±–Ψ–Ι –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η―à–Κ–Α –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β –±―Ä–Β–¥–Η―² –Φ–Ψ―Ä–Β–Φ –Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ–Η.
–Θ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤ ―è –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –¥–Ψ―¹―²–Α―²―¨ –Φ–Ϋ–Β ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Η–Ι ―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ―¨ ―¹ –±–Μ―è―Ö–Ψ–Ι. –Θ―¹–Φ–Β―Ö–Ϋ―É–≤―à–Η―¹―¨, –Ψ–Ϋ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –≤–Ψ―² ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –≤―΄–Ι–¥–Β–Φ –Ϋ–Α ―¹–Β―Ä–Β–¥–Η–Ϋ―É –¦–Α–¥–Ψ–≥–Η –Η ―²–Α–Φ –¥–Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Β―² –Φ–Ϋ–Β ―¹–Ψ –¥–Ϋ–Α ―Ö–Ψ―²―¨ –¥–≤–Α. –Δ–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Η –Ϋ–Α –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ζ–Α―Ü―΄–Κ–Α–Μ–Η, –Α ―è –Ϋ–Β ―¹―Ä–Α–Ζ―É ―É–Μ–Ψ–≤–Η–Μ –Ζ–Μ–Ψ–≤–Β―â–Η–Ι ―¹–Φ―΄―¹–Μ –Β–≥–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤. –ù–Ψ ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ –Ε–Β―¹―²–Ψ–Κ–Α―è ―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―Ä–Α―¹–Κ―Ä―΄–Μ–Α ―¹―É―²―¨ ―à―É―²–Κ–Η.  –ù–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Β ―¹―É–¥–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –≤ –Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –±―΄–Μ –Ζ–Α–Ω―Ä–Β―â–Β–Ϋ –≤―΄―Ö–Ψ–¥ –≤ –¦–Α–¥–Ψ–≥―É, ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ–Η ―²―Ä–Α–Μ―¨―â–Η–Κ–Α–Φ–Η, ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β–≤―΄–Φ–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ–Η, –Κ–Α–Ϋ–Ψ–Ϋ–Β―Ä―¹–Κ–Η–Φ–Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Α–Φ–Η (–≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Β –û–Ϋ–Β–Ε―¹–Κ–Ψ–Ι ―³–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η–Η). –£–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Α–Μ–Η―¹―¨ 45-–Φ–Φ –Ψ―Ä―É–¥–Η–Β–Φ, –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ-–¥–≤―É–Φ―è –Ω―É–Μ–Β–Φ–Β―²–Α–Φ–Η. –ù–Α –Κ–Α–Ϋ–Ψ–Ϋ–Β―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö ―¹―²–Α–≤–Η–Μ―¹―è –Β―â–Β 37-–Φ–Φ –Ζ–Β–Ϋ–Η―²–Ϋ―΄–Ι –Α–≤―²–Ψ–Φ–Α―². - . –ù–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Β ―¹―É–¥–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –≤ –Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –±―΄–Μ –Ζ–Α–Ω―Ä–Β―â–Β–Ϋ –≤―΄―Ö–Ψ–¥ –≤ –¦–Α–¥–Ψ–≥―É, ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ–Η ―²―Ä–Α–Μ―¨―â–Η–Κ–Α–Φ–Η, ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β–≤―΄–Φ–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ–Η, –Κ–Α–Ϋ–Ψ–Ϋ–Β―Ä―¹–Κ–Η–Φ–Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Α–Φ–Η (–≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Β –û–Ϋ–Β–Ε―¹–Κ–Ψ–Ι ―³–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η–Η). –£–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Α–Μ–Η―¹―¨ 45-–Φ–Φ –Ψ―Ä―É–¥–Η–Β–Φ, –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ-–¥–≤―É–Φ―è –Ω―É–Μ–Β–Φ–Β―²–Α–Φ–Η. –ù–Α –Κ–Α–Ϋ–Ψ–Ϋ–Β―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö ―¹―²–Α–≤–Η–Μ―¹―è –Β―â–Β 37-–Φ–Φ –Ζ–Β–Ϋ–Η―²–Ϋ―΄–Ι –Α–≤―²–Ψ–Φ–Α―². - .
–ù–Α –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Α–≤–Α–Μ–Η–Μ–Η―¹―¨ ―²―Ä–Η ¬Ϊ–Φ–Β―¹―¹–Β―Ä–Α¬Μ. –û–¥–Η–Ϋ –Ζ–Α –¥―Ä―É–≥–Η–Φ –Ζ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –Η –Ψ–±―¹―²―Ä–Β–Μ–Η–≤–Α–Μ–Η –Β–≥–Ψ. –û–Ϋ ―¹–Ψ–¥―Ä–Ψ–≥–Α–Μ―¹―è –Ψ―² –≥―Ä–Ψ―Ö–Ψ―²–Α –Ω―É–Μ–Β–Φ–Β―²–Ψ–≤ –Η –Ψ―Ä―É–¥–Η–Ι. –û–≥–Ψ–Ϋ―¨ –Φ–Β―à–Α–Μ ―³–Α―à–Η―¹―²―¹–Κ–Η–Φ ―¹―²–Β―Ä–≤―è―²–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ ―¹―²―Ä–Β–Μ―è―²―¨ –Ω―Ä–Η―Ü–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ. –ö–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨, –Ω―Ä–Α–≤–¥–Α, –±―΄–Μ –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ, –Ϋ–Ψ ―Ö–Ψ–¥–Α –Ϋ–Β –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–Μ. –Θ –Φ–Β–Ϋ―è ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Β –Ψ―² ―¹―²―Ä–Α―Ö–Α ―É―à–Μ–Ψ –≤ –Ω―è―²–Κ–Η. –£–Ψ―² –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―è –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ, ―΅―²–Ψ –Κ―Ä―΄–Μ–Ψ―¹―¨ –Ζ–Α ―¹–Μ–Ψ–≤–Α–Φ–Η –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Α. –î–Α, –Ζ–¥–Β―¹―¨ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Η–Φ–Β–Μ–Η―¹―¨ ―à–Α–Ϋ―¹―΄ –Ϋ―΄―Ä–Ϋ―É―²―¨ –Ϋ–Α –¥–Ϋ–Ψ –Ζ–Α ―Ä–Β–Φ–Ϋ–Β–Φ ―¹ –±–Μ―è―Ö–Ψ–Ι. –ù–Β–Φ–Α–Μ–Ψ ―¹―É–¥–Ψ–≤ –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α ―²–Ψ–Φ ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ–Ψ–Φ –Ω―É―²–Η.
–ü–Ψ―è–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α―à–Η –Η―¹―²―Ä–Β–±–Η―²–Β–Μ–Η, –Ψ―²–Ψ–≥–Ϋ–Α–Μ–Η –Ϋ–Β–Φ―Ü–Β–≤, –Η –Φ―΄ –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω–Ψ–Μ―É―΅–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–±–Η–Μ–Η―¹―¨ –Κ –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Η―΅–Α–Μ―É.
–‰–Ζ –≥–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ―è –Ϋ–Α –ë–Ψ–Μ―¨―à―É―é –Ζ–Β–Φ–Μ―é –Φ–Β–Ϋ―è ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Α–Μ–Α –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β–Ϋ―¨–Κ–Α―è –Κ―Ä–Α―¹–Η–≤–Α―è –Φ–Β–¥―¹–Β―¹―²―Ä–Α –ù–Α―²–Α―à–Α. –ï–Ι ―΅–Α―¹―²–Ψ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω―Ä–Β–Ψ–¥–Ψ–Μ–Β–≤–Α―²―¨ ―ç―²–Ψ―² –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Ι –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι –Ω―É―²―¨. –ù–Ψ –Ψ–Ϋ–Α –Ϋ–Β –±–Ψ―è–Μ–Α―¹―¨. –ï–Ι –±―΄–Μ–Ψ –Μ–Β―² ―à–Β―¹―²–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²―¨. –Θ–Ε–Β –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―è –Μ–Β–Ε–Α–Μ –≤ –≥–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ–Β, –Φ―΄ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –¥–Α–Ε–Β –Ω–Β―Ä–Β–Ω–Η―¹―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨. –û–Ϋ–Α –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Α―¹―¨ –Κ–Ψ –Φ–Ϋ–Β –Κ–Α–Κ –Κ –Φ–Μ–Α–¥―à–Β–Φ―É –±―Ä–Α―²―É.
–ü–Ψ―¹–Μ–Β –Ω―Ä–Η–±―΄―²–Η―è –≤ –Ω–Ψ―Ä―² –ö–Ψ–±–Ψ–Ϋ–Α –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η –≥―Ä―É–Ζ–Η―²―¨ –≤ ―²–Β–Ω–Μ―É―à–Κ–Η. –· –¥―É–Φ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –ë–Ψ–Μ―¨―à–Α―è –Ζ–Β–Φ–Μ―è βÄî ―ç―²–Η ―²–Η―à–Η–Ϋ–Α –Η –±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –Ϋ–Ψ ―²―É―² –≤―¹–Β ―Ö–Ψ–¥―É–Ϋ–Ψ–Φ ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ –Ψ―² –≤–Ζ―Ä―΄–≤–Ψ–≤ –±–Ψ–Φ–±. –ù–Β–Φ―Ü―΄ –±–Ψ–Φ–±–Η–Μ–Η ―É―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥―É ―¹–Κ–Μ–Α–¥―΄ ―¹ –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―²–Α–Φ–Η, –Ω―Ä–Β–¥–Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –¥–Μ―è –±–Μ–Ψ–Κ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Α.
–‰―²–Α–Κ, ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α ―²–Β–Ω–Μ―É―à–Κ–Α ―¹ –Ϋ–Α―Ä–Α–Φ–Η. –ö―Ä―É–≥–Ψ–Φ ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –±–Ψ–Ι―Ü―΄. –Γ–Α–Ϋ–Η―²–Α―Ä–Κ–Η –Φ–Β―΅―É―²―¹―è –Ψ―² –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ―É, ―¹―²―Ä–Β–Φ―è―¹―¨ –≤―¹–Β–Φ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―΅―¨, –Ψ–±–Μ–Β–≥―΅–Η―²―¨ –Η―Ö ―¹―²―Ä–Α–¥–Α–Ϋ–Η―è. –û―΅–Β–Ϋ―¨ –Κ―Ä–Η―΅–Α–Μ –Ψ–¥–Η–Ϋ –±–Ψ–Β―Ü. –ï–≥–Ψ ―É–≥–Ψ–≤–Α―Ä–Η–≤–Α–Μ–Η ―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ―΄–Β, ―¹–Β―¹―²―Ä―΄, –Ϋ–Ψ –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ –Κ―Ä–Η―΅–Α―²―¨ –Ψ―² –±–Ψ–Μ–Η.
–£–Ψ―² ―²–Α–Κ –Η –Β―Ö–Α–Μ–Η. –£ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β –Ω―É―²–Η –Ϋ–Α ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –Ϋ–Α–Μ–Β―²–Β–Μ –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η–Ι ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―². –ß―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β –¥–Α―²―¨ ¬Ϊ―é–Ϋ–Κ–Β―Ä―¹―É¬Μ –Ω―Ä–Η―Ü–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –±–Ψ–Φ–±–Η―²―¨, –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Η―¹―² –Ω–Α―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ζ–Α ―²–Ψ –Ϋ–Α–±–Η―Ä–Α–Μ –±–Ψ–Μ―¨―à―É―é ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²―¨, ―²–Ψ ―Ä–Β–Ζ–Κ–Ψ ―²–Ψ―Ä–Φ–Ψ–Ζ–Η–Μ. –£–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è ―²–Α–Κ–Η―Ö ―²–Ψ―Ä–Φ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Ι –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ―΄–Β –Ω–Α–¥–Α–Μ–Η ―¹ –Ϋ–Α―Ä, ―Ä–Α–Ζ–¥–Α–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Κ―Ä–Η–Κ–Η, –Κ–Ψ―¹―²–Β―Ä–Η–Μ–Η –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Η―¹―²–Α. –ù–Α –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ι –Ε–Β ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Κ–Β –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –¥–Ψ –Ψ―²―΅–Α―è–Ϋ–Η―è –±–Β–¥–Ψ–Μ–Α–≥ –Ζ–Α―è–≤–Η–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ―²―è―² –Β–≥–Ψ. –ü–Ψ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ζ–Α―¹―²―É–Ω–Ϋ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥–Α. –û–Ϋ ―É–±–Β–¥–Η–Μ –±–Ψ–Ι―Ü–Ψ–≤, ―΅―²–Ψ –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Η―¹―² –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ –≤ –Ϋ–Α―à–Η―Ö –Ε–Β –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Α―Ö, ―¹–Ω–Α―¹–Α―è ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤. 
–ü–Ψ–Ζ–¥–Ϋ–Ψ –≤–Β―΅–Β―Ä–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥ –Ω―Ä–Η―²–Α―â–Η–Μ―¹―è –≤ –ß–Β―Ä–Β–Ω–Ψ–≤–Β―Ü. –· –Ε–¥–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Φ–Β–Ϋ―è –≤―΄–Ϋ–Β―¹―É―² –Ϋ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü –Η–Ζ –≤–Α–≥–Ψ–Ϋ–Α. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Ω―Ä–Η―à–Β–Μ –≤―Ä–Α―΅, –Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ –Φ–Ψ–Η ―Ä–Α–Ϋ―΄ –Η ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –ù–Α―²–Α―à–Β, ―΅―²–Ψ –Φ–Β–Ϋ―è –Ζ–¥–Β―¹―¨ ―¹–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨ –Ϋ–Β ―¹―²–Α–Ϋ―É―², –Α –Ω–Ψ–≤–Β–Ζ―É―² –¥–Α–Μ―¨―à–Β, –Ϋ–Α ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―é –®–Β–Κ―¹–Ϋ–Α.
–™–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ―¨ –Ϋ–Α―à ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―â–Α–Μ―¹―è –≤ –±–Α―Ä–Α–Κ–Α―Ö. –†–Α–Ϋ–Β–Ϋ―΄―Ö ―É–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Η –Ϋ–Α –¥–≤―É―Ö―ä―è―Ä―É―¹–Ϋ―΄―Ö –¥–Β―Ä–Β–≤―è–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α―Ä–Α―Ö. –¦–Β–Ε–Α–Μ ―è –≤ –≥–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ–Β –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ: ―¹ ―¹–Β―Ä–Β–¥–Η–Ϋ―΄ –Ψ–Κ―²―è–±―Ä―è 1942 –¥–Ψ 7 ―è–Ϋ–≤–Α―Ä―è 1943 –≥–Ψ–¥–Α. –†–Α–Ϋ―΄ –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ –Ϋ–Β –Ζ–Α–Ε–Η–≤–Α–Μ–Η, –≤―¹–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –≥–Ϋ–Ψ–Η–Μ–Η―¹―¨. –Γ―²–Α―Ä―à–Η–Φ –Ψ―Ä–¥–Η–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ ―É –Ϋ–Α―¹ –±―΄–Μ–Α –≤–Ψ–Β–Ϋ–≤―Ä–Α―΅ 3 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –£–Β―Ä–Α –ü–Μ–Α―²–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Α, –Κ―Ä–Α―¹–Η–≤–Α―è –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Α―è –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α. –ù–Ψ―¹–Η–Μ–Α –≤ –Ω–Β―²–Μ–Η―Ü–Α―Ö –Ψ–¥–Ϋ―É ―à–Ω–Α–Μ―É. –Γ―΄–Ϋ –£–Β―Ä―΄ –ü–Μ–Α―²–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ―΄ –Ψ―¹―²–Α–Μ―¹―è –≤ –Ψ–Κ–Κ―É–Ω–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –†–Ψ―¹―²–Ψ–≤–Β-–Ϋ–Α-–î–Ψ–Ϋ―É, –Η –Ψ–Ϋ–Α –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Α―¹―¨ –Κ–Ψ –Φ–Ϋ–Β ―¹ –Ϋ–Β–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é, –Κ–Α–Κ –Κ ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ―É.
–ö–Α–Κ-―²–Ψ –≤ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β –¥–Β–Κ–Α–±―Ä―è –Ϋ–Α―à–Β –Ψ―²–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ―¹–Β―²–Η–Μ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –≥–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ―è, –Η–Ϋ―²–Β–Μ–Μ–Η–≥–Β–Ϋ―²–Ϋ―΄–Ι –Η ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Η–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –≤–Ψ–Β–Ϋ–≤―Ä–Α―΅ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ö–Ψ―Ä–Κ―É–Ω. –û–Ϋ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ –Φ–Β–Ϋ―è –Η ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –¥–Β–Μ–Α –Φ–Ψ–Η –Η–¥―É―² ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ. –†–Α–Ζ―Ä–Β―à–Η–Μ –Κ–Α―²–Α―²―¨―¹―è ―¹ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ–Η –≤―΄–Ζ–¥–Ψ―Ä–Α–≤–Μ–Η–≤–Α―é―â–Η–Φ–Η –Ϋ–Α –Μ―΄–Ε–Α―Ö –Η –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ―É –≤–Β―â–Β–≤–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ ―¹―à–Η―²―¨ –¥–Μ―è –Φ–Β–Ϋ―è –Ω–Ψ ―Ä–Ψ―¹―²―É –Ψ–±–Φ―É–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β. –Γ–Ϋ―è–Μ–Η ―¹ –Φ–Β–Ϋ―è –Φ–Β―Ä–Κ―É. –Γ―à–Η–Μ–Η –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―É―é ―à–Η–Ϋ–Β–Μ―¨, –≥–Η–Φ–Ϋ–Α―¹―²–Β―Ä–Κ―É, –≥–Α–Μ–Η―³–Β –Η –¥–Α–Ε–Β ―¹–Κ–Α―²–Α–Μ–Η –≤ ―¹–Ψ―¹–Β–¥–Ϋ–Β–Ι –¥–Β―Ä–Β–≤–Ϋ–Β –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Η–Β –≤–Α–Μ–Β–Ϋ–Κ–Η. –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ω–Ψ ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Η –≥–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ―è ―è ―Ä–Α–Ζ–≥―É–Μ–Η–≤–Α–Μ –≤ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Ι ―³–Ψ―Ä–Φ–Β –Β―³―Ä–Β–Ι―²–Ψ―Ä–Α ―¹ ―²―Ä–Β―É–≥–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Η―΅–Κ–Α–Φ–Η –≤ –Ω–Β―²–Μ–Η―Ü–Α―Ö. –£–Φ–Β―¹―²–Β –≤ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ–Η –≤―΄–Ζ–¥–Ψ―Ä–Α–≤–Μ–Η–≤–Α―é―â–Η–Φ–Η –Β–Ζ–¥–Η–Μ –Ζ–Α –¥―Ä–Ψ–≤–Α–Φ–Η, –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι, –≤―΄―¹―²―É–Ω–Α–Μ –≤ ―Ö―É–¥–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Α–Φ–Ψ–¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –ü–Ψ–¥―Ä―É–Ε–Η–Μ―¹―è ―¹–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Φ–Η ―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ―΄–Φ–Η. –û―²–¥–Α–≤–Α–Μ –Η–Φ ―¹–≤–Ψ–Β ―²–Α–±–Α―΅–Ϋ–Ψ–Β –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η–Β. –Θ–Ζ–Ϋ–Α–≤ –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ, –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –≥–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ―è ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―è–¥–Η–Μ―¹―è –≤―΄–¥–Α–≤–Α―²―¨ –Φ–Ϋ–Β –≤–Φ–Β―¹―²–Ψ ―²–Α–±–Α–Κ–Α –Η–Ζ―é–Φ. –ö―É―Ä–Η–Μ―¨―â–Η–Κ–Η –±―΄–Μ–Η, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ψ–≥–Ψ―Ä―΅–Β–Ϋ―΄, –Α ―è ―¹ ―É–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η–Β–Φ –Ε–Β–≤–Α–Μ –Η–Ζ―é–Φ. 
–†―è–¥–Ψ–Φ ―¹–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Β–Ε–Α–Μ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ –Η–Ζ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Α, ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤ –±–Β–¥―Ä–Ψ. –û–Ϋ –Ω–Ψ–¥–Α―Ä–Η–Μ –Φ–Ϋ–Β ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–≤―É―é –Μ–Ψ–Ε–Κ―É, –≤―¹―é –Η―¹–Ω–Β―â―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Φ–Η ―Ä–Η―¹―É–Ϋ–Κ–Α–Φ–Η –Η –Ϋ–Β–Ψ–±―΄–Κ–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹–Κ―Ä―É―΅–Β–Ϋ–Ϋ―É―é. –≠―²–Ψ–Ι –Μ–Ψ–Ε–Κ–Ψ–Ι ―è –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –≥–Ψ―Ä–¥–Η–Μ―¹―è. –î―Ä―É–≥–Ψ–Ι –±–Ψ–Β―Ü –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Ψ―²―ä–Β–Ζ–¥–Ψ–Φ –Η–Ζ –≥–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ―è –Ω–Ψ–¥–Α―Ä–Η–Μ –Φ–Ϋ–Β ―²―Ä–Ψ―³–Β–Ι–Ϋ―É―é –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ―É―é –Ω–Ψ–¥–Ζ–Ψ―Ä–Ϋ―É―é ―²―Ä―É–±―É –Η –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ―É―é –Κ―É―Ä–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é ―²―Ä―É–±–Κ―É. –ï―â–Β –Ψ–¥–Η–Ϋ ―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ―΄–Ι ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ –Φ–Ϋ–Β ―΅–Β–Φ–Ψ–¥–Α–Ϋ―΅–Η–Κ –Η–Ζ ―³–Α–Ϋ–Β―Ä―΄, –≥–¥–Β ―è ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–Μ ―¹–≤–Ψ–Β –Ϋ–Β―Ö–Η―²―Ä–Ψ–Β –Η–Φ―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ.
...–ü–Ψ–Μ―É―΅–Α–Μ ―è –Ω–Η―¹―¨–Φ–Α –Ψ―² –Φ–Α–Φ―΄. –û–Ϋ–Α –Ω–Η―¹–Α–Μ–Α, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü –±–Ψ–Φ–±–Η―² –Η –Ψ–±―¹―²―Ä–Β–Μ–Η–≤–Α–Β―² –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥, ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Α –Ψ ―¹–Φ–Β―Ä―²–Η –Φ–Ψ–Η―Ö ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Β–Ι –Ω–Ψ –¥–Ψ–Φ―É. –ü–Η―¹–Α–Μ –Η –Ψ―²–Β―Ü –Ψ ―²–Ψ–Φ, –Κ–Α–Κ –≤–Ψ―é–Β―² –≤ –Ω–Ψ–Μ–Κ―É, –Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―è –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –≥–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ―è –Ω–Ψ―¹―²–Α―Ä–Α–Μ―¹―è –Ω–Ψ–Ω–Α―¹―²―¨ –≤ ―¹–≤–Ψ―é ―΅–Α―¹―²―¨. –ß―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ ―è ―¹–Β–±―è ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ. –†–Α–Ϋ―΄ –Ζ–Α―²―è–Ϋ―É–Μ–Η―¹―¨. –‰ ―¹―²–Α–Μ –Ω―Ä–Ψ―¹–Η―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –≤―΄–Ω–Η―¹–Κ―É. –ê ―²―É―² –Ω–Ψ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ –Ψ–±―ä―è–≤–Η–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –≤ –Α―Ä–Φ–Η–Η –≤–≤–Ψ–¥―è―²―¹―è –Ω–Ψ–≥–Ψ–Ϋ―΄, ―΅―²–Ψ ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Η –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Α, –û–¥–Β―¹―¹―΄, –Γ–Β–≤–Α―¹―²–Ψ–Ω–Ψ–Μ―è –Η –Γ―²–Α–Μ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Α –±―É–¥―É―² –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Α―²―¨―¹―è ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η –Φ–Β–¥–Α–Μ―è–Φ–Η. –≠―²–Η –≤–Β―¹―²–Η –≤―¹–Β―Ö –≤–Ζ–≤–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–≤–Α–Μ–Η. –· ―¹―²–Α–Μ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Ι―΅–Η–≤–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹–Η―²―¨―¹―è –Ϋ–Α ―³―Ä–Ψ–Ϋ―².
–ù–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ä–Α–Ζ –±–Β―¹–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ ―¹–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―¨ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –≥–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ―è –Ω–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Η―²―΅–Α―¹―²–Η, –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –Φ–Ϋ–Β –Μ―É―΅―à–Β –Ψ―¹―²–Α―²―¨―¹―è –Ω―Ä–Η –≥–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ–Β, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α ―³―Ä–Ψ–Ϋ―² –Φ–Ϋ–Β –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è. –ù–Ψ ―è –±―΄–Μ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Ι―΅–Η–≤. –‰ –≤–Ψ―² 7 ―è–Ϋ–≤–Α―Ä―è 1943 –≥–Ψ–¥–Α –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –≥―Ä―É–Ω–Ω–Ψ–Ι –≤―΄–Ζ–¥–Ψ―Ä–Α–≤–Μ–Η–≤–Α―é―â–Η―Ö –Φ–Β–Ϋ―è –≤―΄–Ω–Η―¹–Α–Μ–Η –Η–Ζ –≥–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ―è –Η –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Β―¹―΄–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ω―É–Ϋ–Κ―² –≤ –£–Ψ–Μ–Ψ–≥–¥―É.
–ü―Ä–Η–Β―Ö–Α–Μ–Η –≤ –£–Ψ–Μ–Ψ–≥–¥―É. –Γ―²–Ψ―è–Μ ―¹–Ψ–Μ–Ϋ–Β―΅–Ϋ―΄–Ι –Ζ–Η–Φ–Ϋ–Η–Ι –¥–Β–Ϋ―¨. –ü–Ψ―à–Μ–Η –Ω–Β―à–Κ–Ψ–Φ. –ö―²–Ψ-―²–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –Ζ–Α–Ι―²–Η –Κ ―¹–Η―Ä–Ψ―²–Α–Φ –≤ –¥–Β―²―¹–Κ–Η–Ι –¥–Ψ–Φ. –ù–Β –Ζ–Ϋ–Α–Μ ―è, ―΅―²–Ψ ―¹―Ü–Β–Ϋ–Α―Ä–Η–Ι ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –≤–Η–Ζ–Η―²–Α –±―΄–Μ –Ω―Ä–Η–¥―É–Φ–Α–Ϋ –Ζ–Α―Ä–Α–Ϋ–Β–Β. –ü–Ψ―²–Ψ–Φ ―¹―²–Α–Μ–Ψ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Ϋ–Ψ –¥–Μ―è ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –Φ–Β–Ϋ―è –≤ –¥–Β―²―¹–Κ–Ψ–Φ –¥–Ψ–Φ–Β. –û–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è, –Ϋ–Α –Φ–Ψ–Η―Ö –Φ–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Α―Ö –±―΄–Μ–Α ―Ä–Β–Ζ–Ψ–Μ―é―Ü–Η―è: ¬Ϊ–ù–Α ―³―Ä–Ψ–Ϋ―² –Ϋ–Β –Ω–Ψ―¹―΄–Μ–Α―²―¨, –Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –≤ ―²―΄–Μ―É¬Μ.
–£ –¥–Β―²―¹–Κ–Ψ–Φ –¥–Ψ–Φ–Β –Ϋ–Α―¹, ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Ψ–≤–Η–Κ–Ψ–≤, –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ–Η –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ. –€―΄ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η, –Κ–Α–Κ –≤–Ψ–Β–≤–Α–Μ–Η ―¹ –Ϋ–Β–Φ―Ü–Α–Φ–Η, –Κ–Α–Κ –Η―Ö –±–Η–Μ–Η. –†–Β–±―è―²–Α –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―²–Β–Ω–Μ–Ψ –Ψ―²–Ϋ–Β―¹–Μ–Η―¹―¨ –Κ–Ψ –Φ–Ϋ–Β. –£–Β–¥―¨ ―è –Η―Ö ―¹–≤–Β―Ä―¹―²–Ϋ–Η–Κ, –Α ―É–Ε–Β –≤–Ψ–Β–≤–Α–Μ, –±―΄–Μ ―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ. –ù–Α –Φ–Ϋ–Β –Μ–Α–¥–Ϋ–Ψ ―¹–Η–¥–Β–Μ–Α –Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ―¨–Κ–Α―è ―³–Ψ―Ä–Φ–Α. –Θ–≥–Ψ―¹―²–Η–Μ–Η –Ϋ–Α―¹ –Κ–Α–Κ–Α–Ψ, –≤–Κ―É―¹ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ ―è ―É–Ε–Β –Η –Ζ–Α–±―΄–Μ. –ö―²–Ψ-―²–Ψ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Β―¹ –±–Α―è–Ϋ, –Η ―Ä–Β–±―è―²–Α –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Η –Φ–Β–Ϋ―è ―¹―΄–≥―Ä–Α―²―¨. –û–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Α ―¹–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Α―¹―¨ ―¹–Α–Φ–Α―è –¥―Ä―É–Ε–Β―¹–Κ–Α―è.
–Γ―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄ –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –Φ–Ϋ–Β –Ψ―¹―²–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –¥–Β–Ϋ–Β–Κ ―¹ ―Ä–Β–±―è―²–Α–Φ–Η. –·, –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–Ψ–Ζ―Ä–Β–≤–Α―è, ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η–Μ―¹―è. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Ϋ–Α ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Ι –¥–Β–Ϋ―¨, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ω―Ä–Η―à–Β–Μ –Κ –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Ψ―Ä―É –¥–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ–Φ–Α –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―â–Α―²―¨―¹―è, –Ψ–Ϋ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Β―¹―²―¨ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α ―³―Ä–Ψ–Ϋ―² –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Β –Ω–Ψ―¹―΄–Μ–Α―²―¨, –Α –Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –≤. –¥–Β―²–¥–Ψ–Φ–Β. –Γ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –≤―¹–Β –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²―΄ ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –Η –≤―΄–¥–Α―²―¨ –Η―Ö –Φ–Ϋ–Β –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―². –û―² –Ψ–±–Η–¥―΄ ―è –Ζ–Α–Ω–Μ–Α–Κ–Α–Μ. –£―΄―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Φ–Β–Ϋ―è –Ψ–±–Φ–Α–Ϋ―É–Μ–Η. –Γ―²–Α–Μ –Ω―Ä–Ψ―¹–Η―²―¨―¹―è –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥. –î–Η―Ä–Β–Κ―²–Ψ―Ä ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ ―Ö–Ψ―²―è –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ –¥–Β―²–Β–Ι –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Α―²―¨ –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ –Ω–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Β―² –Ω―Ä–Α–≤–Α, –Ϋ–Ψ –¥–Μ―è –Φ–Β–Ϋ―è ―¹–¥–Β–Μ–Α–Β―² –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η–Β. –‰ –≤–Ψ―² ―è –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β. –†–Α―¹―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–≤, –≥–¥–Β –≥–Ψ―Ä–≤–Ψ–Β–Ϋ–Κ–Ψ–Φ–Α―², –Ω–Ψ―à–Β–Μ ―²―É–¥–Α. 
–ü―Ä–Η–Ϋ―è–Μ –Φ–Β–Ϋ―è –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ. –· –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ–Η–Μ –Β–Φ―É, ―΅―²–Ψ ―¹–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Ψ, –Η –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Η―²―¨ –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Β―¹―΄–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ω―É–Ϋ–Κ―² –¥–Μ―è –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Κ–Η –Ϋ–Α ―³―Ä–Ψ–Ϋ―². –û–Ϋ ―¹–≤―è–Ζ–Α–Μ―¹―è –Ω–Ψ ―²–Β–Μ–Β―³–Ψ–Ϋ―É ―¹ –Κ–Β–Φ-―²–Ψ –Η–Ζ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨―¹―²–≤–Α –Η –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –Β―¹―²―¨ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α ―³―Ä–Ψ–Ϋ―² –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Β –Ω–Ψ―¹―΄–Μ–Α―²―¨, –Α –Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –≤ –¥–Β―²–¥–Ψ–Φ–Β. –‰ ―²―É―² ―è –Ϋ–Β –≤―΄–¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ: –±―Ä–Ψ―¹–Η–Μ ―à–Α–Ω–Κ―É –Η ―à–Η–Ϋ–Β–Μ―¨ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ –Η –Ζ–Α―è–≤–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Η–Κ―É–¥–Α –Ψ―²―¹―é–¥–Α –Ϋ–Β ―É–Ι–¥―É, –Ω–Ψ–Κ–Α –Ϋ–Β –±―É–¥–Β―² –≤–Ψ―¹―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Α ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Μ–Η–≤–Ψ―¹―²―¨ –Η –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Β –Ω–Ψ―à–Μ―é―² –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Β―¹―΄–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ω―É–Ϋ–Κ―² –¥–Μ―è –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Κ–Η –Ϋ–Α ―³―Ä–Ψ–Ϋ―². –ö–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –≤―΄―à–Β–Μ –Η–Ζ –Κ–Α–±–Η–Ϋ–Β―²–Α –Η –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ. –ù–Β –Ζ–Ϋ–Α―é, –Κ–Ψ–Φ―É –Ψ–Ϋ –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Μ, –Ϋ–Ψ, –Ω―Ä–Η–¥―è –≤ –Κ–Α–±–Η–Ϋ–Β―², ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Ψ –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η―²―¨ –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Β―¹―΄–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ω―É–Ϋ–Κ―², –Α ―²–Α–Φ –±―É–¥–Β―² –≤–Η–¥–Ϋ–Ψ.
–€–Ϋ–Β –≤―΄–¥–Α–Μ–Η –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²―΄, –Η ―è, ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤―΄–Ι, –Ω–Ψ–Κ–Η–Ϋ―É–Μ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Κ–Ψ–Φ–Α―². –ë―΄–Μ–Ψ –Β―â–Β ―¹–≤–Β―²–Μ–Ψ, –Η ―è ―Ä–Β―à–Η–Μ ―¹―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –≤ –Κ–Η–Ϋ–Ψ. –ö–Ψ–≥–¥–Α ―è –≤―΄―à–Β–Μ –Η–Ζ –Κ–Η–Ϋ–Ψ―²–Β–Α―²―Ä–Α, ―É–Ε–Β ―¹―²–Β–Φ–Ϋ–Β–Μ–Ψ. –ü–Β―Ä–Β―¹―΄–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ω―É–Ϋ–Κ―² ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Ψ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ–Β, –Η ―è –Ζ–Α–¥―É–Φ–Α–Μ―¹―è, –Κ–Α–Κ ―²―É–¥–Α –Ω–Ψ–±―΄―¹―²―Ä–Β–Β –¥–Ψ–±―Ä–Α―²―¨―¹―è. –£–¥―Ä―É–≥ –≤–Η–Ε―É: ―¹–Α–Ϋ–Η, –Ζ–Α–Ω―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ―à–Α–¥―¨―é; –≤ ―¹–Α–Ϋ―è―Ö ―¹―²–Α―Ä–Η―΅–Ψ–Κ. –· ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ, –Ϋ–Β –≤ –Φ–Ψ―é –Μ–Η ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―É –Ψ–Ϋ –Β–¥–Β―². –î–Β–¥ –Ψ–±―Ä–Α–¥–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è –Ω–Α―¹―¹–Α–Ε–Η―Ä―É, –¥–Α –Β―â–Β –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É. –Γ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –¥–Ψ –Ω–Β―Ä–Β―¹―΄–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―É–Ϋ–Κ―²–Α –¥–Ψ–≤–Β–Ζ–Β―². –ü–Ψ―¹―²–Β–Μ–Η–Μ –Φ–Ϋ–Β ―¹–Β–Ϋ―Ü–Α, –Η –Φ―΄ –Ω–Ψ–Β―Ö–Α–Μ–Η.
βÄî –ß―²–Ψ, –≤–Η–¥–Α―²―¨, –¥–Β–Μ–Ψ ―É –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ι –ê―Ä–Φ–Η–Η –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ, ―Ä–Α–Ζ –±–Β―Ä―É―² –≤ –Α―Ä–Φ–Η―é ―²–Α–Κ–Η―Ö –Φ–Α–Μ―¨―Ü–Ψ–≤? βÄî ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –¥–Β–¥.
–· –Β–Φ―É ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ –≤ –Α―Ä–Φ–Η―é.
–ù–Α –Ω–Β―Ä–Β―¹―΄–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Ω―É–Ϋ–Κ―²–Β –Φ–Β–Ϋ―è ―Ä–Α―¹–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Η–Μ–Η –≤ –Κ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–¥–Α–Ϋ―²―¹–Κ–Ψ–Β –Ψ―²–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η–Ι ―É―¹–Α―²―΄–Ι ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ–Α. –£―΄–¥–Β–Μ–Η–Μ–Η –Κ–Ψ–Ι–Κ―É ―É –Ω–Β―΅–Κ–Η, –Η ―è –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –≥–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ―è ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ ―É―¹–Ϋ―É–Μ. –Γ―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ–Α –Ω–Η―²–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Β –≤ –Ψ–±―â–Β–Φ –Ζ–Α–Μ–Β, –Α –≤ ¬Ϊ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ¬Μ –Η –Ϋ–Α ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –Ω–Ψ–≤–Β–Μ –Φ–Β–Ϋ―è ―²―É–¥–Α ―¹ ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι. –£―¹–Β –≤ –Ψ―²–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –±―΄–Μ–Η ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Ψ–≤–Η–Κ–Η, –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –≥–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ―è –Ω–Ψ –Ϋ–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Κ ―¹―²―Ä–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±–Β.
–ü―Ä–Η–±―΄–Μ–Ψ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Β –Ω–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β, 1925 –≥–Ψ–¥–Α ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è, –Η –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–Μ–Η ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Φ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ –≥―Ä―É–Ω–Ω. –ü–Ψ–Φ–Ϋ―é, ―è –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ―Ü–Β–≤, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤–Β―¹―²–Η –Η―Ö –≤ –Ω–Ψ–Μ–Η–Κ–Μ–Η–Ϋ–Η–Κ―É. –ù–Η ―É –Κ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö –Ϋ–Β –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Μ–Ψ ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è, ―΅―²–Ψ ―è –Β―â–Β –Φ–Α–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α―²―¨. –£ –Η―Ö –≥–Μ–Α–Ζ–Α―Ö ―è –±―΄–Μ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Ψ–≤–Η–Κ–Ψ–Φ, –Ω―Ä–Η–±―΄–≤―à–Η–Φ –Η–Ζ –≥–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ―è, –Β―³―Ä–Β–Ι―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ. –ù–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, ―¹–Ψ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Ψ –Ζ–Α–±–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α―²―¨, –Κ–Α–Κ –Ω–Α―Ü–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Ψ–Κ –≤–Β–Μ ―¹―²―Ä–Ψ–Ι. –ü–Α―Ä–Ϋ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –±―΄–Μ–Η ―¹―²–Α―Ä―à–Β –Φ–Β–Ϋ―è –Μ–Β―² –Ϋ–Α ―à–Β―¹―²―¨, ―¹―²–Α―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –Η–¥―²–Η –≤ –Ϋ–Ψ–≥―É.
–½–Α―²–Β–Φ –Ω―Ä–Η–Β―Ö–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Β―¹―΄–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ω―É–Ϋ–Κ―² –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ–Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ ―²–Α–Ϋ–Κ–Ψ–≤―΄―Ö –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ι. –ù–Α―΅–Α–Μ–Η –Φ–Β–Ϋ―è ―É–≥–Ψ–≤–Α―Ä–Η–≤–Α―²―¨ –Β―Ö–Α―²―¨ ―¹ –Ϋ–Η–Φ–Η. –ù–Ψ ―è ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ ―Ö–Ψ―΅―É ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α –Η–Μ–Η –Ϋ–Α ―é–Ϋ–≥–Ψ–Ι. 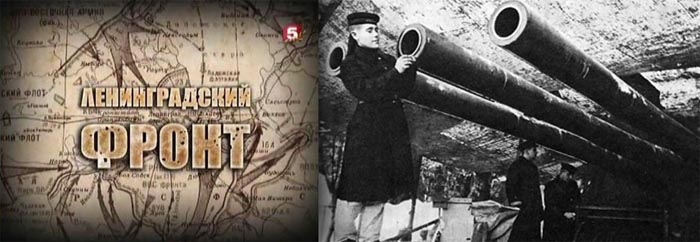 –£―¹–Μ–Β–¥ –Ζ–Α ―²–Α–Ϋ–Κ–Η―¹―²–Α–Φ–Η –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ–Η –Ζ–Α –Ω–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Μ–Β―²―΅–Η–Κ–Η ―¹ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Α: ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –Η –¥–≤–Α ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ―΄. –û–Ϋ–Η –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Η –Φ–Ϋ–Β –Β―Ö–Α―²―¨ ―¹ –Ϋ–Η–Φ–Η –≤ –Ω–Ψ–Μ–Κ. –· –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Μ―é–±–Η–Μ –Μ–Β―²―΅–Η–Κ–Ψ–≤ –Η –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤. –Θ–Ε–Β –Ψ–¥–Ϋ–Ψ ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –Μ–Β―²―΅–Η–Κ–Η, –¥–Α –Β―â–Β ―¹ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Α, ―Ä–Β―à–Η–Μ–Ψ –≤―¹–Β. –Γ–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η–Μ―¹―è, –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ―Ü–Α–Φ–Η ―¹–Β–Μ –≤ ―ç―à–Β–Μ–Ψ–Ϋ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―΄–Μ –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –Ϋ–Α―¹ –Κ –¦–Α–¥–Ψ–≥–Β. –î–Α–Μ―¨―à–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ ―à–Α–≥–Α―²―¨ –Ω–Ψ –Μ–Α–¥–Ψ–Ε―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Μ―¨–¥―É, –Ω–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²–Ψ–Ι –î–Ψ―Ä–Ψ–≥–Β –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η, βÄî –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥. –£―¹–Μ–Β–¥ –Ζ–Α ―²–Α–Ϋ–Κ–Η―¹―²–Α–Φ–Η –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ–Η –Ζ–Α –Ω–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Μ–Β―²―΅–Η–Κ–Η ―¹ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Α: ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –Η –¥–≤–Α ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ―΄. –û–Ϋ–Η –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Η –Φ–Ϋ–Β –Β―Ö–Α―²―¨ ―¹ –Ϋ–Η–Φ–Η –≤ –Ω–Ψ–Μ–Κ. –· –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Μ―é–±–Η–Μ –Μ–Β―²―΅–Η–Κ–Ψ–≤ –Η –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤. –Θ–Ε–Β –Ψ–¥–Ϋ–Ψ ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –Μ–Β―²―΅–Η–Κ–Η, –¥–Α –Β―â–Β ―¹ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Α, ―Ä–Β―à–Η–Μ–Ψ –≤―¹–Β. –Γ–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η–Μ―¹―è, –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ―Ü–Α–Φ–Η ―¹–Β–Μ –≤ ―ç―à–Β–Μ–Ψ–Ϋ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―΄–Μ –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –Ϋ–Α―¹ –Κ –¦–Α–¥–Ψ–≥–Β. –î–Α–Μ―¨―à–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ ―à–Α–≥–Α―²―¨ –Ω–Ψ –Μ–Α–¥–Ψ–Ε―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Μ―¨–¥―É, –Ω–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²–Ψ–Ι –î–Ψ―Ä–Ψ–≥–Β –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η, βÄî –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥.
–ö–Ψ–≥–¥–Α –≤―¹–Β –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ζ–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ ―²–Β–Ω–Μ―É―à–Κ–Η, ―è –≤–¥―Ä―É–≥ –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –≤―¹–Β –Φ–Ψ–Η –≥–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²―΄, –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ω–Ψ–¥–Α―Ä–Κ–Η –Ψ―² ―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ―΄―Ö –Ψ―¹―²–Α–Μ–Η―¹―¨ ―É –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Α –¥–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ–Φ–Α. –î–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ ―¹―²–Α―Ä―à–Β–Φ―É –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²―É. –û–Ϋ –≤–Β–Μ–Β–Μ –Φ–Ϋ–Β –±–Β–Ε–Α―²―¨ –≤ –¥–Β―²–¥–Ψ–Φ –Η –Ζ–Α–±―Ä–Α―²―¨ –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²―΄. –ù–Β ―΅―É―è –Ω–Ψ–¥ ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –Ϋ–Ψ–≥, ―è –Ω–Ψ–±–Β–Ε–Α–Μ. –ë–Ψ–Μ―¨―à–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ –±–Ψ―è–Μ―¹―è, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Α―¹―²–Α–Ϋ―É –Ϋ–Α –Φ–Β―¹―²–Β –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Α. –ù–Α –Φ–Ψ–Β ―¹―΅–Α―¹―²―¨–Β, –Ψ–Ϋ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è ―É ―¹–Β–±―è –≤ –Κ–Α–±–Η–Ϋ–Β―²–Β. –î–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²―΄ –Η –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η ―è ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ, –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―â–Α–Μ―¹―è, –Α –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤―΄―à–Β–Μ –≤–Ψ –¥–≤–Ψ―Ä, ―²–Ψ ―É–≤–Η–¥–Β–Μ –≤―¹–Β―Ö –¥–Β―²–¥–Ψ–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η―à–Β–Κ –Η –¥–Β–≤―΅–Ψ–Ϋ–Ψ–Κ. –û–Ϋ–Η –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―²―Ä–Ψ–≥–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―â–Α–Μ–Η―¹―¨.
βÄî –ë–Β–Ι, –£–Η―²―è, ―³–Α―à–Η―¹―²―¹–Κ–Η―Ö –≥–Α–¥–Ψ–≤! –û―²–Ψ–Φ―¹―²–Η –Ζ–Α –Ϋ–Α―à–Η―Ö ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Ι!..
–£–Ψ―² ―¹ ―²–Α–Κ–Η–Φ –Ϋ–Α–Ω―É―²―¹―²–≤–Η–Β–Φ ―è –Η –Ω–Ψ–Κ–Η–Ϋ―É–Μ –¥–Β―²―¹–Κ–Η–Ι –¥–Ψ–Φ, –Ω–Ψ–¥ –Κ―Ä―΄―à–Β–Ι –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Ε–Η–Μ ―¹―É―²–Κ–Η.
–ö–Ψ–≥–¥–Α ―è –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ―¹―è –Ϋ–Α ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―é, ―²–Ψ –Ϋ–Β –Ϋ–Α―à–Β–Μ –Ϋ–Α –Ω―É―²―è―Ö ―¹–≤–Ψ–Ι ―ç―à–Β–Μ–Ψ–Ϋ. –£ ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹–Ψ ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η ―É―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤, –Η –Φ–Ϋ–Β –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ –Ϋ–Α―à. –· –±–Β–Ε–Α–Μ ―Ä―è–¥–Ψ–Φ ―¹ –≤–Α–≥–Ψ–Ϋ–Α–Φ–Η, –Κ―Ä–Η―΅–Α–Μ, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―΄―Ö –Ϋ–Β –≤–Η–¥–Β–Μ. –ë―΄–Μ–Ψ ―É–Ε–Β ―²–Β–Φ–Ϋ–Ψ, –Η –Φ–Ϋ–Ψ―é –Ψ–≤–Μ–Α–¥–Β–Μ–Ψ –Ψ―²―΅–Α―è–Ϋ–Η–Β. –û―² –Ψ–±–Η–¥―΄ ―¹–Μ–Β–Ζ―΄ –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –≥–Μ–Α–Ζ–Α. –ö–Ψ –Φ–Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–Ψ―à–Β–Μ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι. –Θ–Ζ–Ϋ–Α–≤, –≤ ―΅–Β–Φ –¥–Β–Μ–Ψ, –Ψ–Ϋ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α―à ―ç―à–Β–Μ–Ψ–Ϋ –Ω–Β―Ä–Β–≤–Β–¥–Β–Ϋ –Ϋ–Α –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι –Ω―É―²―¨. –· –Ω–Ψ–±–Β–Ε–Α–Μ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ―Ä–Β–Μ―¨―¹―΄ –Η –≤―¹–Κ–Ψ―Ä–Β, –Κ –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Η, –Ϋ–Α―à–Β–Μ ―¹–≤–Ψ―é –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É. –û―² ―Ä–Β–±―è―² ―É–Ζ–Ϋ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―¹―²–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Η–Ζ –¥–Ψ–Φ–Η–Κ–Ψ–≤.
–£–Ψ―à–Β–Μ –≤ –¥–Ψ–Φ–Η–Κ. –Θ–≤–Η–¥–Β–Μ ―¹―²–Α―Ä―à–Β–≥–Ψ –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α –Η ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ―É. –î–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ, –≤―¹–Β, –Φ–Ψ–Μ, –≤ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Β. –ù–Α–Ω–Η–≤―à–Η―¹―¨ ―΅–Α―é, ―è –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ―¹―è –Ϋ–Α ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―é, –Ζ–Α–Μ–Β–Ζ –≤ ―²–Β–Ω–Μ―É―à–Κ―É –Η –Ζ–Α―¹–Ϋ―É–Μ –Ϋ–Α –Ϋ–Α―Ä–Α―Ö. –ü―Ä–Ψ―¹–Ϋ―É–Μ―¹―è, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥ ―É–Ε–Β ―à–Β–Μ.
–ü―Ä–Η–±―΄–Μ–Η –≤ –ö–Ψ–±–Ψ–Ϋ―É βÄî –Ϋ–Α –≤–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι –±–Β―Ä–Β–≥ –¦–Α–¥–Ψ–≥–Η. –ù–Α―à–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Α –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ–Α―¹―¨ –≤ –Κ–Ψ–Μ–Ψ–Ϋ–Ϋ―É –Η –Ω–Ψ–¥–Ψ―à–Μ–Α –Κ ―à–Μ–Α–≥–±–Α―É–Φ―É –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ-–Ω―Ä–Ψ–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―É–Ϋ–Κ―²–Α, ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ϋ–Α –Κ―Ä–Ψ–Φ–Κ–Β –±–Β―Ä–Β–≥–Α. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Κ–Η –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Ψ–≤ –Φ―΄ –≤―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Η –Ϋ–Α –Μ–Α–¥–Ψ–Ε―¹–Κ–Η–Ι –Μ–Β–¥. –ü–Β―Ä–Β–¥ –Ϋ–Α–Φ–Η –Ψ―²–Κ―Ä―΄–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Β–Ψ–±―ä―è―²–Ϋ–Α―è –±–Β–Μ–Α―è ―Ä–Α–≤–Ϋ–Η–Ϋ–Α ―¹ –Φ–Ϋ–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ–Φ –≤–Β―Ö, ―É―Ö–Ψ–¥―è―â–Η―Ö –Ψ―² –±–Β―Ä–Β–≥–Α –Κ –≥–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ψ–Ϋ―²―É. 
–€―΄ –≤―΄―à–Μ–Η –Ϋ–Α –Μ–Β–¥ –≤ –Ϋ–Ψ―΅―¨. –Δ–Α–Κ–Α―è –Ω―Ä–Β–¥–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –±―΄–Μ–Α –Ϋ–Β–Μ–Η―à–Ϋ–Β–Ι. –£–Β–¥―¨ –Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―è ―²―Ä–Α―¹―¹–Α –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α –≤―¹–Β–≥–Ψ –≤ –≤–Ψ―¹―¨–Φ–Η βÄî –¥–≤–Β–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²–Η –Κ–Η–Μ–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Α―Ö –Ψ―² –Ω–Β―Ä–Β–¥–Ψ–≤―΄―Ö –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Ι –Ϋ–Β–Φ―Ü–Β–≤. –ö–Ψ–Μ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Α ―à–Μ–Α –Ω–Ψ –Ϋ–Α–Κ–Α―²–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Α –Μ―¨–¥―É –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Β. –ù–Α–¥ –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η–Φ–Η ―¹―É–≥―Ä–Ψ–±–Α–Φ–Η –Κ―É―Ä–Η–Μ–Α―¹―¨ ―¹–Ϋ–Β–Ε–Ϋ–Α―è –Ω―΄–Μ―¨.
–Δ―Ä–Η–¥―Ü–Α―²―¨ –Κ–Η–Μ–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤ –Μ–Β–¥–Ψ–≤–Ψ–Ι –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Η –Ϋ–Α–Φ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ψ–¥–Ψ–Μ–Β―²―¨ –¥–Ψ ―Ä–Α―¹―¹–≤–Β―²–Α. –€–Η–Φ–Ψ –Ϋ–Α―¹ –Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ζ–Μ–Η ―¹ –Ω–Ψ–≥–Α―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ―³–Α―Ä–Α–Φ–Η –Φ–Α―à–Η–Ϋ―΄ ―¹ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η–Β–Φ. –ù–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α –Φ–Ψ―Ä–Ψ–Ζ, –¥–≤–Β―Ä―Ü―΄ ―Ä–Α―¹–Ω–Α―Ö–Ϋ―É―²―΄ ―¹ –Ψ–±–Β–Η―Ö ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –≤―΄―¹–Κ–Ψ―΅–Η―²―¨, –Β―¹–Μ–Η –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η―²―¹―è –Ω–Ψ–¥ –Μ–Β–¥. –ù–Α –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Φ –Κ–Η–Μ–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Β ―¹―²–Ψ―è–Μ–Η –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Η–Β –¥–Ψ–Φ–Η–Κ–Η –Η–Ζ ―¹–Ϋ–Β–≥–Α –Η –Μ―¨–¥–Α βÄî ―Ä–Β–≥―É–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ―΅–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ―¹―²―΄. –ù–Β―Ä–Β–¥–Κ–Ψ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω–Α―²―Ä―É–Μ–Η. –Δ–Ψ ―²―É―², ―²–Ψ ―²–Α–Φ –≤–¥–Ψ–Μ―¨ ―²―Ä–Α―¹―¹―΄ ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ–Η –≤ –Ϋ–Β–±–Ψ –Ζ–Β–Ϋ–Η―²–Ϋ―΄–Β ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Η.
–ù–Α ―é–Ε–Ϋ–Ψ–Φ –±–Β―Ä–Β–≥―É –Ψ–Ζ–Β―Ä–Α ―¹–Μ―΄―à–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ψ–Ε–Β―¹―²–Ψ―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Κ–Α–Ϋ–Ψ–Ϋ–Α–¥–Α. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω―Ä–Η–±―΄–≤ –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥, –Φ―΄ ―É–Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –≤ ―ç―²―É –Ϋ–Ψ―΅―¨ –±―΄–Μ–Α –Ω―Ä–Ψ―Ä–≤–Α–Ϋ–Α –±–Μ–Ψ–Κ–Α–¥–Α –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α, ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ –Κ–Ψ―Ä–Η–¥–Ψ―Ä, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―¹–≤―è–Ζ–Α–Μ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥ ―¹ –ë–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Ζ–Β–Φ–Μ–Β–Ι –Ω–Ψ ―¹―É―à–Β.
–ù–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Α –Φ―΄ –Β―â–Β –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η –Η –Ω―Ä–Η–≥–Μ―è–¥―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Κ –Ζ–Α―Ä–Β–≤―É –±–Ψ―è –Ϋ–Α ―é–Ε–Ϋ–Ψ–Φ –±–Β―Ä–Β–≥―É. –¦–Β―²–Β–Μ–Η ―¹–Ϋ–Α―Ä―è–¥―΄ –Η –≤ –Ϋ–Α―à―É ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―É. –½–Α―¹–Μ―΄―à–Α–≤ –Η―Ö ―¹–≤–Η―¹―², –Φ―΄ –Ω–Α–¥–Α–Μ–Η –≤ ―¹–Ϋ–Β–≥ –Η –Ζ–Α–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Η.
–£ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Ω―É―²–Η ―è ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―É―¹―²–Α–Μ. –ù–Ψ–≥–Η –Ψ―²–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Η–¥―²–Η. –ö–Η–Μ–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Α –Ζ–Α ―΅–Β―²―΄―Ä–Β –¥–Ψ –Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±–Β―Ä–Β–≥–Α –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–≤―à–Η–Ι –Ω–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ, –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ –Φ–Α―à–Η–Ϋ―É, –≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Φ–Β―à–Κ–Α–Φ–Η ―¹ ―¹–Α―Ö–Α―Ä–Ϋ―΄–Φ –Ω–Β―¹–Κ–Ψ–Φ, –Η ―É–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ –≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―è –≤–Ζ―è―²―¨ –Φ–Β–Ϋ―è –Η –Β―â–Β ―΅–Β―²―΄―Ä–Β―Ö –Ζ–Α–±–Ψ–Μ–Β–≤―à–Η―Ö –±–Ψ–Ι―Ü–Ψ–≤.
–ù–Α –Ω―É―²–Η –Κ –û―¹–Η–Ϋ–Ψ–≤―Ü―É ―¹–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –ß–ü. –€–Α―à–Η–Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ–Β–Ζ–Ε–Α–Μ–Α –Φ–Η–Φ–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ ―Ä–Β–≥―É–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö –Ω―É–Ϋ–Κ―²–Ψ–≤. –‰ –≤–¥―Ä―É–≥ –¥–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Ι –Ω–Α―²―Ä―É–Μ―¨ –¥–Α–Μ ―à–Ψ―³–Β―Ä―É ―¹–Η–≥–Ϋ–Α–Μ –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¨―¹―è.
–û–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ ―¹–Ψ–Μ–¥–Α―², –Β―Ö–Α–≤―à–Η―Ö –≤ –Κ―É–Ζ–Ψ–≤–Β βÄî ―Ä―΄–Ε–Η–Ι, –≤ –Ζ–Α–Φ―É―¹–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―à–Α–Ω–Κ–Β, βÄî –Ω–Β―Ä–Β–≥–Ϋ―É–Μ―¹―è ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –±–Ψ―Ä―² –Η ―¹―²–Α–Μ ―É–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α―²―¨ ―à–Ψ―³–Β―Ä–Α –Ϋ–Β –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Α–≤–Μ–Η–≤–Α―²―¨―¹―è. –€―΄ –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η. –ü–Α―²―Ä―É–Μ―¨–Ϋ―΄–Β, –≤–Η–¥―è, ―΅―²–Ψ ―à–Ψ―³–Β―Ä –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ―è–Β―²―¹―è –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ―É, ―¹―²–Α–Μ–Η ―¹―²―Ä–Β–Μ―è―²―¨ –≤ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö. –®–Ψ―³–Β―Ä –Ζ–Α―²–Ψ―Ä–Φ–Ψ–Ζ–Η–Μ. –†―΄–Ε–Η–Ι –Ω–Ψ–±–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Μ –Η ―¹―²–Α–Μ ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ω–Μ–Η–≤–Ψ –≤―΄―¹―΄–Ω–Α―²―¨ –Η–Ζ –Κ–Α―Ä–Φ–Α–Ϋ–Ψ–≤ ―à–Η–Ϋ–Β–Μ–Η ―¹–Α―Ö–Α―Ä–Ϋ―΄–Ι –Ω–Β―¹–Ψ–Κ. –Δ―É―² –Φ―΄ –≤―¹–Β –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ–Η. –û–Ϋ –Ω―Ä–Ψ–¥―΄―Ä―è–≤–Η–Μ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Φ–Β―à–Κ–Ψ–≤ –Η ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ ―¹–Β–±–Β –Ζ–Α–Ω–Α―¹–Β―Ü –Ζ–Α ―¹―΅–Β―² –≥–Ψ–Μ–Ψ–¥–Α―é―â–Η―Ö –Μ–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―Ü–Β–≤.
βÄî –ê―Ö ―²―΄ –≥–Ϋ–Η–¥–Α! βÄî ―¹–Ω–Μ―é–Ϋ―É–Μ –Ω–Ψ–Ε–Η–Μ–Ψ–Ι –±–Ψ–Β―Ü –Η, –Ϋ–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Η ―¹–Μ–Ψ–≤–Α, ―É–¥–Α―Ä–Η–Μ –≤–Ψ―Ä–Α –≤ –Μ–Η―Ü–Ψ.
–Δ–Ψ―² ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ε–Α–Μ–Ψ–±–Ϋ–Ψ –≤―¹―Ö–Μ–Η–Ω–Ϋ―É–Μ:
βÄî –ù–Β –Ω–Ψ–≥―É–±–Η―²–Β, –±―Ä–Α―²―Ü―΄!..
–ù–Ψ ―²―É―² –Ω–Ψ–¥–±–Β–Ε–Α–Μ–Η –Ω–Α―²―Ä―É–Μ―¨–Ϋ―΄–Β. –û–Ϋ–Η, –Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è, –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η–Μ–Η, –Κ–Α–Κ –Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Ω–Α―²―΄–Ι –Κ―É―Ä–Ψ―΅–Η―² –Φ–Β―à–Ψ–Κ. –£–Ψ―Ä–Α ―¹–Ϋ―è–Μ–Η ―¹ –Φ–Α―à–Η–Ϋ―΄.
–î–Ψ―Ä–Ψ–≥–Α –Ψ―¹–≤–Β―â–Α–Μ–Α―¹―¨ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Μ–Α–±―΄–Φ –Μ―É–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―¹–≤–Β―²–Ψ–Φ. –ù–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü –≤–Ζ–Ψ―Ä―É –Ψ―²–Κ―Ä―΄–Μ―¹―è –Ω–Ψ–Μ–Ψ―¹–Α―²―΄–Ι –û―¹–Η–Ϋ–Ψ–≤–Β―Ü–Κ–Η–Ι –Φ–Α―è–Κ, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ –Η –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η–Ι –Μ–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Η–Ι –±–Β―Ä–Β–≥. –· –≤–Ζ–¥–Ψ―Ö–Ϋ―É–Μ: –Ϋ―É –≤–Ψ―², ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –¥–Ψ–Φ–Α! 
–ö–Ψ–≥–¥–Α –¥–Ψ –±–Β―Ä–Β–≥–Α –Ψ―¹―²–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤ ―²―Ä–Η―¹―²–Α, –Φ–Α―à–Η–Ϋ―É –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Η –¥–Μ―è –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Κ–Η –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Ψ–≤ –Η –≥―Ä―É–Ζ–Α. –ü–Ψ―²–Ψ–Φ ―à–Ψ―³–Β―Ä ―Ä–Α–Ζ–Ψ–≥–Ϋ–Α–Μ –Φ–Α―à–Η–Ϋ―É, –Η –Φ―΄ ―¹ ―²―Ä―É–¥–Ψ–Φ –Ω―Ä–Β–Ψ–¥–Ψ–Μ–Β–Μ–Η –Κ―Ä―É―²–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥―ä–Β–Φ.
–†–Α–±–Ψ―²–Α ―à–Ψ―³–Β―Ä–Α –Ϋ–Α –Μ–Β–¥–Ψ–≤–Ψ–Ι ―²―Ä–Α―¹―¹–Β –±―΄–Μ–Α ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ–Ι –Η –≥–Β―Ä–Ψ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι. –ü–Ψ–¥ ―Ä–Α–Ζ―Ä―΄–≤–Α–Φ–Η –±–Ψ–Φ–± –Η ―¹–Ϋ–Α―Ä―è–¥–Ψ–≤, –≤ –Μ―é–±―É―é ―¹―²―É–Ε―É, –≤ –Φ–Β―²–Β–Μ―¨, –Β–Ε–Β–Φ–Η–Ϋ―É―²–Ϋ–Ψ ―Ä–Η―¹–Κ―É―è –Ω―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η―²―¨―¹―è –Ω–Ψ–¥ –Μ–Β–¥, –Ψ–Ϋ–Η –≤–Β–Μ–Η –Φ–Α―à–Η–Ϋ―΄ ―¹ –≥―Ä―É–Ζ–Α–Φ–Η, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―²–Α–Κ –Ϋ―É–Ε–¥–Α–Μ―¹―è –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥. –û ―à–Ψ―³–Β―Ä–Α―Ö –¦–Α–¥–Ψ–≥–Η ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Μ–Β–≥–Β–Ϋ–¥―΄. –€–Ϋ–Β ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η, –Κ–Α–Κ –Ψ–¥–Η–Ϋ –≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―¨, ―É –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–≥–Μ–Ψ―Ö –¥–≤–Η–≥–Α―²–Β–Μ―¨, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Β–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Ψ–≥―Ä–Β―²―¨, ―¹–Ϋ―è–Μ ―Ä―É–Κ–Α–≤–Η―Ü―΄, –Ψ–±–Μ–Η–Μ –Η―Ö –±–Β–Ϋ–Ζ–Η–Ϋ–Ψ–Φ –Η –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Β―¹ –Κ –Φ–Ψ―²–Ψ―Ä―É. –Γ–Α–Φ –Ε–Β –Κ―Ä―É―²–Η–Μ –±–Β–Ζ –Ω–Β―Ä–Β–¥―΄―à–Κ–Η –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Ϋ―É―é ―Ä―É―΅–Κ―É. –î–≤–Η–≥–Α―²–Β–Μ―¨ –Ψ–Ϋ –Ζ–Α–≤–Β–Μ, –Ϋ–Ψ –Ω–Μ–Α–Φ―è –Ψ―² ―Ä―É–Κ–Α–≤–Η―Ü –Ψ–±–Ψ–Ε–≥–Μ–Ψ –Β–Φ―É –Κ–Η―¹―²–Η ―Ä―É–Κ. –ê–¥―¹–Κ–Α―è –±–Ψ–Μ―¨ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–Μ–Α –¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨ –±–Α―Ä–Α–Ϋ–Κ―É ―Ä―É–Κ–Α–Φ–Η. –Δ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–≤–Β–Μ –Φ–Α―à–Η–Ϋ―É, ―É–Ω–Η―Ä–Α―è―¹―¨ –≤ ―Ä―É–Μ―¨ –Μ–Ψ–Κ―²―è–Φ–Η, –Ϋ–Ψ –Φ–Β―à–Κ–Η ―¹ –Φ―É–Κ–Ψ–Ι –¥–Ψ–≤–Β–Ζ.* * *
–ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―².

–£–Β―Ä―é–Ε―¹–Κ–Η–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–£–ù–ê), –™–Ψ―Ä–Μ–Ψ–≤ –û–Μ–Β–≥ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–û–ê–™), –€–Α–Κ―¹–Η–Φ–Ψ–≤ –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–€–£–£), –ö–Γ–£.
198188. –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥, ―É–Μ. –€–Α―Ä―à–Α–Μ–Α –™–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α, –¥–Ψ–Φ 11/3, –Κ–≤. 70. –ö–Α―Ä–Α―¹–Β–≤ –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅, –Α―Ä―Ö–Η–≤–Α―Ä–Η―É―¹.
30.05.201108:3630.05.2011 08:36:37
0
29.05.201110:0429.05.2011 10:04:17
–†–Β–Α–Μ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―è –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ζ–≥–Μ–Α―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄ –Κ―É―Ä―¹–Α –Ϋ–Α –Ω―Ä–Β–Ψ–¥–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ–Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ―²―¹―²–Α–Μ–Ψ―¹―²–Η ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –†–Ψ―¹―¹–Η–Η –Α–Ω―Ä–Η–Ψ―Ä–Η –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Α –±–Β–Ζ –Ω―Ä–Η–≤–Μ–Β―΅–Β–Ϋ–Η―è ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ―Ä―É–≥–Α –Ψ―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Ϋ–Ψ-―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Α–¥―Ä–Ψ–≤. –ù–Ψ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι ―¹―²―Ä–Α―²–Β–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι ―Ä–Β–Ζ–Β―Ä–≤ ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η ―²–Β―Ö–Ϋ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Β―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄ - ―É―΅–Β–Ϋ―΄–Β, –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä―΄, ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Η –Η ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η–Β, –¥–Ψ ―¹–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä –Ψ―¹―²–Α―é―²―¹―è –Ϋ–Β –≤–Ψ―¹―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Η–Μ–Η –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É―é―²―¹―è –Ϋ–Β –Ω–Ψ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η―é.–Δ–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β ―²–≤–Ψ―Ä―΅–Β―¹―²–≤–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Β―â―ë –≤ ―¹–Α–Φ―΄–Β –¥–Α–Μ–Β–Κ–Η–Β –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α, –Ζ–Α–¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –¥–Ψ –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η―è –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Α. –ü–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Η–¥–Α ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –±―΄–Μ–Ψ –≤―΄–Ζ–≤–Α–Ϋ–Ψ –Ψ–±―ä–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨―é, –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –≤―Ä–Α–Ε–¥–Β–±–Ϋ–Α―è –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Α―é―â–Α―è ―¹―Ä–Β–¥–Α –Η –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Α―è –±–Ψ―Ä―¨–±–Α –Ζ–Α –≤―΄–Ε–Η–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Ψ–Ι –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι –Α–Μ―¨―²–Β―Ä–Ϋ–Α―²–Η–≤―΄ –¥–Μ―è ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α ―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Η. –‰–Ζ–Ψ–±―Ä–Β―²–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –¥―Ä–Β–≤–Ϋ–Η–Φ–Η –Μ―é–¥―¨–Φ–Η –Κ–Ψ–Μ–Β―¹–Ψ, –Φ–Ψ―²―΄–≥–Α, –Μ–Ψ–Ω–Α―²–Α, ―²–Ψ–Ω–Ψ―Ä, –Φ–Ψ–Μ–Ψ―²–Ψ–Κ –Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Ω–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ―΄–Β –≤–Β―â–Η –¥–Ψ ―¹–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹―è―²―¹―è –Κ –≤–Β–Μ–Η―΅–Α–Ι―à–Η–Φ –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ-―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ –¥–Ψ―¹―²–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è–Φ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ü–Η–≤–Η–Μ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η.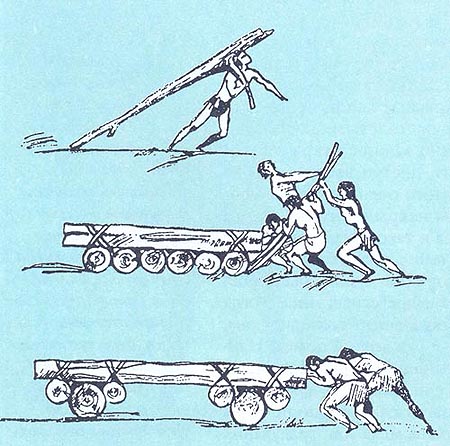
–†–Α–Ζ–≤–Η―²–Η–Β ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Φ―΄―¹–Μ–Η –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ–±–Μ–Β–≥―΅–Α–Μ–Ψ –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Η ―²―Ä―É–¥ –Μ―é–¥–Β–Ι, –Ϋ–Ψ –Η ―è–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η―è –Η –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Β–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η―è –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤.–Θ―Ä–Ψ–Κ–Η –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η ―É–±–Β–¥–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –¥–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é―², ―΅―²–Ψ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄ –Η –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥―΄, –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É―é―â–Η–Β –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ-―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –¥–Ψ―¹―²–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è, ―Ä–Α–Ζ–≤–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –¥–Η–Ϋ–Α–Φ–Η―΅–Ϋ–Ψ, –±–Ψ–Μ–Β–Β –±―΄―¹―²―Ä―΄–Φ–Η ―²–Β–Φ–Ω–Α–Φ–Η –Η –≤ –±–Ψ–Μ–Β–Β –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Η–Β ―¹―Ä–Ψ–Κ–Η –¥–Ψ―¹―²–Η–≥–Α–Μ–Η –Ϋ–Α–Η–≤―΄―¹―à–Β–≥–Ψ –Φ–Ψ–≥―É―â–Β―¹―²–≤–Α –Η ―Ä–Α―¹―Ü–≤–Β―²–Α. –Δ–Β –Ε–Β –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Α, –≥–¥–Β –Ϋ–Β ―É–¥–Β–Μ―è–Μ–Ψ―¹―¨ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η―è ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η―é –Ϋ–Α―É–Κ–Η –Η ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Η, –¥–Β–≥―Ä–Α–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Η, –≤ –Μ―É―΅―à–Β–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β, –Ω–Ψ–Ω–Α–¥–Α–Μ–Η –≤ –Ζ–Α–≤–Η―¹–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨ –Ψ―² –±–Ψ–Μ–Β–Β ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²―΄―Ö ―¹―²―Ä–Α–Ϋ, –Α –≤ ―Ö―É–¥―à–Β–Φ βÄ™ –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β –Η―¹―΅–Β–Ζ–Α–Μ–Η ―¹ –Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι –Α―Ä–Β–Ϋ―΄. –ö―Ä–Η―²–Β―Ä–Η–Η –≤–Β–Μ–Η―΅–Η―è ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄ –†–Ψ–Μ―¨ –Η –Φ–Β―¹―²–Ψ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Α –≤ –Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–Φ ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―è―é―²―¹―è –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –Ϋ–Β –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Ψ―â―¨―é, –Ϋ–Β –¥–Ψ―¹―²–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η –≤ ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Β –Η –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η ―É―¹–Ω–Β―Ö–Α–Φ–Η, –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―Ä–Α–Φ–Η ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Η –Η ―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Ϋ–Α―¹–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è, –Ϋ–Β –Ϋ–Α–Μ–Η―΅–Η–Β–Φ –Ω–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ―΄―Ö –Η―¹–Κ–Ψ–Ω–Α–Β–Φ―΄―Ö, –Ϋ–Β –Μ―É―΅―à–Η–Φ–Η –≤ –Φ–Η―Ä–Β –Ω–Ψ―΅–Β―²–Ϋ―΄–Φ –Κ–Α―Ä–Α―É–Μ–Ψ–Φ –Η –±–Α–Μ–Β―²–Ψ–Φ, –Η –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Β ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι –¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Ϋ―¹―²–Η―²―É―Ü–Η–Β–Ι –Η ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–¥–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ–Φ. –ù–Η–Κ–Ψ–Φ―É –≤ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―É –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–¥–Β―² –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α―²―¨ –≤–Β–Μ–Η–Κ–Η–Φ–Η –≥―É―¹―²–Ψ–Ϋ–Α―¹–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄ –Φ–Η―Ä–Α, –Ω–Ψ―é―â–Η–Β –Η ―²–Α–Ϋ―Ü―É―é―â–Η–Β –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Α –ê―³―Ä–Η–Κ–Η, ¬Ϊ―³―É―²–±–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄–Β¬Μ ―Ä–Β―¹–Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Η –°–Ε–Ϋ–Ψ–Ι –ê–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Η, ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄-–±–Α–Ϋ–Κ–Η –Η–Μ–Η –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Α, –±–Ψ–≥–Α―²―΄–Β –Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ–Η ―Ä–Β―¹―É―Ä―¹–Α–Φ–Η. –€–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –Α–≤―²–Ψ―Ä–Η―²–Β―², –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Η–Ϋ―¹―²–≤–Ψ, –Ϋ–Β–Ζ–Α–≤–Η―¹–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨, –Φ–Ψ–≥―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ, –Ω–Ψ–Ζ–Η―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Β ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η–Β –Μ―é–±–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Α –≤–Ψ –≤―¹–Β –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―è–Μ–Η―¹―¨ ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–Φ –≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι―¹―²–≤–Α (―¹–Η―¹―²–Β–Φ–Ψ–Ι ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è), –Ψ―²―Ä–Α–Ε–Α―é―â–Η–Φ ―É―Ä–Ψ–≤–Β–Ϋ―¨ ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Φ―΄―¹–Μ–Η, ―΅–Η―¹–Μ–Ψ–Φ –Ϋ–Ψ―¹–Η―²–Β–Μ–Β–Ι ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ϋ―²–Β–Μ–Μ–Β–Κ―²–Α (―Ä–Α–±–Ψ―²–Ψ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ―΄―Ö ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Ψ–≤ ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―³–Η–Μ―è), –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Ψ–Φ –Η―Ö –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η –Η ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ―¨―é –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Β–Α–Μ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Ψ–≤ –Η―Ö –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –£–Β–Μ–Η–Κ–Η–Φ–Η –¥–Β―Ä–Ε–Α–≤–Α–Φ–Η ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Ψ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α―²―¨ , ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ―΄–Β –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–≤–Α―²―¨ ―¹–Β–±―è –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄ ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―Ü–Η–Β–Ι –Η, –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ, –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―Ü–Η–Β–Ι –Ϋ–Α―É–Κ–Ψ–Β–Φ–Κ–Η―Ö –Ψ―²―Ä–Α―¹–Μ–Β–Ι –Ω―Ä–Ψ–Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –î―Ä―É–≥–Η–Φ–Η ―¹–Μ–Ψ–≤–Α–Φ–Η, –≤–Β–Μ–Η―΅–Η–Β ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―è–Β―²―¹―è ―¹―É―â–Β―¹―²–≤―É―é―â–Η–Φ –≤ –Ϋ–Β–Ι ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–Φ –≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι―¹―²–≤–Α, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –±–Α–Ζ–Η―Ä―É―é―²―¹―è ―³–Η–Ϋ–Α–Ϋ―¹–Ψ–≤―΄–Ι, ―é―Ä–Η–¥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι, –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι, ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Η –≤―¹–Β –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―²―΄. –Γ–Η―¹―²–Β–Φ–Α ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ψ―²―Ä–Α–Ε–Α–Β―² –Ω―Ä–Η–Ψ―Ä–Η―²–Β―², ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―¹―²–Α―²―É―¹ –Η –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ–Β–Ι ―²–Ψ–Ι –Η–Μ–Η –Η–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Η –Η ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ ―Ä–Ψ–¥–Α –Η–Ϋ–¥–Η–Κ–Α―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Α –Κ –Ϋ–Η–Φ. –≠–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η–Κ–Α –Η ―Ö―Ä–Β–Φ–Α―²–Η―¹―²–Η–Κ–Α –£–Β–Μ–Η–Κ–Η–Φ–Η –¥–Β―Ä–Ε–Α–≤–Α–Φ–Η ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Ψ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α―²―¨ , ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ―΄–Β –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–≤–Α―²―¨ ―¹–Β–±―è –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄ ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―Ü–Η–Β–Ι –Η, –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ, –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―Ü–Η–Β–Ι –Ϋ–Α―É–Κ–Ψ–Β–Φ–Κ–Η―Ö –Ψ―²―Ä–Α―¹–Μ–Β–Ι –Ω―Ä–Ψ–Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –î―Ä―É–≥–Η–Φ–Η ―¹–Μ–Ψ–≤–Α–Φ–Η, –≤–Β–Μ–Η―΅–Η–Β ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―è–Β―²―¹―è ―¹―É―â–Β―¹―²–≤―É―é―â–Η–Φ –≤ –Ϋ–Β–Ι ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–Φ –≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι―¹―²–≤–Α, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –±–Α–Ζ–Η―Ä―É―é―²―¹―è ―³–Η–Ϋ–Α–Ϋ―¹–Ψ–≤―΄–Ι, ―é―Ä–Η–¥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι, –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι, ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Η –≤―¹–Β –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―²―΄. –Γ–Η―¹―²–Β–Φ–Α ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ψ―²―Ä–Α–Ε–Α–Β―² –Ω―Ä–Η–Ψ―Ä–Η―²–Β―², ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―¹―²–Α―²―É―¹ –Η –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ–Β–Ι ―²–Ψ–Ι –Η–Μ–Η –Η–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Η –Η ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ ―Ä–Ψ–¥–Α –Η–Ϋ–¥–Η–Κ–Α―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Α –Κ –Ϋ–Η–Φ. –≠–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η–Κ–Α –Η ―Ö―Ä–Β–Φ–Α―²–Η―¹―²–Η–Κ–Α
¬Ϊ–≠–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η–Κ–Α¬Μ –≤ –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–¥–Β ―¹ –≥―Ä–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Β―² ¬Ϊ–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Α ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –¥–Ψ–Φ–Α―à–Ϋ–Η–Φ ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι―¹―²–≤–Ψ–Φ¬Μ. –£–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β ―ç―²–Ψ―² ―²–Β―Ä–Φ–Η–Ϋ –±―΄–Μ –≤–≤–Β–¥–Β–Ϋ –±–Ψ–Μ–Β–Β 2300 –Μ–Β―² –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥ –¥―Ä–Β–≤–Ϋ–Β–≥―Ä–Β―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ–Η –Φ―΄―¹–Μ–Η―²–Β–Μ―è–Φ–Η –ö―¹–Β–Ϋ–Ψ―³–Ψ–Ϋ―²–Ψ–Φ (430 βÄ™ 355/354 –≥–≥. –¥–Ψ –Ϋ. ―ç.) –Η –ê―Ä–Η―¹―²–Ψ―²–Β–Μ–Β–Φ (384-322 –≥–≥. –¥–Ψ –Ϋ. ―ç.) [1]. –ù–Α―Ä―è–¥―É ―¹ ¬Ϊ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η–Κ–Ψ–Ι¬Μ –ê―Ä–Η―¹―²–Ψ―²–Β–Μ―¨ –≤―΄–¥–Β–Μ–Η–Μ –Η ¬Ϊ―Ö―Ä–Β–Φ–Α―²–Η―¹―²–Η–Κ―É¬Μ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –¥–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–¥–Η―²―¹―è, –Κ–Α–Κ ¬Ϊ–Η―¹–Κ―É―¹―¹―²–≤–Ψ –Ϋ–Α–Ε–Η–≤–Α―²―¨ –±–Ψ–≥–Α―²―¹―²–≤–Ψ –Η –¥–Β–Μ–Α―²―¨ –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η¬Μ. 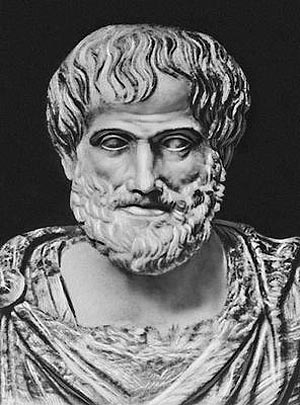 –£–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –¥―Ä–Β–≤–Ϋ–Β–≥―Ä–Β―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ–Η ―É―΅–Β–Ϋ―΄–Φ–Η ―²–Β―Ä–Φ–Η–Ϋ―΄ –Ϋ–Β –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Ι ―¹–Φ―΄―¹–Μ –Η ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è. –‰ –≤ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―²―Ä–Α–Κ―²―É―é―²―¹―è ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ. –ü–Ψ–¥ ¬Ϊ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η–Κ–Ψ–Ι¬Μ –Ω–Ψ–¥―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Β–≤–Α–Β―²―¹―è ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–± –≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι―¹―²–≤–Α –≤ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α –¥–Ψ―¹―²–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ―è –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α―¹–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Β –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Ω–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–Ι ―²―Ä―É–¥–Ψ–≤–Ψ–Ι –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η –Ω–Ψ–Ζ–Η―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η―è –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Α, –Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Μ―è–Β–Φ–Ψ–≥–Ψ –Ω―É―²–Β–Φ –≤–Ϋ–Β–¥―Ä–Β–Ϋ–Η―è ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ-―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –¥–Ψ―¹―²–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Ι, ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Ψ–Φ ―΅–Β–≥–Ψ ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Ω―Ä–Β–¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ―΄―Ö –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤―É –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Ψ–≤ –Η ―É―¹–Μ―É–≥. –û―¹–Ϋ–Ψ–≤―É –Μ―é–±–Ψ–Ι ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η–Κ–Η ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è―é―² ―ç–Ϋ–Β―Ä–≥–Β―²–Η–Κ–Α –Η –Ω―Ä–Ψ–Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Ι –¥–≤–Η–Ε―É―â–Β–Ι ―¹–Η–Μ–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η―è –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―è–≤–Μ―è―é―²―¹―è –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Ϋ–Ψ-―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Κ–Α–¥―Ä―΄. ¬Ϊ–Ξ―Ä–Β–Φ–Α―²–Η―¹―²–Η–Κ–Α¬Μ βÄ™ ―ç―²–Ψ ―¹–Η―¹―²–Β–Φ–Α ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è, ―¹–Ψ―Ä–Η–Β–Ϋ―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β –¥–Β–Ϋ–Β–≥ –Μ―é–±―΄–Φ –Ω―É―²–Β–Φ –Η –Η―Ö –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ϋ–Α–Κ–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β, –Η –≤ ―²–Ψ –Ε–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Α―é―â–Α―è –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ –Η –Ω―Ä–Β–¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄―Ö –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤―É ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Ψ–≤ –Η ―É―¹–Μ―É–≥. –û―²–Μ–Η―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Η –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―¹–Η―¹―²–Β–Φ―΄ ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –≥–Μ–Α–≤–Β–Ϋ―¹―²–≤―É―é―â–Α―è –Η –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è ―Ä–Ψ–Μ―¨ –¥–Β–Ϋ–Β–≥. –û―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Ζ–Α–¥–Α―΅–Β–Ι ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η–Κ–Η ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ―΄―Ö ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Ψ–≤ –Η –Ω―Ä–Β–¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ―΄―Ö ―É―¹–Μ―É–≥, –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è―é―² –Μ–Η―à―¨ –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―³―É–Ϋ–Κ―Ü–Η–Η, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –Κ–Α–Κ –Φ–Β―Ä–Α –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Α –Η –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Α ―²―Ä―É–¥–Α. –Ξ―Ä–Β–Φ–Α―²–Η―¹―²–Η–Κ–Α –Ε–Β –≤ –Ω―Ä–Ψ–Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Β –Ϋ–Β –Ϋ―É–Ε–¥–Α–Β―²―¹―è, –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –≤ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Α –≤ –¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β –≤―΄―¹―²―É–Ω–Α―é―² ―¹–Α–Φ–Η –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η –Η –Η―Ö –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β (–≤–Β–Κ―¹–Β–Μ―è, ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –±―É–Φ–Α–≥–Η, –≤–Α―É―΅–Β―Ä―΄, –Α–Κ―Ü–Η–Η –Η ―².–¥., –Η ―².–Ω.), –Α –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Φ–Η –Η –Ϋ–Α–Η–±–Ψ–Μ–Β–Β –Ζ–Α―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ―É―¹–Μ―É–≥–Α–Φ–Η ―è–≤–Μ―è―é―²―¹―è –Η―Ö –Ω–Ψ–Κ―É–Ω–Κ–Α, –Ω―Ä–Ψ–¥–Α–Ε–Α, –Ψ–±–Φ–Β–Ϋ, –Ω–Β―Ä–Β–Ω―Ä–Ψ–¥–Α–Ε–Α. –ü―Ä–Η ―Ö―Ä–Β–Φ–Α―²–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Η―¹―²–Β–Φ–Β ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ–Β–Ω―Ä–Β―Ä―΄–≤–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Β―² –¥–Β–Ϋ–Β–Ε–Ϋ―΄–Ι –Ω–Β―΅–Α―²–Ϋ―΄–Ι ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–Κ, –Ϋ–Α ―Ä―΄–Ϋ–Ψ–Κ –≤―΄–±―Ä–Α―¹―΄–≤–Α–Β―²―¹―è –≤―¹―ë –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β –Η –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β –Ϋ–Η―΅–Β–Φ –Ϋ–Β –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –¥–Β–Ϋ–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Η, –≤–Β–Κ―¹–Β–Μ―è, ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –±―É–Φ–Α–≥–Η, –≤–Α―É―΅–Β―Ä―΄, –Α–Κ―Ü–Η–Η, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η–≤–Ψ–¥–Η―² –Κ –Η―Ö –Ψ–±–Β―¹―Ü–Β–Ϋ–Η–≤–Α–Ϋ–Η―é –Η –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ϋ―³–Μ―è―Ü–Η–Η. –Δ–Ψ–≤–Α―Ä–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ –Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ―è–Β―²―¹―è –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –¥–Β–Ϋ–Β–Ε–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Α―¹―¹―΄ –Η ―É–≤–Β–Μ–Η―΅–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Κ―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Β―ë –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ―²–Α, –Α ¬Ϊ–Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Α―è¬Μ –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―¹–≤–Ψ–¥–Η―²―¹―è –Κ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―é ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–≤ –Η –Φ–Β―²–Ψ–¥–Ψ–≤ –Η–Ζ―ä―è―²–Η―è –Ϋ–Η―΅–Β–Φ –Ϋ–Β –Ψ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –¥–Β–Ϋ–Β–≥, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β, –Η –Ω―É―²–Β–Φ –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Ψ―¹―²–Α ―Ü–Β–Ϋ, –Ϋ–Α–Μ–Ψ–≥–Ψ–≤, –Ω–Ψ―à–Μ–Η–Ϋ, ―²–Α―Ä–Η―³–Ψ–≤, ―à―²―Ä–Α―³–Ψ–≤, –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β–Ϋ―²–Ϋ―΄―Ö ―¹―²–Α–≤–Ψ–Κ –Η ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö –≤―΄―΅–Β―²–Ψ–≤. –‰–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É ―Ö―Ä–Β–Φ–Α―²–Η―¹―²–Η–Κ–Α –Ϋ–Β –Ϋ―É–Ε–¥–Α–Β―²―¹―è –Ϋ–Η –≤ –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ-―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Β―¹―¹–Β, –Ϋ–Η –≤ ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Α–¥―Ä–Α―Ö. –£–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –¥―Ä–Β–≤–Ϋ–Β–≥―Ä–Β―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ–Η ―É―΅–Β–Ϋ―΄–Φ–Η ―²–Β―Ä–Φ–Η–Ϋ―΄ –Ϋ–Β –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Ι ―¹–Φ―΄―¹–Μ –Η ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è. –‰ –≤ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―²―Ä–Α–Κ―²―É―é―²―¹―è ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ. –ü–Ψ–¥ ¬Ϊ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η–Κ–Ψ–Ι¬Μ –Ω–Ψ–¥―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Β–≤–Α–Β―²―¹―è ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–± –≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι―¹―²–≤–Α –≤ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α –¥–Ψ―¹―²–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ―è –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α―¹–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Β –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Ω–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–Ι ―²―Ä―É–¥–Ψ–≤–Ψ–Ι –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η –Ω–Ψ–Ζ–Η―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η―è –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Α, –Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Μ―è–Β–Φ–Ψ–≥–Ψ –Ω―É―²–Β–Φ –≤–Ϋ–Β–¥―Ä–Β–Ϋ–Η―è ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ-―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –¥–Ψ―¹―²–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Ι, ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Ψ–Φ ―΅–Β–≥–Ψ ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Ω―Ä–Β–¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ―΄―Ö –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤―É –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Ψ–≤ –Η ―É―¹–Μ―É–≥. –û―¹–Ϋ–Ψ–≤―É –Μ―é–±–Ψ–Ι ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η–Κ–Η ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è―é―² ―ç–Ϋ–Β―Ä–≥–Β―²–Η–Κ–Α –Η –Ω―Ä–Ψ–Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Ι –¥–≤–Η–Ε―É―â–Β–Ι ―¹–Η–Μ–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η―è –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―è–≤–Μ―è―é―²―¹―è –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Ϋ–Ψ-―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Κ–Α–¥―Ä―΄. ¬Ϊ–Ξ―Ä–Β–Φ–Α―²–Η―¹―²–Η–Κ–Α¬Μ βÄ™ ―ç―²–Ψ ―¹–Η―¹―²–Β–Φ–Α ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è, ―¹–Ψ―Ä–Η–Β–Ϋ―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β –¥–Β–Ϋ–Β–≥ –Μ―é–±―΄–Φ –Ω―É―²–Β–Φ –Η –Η―Ö –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ϋ–Α–Κ–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β, –Η –≤ ―²–Ψ –Ε–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Α―é―â–Α―è –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ –Η –Ω―Ä–Β–¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄―Ö –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤―É ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Ψ–≤ –Η ―É―¹–Μ―É–≥. –û―²–Μ–Η―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Η –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―¹–Η―¹―²–Β–Φ―΄ ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –≥–Μ–Α–≤–Β–Ϋ―¹―²–≤―É―é―â–Α―è –Η –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è ―Ä–Ψ–Μ―¨ –¥–Β–Ϋ–Β–≥. –û―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Ζ–Α–¥–Α―΅–Β–Ι ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η–Κ–Η ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ―΄―Ö ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Ψ–≤ –Η –Ω―Ä–Β–¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ―΄―Ö ―É―¹–Μ―É–≥, –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è―é―² –Μ–Η―à―¨ –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―³―É–Ϋ–Κ―Ü–Η–Η, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –Κ–Α–Κ –Φ–Β―Ä–Α –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Α –Η –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Α ―²―Ä―É–¥–Α. –Ξ―Ä–Β–Φ–Α―²–Η―¹―²–Η–Κ–Α –Ε–Β –≤ –Ω―Ä–Ψ–Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Β –Ϋ–Β –Ϋ―É–Ε–¥–Α–Β―²―¹―è, –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –≤ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Α –≤ –¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β –≤―΄―¹―²―É–Ω–Α―é―² ―¹–Α–Φ–Η –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η –Η –Η―Ö –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β (–≤–Β–Κ―¹–Β–Μ―è, ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –±―É–Φ–Α–≥–Η, –≤–Α―É―΅–Β―Ä―΄, –Α–Κ―Ü–Η–Η –Η ―².–¥., –Η ―².–Ω.), –Α –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Φ–Η –Η –Ϋ–Α–Η–±–Ψ–Μ–Β–Β –Ζ–Α―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ―É―¹–Μ―É–≥–Α–Φ–Η ―è–≤–Μ―è―é―²―¹―è –Η―Ö –Ω–Ψ–Κ―É–Ω–Κ–Α, –Ω―Ä–Ψ–¥–Α–Ε–Α, –Ψ–±–Φ–Β–Ϋ, –Ω–Β―Ä–Β–Ω―Ä–Ψ–¥–Α–Ε–Α. –ü―Ä–Η ―Ö―Ä–Β–Φ–Α―²–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Η―¹―²–Β–Φ–Β ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ–Β–Ω―Ä–Β―Ä―΄–≤–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Β―² –¥–Β–Ϋ–Β–Ε–Ϋ―΄–Ι –Ω–Β―΅–Α―²–Ϋ―΄–Ι ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–Κ, –Ϋ–Α ―Ä―΄–Ϋ–Ψ–Κ –≤―΄–±―Ä–Α―¹―΄–≤–Α–Β―²―¹―è –≤―¹―ë –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β –Η –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β –Ϋ–Η―΅–Β–Φ –Ϋ–Β –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –¥–Β–Ϋ–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Η, –≤–Β–Κ―¹–Β–Μ―è, ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –±―É–Φ–Α–≥–Η, –≤–Α―É―΅–Β―Ä―΄, –Α–Κ―Ü–Η–Η, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η–≤–Ψ–¥–Η―² –Κ –Η―Ö –Ψ–±–Β―¹―Ü–Β–Ϋ–Η–≤–Α–Ϋ–Η―é –Η –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ϋ―³–Μ―è―Ü–Η–Η. –Δ–Ψ–≤–Α―Ä–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ –Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ―è–Β―²―¹―è –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –¥–Β–Ϋ–Β–Ε–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Α―¹―¹―΄ –Η ―É–≤–Β–Μ–Η―΅–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Κ―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Β―ë –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ―²–Α, –Α ¬Ϊ–Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Α―è¬Μ –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―¹–≤–Ψ–¥–Η―²―¹―è –Κ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―é ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–≤ –Η –Φ–Β―²–Ψ–¥–Ψ–≤ –Η–Ζ―ä―è―²–Η―è –Ϋ–Η―΅–Β–Φ –Ϋ–Β –Ψ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –¥–Β–Ϋ–Β–≥, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β, –Η –Ω―É―²–Β–Φ –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Ψ―¹―²–Α ―Ü–Β–Ϋ, –Ϋ–Α–Μ–Ψ–≥–Ψ–≤, –Ω–Ψ―à–Μ–Η–Ϋ, ―²–Α―Ä–Η―³–Ψ–≤, ―à―²―Ä–Α―³–Ψ–≤, –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β–Ϋ―²–Ϋ―΄―Ö ―¹―²–Α–≤–Ψ–Κ –Η ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö –≤―΄―΅–Β―²–Ψ–≤. –‰–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É ―Ö―Ä–Β–Φ–Α―²–Η―¹―²–Η–Κ–Α –Ϋ–Β –Ϋ―É–Ε–¥–Α–Β―²―¹―è –Ϋ–Η –≤ –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ-―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Β―¹―¹–Β, –Ϋ–Η –≤ ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Α–¥―Ä–Α―Ö.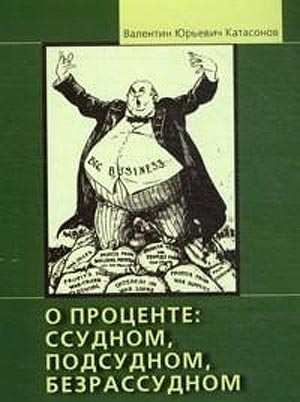
–€–Η―Ä–Ψ–≤–Α―è –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―è –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―², ―΅―²–Ψ ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η–Κ–Α –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ–Η–Μ–Α ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹―²–≤―É –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤―΄–Ε–Η―²―¨, –Ϋ–Ψ –Η –¥–Ψ―¹―²–Η―΅―¨ ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è―à–Ϋ–Η–Ι ―É―Ä–Ψ–≤–Β–Ϋ―¨ ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η―è ―Ü–Η–≤–Η–Μ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η. –Ξ―Ä–Β–Φ–Α―²–Η―¹―²–Η–Κ–Α –Ε–Β –Ϋ–Α –≤―¹–Β―Ö ―ç―²–Α–Ω–Α―Ö –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η―è –Ω―Ä–Η–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Α –Κ –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―é ―¹–Α–Φ―΄―Ö –Ϋ–Η–Ζ―à–Η―Ö ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Η–Ϋ―¹―²–Η–Ϋ–Κ―²–Ψ–≤, –Ω–Α―Ä–Α–Ζ–Η―²–Η–Ζ–Φ―É ―Ü–Β–Μ―΄―Ö ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―¹–Μ–Ψ–Β–≤ –Ϋ–Α―¹–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è, –Κ –Φ–Α―¹―¹–Ψ–≤–Ψ–Φ―É –Ψ–±–Ϋ–Η―â–Α–Ϋ–Η―é –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ –Η, –Κ–Α–Κ ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Β, –Κ –¥–Β–≥―Ä–Α–¥–Α―Ü–Η–Η –Η –≥–Η–±–Β–Μ–Η –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Α. –·–≤–Μ―è―è―¹―¨ ―²–Ψ―Ä–Φ–Ψ–Ζ–Ψ–Φ –Μ―é–±―΄―Ö –Ω―Ä–Β–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Ι, ―Ö―Ä–Β–Φ–Α―²–Η―¹―²–Η–Κ–Α –≤―΄–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Α –Κ―Ä–Η–Ζ–Η―¹―΄ –≤–Ψ –≤―¹–Β―Ö –Ψ–±–Μ–Α―¹―²―è―Ö ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ϋ–Α–Η–±–Ψ–Μ–Β–Β ―²―è–Ε–Β–Μ―΄–Φ –Η–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―è–≤–Μ―è–Μ―¹―è –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ-―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Κ―Ä–Η–Ζ–Η―¹, –Ω―Ä–Β–≤―Ä–Α―â–Α―é―â–Η–Ι, –≤ ―¹–≤–Ψ―é –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥―¨, ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η–Κ―É ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄ –≤ ―Ö―Ä–Β–Φ–Α―²–Η―¹―²–Η–Κ―É –Η, –Κ–Α–Κ ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Β, –≤―΄–Ζ―΄–≤–Α―é―â–Η–Ι ―Ä–Α―¹–Ω–Α–¥ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄ –Η–Ζ–Ϋ―É―²―Ä–Η –Η–Μ–Η –Β–Β ―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ–¥ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Β–Φ –≤–Ϋ–Β―à–Ϋ–Η―Ö ―³–Α–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–≤. –Γ–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹―²–Ψ–Η―² –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä –‰–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Ϋ–Ψ-―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η―è –Ψ–¥–Ϋ–Α –Η–Ζ –Ϋ–Α–Η–±–Ψ–Μ–Β–Β ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ―΄―Ö –Η ―²―Ä―É–¥–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ψ―¹–≤–Ψ–Η–Μ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ. –‰–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Ϋ–Ψ-―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Α–Ω―Ä–Η–Ψ―Ä–Η –Ϋ–Β –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Α –±–Β–Ζ –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Η―Ö –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Η ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Ϋ–Η―Ö –Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Ι, –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Ω―΄―²–Α, ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Κ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Η―é ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Ι –Η –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ζ–Α –Η―Ö –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ―É―é ―Ä–Β–Α–Μ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―é. –£ –Β―ë –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤―É –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ―΄ –Ϋ–Β ―¹―É–±―ä–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Ψ―Ä–Φ―΄ –Η –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Α, ―Ä–Α–Ζ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Φ, –Α –Ψ–±―ä–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΄ –Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–¥―΄, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Η–≥–Ϋ–Ψ―Ä–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨, –Ψ―²–Φ–Β–Ϋ–Η―²―¨ –Η–Μ–Η –Ψ–±–Ψ–Ι―²–Η, –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É ―ç―²–Η –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΄ –¥–Β–Ι―¹―²–≤―É―é―² –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Η –≤–Β–Ζ–¥–Β, –Ϋ–Β –Η–Φ–Β―é―² –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü, –Ϋ–Β –Ζ–Α–≤–Η―¹―è―² –Ψ―² –≤–Ψ–Μ–Η –Η–Μ–Η –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η―è –Μ―é–¥–Β–Ι, –Ω―É―¹―²―¨ –¥–Α–Ε–Β –Η –Ψ–±–Μ–Η―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Β–Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Μ–Α―¹―²―¨―é. –≠―²–Ψ―² –≤–Η–¥ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Φ–Β–Ϋ–Β–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ –Η–¥–Β–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ –Η –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Β―Ä–Ε–Β–Ϋ –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Ϋ―ä―é–Ϋ–Κ―²―É―Ä–Β. –Θ―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ–Β ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –Μ―é–±–Ψ–Ι, –Ω―É―¹―²―¨ –¥–Α–Ε–Β ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ–Ι –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Ϋ–Ψ-―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ζ–Α–¥–Α―΅–Η ―²―Ä–Β–±―É–Β―² –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η ―¹–Η―¹―²–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Η―è. –ù–Ψ–≤–Β–Ι―à–Α―è –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―è ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ü–Η–≤–Η–Μ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η ―É–±–Β–¥–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤―É–Β―², ―΅―²–Ψ ―Ä–Ψ–Μ―¨ –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Ϋ–Ψ-―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Α–¥―Ä–Ψ–≤ –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ ―Ä–Α―¹―²–Β―², –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―΅–Β―²―΄ –Η –Ψ―à–Η–±–Κ–Η, –Α ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ –Η –Ω–Ψ–Ω―΄―²–Κ–Η –Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²―¨ –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Ψ–≤ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ–Η, –Ϋ–Β –Ψ–±–Μ–Α–¥–Α―é―â–Η–Φ–Η ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ–Η –Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è–Φ–Η, –±–Ψ–Μ–Β–Β ¬Ϊ–¥–Β―à–Β–≤―΄–Φ–Η¬Μ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Α–Φ–Η, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ, –Ω―Ä–Η–≤–Ψ–¥―è―² –Κ ―²―è–Ε–Β–Μ–Β–Ι―à–Η–Φ –Α–Ϋ―²―Ä–Ψ–Ω–Ψ–≥–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Κ–Α―²–Α―¹―²―Ä–Ψ―³–Α–Φ ―¹ –≥–Η–±–Β–Μ―¨―é –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―΅–Η―¹–Μ–Α –Μ―é–¥–Β–Ι. –Γ–Ψ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨ –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Ϋ–Ψ-―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Ψ–≤ –≤–Ψ –≤―¹–Β –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Α –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Α –≤ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ –Η―Ö ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é ―Ä–Α–Ζ–≤–Η–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ-―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Β―¹―¹, ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ ―è–≤–Μ―è―²―¨―¹―è –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι –¥–≤–Η–Ε―É―â–Β–Ι ―¹–Η–Μ–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η―è ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ü–Η–≤–Η–Μ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η.
–¦―é–±–Ψ–Β ―É–≤–Α–Ε–Α―é―â–Β–Β ―¹–Β–±―è –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Ψ –≤―΄–Ϋ―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β―¹―²–Η –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α―²―Ä–Α―²―΄ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ―É –Η –Ω–Β―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ―É –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Ϋ–Ψ-―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Α–¥―Ä–Ψ–≤, –Ω―Ä–Η―΅–Β–Φ ―ç―²–Η –Ζ–Α―²―Ä–Α―²―΄ ―É–≤–Β–Μ–Η―΅–Η–≤–Α―é―²―¹―è –≤ –Ζ–Α–≤–Η―¹–Η–Φ–Ψ―¹―²–Η –Ψ―² –≤–Η–¥–Ψ–≤ –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η ―¹―Ä–Ψ–Κ–Ψ–≤ –Ψ–±―É―΅–Β–Ϋ–Η―è. –ü–Ψ –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ζ–Α―Ä―É–±–Β–Ε–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Β―΅–Α―²–Η, –Ζ–Α―²―Ä–Α―²―΄ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ―É –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Α ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η (–Ψ―² –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α –Ψ–±―â–Β–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―à–Κ–Ψ–Μ―΄ –¥–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Η―è –¥–Η–Ω–Μ–Ψ–Φ–Α) ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è―é―² –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β –Ω–Ψ–Μ―É–Φ–Η–Μ–Μ–Η–Ψ–Ϋ–Α –¥–Ψ–Μ–Μ–Α―Ä–Ψ–≤, –Α ―Ä–Α―¹―Ö–Ψ–¥―΄ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ―É –Ψ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Α ―É–≤–Β–Μ–Η―΅–Η–≤–Α―é―²―¹―è –≤ –¥–≤–Α –Η –±–Ψ–Μ–Β–Β ―Ä–Α–Ζ [2]. –ü―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ ―¹―Ä–Ψ–Κ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Α –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β 20 –Μ–Β―², –≤–Κ–Μ―é―΅–Α―è –Ψ–±―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ ―à–Κ–Ψ–Μ–Β –Η –£–Θ–½–Β, –Ϋ–Ψ –Η ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Α –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Β. –½–Α―²―Ä–Α―²―΄ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Α –Ϋ–Α –Ψ–±―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Ψ–≤ –≤–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ –Ω―Ä–Β–≤―΄―à–Α―é―² –Ζ–Α―²―Ä–Α―²―΄ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ―É ―é―Ä–Η―¹―²–Ψ–≤, –Φ–Β–Ϋ–Β–¥–Ε–Β―Ä–Ψ–≤, –Α―Ä―²–Η―¹―²–Ψ–≤ –Η –¥–Α–Ε–Β –Ψ–Μ–Η–Φ–Ω–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö ―΅–Β–Φ–Ω–Η–Ψ–Ϋ–Ψ–≤, ―΅―²–Ψ –Ψ–±―É―¹–Μ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ψ –Ψ–±―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –≤ ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β―¹―¹–Β –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ―¹―²–Ψ―è―â–Β–Ι ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ-–Μ–Α–±–Ψ―Ä–Α―²–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –Η –Ω―Ä–Ψ–Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –±–Α–Ζ―΄. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –Ϋ–Β –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Β –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Ψ ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ–Ψ, –Α, –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β, –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ–Η―²―¨ ―¹–Β–±–Β –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²―¨ –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–Κ–≤–Α–Μ–Η―³–Η―Ü–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Ϋ–Ψ-―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Κ–Α–¥―Ä―΄.–î–Ψ –Ϋ–Β–¥–Α–≤–Ϋ–Β–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –≤ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Α ―É–Ϋ–Η–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Η ―ç―³―³–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Α―è ―¹–Η―¹―²–Β–Φ–Α –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Α–¥―Ä–Ψ–≤. –£―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Ϋ―¹―²–≤–Α ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –≤―΄―¹―à–Η―Ö –Η ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Η―Ö ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Ι ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―É―Ä–Β–Ϋ―²–Ψ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ―΄ –Η –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η–Φ –Α–≤―²–Ψ―Ä–Η―²–Β―²–Ψ–Φ, –Ϋ–Ψ –Η –±―΄–Μ–Η –≤–Ψ―¹―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Ϋ―΄ –Κ–Α–Κ –≤–Ϋ―É―²―Ä–Η ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄, ―²–Α–Κ –Η –Ζ–Α –Β–Β –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Α–Φ–Η.–½–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Β –¥–≤–Α–¥―Ü–Α―²–Η–Μ–Β―²–Η–Β –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹ ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Ψ–≤, –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ―΄―Ö –Η ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Α–¥―Ä–Ψ–≤ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―Ä–Β–¥–Β–Μ, ―΅―²–Ψ, –Ϋ–Α―Ä―è–¥―É ―¹ –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―É–±―΄–Μ―¨―é, –±―΄–Μ–Ψ –≤―΄–Ζ–≤–Α–Ϋ–Ψ, –Ψ–±–≤–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ ―¹–Ψ–Κ―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Α, –Α, ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Η –Ϋ–Β–≤–Ψ―¹―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Ψ–≤ ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―³–Η–Μ―è. –Η –Ϋ–Β ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤―É―é―â–Η–Β –Ϋ–Η –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤―É, –Ϋ–Η –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤―É –≤–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²―Ä―É–¥–Α –Ϋ–Η―â–Β–Ϋ―¹–Κ–Η–Β –Ζ–Α―Ä–Ω–Μ–Α―²―΄ –¥–Ψ–≤–Β―Ä―à–Η–Μ–Η ―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Α ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄. –ù–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –Β–Ε–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ–Ψ –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Α–Μ–Η ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Ψ–≤, –Α –≤ ―É―΅–Β–Ϋ―΄―Ö ―¹–Ψ–≤–Β―²–Α―Ö –£–Θ–½–Ψ–≤ –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ζ–Α―â–Η―â–Α–Μ–Η―¹―¨ –¥–Η―¹―¹–Β―Ä―²–Α―Ü–Η–Η, –†–Ψ―¹―¹–Η―è –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–Μ–Α –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β ―΅–Β―²―΄―Ä–Β―Ö –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Ψ–≤, ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Η ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η―Ö. –ü–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Φ –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Κ–Α–Φ, ―΅–Η―¹–Μ–Ψ –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–Κ–≤–Α–Μ–Η―³–Η―Ü–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Ψ–≤ ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―³–Η–Μ―è, –Ω–Ψ–Κ–Η–Ϋ―É–≤―à–Η―Ö ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―É –Ζ–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Β –¥–≤–Α–¥―Ü–Α―²―¨ –Μ–Β―², –¥–Ψ―¹―²–Η–≥–Μ–Ψ 2 –Φ–Μ–Ϋ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, 10-15% –Η–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Η–Φ–Β―é―² ―É―΅–Β–Ϋ―΄–Β ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Η [3]. –½–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β ―΅–Η―¹–Μ–Ψ –Ψ―¹―²–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è –≤ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Ψ–≤ –≤―΄–Ϋ―É–Ε–¥–Β–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Η ―¹–Φ–Β–Ϋ–Η―²―¨ ―¹―³–Β―Ä―É –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≤–≤–Η–¥―É –Η―Ö –Ϋ–Β–≤–Ψ―¹―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, ―¹ ―Ü–Β–Μ―¨―é ―³–Η–Ζ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤―΄–Ε–Η–≤–Α–Ϋ–Η―è.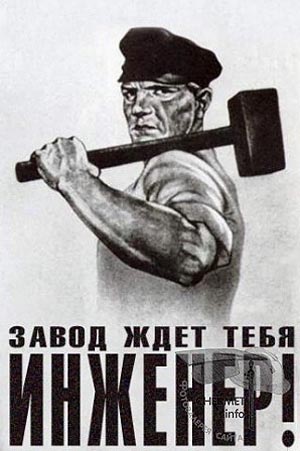 –€–Ψ–¥–Β―Ä–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―è –Η–Μ–Η –Η–Ϋ–¥―É―¹―²―Ä–Η–Α–Μ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―è? –€–Ψ–¥–Β―Ä–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―è –Η–Μ–Η –Η–Ϋ–¥―É―¹―²―Ä–Η–Α–Μ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―è?
–†―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄, –Ψ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–≤ –Ω–Α–≥―É–±–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Η–≤―à–Β–Ι―¹―è –Ζ–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Β –¥–≤–Α–¥―Ü–Α―²―¨ –Μ–Β―² ―¹–Η―¹―²–Β–Φ―΄ ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Η –Ϋ–Β–Η–Ζ–±–Β–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Κ―Ä–Α―Ö–Α –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Α –Ω―Ä–Η –Β–Β ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η, –±―΄–Μ–Ψ –≤―΄–Ϋ―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ζ–≥–Μ–Α―¹–Η―²―¨ –Κ―É―Ä―¹ –Ϋ–Α ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ―É―é –Η ―²–Β―Ö–Ϋ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ―É―é –Φ–Ψ–¥–Β―Ä–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―é –Η –Ψ–±–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Α. –ü―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ –±―΄–Μ–Ψ –±―΄ –≤–Β―¹―¨–Φ–Α ―Ü–Β–Μ–Β―¹–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―¹–Ψ–≤–Β―²–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è ―¹ –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ-―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é, ―Ä–Α–Ζ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β–Ω―Ü–Η―é –≤–Ψ–Ζ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ψ―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –Ω–Μ–Α–Ϋ, –Ϋ–Α–Φ–Β―²–Η―²―¨ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η―è –Ψ–±–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Α, –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Η―²―¨ –Η―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ–Η ―³–Η–Ϋ–Α–Ϋ―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è, –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²―¨ ―¹―Ä–Ψ–Κ–Η, –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –Η –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Β, –Α, –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β, –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä―è―²―¨ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Ζ–Α–Ω–Μ–Α–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η–Ι. –û–¥–Ϋ–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Β–Κ–Μ–Α―Ä–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β ―ç―²–Ψ–Ι ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Β–Ι―à–Β–Ι –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ―΄ –Ϋ–Β –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Η –Ψ–±–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¨ –Η –Φ–Ψ–¥–Β―Ä–Ϋ–Η–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ, –Α –Κ–Ψ―ç―³―³–Η―Ü–Η–Β–Ϋ―² –Ω–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –±―É–¥–Β―² –Ϋ–Β –≤―΄―à–Β –Ϋ―É–Μ―è.–ü–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥ –Κ –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β―¹―¹―É –Ψ–±–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Α –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―΄―²―¨ –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―¹–Ϋ―΄–Φ –Η ―¹–Η―¹―²–Β–Φ–Ϋ―΄–Φ. –Γ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ –Ψ–±―ä–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ (–Η –Ω―Ä–Α–≤–¥–Η–≤–Ψ) –Ω―Ä–Ψ–Α–Ϋ–Α–Μ–Η–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ψ–±―â–Β–Β ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Β –¥–Β–Μ –≤ –Ω―Ä–Ψ–Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ω–Ψ –≤―¹–Β–Ι ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β, –Η–Ζ―É―΅–Η―²―¨ –Ψ―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Η –Ζ–Α―Ä―É–±–Β–Ε–Ϋ―΄–Ι –Ψ–Ω―΄―² –≤–Ψ―¹―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Ψ–Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–Η―²–Η–≤–Ϋ―΄–Β –Η –Ϋ–Β–≥–Α―²–Η–≤–Ϋ―΄–Β –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―²―΄. –‰ ―É–Ε–Β –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ, –Ω–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Α–Φ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―è.–†–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²―΄ –Α–Ϋ–Α–Μ–Η–Ζ–Α ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η―è –¥–Β–Μ –≤ ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Φ–Ψ–≥―É―² –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Α–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ö―É–Ε–Β, ―΅–Β–Φ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥, –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –¥–Α–Ε–Β ―Ä―è–¥–Ψ–≤–Ψ–Φ―É –Ψ–±―΄–≤–Α―²–Β–Μ―é –Ψ―΅–Β–≤–Η–¥–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ –≤ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η, –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β –¥–Ψ–±―΄–≤–Α―é―â–Η―Ö –Ψ―²―Ä–Α―¹–Μ–Β–Ι, ―³–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤―É–Β―². –‰–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Ϋ―΄–Β –Η ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Κ–Α–¥―Ä―΄ –≤ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β–Ι ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Η ―É―²―Ä–Α―΅–Β–Ϋ―΄. –‰ –Φ–Ψ–¥–Β―Ä–Ϋ–Η–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨, ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ –Ω―Ä–Η–≤–Ψ–¥–Η―²―¨ ―²–Β―Ö–Ϋ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β―¹―¹―΄ –≤ ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Η–Β ―¹ ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è–Φ–Η, –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η ―É–Ε–Β –Ϋ–Β–Κ–Ψ–Φ―É, –¥–Α –Η –Ϋ–Β –Ϋ–Α ―΅–Β–Φ. –≠―²–Ψ –Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Β―², ―΅―²–Ψ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Α –Ϋ–Β –Φ–Ψ–¥–Β―Ä–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―è –Η –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Β –≤–Ψ―¹―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ–Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Α –Ϋ–Ψ–≤–Α―è –Η–Ϋ–¥―É―¹―²―Ä–Η–Α–Μ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―è. –ï―¹–Μ–Η –†–Ψ―¹―¹–Η―è –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―Ö–Ψ―΅–Β―² ―¹―²–Α―²―¨ –Ω―Ä–Ψ―Ü–≤–Β―²–Α―é―â–Β–Ι –Η ―É–≤–Α–Ε–Α–Β–Φ–Ψ–Ι –¥–Β―Ä–Ε–Α–≤–Ψ–Ι, –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²―¨ ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―É―é ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η–Κ―É –Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ –Η–Ϋ–¥―É―¹―²―Ä–Η–Α–Μ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η. –£ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β, –Ζ–Α―²–Β–≤–Α―²―¨ –Ψ–±–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Α, ―²―Ä–Α―²–Η―²―¨ –¥–Β–Ϋ–Β–Ε–Ϋ―΄–Β ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ―É –Η ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Η–Β –Ψ―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Ϋ―΄―Ö –Η –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ-―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Α–¥―Ä–Ψ–≤, –Α –Ϋ–Α ―¹―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α –Ζ–Α–Κ―É–Ω–Α―²―¨ –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―Ü–Η―é –Ζ–Α―Ä―É–±–Β–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Α, –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β –Ϋ–Β ―¹―²–Ψ–Η―². –ü–Β―Ä–≤―΄–Β ―à–Α–≥–Η –¦―é–±–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β―¹―¹ ―Ä–Β―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β, ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η ―²–Β―Ö–Ϋ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, –Η–Φ–Β–Β―² ―à–Α–Ϋ―¹ –Ϋ–Α ―É―¹–Ω–Β―Ö, –Β―¹–Μ–Η ―Ü–Β–Μ–Η –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Ϋ―΄, –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²―΄ –Η –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ―΄ –Ϋ–Α―¹–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Η–Ϋ–Η―Ü–Η–Α―²–Ψ―Ä―΄ –Ω―Ä–Β–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Ι –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –¥–Α―²―¨ ―΅–Β―²–Κ–Η–Β –Η ―è―¹–Ϋ―΄–Β –Ψ―²–≤–Β―²―΄ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥―É –Ϋ–Α ―Ü–Β–Μ―΄–Ι ―Ä―è–¥ –Α–Κ―²―É–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤, –±–Β–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –≤―¹–Β –Ω–Ψ–Ω―΄―²–Κ–Η ―Ä–Β―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ψ–±―Ä–Β―΅–Β–Ϋ―΄ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ–≤–Α–Μ. –£ ―΅–Α―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η: –ü–Β―Ä–≤―΄–Β ―à–Α–≥–Η –¦―é–±–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β―¹―¹ ―Ä–Β―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β, ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η ―²–Β―Ö–Ϋ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, –Η–Φ–Β–Β―² ―à–Α–Ϋ―¹ –Ϋ–Α ―É―¹–Ω–Β―Ö, –Β―¹–Μ–Η ―Ü–Β–Μ–Η –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Ϋ―΄, –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²―΄ –Η –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ―΄ –Ϋ–Α―¹–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Η–Ϋ–Η―Ü–Η–Α―²–Ψ―Ä―΄ –Ω―Ä–Β–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Ι –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –¥–Α―²―¨ ―΅–Β―²–Κ–Η–Β –Η ―è―¹–Ϋ―΄–Β –Ψ―²–≤–Β―²―΄ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥―É –Ϋ–Α ―Ü–Β–Μ―΄–Ι ―Ä―è–¥ –Α–Κ―²―É–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤, –±–Β–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –≤―¹–Β –Ω–Ψ–Ω―΄―²–Κ–Η ―Ä–Β―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ψ–±―Ä–Β―΅–Β–Ϋ―΄ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ–≤–Α–Μ. –£ ―΅–Α―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η:
- ―¹ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι ―Ü–Β–Μ―¨―é –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²―¹―è –¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Β–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β?
- –Κ―²–Ψ –Η –Κ–Α–Κ –±―É–¥–Β―² –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²―¨ ―ç―²―É ―Ä–Α–±–Ψ―²―É?
- ―΅―²–Ψ –Φ―΄ ―Ö–Ψ―²–Η–Φ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―²―¨ –≤ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Β –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η–Ι?
- –Κ–Α–Κ –±―É–¥―É―² –Ζ–Α–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ―΄ –Ψ―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²―΄ ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―³–Η–Μ―è?
- –≤ –Κ–Α–Κ–Η–Β –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Η ―³–Η–Ϋ–Α–Ϋ―¹–Ψ–≤―΄–Β ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α –Ψ–±–Ψ–Ι–¥―ë―²―¹―è –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤―É (―΅–Η―²–Α–Ι –Ϋ–Α–Μ–Ψ–≥–Ψ–Ω–Μ–Α―²–Β–Μ―¨―â–Η–Κ―É) –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Β –¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Β―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è?
- –Κ–Α–Κ–Ψ–≤―΄ –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―Ä–Β―²–Ϋ―΄–Β ―¹―Ä–Ψ–Κ–Η ―Ä–Β–Α–Μ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β―¹―¹–Α ―Ä–Β―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è? –û―²–≤–Β―²―΄ –Ϋ–Α ―ç―²–Η –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹―΄ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –±―΄―²―¨ –¥–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ―΄ –¥–Ψ –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –≤―¹–Β –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Β ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α –Φ–Α―¹―¹–Ψ–≤–Ψ–Ι –Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η–Η. –Δ–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β –Η ―²–Β―Ö–Ϋ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β ―Ä–Β―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Η–¥–Β―²―¹―è –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²―¨ –≤ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―ç―²–Α–Ω–Ψ–≤, –Ω―Ä–Β–¥–≤–Α―Ä–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–≤ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ-–Ψ–±–Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―É―é –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β–Ω―Ü–Η―é, –Ϋ–Ψ –Η ―¹―²―Ä–Α―²–Β–≥–Η―é –Η ―²–Α–Κ―²–Η–Κ―É –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι, –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Ψ–Κ –Η ―¹―Ä–Ψ–Κ–Η –Η―Ö –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è, ―²–Ψ –Β―¹―²―¨, –Ω―Ä–Β–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–≤ –Β―ë –≤ ―Ä–Α–±–Ψ―΅―É―é –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ―É. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –≤―¹–Β―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Ϋ–Β–≥–Ψ –Α–Ϋ–Α–Μ–Η–Ζ–Α –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β―Ä–Ϋ―É―²―΄–Ι –Ω–Μ–Α–Ϋ –Η–Ϋ–¥―É―¹―²―Ä–Η–Α–Μ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄, –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Η―²―¨ –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―Ä–Β―²–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ-–Ψ–±–Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹―Ä–Ψ–Κ–Η –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è. –‰–Ϋ–¥―É―¹―²―Ä–Η–Α–Μ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―è ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²―¹―è ―¹ ―É―΅–Β―²–Ψ–Φ –Η–Φ–Β―é―â–Β–≥–Ψ―¹―è –Φ–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Ω―΄―²–Α, –Ϋ–Ψ ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹–Η–Μ–Α–Φ–Η –Η ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α–Φ–Η, –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Ψ–≤–Β–Ι―à–Η―Ö ―²–Β―Ö–Ϋ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η–Ι –Ϋ–Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Ψ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–¥–Α―¹―², –Α –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–Κ–≤–Α–Μ–Η―³–Η―Ü–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Ψ–≤ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Η―² –Ϋ–Η –Ζ–Α –Κ–Α–Κ–Η–Β –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η. –ü―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ–Α ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Α–¥―Ä–Ψ–≤ –ü―Ä–Η –Η–Ϋ–¥―É―¹―²―Ä–Η–Α–Μ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η –Ω―Ä–Ψ–Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ψ―¹―²―Ä–Ψ –≤―¹―²–Α–Ϋ–Β―² –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ –Ψ–± ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Α–¥―Ä–Α―Ö. –¦―é–±–Ψ–Φ―É –Ζ–¥―Ä–Α–≤–Ψ–Φ―΄―¹–Μ―è―â–Β–Φ―É ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ―É –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –≥―Ä–Α–Φ–Ψ―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η –Κ–≤–Α–Μ–Η―³–Η―Ü–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ―Ü–Α –Ϋ–Β –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Η –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²―¨ –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Ψ–Β ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–Β –Ζ–Α–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Β, –¥–Α–Ε–Β –ê–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η―è ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Η –ü―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Β–Ϋ―²–Β, –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Ψ–Φ βÄ™ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ―Ü–Β–Φ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―¹―²–Α―²―¨ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β―¹―¹–Β –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Α –Μ―é–¥―¨–Φ–Η, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤ ―ç–Κ―¹―²―Ä–Β–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö. –î―Ä―É–≥–Η―Ö ―ç―³―³–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ―΄―Ö ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–≤ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ―Ü–Β–≤ –Ω–Ψ–Κ–Α, –Κ ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Ϋ–Η―é, –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–¥―É–Φ–Α–Ϋ–Ψ. –ü―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ–Α ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Α–¥―Ä–Ψ–≤ –ü―Ä–Η –Η–Ϋ–¥―É―¹―²―Ä–Η–Α–Μ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η –Ω―Ä–Ψ–Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ψ―¹―²―Ä–Ψ –≤―¹―²–Α–Ϋ–Β―² –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ –Ψ–± ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Α–¥―Ä–Α―Ö. –¦―é–±–Ψ–Φ―É –Ζ–¥―Ä–Α–≤–Ψ–Φ―΄―¹–Μ―è―â–Β–Φ―É ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ―É –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –≥―Ä–Α–Φ–Ψ―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η –Κ–≤–Α–Μ–Η―³–Η―Ü–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ―Ü–Α –Ϋ–Β –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Η –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²―¨ –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Ψ–Β ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–Β –Ζ–Α–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Β, –¥–Α–Ε–Β –ê–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η―è ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Η –ü―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Β–Ϋ―²–Β, –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Ψ–Φ βÄ™ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ―Ü–Β–Φ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―¹―²–Α―²―¨ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β―¹―¹–Β –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Α –Μ―é–¥―¨–Φ–Η, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤ ―ç–Κ―¹―²―Ä–Β–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö. –î―Ä―É–≥–Η―Ö ―ç―³―³–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ―΄―Ö ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–≤ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ―Ü–Β–≤ –Ω–Ψ–Κ–Α, –Κ ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Ϋ–Η―é, –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–¥―É–Φ–Α–Ϋ–Ψ.
–ù–Β ―¹–Β–Κ―Ä–Β―², ―΅―²–Ψ –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹–Η–Μ―΄ –≤―¹–Β―Ö ―¹―²―Ä–Α–Ϋ –Η–Φ–Β―é―² ―É–Ϋ–Η–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ψ–Ω―΄―² –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―¹―²―É–Ω–Β–Ϋ―΅–Α―²–Ψ–Ι –≤―¹–Β―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Ϋ–Β–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Ψ–≤ –≤ –Ψ–±–Μ–Α―¹―²–Η ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è - –Ψ―² –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Ψ―²–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è –¥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ. –‰―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É―è ―ç―²–Ψ―² –Ψ–Ω―΄―², –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ ―¹ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ–Η –Κ–Α–¥―Ä–Α–Φ–Η –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ –Ζ–Α –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Η –Ω―Ä–Η –Φ–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α―²―Ä–Α―²–Α―Ö. –ü–Ψ –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é –Ζ–Α―Ä―É–±–Β–Ε–Ϋ―΄―Ö –Α–Ϋ–Α–Μ–Η―²–Η–Κ–Ψ–≤, –Ϋ–Α–Η–±–Ψ–Μ–Β–Β –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ―Ü–Α–Φ–Η ―è–≤–Μ―è―é―²―¹―è , –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Η–Β ―¹–Μ―É–Ε–±―É –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ϋ―΄―Ö –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―è―Ö –Η –Ϋ–Α –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―è―Ö –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ―΄―Ö –Ψ―²–¥–Β–Μ–Ψ–≤ –Η ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι ―à―²–Α–±–Ψ–≤ ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ―è.  –î–Α–Ε–Β –Γ–®–ê, –≤―΄–Ι–¥―è –Η–Ζ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι –±–Ψ–≥–Α―²–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Η―Ä–Α, –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ–Η ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Ψ–Ω―΄―² –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤, ―É–≤–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Η–Ζ –£–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹–Η–Μ, –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ–±―Ä–Α―¹―΄–≤–Α―è –¥–Β–Ϋ–Β–≥ –Ϋ–Α –≤–Β―²–Β―Ä, –Α, –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β, –Ϋ–Β ―²–Β―Ä―è―è –¥―Ä–Α–≥–Ψ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ―É –Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ―Ü–Β–≤. –Θ–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Ψ–Ω―΄―² –±―΄–≤―à–Β–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –±―΄–Μ –Ω–Ψ–Ζ–Η―²–Η–≤–Ϋ–Ψ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ –Η –≤ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Α―Ö, –Ω―Ä–Ψ–Η–≥―Ä–Α–≤―à–Η―Ö –≤–Ψ–Ι–Ϋ―É, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –≤ –·–Ω–Ψ–Ϋ–Η–Η, –™–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ–Η–Η, –‰―²–Α–Μ–Η–Η, –¥–Μ―è –≤–Ψ―¹―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è ―Ä–Α–Ζ―Ä―É―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η–Κ–Η. –£―¹–Β ―ç―²–Η ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄ ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è ―è–≤–Μ―è―é―²―¹―è –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²―΄–Φ–Η –Η–Ϋ–¥―É―¹―²―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η –¥–Β―Ä–Ε–Α–≤–Α–Φ–Η –Η –≤―Ö–Ψ–¥―è―² –≤ ―΅–Η―¹–Μ–Ψ –≤–Β–¥―É―â–Η―Ö ―¹―²―Ä–Α–Ϋ –Φ–Η―Ä–Α.–ù–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ–Β–Φ –Ζ–Α–¥–Α―΅ –Ω–Ψ ―Ä–Β―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―é ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ ―¹―²–Α―²―¨ –Ψ―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ-―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Κ–Α–¥―Ä―΄, –Ψ–±–Μ–Α–¥–Α―é―â–Η–Β ―²–Β–Ψ―Ä–Β―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ–Η –Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è–Φ–Η –Η –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ –Ψ–Ω―΄―²–Ψ–Φ. –û–¥–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ –Ζ–Α–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –Η –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄–Β –Κ–Α–¥―Ä―΄ –¥–Μ―è –Η―Ö –Ψ–±―É―΅–Β–Ϋ–Η―è –Η –Ω―Ä–Η–Ψ–±―Ä–Β―²–Β–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Ω―΄―²–Α. –ù–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄–Φ –Η –Ψ–±―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η–Β–Φ ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ϋ–¥―É―¹―²―Ä–Η–Α–Μ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Ψ–Β –Ω―Ä–Η–≤–Μ–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ–Ψ–≤ –Ω―Ä–Ψ–Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η - ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö, –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ-―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Η –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Ϋ―΄―Ö –Κ–Α–¥―Ä–Ψ–≤ –Η –Η―Ö –Ψ–±―ä–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ–¥ –Β–¥–Η–Ϋ―΄–Φ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―è―â–Η–Φ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Ψ–Φ. –£ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Α –Ω–Ψ –Α–Ϋ–Α–Μ–Ψ–≥–Η–Η ―¹–Ψ –Γ–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Κ–Ψ–Φ–Η―²–Β―²–Ψ–Φ –†–Λ ―Ü–Β–Μ–Β―¹–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α―²―¨ –Δ–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Κ–Ψ–Φ–Η―²–Β―² –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –Λ–Β–¥–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η, –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ–Η–≤ –Β–Φ―É –≤―¹–Β –≤–Β–¥–Ψ–Φ―¹―²–≤–Α –Η ―¹―²―Ä―É–Κ―²―É―Ä―΄, –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α―é―â–Η―Ö―¹―è –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Α–Φ–Η ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η ―²–Β―Ö–Ϋ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Β―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è, –Ω―Ä–Β–¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ ―ç―²–Ψ–Φ―É –Κ–Ψ–Φ–Η―²–Β―²―É –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Β –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Φ–Ψ―΅–Η―è, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Η –Κ–Α–¥―Ä–Ψ–≤―΄–Β. –ü―Ä–Η –Δ–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Φ–Η―²–Β―²–Β –†–Λ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α―²―¨ –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ-―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä –¥–Μ―è ―¹–±–Ψ―Ä–Α, –Ψ–±–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η―è –Η –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Κ ―Ä–Β–Α–Μ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η –Ψ―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Η –Ζ–Α―Ä―É–±–Β–Ε–Ϋ―΄―Ö ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –¥–Ψ―¹―²–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Ι –Η –Ω–Β―Ä–Β–¥–Ψ–≤―΄―Ö ―²–Β―Ö–Ϋ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η–Ι. –û–¥–Ϋ–Η–Φ–Η –Η–Ζ –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö ―à–Α–≥–Ψ–≤ –Δ–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Η―²–Β―²–Α –†–Λ –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –±―΄ ―¹―²–Α―²―¨ ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Β –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η―è: –î–Α–Ε–Β –Γ–®–ê, –≤―΄–Ι–¥―è –Η–Ζ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι –±–Ψ–≥–Α―²–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Η―Ä–Α, –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ–Η ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Ψ–Ω―΄―² –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤, ―É–≤–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Η–Ζ –£–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹–Η–Μ, –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ–±―Ä–Α―¹―΄–≤–Α―è –¥–Β–Ϋ–Β–≥ –Ϋ–Α –≤–Β―²–Β―Ä, –Α, –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β, –Ϋ–Β ―²–Β―Ä―è―è –¥―Ä–Α–≥–Ψ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ―É –Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ―Ü–Β–≤. –Θ–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Ψ–Ω―΄―² –±―΄–≤―à–Β–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –±―΄–Μ –Ω–Ψ–Ζ–Η―²–Η–≤–Ϋ–Ψ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ –Η –≤ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Α―Ö, –Ω―Ä–Ψ–Η–≥―Ä–Α–≤―à–Η―Ö –≤–Ψ–Ι–Ϋ―É, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –≤ –·–Ω–Ψ–Ϋ–Η–Η, –™–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ–Η–Η, –‰―²–Α–Μ–Η–Η, –¥–Μ―è –≤–Ψ―¹―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è ―Ä–Α–Ζ―Ä―É―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η–Κ–Η. –£―¹–Β ―ç―²–Η ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄ ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è ―è–≤–Μ―è―é―²―¹―è –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²―΄–Φ–Η –Η–Ϋ–¥―É―¹―²―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η –¥–Β―Ä–Ε–Α–≤–Α–Φ–Η –Η –≤―Ö–Ψ–¥―è―² –≤ ―΅–Η―¹–Μ–Ψ –≤–Β–¥―É―â–Η―Ö ―¹―²―Ä–Α–Ϋ –Φ–Η―Ä–Α.–ù–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ–Β–Φ –Ζ–Α–¥–Α―΅ –Ω–Ψ ―Ä–Β―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―é ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ ―¹―²–Α―²―¨ –Ψ―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ-―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Κ–Α–¥―Ä―΄, –Ψ–±–Μ–Α–¥–Α―é―â–Η–Β ―²–Β–Ψ―Ä–Β―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ–Η –Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è–Φ–Η –Η –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ –Ψ–Ω―΄―²–Ψ–Φ. –û–¥–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ –Ζ–Α–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –Η –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄–Β –Κ–Α–¥―Ä―΄ –¥–Μ―è –Η―Ö –Ψ–±―É―΅–Β–Ϋ–Η―è –Η –Ω―Ä–Η–Ψ–±―Ä–Β―²–Β–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Ω―΄―²–Α. –ù–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄–Φ –Η –Ψ–±―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η–Β–Φ ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ϋ–¥―É―¹―²―Ä–Η–Α–Μ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Ψ–Β –Ω―Ä–Η–≤–Μ–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ–Ψ–≤ –Ω―Ä–Ψ–Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η - ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö, –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ-―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Η –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Ϋ―΄―Ö –Κ–Α–¥―Ä–Ψ–≤ –Η –Η―Ö –Ψ–±―ä–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ–¥ –Β–¥–Η–Ϋ―΄–Φ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―è―â–Η–Φ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Ψ–Φ. –£ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Α –Ω–Ψ –Α–Ϋ–Α–Μ–Ψ–≥–Η–Η ―¹–Ψ –Γ–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Κ–Ψ–Φ–Η―²–Β―²–Ψ–Φ –†–Λ ―Ü–Β–Μ–Β―¹–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α―²―¨ –Δ–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Κ–Ψ–Φ–Η―²–Β―² –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –Λ–Β–¥–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η, –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ–Η–≤ –Β–Φ―É –≤―¹–Β –≤–Β–¥–Ψ–Φ―¹―²–≤–Α –Η ―¹―²―Ä―É–Κ―²―É―Ä―΄, –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α―é―â–Η―Ö―¹―è –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Α–Φ–Η ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η ―²–Β―Ö–Ϋ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Β―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è, –Ω―Ä–Β–¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ ―ç―²–Ψ–Φ―É –Κ–Ψ–Φ–Η―²–Β―²―É –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Β –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Φ–Ψ―΅–Η―è, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Η –Κ–Α–¥―Ä–Ψ–≤―΄–Β. –ü―Ä–Η –Δ–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Φ–Η―²–Β―²–Β –†–Λ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α―²―¨ –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ-―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä –¥–Μ―è ―¹–±–Ψ―Ä–Α, –Ψ–±–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η―è –Η –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Κ ―Ä–Β–Α–Μ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η –Ψ―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Η –Ζ–Α―Ä―É–±–Β–Ε–Ϋ―΄―Ö ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –¥–Ψ―¹―²–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Ι –Η –Ω–Β―Ä–Β–¥–Ψ–≤―΄―Ö ―²–Β―Ö–Ϋ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η–Ι. –û–¥–Ϋ–Η–Φ–Η –Η–Ζ –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö ―à–Α–≥–Ψ–≤ –Δ–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Η―²–Β―²–Α –†–Λ –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –±―΄ ―¹―²–Α―²―¨ ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Β –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η―è:
- ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Β –±–Η―Ä–Ε–Η ―²―Ä―É–¥–Α –¥–Μ―è –±―΄–≤―à–Η―Ö –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Α―â–Η―Ö, ―É―΅–Β–Ϋ―΄―Ö –Η –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Ψ–≤,
- –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α–¥―Ä–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Β―²–Α –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Ψ–≤ –Η ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Ψ–≤ ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―³–Η–Μ–Β–Ι ―¹ ―É―΅–Β–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ―¨―é,
- ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Β –±–Α–Ϋ–Κ–Α –Ψ―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―²–Β―Ö–Ϋ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η–Ι –Η –Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–≤–Α―Ü–Η–Ι,
- –Ψ―²–±–Ψ―Ä –Ψ―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Α―²–Β–Ϋ―²–Ψ–≤ –Η –Α–≤―²–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö ―¹–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤, –Μ–Β–Ε–Α―â–Η―Ö ¬Ϊ–Φ–Β―Ä―²–≤―΄–Φ¬Μ –≥―Ä―É–Ζ–Ψ–Φ –≤ –Α―Ä―Ö–Η–≤–Β .  –£―΄–≤–Ψ–¥―΄ –£―΄–≤–Ψ–¥―΄
1. –Θ―Ä–Ψ–Κ–Η –Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η ―É–±–Β–¥–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é―² –Ω–Α–≥―É–±–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―¹–Η―¹―²–Β–Φ―΄ ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è, –±–Α–Ζ–Η―Ä―É―é―â–Β–Ι―¹―è –Ϋ–Α –Ω―Ä–Η–Ϋ―Ü–Η–Ω–Α―Ö ―Ö―Ä–Β–Φ–Α―²–Η―¹―²–Η–Κ–Η. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Β ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι―¹―²–≤–Α, –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ϋ–Α –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Α―Ö ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η–Κ–Η, ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±―¹―²–≤―É–Β―² –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ-―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Β―¹―¹―É, –¥–Β–Μ–Α–Β―² ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―É –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –¥–Β―Ä–Ε–Α–≤–Ψ–Ι –Η –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―² ―Ü–Η–≤–Η–Μ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―é –Ϋ–Α –±–Ψ–Μ–Β–Β –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η–Ι ―É―Ä–Ψ–≤–Β–Ϋ―¨ ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η―è.2. –¦―é–±–Ψ–Β –Ω―Ä–Β–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β/―Ä–Β―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –±―É–¥–Β―² ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ―΄–Φ –Η –¥–Ψ―¹―²–Η–≥–Ϋ–Β―² –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―Ü–Β–Μ–Β–Ι ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ ―²–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β, –Β―¹–Μ–Η –Ψ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥―É –Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²―¹―è ―¹–Η–Μ–Α–Φ–Η –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ–Ψ–≤. 3. –†–Ψ―¹―¹–Η―è –Ω–Ψ–Κ–Α –Β―â–Β –Ψ–±–Μ–Α–¥–Α–Β―² ―¹―²―Ä–Α―²–Β–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ ―Ä–Β–Ζ–Β―Ä–≤–Ψ–Φ –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ―΄―Ö, ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Η –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Ϋ–Ψ-―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Α–¥―Ä–Ψ–≤, ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Β–Ψ–¥–Ψ–Μ–Β―²―¨ ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ―É―é –Η ―²–Β―Ö–Ϋ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ―É―é –Ψ―²―¹―²–Α–Μ–Ψ―¹―²―¨ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄ –Η ―΄–≤–Β―¹―²–Η –Β–Β –≤ ―΅–Η―¹–Μ–Ψ –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²―΄―Ö –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤ –Φ–Η―Ä–Α, –Ψ–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ ―Ä–Β–Ζ–Β―Ä–≤–Α –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –¥–Μ―è ―Ä–Β―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Ϋ–Β –Ψ―¹―²–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ –≤ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Β―Ä–Β, –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Η –≥―Ä–Α–Φ–Ψ―²–Ϋ–Ψ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―è–¥–Η―²―¨―¹―è ―ç―²–Η–Φ–Η ―Ä–Β–Ζ–Β―Ä–≤–Α–Φ–Η. –î―É–±―Ä–Ψ–≤–Η–Ϋ –ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η–Ι –†―ç–Φ–Ψ–≤–Η―΅, –î―É–±―Ä–Ψ–≤–Η–Ϋ –‰–≥–Ψ―Ä―¨ –†―ç–Φ–Ψ–≤–Η―΅ (―Ä. 16.07.1957)–Γ―²–Α―²―¨―è –Ψ–Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Α –≤ –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Β 28.03.2011. –¦–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Α –î―É–±―Ä–Ψ–≤–Η–Ϋ –ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η–Ι –†―ç–Φ–Ψ–≤–Η―΅, –î―É–±―Ä–Ψ–≤–Η–Ϋ –‰–≥–Ψ―Ä―¨ –†―ç–Φ–Ψ–≤–Η―΅ (―Ä. 16.07.1957)–Γ―²–Α―²―¨―è –Ψ–Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Α –≤ –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Β 28.03.2011. –¦–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Α
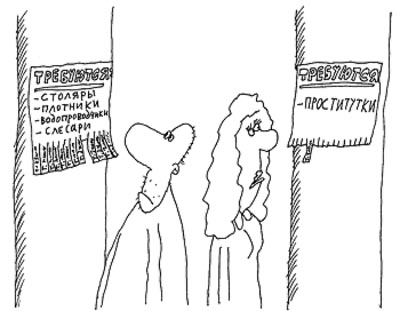 1. –î―É–±―Ä–Ψ–≤–Η–Ϋ –ï.–†., –î―É–±―Ä–Ψ–≤–Η–Ϋ –‰.–†. ⳕ 5 (169) –Φ–Α―Ä―² 2011 –≥. 1. –î―É–±―Ä–Ψ–≤–Η–Ϋ –ï.–†., –î―É–±―Ä–Ψ–≤–Η–Ϋ –‰.–†. ⳕ 5 (169) –Φ–Α―Ä―² 2011 –≥.
2. –ë–Ψ–Μ―¨―à–Α―è –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Α―è ―ç–Ϋ―Ü–Η–Κ–Μ–Ψ–Ω–Β–¥–Η―è (–ë–Γ–≠), 1970-1977 –≥–≥., ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ–Ϋ–Ϋ–Α―è –≤–Β―Ä―¹–Η―è. –Γ―²–Α―²―¨―è
3.
4.
29.05.201110:0429.05.2011 10:04:17
0
29.05.201108:2429.05.2011 08:24:22
–†–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Φ –Φ–Ψ―Ä–Ψ–Ζ–Ϋ―΄–Φ ―è–Ϋ–≤–Α―Ä―¹–Κ–Η–Φ ―É―²―Ä–Ψ–Φ –Ϋ–Α―à–Α –Α–≥–Η―²–±―Ä–Η–≥–Α–¥–Α, ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–≤―à–Α―è –Η–Ζ –≤–Ψ―¹―¨–Φ–Η ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ ¬Ϊ–Α―Ä―²–Η―¹―²–Ψ–≤¬Μ –Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ¬Ϊ–Μ–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Α –Ω–Ψ ―Ä–Α―¹–Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é¬Μ –≤―΄―¹–Α–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ –Η–Ζ –Ω–Ψ―΅―²–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥–Α –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Β –ö–Η―Ä–Η―à–Η. –Θ –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–≥–Ψ –±―΄–Μ–Η –Μ―΄–Ε–Η –Η ―Ä―é–Κ–Ζ–Α–Κ ―¹ –Κ–Ψ–Ϋ―¹–Β―Ä–≤–Α–Φ–Η –Η –Κ–Ψ–Β-–Κ–Α–Κ–Η–Φ–Η –≤–Β―â–Α–Φ–Η. –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ω–Ψ―¹–Β–Μ–Ψ–Κ –ö–Η―Ä–Η―à–Η ―¹―²–Α–Μ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Ψ–Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ψ–Φ, ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ ―¹–Β–±–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨, –Κ–Α–Κ–Α―è ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Α –≥–Μ―É―Ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ―¨ –≤ ―²–Β –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α. –Γ–Α–Φ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä –±―΄–Μ –Ω–Ψ ―¹―É―â–Β―¹―²–≤―É –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –¥–Β―Ä–Β–≤–Ϋ–Β–Ι. –£ ―Ä–Α–Ι–Κ–Ψ–Φ–Β –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ–Α, ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –≤ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Φ –¥–≤―É―Ö―ç―²–Α–Ε–Ϋ–Ψ–Φ –¥–Β―Ä–Β–≤―è–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –¥–Ψ–Φ–Β –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Β―â–Β –Κ–Α–Κ–Η–Φ–Η-―²–Ψ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―è–Φ–Η, –Ϋ–Α―¹ –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ–Η ―¹ ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²―¨―é –Η –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Η –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―², –Ω―Ä–Ψ–Μ–Β–≥–Α―é―â–Η–Ι ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Β―Ä–Β–≤–Β–Ϋ―¨, ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤–±–Μ–Η–Ζ–Η ―Ä–Α–Ι―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –Ϋ–Β–¥–Ψ–Μ–≥–Ψ–Ι –±–Β―¹–Β–¥―΄ –Φ―΄ ―Ä–Α―¹–Ω―Ä–Ψ―â–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹ –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Η–Φ–Η ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η, –≤―¹―²–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –Μ―΄–Ε–Η, –≤―΄―à–Μ–Η –Ζ–Α –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Η―Ü―É ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α –Η βÄî –Ψ–Κ―É–Ϋ―É–Μ–Η―¹―¨ –≤ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι –Φ–Η―Ä.
–£ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η―Ö –¥–Ϋ–Β–Ι –Φ―΄ ―à–Μ–Η –Ϋ–Α –Μ―΄–Ε–Α―Ö –Ψ―² –¥–Β―Ä–Β–≤–Ϋ–Η –Κ –¥–Β―Ä–Β–≤–Ϋ–Β, –Ω–Ψ―Ä–Α–Ε–Α―è―¹―¨ ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ –Φ―΄ –≤–Η–¥–Β–Μ–Η –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥. –î–Β―Ä–Β–≤–Ϋ–Η –±―΄–Μ–Η ―Ä–Α―¹–Κ–Η–¥–Α–Ϋ―΄ ―¹―Ä–Β–¥–Η –Μ–Β―¹–Ψ–≤, –≤ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Η ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Η―΅–Β―¹―²–≤–Α, –Ϋ–Η ―Ä–Α–¥–Η–Ψ, –Ϋ–Η –Φ–Α–≥–Α–Ζ–Η–Ϋ–Ψ–≤, –Ϋ–Η –Κ–Α–Κ–Η―Ö-–Μ–Η–±–Ψ –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–≤ ―Ü–Η–≤–Η–Μ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η. –£–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ―΄―Ö –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤ –Ϋ–Α―¹ –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Α–Μ–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Β –±–Β–Ζ–Φ–Ψ–Μ–≤–Η–Β –Ζ–Η–Φ–Ϋ–Β–≥–Ψ –Μ–Β―¹–Α. –½–Α –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω―É―²–Η –Φ―΄ –Ϋ–Β –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ–Η –Ϋ–Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Α―à–Η–Ϋ―΄, –Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Μ–Β–¥ ―É–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ –Ϋ–Α–Φ –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥―É. –‰–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ –Β–¥–≤–Α –Ζ–Α–Φ–Β―²–Β–Ϋ, –Α –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Α –±―΄–Μ–Α –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Ω–Ψ–Κ―Ä―΄―²–Α ―¹–Ϋ–Β–≥–Ψ–Φ: –Ζ–Η–Φ–Ψ–Ι –Ω–Ψ –Ϋ–Β–Ι –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Ϋ–Β –Β–Ζ–¥–Η–Μ.
–£ –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Ι –¥–Β―Ä–Β–≤–Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥ –Ϋ–Α―à–Β–Ι –Α–≥–Η―²–±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –±―΄–Μ –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ. –£–Β–Ζ–¥–Β –Ϋ–Α―¹ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Μ–Η –Κ–Α–Κ –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Η―Ö –≥–Ψ―¹―²–Β–Ι, ―É―¹―²―Ä–Α–Η–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –Ϋ–Ψ―΅–Μ–Β–≥ –≤ –Ϋ–Α–Η–±–Ψ–Μ–Β–Β –Ω―Ä–Η–Μ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö –Η–Ζ–±–Α―Ö, –Κ–Ψ―Ä–Φ–Η–Μ–Η –Κ–Α―Ä―²–Ψ―à–Κ–Ψ–Ι –Η –Κ–≤–Α―à–Β–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Α–Ω―É―¹―²–Ψ–Ι, –Α ―²–Α–Φ, –≥–¥–Β ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Φ―É–Ε–Η–Κ–Η, –Ω–Ψ―è–≤–Μ―è–Μ―¹―è –Η ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ–Ϋ. –ù–Α―à–Η –Κ–Ψ–Ϋ―¹–Β―Ä–≤―΄ –≤–Ψ―¹–Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η―¹―¨ ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι–Κ–Α–Φ–Η –Κ–Α–Κ –¥–Β–Μ–Η–Κ–Α―²–Β―¹―΄, ―Ö–Μ–Β–± –±―΄–≤–Α–Μ –Ϋ–Β –≤―¹–Β–≥–¥–Α, –Α ―¹–Ω–Α―²―¨ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ―É, –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ–¥–Β–≤–Α―è―¹―¨ –Η ―É–Κ―Ä―΄–≤–Α―è―¹―¨ –≤–Α―²–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η.
–ù–Η–Κ–Α–Κ–Η―Ö ―²–Α–Φ –Κ–Μ―É–±–Ψ–≤ ―¹–Ψ ―¹―Ü–Β–Ϋ–Α–Φ–Η –Η –≤ –Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Β –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ. –£―΄―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Α–≥–Η―²–±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –≤ –Ψ–±―΄―΅–Ϋ―΄―Ö –Κ―Ä–Β―¹―²―¨―è–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Η–Ζ–±–Α―Ö, –Ψ―¹–≤–Β―â–Α–Β–Φ―΄―Ö –Κ–Β―Ä–Ψ―¹–Η–Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ–Η –Μ–Α–Φ–Ω–Α–Φ–Η, –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α βÄî –≤ ¬Ϊ–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄―Ö ―É–≥–Ψ–Μ–Κ–Α―Ö¬Μ, ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―â–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è –≤ ―²–Α–Κ–Η―Ö –Ε–Β –Η–Ζ–±–Α―Ö –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η –≥–Ψ―Ä–Β-–Κ–Ψ–Μ―Ö–Ψ–Ζ–Ψ–≤. –ù–Α –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β―Ä―² ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –≤―¹–Β –Ϋ–Α―¹–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –¥–Β―Ä–Β–≤–Ϋ–Η, –≤ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ βÄî ―¹―²–Α―Ä–Η–Κ–Η –Η ―¹―²–Α―Ä―É―Ö–Η, –≥–Ψ―Ä–Α–Ζ–¥–Ψ ―Ä–Β–Ε–Β –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤–Ζ―Ä–Ψ―¹–Μ―΄–Β –Η –¥–Β―²–Η. –£ –≥–Ψ―Ä–Ϋ–Η―Ü–Β, –≥–¥–Β –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β―Ä―², –±–Η―²–Κ–Ψ–Φ –Ϋ–Α–±–Η–≤–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥; ¬Ϊ–Α―Ä―²–Η―¹―²–Α–Φ¬Μ –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Η –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Κ–≤–Α–¥―Ä–Α―²–Ϋ―΄―Ö –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤ ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Η, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Φ―΄ –Η ¬Ϊ–≤―΄―¹―²―É–Ω–Α–Μ–Η¬Μ. –ï―â–Β –≤ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ι –¥–Β―Ä–Β–≤–Ϋ–Β –Φ―΄ ―¹–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Η–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Μ–Β–Κ―Ü–Η–Η –Ψ –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η–Κ–Β –Ω–Α―Ä―²–Η–Η –Η –Ϋ–Β–Η–Ζ–±–Β–Ε–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–±–Β–¥–Β –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η–Ζ–Φ–Α ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥―É ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Ϋ―É–Ε–Ϋ―΄, –Η –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―¹―²–Α–Μ–Η –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α―²―¨ –Ϋ–Α―à–Η –≤―΄―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹ ―Ö―É–¥–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η, –±–Μ–Α–≥–Ψ ¬Ϊ–Μ–Β–Κ―²–Ψ―Ä¬Μ –±―΄–Μ ―²–Ψ–Ε–Β –Ϋ–Α―à–Η–Φ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Φ –Η –Ω―Ä–Η―²–Ψ–Φ ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β―Ä―²–Β. –€―΄ –Ω–Β–Μ–Η, –Ω–Μ―è―¹–Α–Μ–Η, ―΅–Η―²–Α–Μ–Η ―¹―²–Η―Ö–Η –Η ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Β –≤–Β―¹–Β–Μ―΄–Β ―Ö–Ψ―Ö–Φ―΄. –Γ―²–Α―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –Η–Ζ–Ψ –≤―¹–Β―Ö ―¹–Η–Μ, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –≤–Η–¥–Β–Μ–Η, –Κ–Α–Κ ―Ä–Α–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Μ―é–¥–Η. –™–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Φ –¥–Β–Ι―¹―²–≤―É―é―â–Η–Φ –Μ–Η―Ü–Ψ–Φ –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β―Ä―²–Β –±―΄–Μ –Α–Κ–Κ–Ψ―Ä–¥–Β–Ψ–Ϋ–Η―¹―² –£–Α–¥–Η–Φ –Λ–Η―Ä―¹–Ψ–≤ βÄî –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η–Ι, ―Ü–≤–Β―²―É―â–Η–Ι, –Ω―΄―à―É―â–Η–Ι –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―¨–Β–Φ –Η –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Β―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Ϋ―΄–Ι –Ω–Α―Ä–Β–Ϋ―¨. –Θ –Ϋ–Β–≥–Ψ –±―΄–Μ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Ι –Α–Κ–Κ–Ψ―Ä–¥–Β–Ψ–Ϋ, –Ψ–Ϋ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Η–≥―Ä–Α–Μ –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Φ –Η –Κ ―²–Ψ–Φ―É –Ε–Β –Κ―Ä–Α―¹–Η–≤–Ψ –Η –±–Β―¹–Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ –≥―Ä–Ψ–Φ–Κ–Ψ –Ω–Β–Μ –Κ–Α–Κ –Μ–Η―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Ω–Β―¹–Ϋ–Η, ―²–Α–Κ –Η ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Ψ–¥–Α –¥–Β―Ä–Β–≤–Β–Ϋ―¹–Κ–Η–Β ―΅–Α―¹―²―É―à–Κ–Η, –Ψ―² –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –±–Α–±―É―à–Κ–Η ―Ö–Ψ―Ö–Ψ―²–Α–Μ–Η –¥–Ψ ―¹–Μ–Β–Ζ. –Γ –ï.–‰.–ë―É–Μ―é–Κ–Η–Ϋ―΄–Φ –Η –£.–ê.–Λ–Η―Ä―¹–Ψ–≤―΄–Φ (―¹–Ω―Ä–Α–≤–Α) –Γ –ï.–‰.–ë―É–Μ―é–Κ–Η–Ϋ―΄–Φ –Η –£.–ê.–Λ–Η―Ä―¹–Ψ–≤―΄–Φ (―¹–Ω―Ä–Α–≤–Α)
–ö–Α–Κ-―²–Ψ ―Ä–Α–Ζ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Φ―΄ ―É–Ε–Β –Ζ–Α–Κ–Α–Ϋ―΅–Η–≤–Α–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Ι –≤–Β―΅–Β―Ä–Ϋ–Η–Ι –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β―Ä―², –Ω―Ä–Η–Β―Ö–Α–Μ–Η –Φ―É–Ε–Η–Κ–Η –Η–Ζ ―¹–Ψ―¹–Β–¥–Ϋ–Β–Ι –¥–Β―Ä–Β–≤–Ϋ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Μ–Β–Ε–Α–Μ–Α –≤ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β –Ψ―² –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―²–Α. –û–Ϋ–Η ―¹―²–Α–Μ–Η ―²–Α–Κ –¥―É―à–Β–≤–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹–Η―²―¨ –Ϋ–Α―¹ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –Ε–Β –Ω–Ψ–Β―Ö–Α―²―¨ ―¹ –Ϋ–Η–Φ–Η –Η –¥–Α―²―¨ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β―Ä―² ―É –Ϋ–Η―Ö –≤ –¥–Β―Ä–Β–≤–Ϋ–Β, ―΅―²–Ψ –Φ―΄ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ψ―²–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Η–Φ. –ù–Α―¹ –Ω–Ψ―¹–Α–¥–Η–Μ–Η –≤ –¥–≤–Β –Ω–Α―Ä―΄ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η―Ö ―¹–Α–Ϋ–Β–Ι, –Η –Μ–Ψ―à–Α–¥–Κ–Η –±–Ψ–¥―Ä–Ψ –Ω–Ψ–±–Β–Ε–Α–Μ–Η –Ω–Ψ –Μ–Β―¹–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Β. –û–±―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ –Φ―΄ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α–Μ–Η―¹―¨ ―É–Ε–Β –Ζ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―΅―¨. –ö–Ψ–Ϋ―Ü–Β―Ä―² –Ω―Ä–Ψ―à–Β–Μ, –Κ–Α–Κ –≤―¹–Β–≥–¥–Α, ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ. –Ξ–Ψ–Ζ―è–Β–≤–Α, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, ¬Ϊ―É–≥–Ψ―¹―²–Η–Μ–Η¬Μ –Ϋ–Α―¹, –Η –Φ―΄, ―É―¹―²–Α–Μ―΄–Β –Η ―É–Φ–Η―Ä–Ψ―²–≤–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β, ―É–Κ―Ä―΄―²―΄–Β –Κ―Ä–Β―¹―²―¨―è–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ–Η ―²―É–Μ―É–Ω–Α–Φ–Η, ―¹–Η–¥–Β–Μ–Η –≤ ―¹–Α–Ϋ―è―Ö –Η –Μ―é–±–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Α―é―â–Η–Φ –Ω–Β–Ι–Ζ–Α–Ε–Β–Φ: –≤―¹–Β –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥ –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ–Κ―Ä―΄―²–Ψ –±–Β–Μ―΄–Φ-–±–Β–Μ―΄–Φ ―¹–Ϋ–Β–≥–Ψ–Φ, –Α –Ϋ–Α–¥ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ϋ–Α ―΅–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –Ϋ–Β–±–Β ―¹–Η―è–Μ–Η –Ψ―¹–Μ–Β–Ω–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―è―Ä–Κ–Η–Β –Ζ–≤–Β–Ζ–¥―΄. –‰ –Φ―΄ ―²–Η―Ö–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Α―Ä–Η–≤–Α–Μ–Η –Ψ ―²–Ψ–Φ, –Κ–Α–Κ–Α―è –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥ –Ω–Ψ―²―Ä―è―¹–Α―é―â–Α―è –Κ―Ä–Α―¹–Ψ―²–Α, –Η –Κ–Α–Κ–Α―è ―¹―Ä–Β–¥–Η ―ç―²–Ψ–Ι –Κ―Ä–Α―¹–Ψ―²―΄ –Ε―É―²–Κ–Α―è –±–Β–¥–Ϋ–Ψ―¹―²―¨.
–£ ―ç―²–Ψ–Φ –Α–≥–Η―²–Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Β ―è –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –Ζ–Α–¥―É–Φ–Α–Μ―¹―è –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ ―¹–≤–Β―²–Μ–Ψ–Β –±―É–¥―É―â–Β–Β –Ω–Ψ–¥ –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η–Ζ–Φ, –Κ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ―É –≤–Β–Μ–Α –Ϋ–Α―¹ –Ω–Α―Ä―²–Η―è, –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Η―², –Ω–Ψ-–≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ–Φ―É, –Β―â–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ϋ–Β ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ. –ù–Β –±―É–¥―É –≤―Ä–Α―²―¨, ―ç―²–Α –Φ―΄―¹–Μ―¨ –Ϋ–Α–≤–Β–Μ–Α –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Α –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Η–Β ―Ä–Α–Ζ–¥―É–Φ―¨―è –Ψ ―¹―É–¥―¨–±–Α―Ö –Φ–Ψ–Β–Ι ―Ä–Ψ–¥–Η–Ϋ―΄. –£–Β―Ä–Ϋ―É–≤―à–Η―¹―¨ –Η–Ζ –Α–≥–Η―²–Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α, ―è –Ψ–Κ―É–Ϋ―É–Μ―¹―è –≤ ―Ä–Α–±–Ψ―²―É, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Φ–Ϋ–Β –Ϋ―Ä–Α–≤–Η–Μ–Α―¹―¨, –Η –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι, –Κ–Α–Κ–Α―è –Ψ–Ϋ–Α –Β―¹―²―¨.
–ß–Β―Ä–Β–Ζ ―²―Ä–Η –Φ–Β―¹―è―Ü–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –Φ–Ψ–Β–Ι ―²―Ä―É–¥–Ψ–≤–Ψ–Ι –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―è –Ε–Β–Ϋ–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α –¥–Β–≤―É―à–Κ–Β, –Ζ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―É―Ö–Α–Ε–Η–≤–Α–Μ, –±―É–¥―É―΅–Η –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²–Ψ–Φ. –ê–Μ―è –≤ ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ζ–Α–Κ–Α–Ϋ―΅–Η–≤–Α–Μ–Α ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―², –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–≤―à–Η–Ι―¹―è ―²–Ψ–≥–¥–Α ¬Ϊ–¦–≠–Δ–‰ –Η–Φ–Β–Ϋ–Η –Θ–Μ―¨―è–Ϋ–Ψ–≤–Α (–¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–Α)¬Μ. –Π–Β―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –±―Ä–Α–Κ–Ψ―¹–Ψ―΅–Β―²–Α–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α –≤ –Ϋ–Β–¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ψ―²–Κ―Ä―΄–≤―à–Β–Φ―¹―è –Ϋ–Α –Ϋ–Α–±–Β―Ä–Β–Ε–Ϋ–Ψ–Ι –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α. –î–≤–Ψ―Ä–Β―Ü –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥–Η–Μ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –≤–Ω–Β―΅–Α―²–Μ–Β–Ϋ–Η–Β βÄî ―²–Α–Φ –≤―¹–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η –Ϋ–Β–Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ –¥–Μ―è ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η―Ö –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ. –ö–Ψ–≥–¥–Α ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α―à–Α –Ω–Β―Ä–≤–Α―è –¥–Ψ―΅―¨ βÄî –€–Α―Ä–Η–Ϋ–Α, –Φ–Ψ―è –Ε–Β–Ϋ–Α ―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Α ―Ö–Μ–Β–±–Ϋ―É–Μ–Α ―²–Ψ–Ι ¬Ϊ–Ζ–Α–±–Ψ―²―΄¬Μ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ―è–Μ–Ψ ―²–Ψ–≥–¥–Α ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–Β –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Ψ –Ψ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄―Ö –Φ–Α―²–Β―Ä―è―Ö. –û―²–Ω―É―¹–Κ –Ω–Ψ –±–Β―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Μ―¹―è ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Ψ ―à–Β―¹―²–Η–Φ–Β―¹―è―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²–Α ―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Κ–Α βÄî –¥–Α–Μ―¨―à–Β –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Κ―Ä―É―²–Η―²―¨―¹―è, –Κ–Α–Κ –Φ–Ψ–Ε–Β―à―¨. –€–Β―¹―²–Α –≤ –¥–Β―²―¹–Κ–Η―Ö ―è―¹–Μ―è―Ö –Η ―¹–Α–¥–Η–Κ–Α―Ö –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ ―²―Ä―É–¥–Ψ–Φ, –Α –¥–Ψ―΅–Κ–Α –Ϋ–Α―à–Α, –Κ–Α–Κ –Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Μ–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Η–Β –¥–Β―²–Η, –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ –±–Ψ–Μ–Β–Μ–Α (―²–Ψ–≥–¥–Α ―ç―²–Ψ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η ¬Ϊ–Ω―Ä–Ψ―¹―²―É–¥–Α–Φ–Η¬Μ, –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Η–Β ¬Ϊ–Α–Μ–Μ–Β―Ä–≥–Η―è¬Μ –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ–Ζ–¥–Ϋ–Β–Β). –€–Ψ–Μ–Ψ–¥–Α―è –Φ–Α―²―¨ –Κ―Ä―É―²–Η–Μ–Α―¹―¨ ―¹―Ä–Β–¥–Η –±–Β―¹–Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ―΄―Ö –≤―΄–Ζ–Ψ–≤–Ψ–≤ –≤―Ä–Α―΅–Α –Ϋ–Α –¥–Ψ–Φ, ¬Ϊ–±–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö –Μ–Η―¹―²–Ψ–≤¬Μ –Ω–Ψ ―É―Ö–Ψ–¥―É –Ζ–Α ―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Κ–Ψ–Φ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Η–Β ―¹―Ä–Ψ–Κ–Η –Ψ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–Ε–¥–Α–Μ–Η –Β–Β –Ψ―² ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄, –Ω–Ψ–Η―¹–Κ–Ψ–Φ –Η –Ϋ–Α–Ι–Φ–Ψ–Φ –Ϋ―è–Ϋ–Β–Κ –Η –¥―Ä―É–≥–Η―Ö ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–≤ –Ψ–Ω–Β–Κ–Η ―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Κ–Α –≤ ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Β–Β –≤―Ä–Β–Φ―è. –ù–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ ―è ―Ä–Β–≥―É–Μ―è―Ä–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ ¬Ϊ―¹–≤–Β―Ä―Ö―É―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ¬Μ, –¥–Β–Ϋ–Β–≥ –Ϋ–Α –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Ϋ–Α–Φ –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β ―Ö–≤–Α―²–Α–Μ–Ψ. –ö–Ψ–≥–¥–Α ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α―à–Α –Ω–Β―Ä–≤–Α―è –¥–Ψ―΅―¨ βÄî –€–Α―Ä–Η–Ϋ–Α, –Φ–Ψ―è –Ε–Β–Ϋ–Α ―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Α ―Ö–Μ–Β–±–Ϋ―É–Μ–Α ―²–Ψ–Ι ¬Ϊ–Ζ–Α–±–Ψ―²―΄¬Μ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ―è–Μ–Ψ ―²–Ψ–≥–¥–Α ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–Β –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Ψ –Ψ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄―Ö –Φ–Α―²–Β―Ä―è―Ö. –û―²–Ω―É―¹–Κ –Ω–Ψ –±–Β―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Μ―¹―è ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Ψ ―à–Β―¹―²–Η–Φ–Β―¹―è―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²–Α ―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Κ–Α βÄî –¥–Α–Μ―¨―à–Β –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Κ―Ä―É―²–Η―²―¨―¹―è, –Κ–Α–Κ –Φ–Ψ–Ε–Β―à―¨. –€–Β―¹―²–Α –≤ –¥–Β―²―¹–Κ–Η―Ö ―è―¹–Μ―è―Ö –Η ―¹–Α–¥–Η–Κ–Α―Ö –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ ―²―Ä―É–¥–Ψ–Φ, –Α –¥–Ψ―΅–Κ–Α –Ϋ–Α―à–Α, –Κ–Α–Κ –Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Μ–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Η–Β –¥–Β―²–Η, –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ –±–Ψ–Μ–Β–Μ–Α (―²–Ψ–≥–¥–Α ―ç―²–Ψ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η ¬Ϊ–Ω―Ä–Ψ―¹―²―É–¥–Α–Φ–Η¬Μ, –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Η–Β ¬Ϊ–Α–Μ–Μ–Β―Ä–≥–Η―è¬Μ –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ–Ζ–¥–Ϋ–Β–Β). –€–Ψ–Μ–Ψ–¥–Α―è –Φ–Α―²―¨ –Κ―Ä―É―²–Η–Μ–Α―¹―¨ ―¹―Ä–Β–¥–Η –±–Β―¹–Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ―΄―Ö –≤―΄–Ζ–Ψ–≤–Ψ–≤ –≤―Ä–Α―΅–Α –Ϋ–Α –¥–Ψ–Φ, ¬Ϊ–±–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö –Μ–Η―¹―²–Ψ–≤¬Μ –Ω–Ψ ―É―Ö–Ψ–¥―É –Ζ–Α ―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Κ–Ψ–Φ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Η–Β ―¹―Ä–Ψ–Κ–Η –Ψ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–Ε–¥–Α–Μ–Η –Β–Β –Ψ―² ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄, –Ω–Ψ–Η―¹–Κ–Ψ–Φ –Η –Ϋ–Α–Ι–Φ–Ψ–Φ –Ϋ―è–Ϋ–Β–Κ –Η –¥―Ä―É–≥–Η―Ö ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–≤ –Ψ–Ω–Β–Κ–Η ―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Κ–Α –≤ ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Β–Β –≤―Ä–Β–Φ―è. –ù–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ ―è ―Ä–Β–≥―É–Μ―è―Ä–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ ¬Ϊ―¹–≤–Β―Ä―Ö―É―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ¬Μ, –¥–Β–Ϋ–Β–≥ –Ϋ–Α –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Ϋ–Α–Φ –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β ―Ö–≤–Α―²–Α–Μ–Ψ.
–ù–Ψ, –Ϋ–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α –±―΄―²–Ψ–≤―΄–Β –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ―΄, –≤ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –±―΄–Μ–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ -- –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Β–¥–Ψ–Μ–≥–Α―è ¬Ϊ―Ö―Ä―É―â–Β–≤―¹–Κ–Α―è –Ψ―²―²–Β–Ω–Β–Μ―¨¬Μ. –Γ―²–Α–Μ–Η –Ω–Ψ―è–≤–Μ―è―²―¨―¹―è –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ―΄–Β –Κ–Ϋ–Η–≥–Η, –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ―΄ –Η –Κ–Η–Ϋ–Ψ―³–Η–Μ―¨–Φ―΄. –ü–Ψ―è–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ–Η –Α–≤―²–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Β―¹–Β–Ϋ (–Η―Ö ―²–Ψ–≥–¥–Α –≤–Β–Μ–Η―΅–Α–Μ–Η ¬Ϊ–±–Α―Ä–¥–Α–Φ–Η¬Μ), –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –≤―΄―¹―²―É–Ω–Α–Μ–Η –≤ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Η―Ö, –Ϋ–Β–Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α–Μ–Α―Ö, –±–Η―²–Κ–Ψ–Φ –Ϋ–Α–±–Η―²―΄―Ö ―¹–Μ―É―à–Α―²–Β–Μ―è–Φ–Η. –ü–Β―¹–Ϋ–Η –±–Α―Ä–¥–Ψ–≤ –Κ–Α–Κ –±―΄ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Η―¹―¨ –Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Ω–Β―¹–Ϋ―è–Φ, –Ψ–Ϋ–Η –Ζ–Α–¥–Β–≤–Α–Μ–Η –¥―É―à–Β–≤–Ϋ―΄–Β ―¹―²―Ä―É–Ϋ―΄ –Μ―é–¥–Β–Ι. –£–Β―¹―¨ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ –Ζ–Α–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ –Ψ ―²–Β–Α―²―Ä–Β –Δ–Ψ–≤―¹―²–Ψ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–≤–Α, –Η –Ϋ–Α–Φ ―¹ –Ε–Β–Ϋ–Ψ–Ι –≤―Ä–Β–Φ―è –Ψ―² –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Κ–Α–Κ-―²–Ψ ―É–¥–Α–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ–Ω–Α–¥–Α―²―¨ –Ϋ–Α –Β–≥–Ψ ―¹–Ω–Β–Κ―²–Α–Κ–Μ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι ―Ä–Α–Ζ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Ϋ–Α –Ϋ–Α―¹ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –≤–Ω–Β―΅–Α―²–Μ–Β–Ϋ–Η–Β.
–£ ―²–Β –≥–Ψ–¥―΄ –±―΄–Μ –Ψ–Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Ψ–≤–Α–Ϋ ―Ä–Ψ–Φ–Α–Ϋ –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Α –Γ–Η–Φ–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Α ¬Ϊ–•–Η–≤―΄–Β –Η –Φ–Β―Ä―²–≤―΄–Β¬Μ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ω–Ψ―²―Ä―è―¹ –Φ–Β–Ϋ―è –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Α–≤–¥–Ψ–Ι –Ψ ―²–Ψ–Φ, –Κ–Α–Κ –Η –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É –≥―Ä–Ψ–Φ–Η–Μ–Η –Ϋ–Β–Φ―Ü―΄ –Ϋ–Α―à–Η –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α –≤ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –Φ–Β―¹―è―Ü―΄ –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ - ―ç―²–Α ―²–Β–Φ–Α –±―΄–Μ–Α –¥–Ψ ―²–Ψ–Ι –Ω–Ψ―Ä―΄ –Ζ–Α–Κ―Ä―΄―²–Α –¥–Μ―è –Ω–Β―΅–Α―²–Η. –ö–Ϋ–Η–≥–Α –±―΄–Μ–Α –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Α ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Φ, –Ω―Ä–Ψ―à–Β–¥―à–Η–Φ –≤―¹―é –≤–Ψ–Ι–Ϋ―É, –Η―¹–Ω―΄―²–Α–≤―à–Η–Φ –Η –≥–Ψ―Ä–Β―΅―¨ –Ω–Ψ―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η―è, –Η –≥–Ψ―Ä–Β―΅―¨ –Ω–Ψ―²–Β―Ä―¨, –Η ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²―¨ –Ω–Ψ–±–Β–¥―΄, ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Φ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Α –≤―¹―è ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Α. –Θ―¹–Ω–Β―Ö –Κ–Ϋ–Η–≥–Η ―É ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ–Β–Ι –±―΄–Μ –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Φ. –ê –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ―¹―è ¬Ϊ–û–¥–Η–Ϋ –¥–Β–Ϋ―¨ –‰–≤–Α–Ϋ–Α –î–Β–Ϋ–Η―¹–Ψ–≤–Η―΅–Α¬Μ, –Η ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Α –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β ―É–Ζ–Ϋ–Α–Μ–Α –Ω―Ä–Ψ –Γ–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η―Ü―΄–Ϋ–Α. –¦―é–¥–Η ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η –Η –Η –Ψ ―¹―²–Α–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö ―Ä–Β–Ω―Ä–Β―¹―¹–Η―è―Ö, –Η –Ψ –≤―¹–Β–Φ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Α–Μ–Ψ –Η―Ö –≤ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η. –ù–Ψ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ ¬Ϊ–Ψ―²―²–Β–Ω–Β–Μ―¨¬Μ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ–Α―¹―¨, –Η ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤ –Ψ–Ω―è―²―¨ ―¹―²–Α–Μ–Ψ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Β–Β βÄî –Ψ–Ϋ–Η –Ω–Β―Ä–Β–Φ–Β―¹―²–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Κ―É―Ö–Ϋ–Η, –≥–¥–Β –Μ―é–¥–Η ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ ¬Ϊ–Ω–Ψ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Α–Φ¬Μ. –î–Μ―è –Ψ–¥–Ϋ–Η―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι ¬Ϊ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β¬Μ ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―΄ –≤–Β―΅–Β―Ä–Ψ–Φ –Ϋ–Α –Κ―É―Ö–Ϋ–Β ―¹―²–Α–Μ–Η –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Φ –¥–Β–Μ–Ψ–Φ –≤ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η, –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Ε–Β –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η―¹―¨ –Κ –Ϋ–Η–Φ –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―â–Β: –Ψ–Ϋ–Η ―¹―É–¥–Α―΅–Η–Μ–Η –Ψ ―²–Β–Κ―É―â–Β–Ι –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η–Κ–Β ―²–Α–Κ –Ε–Β, –Κ–Α–Κ ―¹―É–¥–Α―΅–Α―² –Ψ ―¹–Ψ―¹–Β–¥―è―Ö, –Ψ ―Ä–Ψ–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α―Ö –Η –Ψ –±―΄―²–Ψ–≤―΄―Ö –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ–Α―Ö, –Η ―¹ ―É–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η–Β–Φ –Ω–Β―Ä–Β―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η ―¹–≤–Β–Ε–Η–Β –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Α–Ϋ–Β–Κ–¥–Ψ―²―΄. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤–Ψ―² –Ψ –Ϋ–Β–¥–Α–≤–Ϋ–Β–Φ ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–Φ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄ –Η –Ψ –Ω―Ä–Ψ―à–Β–¥―à–Β–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η –≤―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ. –¦―é–¥―è–Φ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è–Μ –Β―â–Β –¥–Ψ–Μ–≥–Η–Ι-–¥–Ψ–Μ–≥–Η–Ι –Ω―É―²―¨ –Ω–Ψ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É–Ζ–Ϋ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è –≤―¹–Β–Ι –Ω―Ä–Α–≤–¥―΄ –Ψ –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Β –Η –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –¥–Ψ –Ϋ–Β–Β –Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ϋ–Β–Β. –¦―é–¥–Η ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η –Η –Η –Ψ ―¹―²–Α–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö ―Ä–Β–Ω―Ä–Β―¹―¹–Η―è―Ö, –Η –Ψ –≤―¹–Β–Φ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Α–Μ–Ψ –Η―Ö –≤ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η. –ù–Ψ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ ¬Ϊ–Ψ―²―²–Β–Ω–Β–Μ―¨¬Μ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ–Α―¹―¨, –Η ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤ –Ψ–Ω―è―²―¨ ―¹―²–Α–Μ–Ψ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Β–Β βÄî –Ψ–Ϋ–Η –Ω–Β―Ä–Β–Φ–Β―¹―²–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Κ―É―Ö–Ϋ–Η, –≥–¥–Β –Μ―é–¥–Η ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ ¬Ϊ–Ω–Ψ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Α–Φ¬Μ. –î–Μ―è –Ψ–¥–Ϋ–Η―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι ¬Ϊ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β¬Μ ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―΄ –≤–Β―΅–Β―Ä–Ψ–Φ –Ϋ–Α –Κ―É―Ö–Ϋ–Β ―¹―²–Α–Μ–Η –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Φ –¥–Β–Μ–Ψ–Φ –≤ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η, –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Ε–Β –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η―¹―¨ –Κ –Ϋ–Η–Φ –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―â–Β: –Ψ–Ϋ–Η ―¹―É–¥–Α―΅–Η–Μ–Η –Ψ ―²–Β–Κ―É―â–Β–Ι –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η–Κ–Β ―²–Α–Κ –Ε–Β, –Κ–Α–Κ ―¹―É–¥–Α―΅–Α―² –Ψ ―¹–Ψ―¹–Β–¥―è―Ö, –Ψ ―Ä–Ψ–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α―Ö –Η –Ψ –±―΄―²–Ψ–≤―΄―Ö –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ–Α―Ö, –Η ―¹ ―É–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η–Β–Φ –Ω–Β―Ä–Β―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η ―¹–≤–Β–Ε–Η–Β –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Α–Ϋ–Β–Κ–¥–Ψ―²―΄. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤–Ψ―² –Ψ –Ϋ–Β–¥–Α–≤–Ϋ–Β–Φ ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–Φ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄ –Η –Ψ –Ω―Ä–Ψ―à–Β–¥―à–Β–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η –≤―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ. –¦―é–¥―è–Φ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è–Μ –Β―â–Β –¥–Ψ–Μ–≥–Η–Ι-–¥–Ψ–Μ–≥–Η–Ι –Ω―É―²―¨ –Ω–Ψ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É–Ζ–Ϋ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è –≤―¹–Β–Ι –Ω―Ä–Α–≤–¥―΄ –Ψ –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Β –Η –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –¥–Ψ –Ϋ–Β–Β –Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ϋ–Β–Β.
–£ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―¹–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η ―è –Ϋ–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –Ϋ–Α ―Ä–Α–±–Ψ―²–Β –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Β –≤ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι –Ψ―²–¥–Β–Μ, –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–≤―à–Η–Ι―¹―è ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ―΄–Φ –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ. –€–Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Η –Ζ–Α–Ϋ―è―²―¨―¹―è ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ –¥–Β–Μ–Ψ–Φ, ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―¹ –Ψ―²―Ä–Α–±–Ψ―²–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―¹–Ψ–≤, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β βÄî ―¹ –¥–Μ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Α–Φ–Η –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ―΄ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η–Ι ―Ä–Α–Κ–Β―².
–· –±―΄–Μ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥, ―ç–Ϋ–Β―Ä–≥–Η―΅–Β–Ϋ –Η –≤ –Φ–Β―Ä―É ―΅–Β―¹―²–Ψ–Μ―é–±–Η–≤, –Ϋ–Β–¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―è–≤–Η–≤―à–Α―è―¹―è ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ–Α―è ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Α –±―΄–Μ–Α –Ψ–≤–Β―è–Ϋ–Α –Ψ―Ä–Β–Ψ–Μ–Ψ–Φ ―¹–Β–Κ―Ä–Β―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η ―Ä–Ψ–Φ–Α–Ϋ―²–Η–Κ–Η, –Α –¥–Μ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Η ―¹―É–Μ–Η–Μ–Η ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –¥–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –¥–Ψ―Ö–Ψ–¥―΄, ―¹―²–Ψ–Μ―¨ –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄–Β –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Ι ―¹–Β–Φ―¨–Β, –Η ―è ―Ä–Β―à–Η–Μ –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ–±–Ψ–≤–Α―²―¨ ―¹–Β–±―è –≤ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Φ –¥–Β–Μ–Β.
–£―¹–Κ–Ψ―Ä–Β ―è –Ω―Ä–Η―¹―²―É–Ω–Η–Μ –Κ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Β –≤ –Ψ―²–¥–Β–Μ–Β –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è, –≥–¥–Β ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ε–Β –±―΄–Μ –≤–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ –≤ –≥―Ä―É–Ω–Ω―É –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η―è –Μ–Β―²–Ϋ–Ψ-–Κ–Ψ–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―²–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η–Ι –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―¹–Α –î-4, ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤–Α–Β–Φ–Ψ–≥–Ψ –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―²–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ –±―é―Ä–Ψ –£. –ü. –€–Α–Κ–Β–Β–≤–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―²–Ψ–≥–¥–Α –Γ–ö–ë-385. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –≤ –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―¹, –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–≤–Α―é―â–Η–Ι –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ζ–Α–Ω―É―¹–Κ–Α –±–Α–Μ–Μ–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö ―Ä–Α–Κ–Β―² –Η–Ζ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η. '
–ü―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Α –Μ–Β―²–Ϋ–Ψ-–Κ–Ψ–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―²–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η–Ι –Ω―Ä–Β–¥―É―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α–Μ–Α –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Ω―É―¹–Κ–Ψ–≤ ―Ä–Α–Κ–Β―² ―¹ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Α 629–ë, ―¹–Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤ –Π–ö–ë-16 –Η ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Μ―è –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è ―ç―²–Η―Ö –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η–Ι. –ü―É―¹–Κ–Η ―Ä–Α–Κ–Β―² –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥–Η―²―¨―¹―è –≤ –Α–Κ–≤–Α―²–Ψ―Ä–Η–Η –ë–Α―Ä–Β–Ϋ―Ü–Β–≤–Α –Φ–Ψ―Ä―è, –Α ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η―è –Ω–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―é –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η–Ι –±–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ψ–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Β. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –Ϋ–Β–¥–Ψ–Μ–≥–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η ―è –≤―΄–Β―Ö–Α–Μ –≤ ―¹–≤–Ψ―é –Ω–Β―Ä–≤―É―é –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Κ―É –Ϋ–Α ―¹–Β–≤–Β―Ä.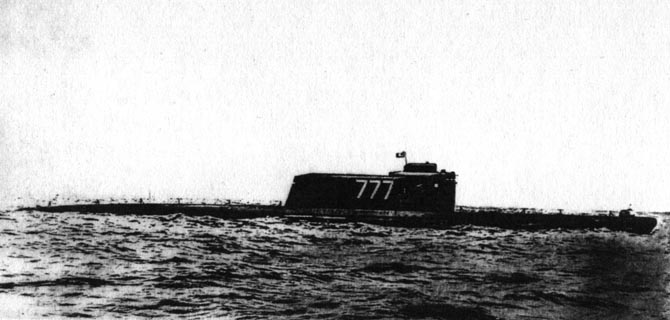 –†–Α–Κ–Β―²–Ϋ–Α―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Α 629–ë–ü–Β―Ä–≤―΄–Β –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥–Κ–Η –≤ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β –Φ–Β―¹―²–Α, –Κ–Α–Κ –Η –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β ―à–Α–≥–Η –Ϋ–Α –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Ω―Ä–Η―â–Β, –Ζ–Α–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―é―²―¹―è –Ϋ–Α–¥–Ψ–Μ–≥–Ψ. –†–Α–Κ–Β―²–Ϋ–Α―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Α 629–ë–ü–Β―Ä–≤―΄–Β –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥–Κ–Η –≤ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β –Φ–Β―¹―²–Α, –Κ–Α–Κ –Η –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β ―à–Α–≥–Η –Ϋ–Α –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Ω―Ä–Η―â–Β, –Ζ–Α–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―é―²―¹―è –Ϋ–Α–¥–Ψ–Μ–≥–Ψ.
–Γ–Κ–Ψ―Ä―΄–Ι –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥-–€―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –±–Β–Ε–Α–Μ ―¹―Ä–Β–¥–Η –Ζ–Α―¹–Ϋ–Β–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Μ–Β―¹–Ψ–≤ –ö–Α―Ä–Β–Μ–Η–Η. –£ –≤–Α–≥–Ψ–Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ ―²–Β–Ω–Μ–Ψ, ―΅–Η―¹―²–Ψ –Η ―É―é―²–Ϋ–Ψ, –Ω–Α―¹―¹–Α–Ε–Η―Ä–Ψ–≤ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ. –ù–Α―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η–Β ―É –Φ–Β–Ϋ―è –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η–Ω–Ψ–¥–Ϋ―è―²–Ψ–Β. –€–Β―Ö–Ψ–≤–Α―è –Κ―É―Ä―²–Κ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –Φ–Ϋ–Β –≤―΄–¥–Α–Μ–Η –Ϋ–Α ―Ä–Α–±–Ψ―²–Β –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Ψ―²―ä–Β–Ζ–¥–Ψ–Φ –≤ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Κ―É, –Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α―¹―¨ –Φ–Ϋ–Β ―à–Η–Κ–Α―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–¥–Β–Ε–¥–Ψ–Ι, –Α –Μ–Β–Ε–Α–≤―à–Η–Β –≤ –Κ–Α―Ä–Φ–Α–Ϋ–Β ¬Ϊ–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ―΅–Ϋ―΄–Β¬Μ –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η –Ω―Ä–Η–¥–Α–≤–Α–Μ–Η ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≤ ―¹–Β–±–Β. –· –¥―É–Φ–Α–Μ –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ε–¥–Β―² –Φ–Β–Ϋ―è –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥–Η, –Ϋ–Β –Η–Φ–Β―è –Ϋ–Η –Φ–Α–Μ–Β–Ι―à–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ψ ―²–Ψ–Φ, –Κ–Α–Κ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –¥–Β–Μ–Β –±―É–¥–Β―².
–Γ―É–Φ―Ä–Α―΅–Ϋ―΄–Φ –Ζ–Η–Φ–Ϋ–Η–Φ ―É―²―Ä–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥ –Ω―Ä–Η―à–Β–Μ –≤ –€―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ. –· –≤―΄―à–Β–Μ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Η–≤–Ψ–Κ–Ζ–Α–Μ―¨–Ϋ―É―é –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥―¨, –Ψ–Κ–Α–Ι–Φ–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ–Η ―¹–Ϋ–Β–Ε–Ϋ―΄–Φ–Η –Ψ―²–≤–Α–Μ–Α–Φ–Η, –Η ―¹–Β–Μ –≤ –Α–≤―²–Ψ–±―É―¹, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–≤―à–Η–Ι―¹―è –≤ ―¹―²–Ψ–Μ–Η―Ü―É –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α βÄî –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ψ–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ. –ê–≤―²–Ψ–±―É―¹ –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –Ω―Ä–Ψ―à–Β–Μ –Ω–Ψ –Ζ–Α―¹–Ϋ–Β–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―É–Μ–Η―Ü–Α–Φ –€―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Α, –≤―΄―à–Β–Μ –Ϋ–Α ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ψ–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Β ―à–Ψ―¹―¹–Β –Η ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Κ–Η–Μ–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤ –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ―¹―è ―É –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ-–Ω―Ä–Ψ–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―É–Ϋ–Κ―²–Α, –Ζ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ–Α―¹―¨ ¬Ϊ–Ζ–Α–Κ―Ä―΄―²–Α―è –Ζ–Ψ–Ϋ–Α¬Μ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Κ–Η –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Ψ–≤, ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Α–≤―à–Η―Ö –Ω–Α―¹―¹–Α–Ε–Η―Ä–Α–Φ –≤―ä–Β–Ζ–¥ –≤ –Ζ–Α–Κ―Ä―΄―²―É―é –Ζ–Ψ–Ϋ―É, –Α–≤―²–Ψ–±―É―¹ –Ω–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ζ –Ω–Ψ –Η–Ζ–≤–Η–Μ–Η―¹―²–Ψ–Ι –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Β, –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥―è―â–Β–Ι ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ―¹–Ψ–Ω–Κ–Η, ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≤–¥–Ψ–Μ―¨ –±–Β―Ä–Β–≥–Α –ö–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α. –£ ―²–Β –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Α –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Α―è –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Α, ―¹–≤―è–Ζ―΄–≤–Α–≤―à–Α―è –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι ―³–Μ–Ψ―² ―¹ –ë–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Ζ–Β–Φ–Μ–Β–Ι. –î–Ψ―Ä–Ψ–≥–Α –±―΄–Μ–Α –Ω―Ä–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Α ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Ψ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ψ–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Α, –¥–Α–Μ–Β–Β –≤ –Μ―é–±―É―é –Η–Ζ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –±–Α–Ζ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ–Ω–Α―¹―²―¨ –≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ –Ω―É―²–Β–Φ.
–ü―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –¥–≤–Α ―΅–Α―¹–Α –Α–≤―²–Ψ–±―É―¹ –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ –Κ –Φ–Β―¹―²―É –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η―è. –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ψ–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ –±―΄–Μ ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Κ–Ψ–Φ, –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥―É –ö–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α –Ϋ–Α –Φ–Β―¹―²–Β ―¹―²–Α―Ä–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä―΄–±–Α―΅―¨–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ―¹–Β–Μ–Κ–Α –£–Α–Β–Ϋ–≥–Α. –ù–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Α―è ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è ―΅–Α―¹―²―¨ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –±―΄–Μ–Α –Ζ–Α―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Α –Ϋ–Β–≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η–Φ–Η –Κ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –¥–Ψ–Φ–Α–Φ–Η, –Η–Φ–Β–≤―à–Η–Φ–Η ―¹–Η–Φ–Ω–Α―²–Η―΅–Ϋ―΄–Ι –≤–Η–¥, –Ϋ–Α –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Η ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Μ–Η―¹―¨ ―à―²–Α–±–Ϋ―΄–Β –Ζ–¥–Α–Ϋ–Η―è –Η –Κ–Α–Ζ–Α―Ä–Φ―΄ ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö ―΅–Α―¹―²–Β–Ι, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –¥–Β―Ä–Β–≤―è–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ε–Η–Μ―΄–Β –¥–Ψ–Φ–Α –±–Α―Ä–Α―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²–Η–Ω–Α, ―Ä–Α―¹–Κ–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Α―é―â–Η–Φ ―¹–Ψ–Ω–Κ–Α–Φ. –£ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ ―¹―²–Α–¥–Η–Ψ–Ϋ, –Κ–Η–Ϋ–Ψ―²–Β–Α―²―Ä, ―à―²–Α–± –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α –Η –î–Ψ–Φ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤. –ù–Β–¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –Ψ―² ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α –≤–¥–Ψ–Μ―¨ –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ–Ι –Μ–Η–Ϋ–Η–Η –±―΄–Μ–Η ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ―΄ –Ω–Η―Ä―¹―΄, ―É –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―²–Β―¹–Ϋ–Η–Μ–Η―¹―¨ ―ç―¹–Φ–Η–Ϋ―Ü―΄ –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β –±–Ψ–Β–≤―΄–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η βÄî –±―΄–Μ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Ι –±–Α–Ζ–Ψ–Ι –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α. 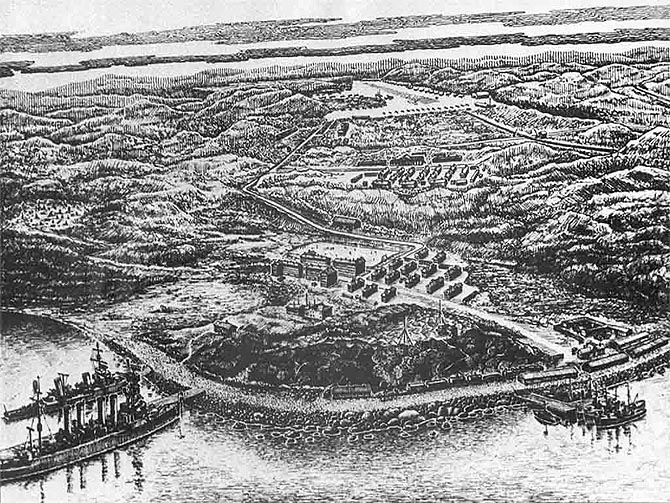 –Θ–Μ–Η―Ü―΄ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –±―΄–Μ–Η ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ ―Ä–Α―¹―΅–Η―â–Β–Ϋ―΄ ―¹–Η–Μ–Α–Φ–Η –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤ –Η ―¹–Η―è–Μ–Η ―΅–Η―¹―²―΄–Φ –±–Β–Μ―΄–Φ ―¹–Ϋ–Β–≥–Ψ–Φ, –Α–≤―²–Ψ–Φ–Ψ–±–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è –≤ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –Ω–Ψ―΅―²–Η –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ. –½–Η–Φ–Ϋ–Η–Ι –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ψ–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ –≤―΄–≥–Μ―è–¥–Β–Μ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ω―Ä–Η–≤–Μ–Β–Κ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ. –Θ–Μ–Η―Ü―΄ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –±―΄–Μ–Η ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ ―Ä–Α―¹―΅–Η―â–Β–Ϋ―΄ ―¹–Η–Μ–Α–Φ–Η –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤ –Η ―¹–Η―è–Μ–Η ―΅–Η―¹―²―΄–Φ –±–Β–Μ―΄–Φ ―¹–Ϋ–Β–≥–Ψ–Φ, –Α–≤―²–Ψ–Φ–Ψ–±–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è –≤ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –Ω–Ψ―΅―²–Η –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ. –½–Η–Φ–Ϋ–Η–Ι –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ψ–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ –≤―΄–≥–Μ―è–¥–Β–Μ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ω―Ä–Η–≤–Μ–Β–Κ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ.
–Γ–Ω―É―¹―²―è ―΅–Β―²–≤–Β―Ä―²―¨ ―΅–Α―¹–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ω―Ä–Η–±―΄―²–Η―è –Α–≤―²–Ψ–±―É―¹–Α ―è –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ―¹―è –Ω–Ψ ―²―Ä–Α–Ω―É –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―² –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–≥–Ψ ―²–Β–Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α ¬Ϊ–€–Α―Ä–Η―è –Θ–Μ―¨―è–Ϋ–Ψ–≤–Α¬Μ, –Ζ–Α―³―Ä–Α―Ö―²–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α –Ζ–Η–Φ–Ϋ–Η–Ι –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ –¥–Μ―è ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η―è ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η–Ι ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―¹–Α. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –Ϋ–Β–¥–Ψ–Μ–≥–Ψ–≥–Ψ –Ψ―³–Ψ―Ä–Φ–Μ–Β–Ϋ–Η―è –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Ψ–≤ ―è –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –Φ–Β―¹―²–Ψ –≤ ―΅–Β―²―΄―Ä–Β―Ö–Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Α―é―²–Β, –≥–¥–Β –±―΄–Μ–Η ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―â–Β–Ϋ―΄ –Φ–Ψ–Η –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–≥–Η –Η–Ζ –±―é―Ä–Ψ, –Ω―Ä–Η–Β―Ö–Α–≤―à–Η–Β ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β, –Η ―è –Ψ–Κ―É–Ϋ―É–Μ―¹―è –≤ –Κ–Ψ–Φ―³–Ψ―Ä―², –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –≤ –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Φ―É –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä―É –±―΄–Μ –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²―É–Ω–Β–Ϋ.
–¦–Α–Ι–Ϋ–Β―Ä –±–Μ–Η―¹―²–Α–Μ ―΅–Η―¹―²–Ψ―²–Ψ–Ι –Η –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Ψ–Φ. –î–Α–Ε–Β ―΅–Β―²―΄―Ä–Β―Ö–Φ–Β―¹―²–Ϋ―΄–Β –Κ–Α―é―²―΄, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ε–Η–Μ–Η ¬Ϊ–Ϋ–Η–Ε–Ϋ–Η–Β ―΅–Η–Ϋ―΄¬Μ, ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ ―Ä―è–¥–Ψ–≤―΄–Β –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä―΄ –Η ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Η, –Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α–Φ –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Μ–Β–Ω–Ϋ―΄–Φ–Η. –ß―²–Ψ ―É–Ε –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨ –Ψ –¥–≤―É―Ö–Φ–Β―¹―²–Ϋ―΄―Ö –Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ–Β―¹―²–Ϋ―΄―Ö –Κ–Α―é―²–Α―Ö, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―â–Α–Μ–Η―¹―¨ ―²–Β, –Κ―²–Ψ –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ –±–Ψ–Μ–Β–Β –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η–Β ―¹―²―É–Ω–Β–Ϋ–Η ―¹–Μ―É–Ε–Β–±–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Β―¹―²–Ϋ–Η―Ü―΄. –ü―Ä–Η–±–Ψ―Ä–Κ–Α –≤―¹–Β―Ö –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η–Ι –Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Μ―è–Μ–Α―¹―¨ –Β–Ε–Β–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ–Ψ, ―Ä–Β–≥―É–Μ―è―Ä–Ϋ–Ψ –Φ–Β–Ϋ―è–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ―¹―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –±–Β–Μ―¨–Β, ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Η –¥―É―à–Β–≤―΄–Β. –£―¹–Β ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η–≤―΄―΅–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Ψ ―É–Ε –±–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ϋ―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨. –ê –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Β―Ä–≤–Η―¹–Α –±―΄–Μ–Ψ ―²–Ψ –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ, ―΅―²–Ψ ―¹ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ–Φ –Ϋ–Α–≤–Η–≥–Α―Ü–Η–Η –Μ–Α–Ι–Ϋ–Β―Ä –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―΄–Μ –Η–¥―²–Η –≤ –Ζ–Α–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Β–Ι―¹, –Η –≤–Β―¹―¨ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε –Ζ–Η–Φ–Ψ–≤–Α–Μ –≤ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Κ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è―â–Η–Φ –Ζ–Α–Φ–Α–Ϋ―΅–Η–≤―΄–Φ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è–Φ. –ö–Α–Κ ―É–Ε ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―Ä–Α–Κ–Β―²―΅–Η–Κ–Α–Φ –Ω–Β―Ä–Β―Ö–≤–Α―²–Η―²―¨ –Ϋ–Α –Ζ–Η–Φ―É ―ç―²–Ψ ―΅―É–¥–Ψ βÄî –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β.
–ù–Α―à–Α –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Φ –Μ–Α–Ι–Ϋ–Β―Ä–Β –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Β–¥–Ψ–Μ–≥–Ψ, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –Ψ―¹―²–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Φ –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Β–Φ. –£ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β –Φ–Α―è ¬Ϊ–€–Α―Ä–Η―è –Θ–Μ―¨―è–Ϋ–Ψ–≤–Α¬Μ –Ψ―²–¥–Α–Μ–Α –Κ–Ψ–Ϋ―Ü―΄ –Η ―É―à–Μ–Α –≤ –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Β –¥–Α–Μ–Η, –Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –≤―¹―é –Ζ–Η–Φ―É –Φ–Β―΅―²–Α–Μ–Η –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Η –Η ―¹―²―é–Α―Ä–¥–Β―¹―¹―΄, –Α –Ϋ–Α –Β–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ –±―΄–Μ –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ ―¹―²–Α―Ä―΄–Ι –Ϋ–Β–Κ–Α–Ζ–Η―¹―²―΄–Ι –Ω–Α―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥ –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Ϋ–Α―¹ –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ ¬Ϊ–Ϋ–Ψ―Ä–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι¬Μ ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Ι ―¹–Β―Ä–≤–Η―¹. –ù–Α―¹ ―Ä–Α―¹–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Η–Μ–Η –Ω–Ψ ―²–Β―¹–Ϋ―΄–Φ –Η –≥―Ä―è–Ζ–Ϋ―΄–Φ ―΅–Β―²―΄―Ä–Β―Ö–Φ–Β―¹―²–Ϋ―΄–Φ –Κ–Α―é―²–Α–Φ ―¹ –¥–≤―É―Ö―ä―è―Ä―É―¹–Ϋ―΄–Φ–Η –Κ–Ψ–Ι–Κ–Α–Φ–Η –Η –Ω–Ψ–Μ―΅–Η―â–Α–Φ–Η ―²–Α―Ä–Α–Κ–Α–Ϋ–Ψ–≤, –Ω―Ä–Η–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ε–Η–≤―É―â–Η―Ö ―¹―Ä–Β–¥–Η –Φ–Α–≥–Η―¹―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―²―Ä―É–±–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Ψ–≤ –Η –Κ–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―²―Ä–Α―¹―¹, –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥―è―â–Η―Ö ―¹–Κ–≤–Ψ–Ζ―¨ –Κ–Α―é―²―΄. –‰ –Φ―΄ –Ε–Η–Μ–Η ―²–Α–Φ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Β―¹―è―Ü–Β–≤, –Ω–Ψ–Κ–Α –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β –Ϋ–Β –Ψ―²–Κ―Ä―΄–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü-―²–Ψ ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Α―è –≥–Ψ―¹―²–Η–Ϋ–Η―Ü–Α ¬Ϊ–£–Α–Β–Ϋ–≥–Α¬Μ, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –Η –Ω–Ψ―¹–Β–Μ–Η–Μ–Η –≤―¹―é ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η―é.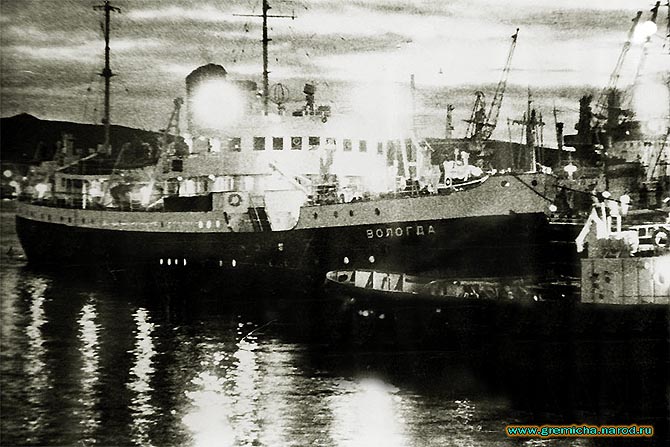 –ù–Ψ –≤―¹–Β ―ç―²–Η –Ω–Β―Ä–Η–Ω–Β―²–Η–Η –±―΄―²–Α –Η–Φ–Β–Μ–Η ―²–Ψ–≥–¥–Α –≤―²–Ψ―Ä–Ψ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Β, –Η–±–Ψ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Φ –Η –≤―¹–Β–Ψ–±―ä–Β–Φ–Μ―é―â–Η–Φ ―³–Α–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –±―΄–Μ–Α ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α. –ù–Ψ –≤―¹–Β ―ç―²–Η –Ω–Β―Ä–Η–Ω–Β―²–Η–Η –±―΄―²–Α –Η–Φ–Β–Μ–Η ―²–Ψ–≥–¥–Α –≤―²–Ψ―Ä–Ψ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Β, –Η–±–Ψ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Φ –Η –≤―¹–Β–Ψ–±―ä–Β–Φ–Μ―é―â–Η–Φ ―³–Α–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –±―΄–Μ–Α ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α.
–≠–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Β–Ι –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ―¹―è –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―²―Ä―É–¥–Ψ–≤–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–Κ―²–Η–≤, ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –¥–Μ―è –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η–Ι ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―¹–Α. –£ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η –≤―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²―΄ –Ψ―² –≤―¹–Β―Ö –Ω―Ä–Β–¥–Ω―Ä–Η―è―²–Η–Ι, ―É―΅–Α―¹―²–≤―É―é―â–Η―Ö –≤ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Η ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―¹–Α –Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ–Η ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Ι –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α, ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η–Ι. –ö–Α–Ε–¥―΄–Ι –Η–Ζ ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η –Η–Φ–Β–Μ ―¹–≤–Ψ–Η –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―³―É–Ϋ–Κ―Ü–Η–Η –Η ―¹–≤–Ψ―é –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ζ–Α –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Ζ–Α–Κ―Ä–Β–Ω–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α –Ϋ–Η–Φ ―Ä–Α–±–Ψ―² –Η ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ψ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ¬Ϊ―¹–≤–Ψ–Β–Ι¬Μ ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Η, –Α ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η―è –≤ ―Ü–Β–Μ–Ψ–Φ –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–≤–Α–Μ–Α –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―¹–Α ―Ä–Α–±–Ψ―², ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Ψ–Ι –Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ω―É―¹–Κ–Ψ–≤ ―Ä–Α–Κ–Β―² –Η –Α–Ϋ–Α–Μ–Η–Ζ–Ψ–Φ ―²–Β–Μ–Β–Φ–Β―²―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η–Η –Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Η –Ω―É―¹–Κ–Ψ–≤.
–ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α, ―¹ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Ω―É―¹–Κ–Η –±–Α–Μ–Μ–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö ―Ä–Α–Κ–Β―², –≤―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α. –£–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η–Ι –Ψ–Ϋ–Α –±–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤ –≥―É–±–Β –û–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι, ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Α –Ψ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ–Β –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ψ–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Α.
–ö–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α―à–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –Ω―Ä–Η―à–Μ–Α –≤ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ψ–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ, –Ω–Ψ –Β–Β –Ω–Ψ–≤–Ψ–¥―É –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Μ–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ―² –Η –Κ–Α–Μ–Α–Φ–±―É―Ä–Ψ–≤, –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –±―΄–Μ–Η ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Β –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α. –ë–Ψ―Ä―²–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –≤―΄–Ω–Η―¹―΄–≤–Α–Β―²―¹―è –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ–Η –±–Β–Μ―΄–Φ–Η ―Ü–Η―³―Ä–Α–Φ–Η –Ϋ–Α –Ψ–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Η ―Ä―É–±–Κ–Η –Η –≤–Η–¥–Β–Ϋ –Η–Ζ–¥–Α–Μ–Β–Κ–Α, –±―΄–Μ ¬Ϊ777¬Μ (). –£ ―²–Β –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ –Η–Ζ –Ω–Ψ–Ω―É–Μ―è―Ä–Ϋ―΄―Ö –≤ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Β ―¹–Ω–Η―Ä―²–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α–Ω–Η―²–Κ–Ψ–≤ –±―΄–Μ –Ω–Ψ―Ä―²–≤–Β–Ι–Ϋ ¬Ϊ―²―Ä–Η ―¹–Β–Φ–Β―Ä–Κ–Η¬Μ, –Ϋ–Α ―ç―²–Η–Κ–Β―²–Κ–Β –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Κ―Ä–Α―¹–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ―ç―²–Η ―¹–Α–Φ―΄–Β ―Ü–Η―³―Ä―΄. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ ―³–Α–Φ–Η–Μ–Η―é –ë–Ψ―΅–Κ–Η–Ϋ, –Α ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Ψ–Φ –±―΄–Μ –Γ―²–Α―Ä–Κ–Η–Ϋ. –ö–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¹―è, –Ϋ–Α―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–¥―É–Φ–Α–Β―à―¨. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ ―³–Α–Φ–Η–Μ–Η―é –ë–Ψ―΅–Κ–Η–Ϋ, –Α ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Ψ–Φ –±―΄–Μ –Γ―²–Α―Ä–Κ–Η–Ϋ. –ö–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¹―è, –Ϋ–Α―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–¥―É–Φ–Α–Β―à―¨.
–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –ë–Ψ―΅–Κ–Η–Ϋ –±―΄–Μ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥, –Ψ–±–Α―è―²–Β–Μ–Β–Ϋ –Η ―ç–Ϋ–Β―Ä–≥–Η―΅–Β–Ϋ. –ù–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α –≤―¹–Β ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ψ–±―É―¹–Μ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η–Ι, ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Φ―΄–Ι –Η–Φ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –Ψ―¹–≤–Ψ–Η–Μ ―¹–Ω–Β―Ü–Η―³–Η–Κ―É –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Φ―΄―Ö –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η–Ι, ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ ―¹–≤–Ψ–Η ―³―É–Ϋ–Κ―Ü–Η–Η –Ω―Ä–Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Η –Ω―É―¹–Κ–Ψ–≤ ―Ä–Α–Κ–Β―² –Η ―²–Β―Ä–Ω–Β–Μ–Η–≤–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ –≤―¹–Β –Ϋ–Β―É–¥–Ψ–±―¹―²–≤–Α, ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―²―É –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Α –Μ–Η―à–Ϋ–Η―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι –Ω―Ä–Η –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Α―Ö –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β βÄî –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Α –Η―¹–Ω―΄―²–Α―²–Β–Μ–Β–Ι, –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–≤–Α–≤―à–Η―Ö –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Ω―É―¹–Κ–Ψ–≤, –±―΄–Μ–Α –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι. –£ –Β–Β ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –≤―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ–Η –Ω―Ä–Β–¥–Ω―Ä–Η―è―²–Η–Ι βÄî ―Ä–Α–Ζ―Ä–Α–±–Ψ―²―΅–Η–Κ–Ψ–≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Ϋ―΄―Ö ―΅–Α―¹―²–Β–Ι ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―¹–Α –Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, ―¹―²–Α―Ä―²–Ψ–≤–Α―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Α, ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–≤―à–Α―è –Η–Ζ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Η–≥–Ψ–Ϋ–Α, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄ –Η–Ζ –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Ι. –ü―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ–Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–≤–Α–Μ–Η –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ―¨ –Ζ–Α ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ψ–Ι ¬Ϊ―¹–≤–Ψ–Β–Ι¬Μ ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Η –Η –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Η–Β –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄―Ö –Φ–Β―Ä, –Β―¹–Μ–Η –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Α–Μ–Η –Κ–Α–Κ–Η–Β-–Μ–Η–±–Ψ –Ϋ–Β―à―²–Α―²–Ϋ―΄–Β ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η–Η.
–ü–Ψ―¹–Μ–Β –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η ―è –±―΄–Μ –≤–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄ –Η―¹–Ω―΄―²–Α―²–Β–Μ–Β–Ι –Η –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –≤―΄―à–Β–Μ –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β. –Γ–≤–Ψ–Ι –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –Ω―É―¹–Κ ―è –¥–Ψ ―¹–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä –Ω–Ψ–Φ–Ϋ―é ―¹–Ψ –≤―¹–Β–Φ–Η –Ω–Ψ–¥―Ä–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²―è–Φ–Η.
–ü―É―¹–Κ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α ―¹―²–Α―Ä―²–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Η, ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―É –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –ö–Η–Μ―¨–¥–Η–Ϋ. –ü―Ä–Η –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Β –Κ ―¹―²–Α―Ä―²–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Μ–Β–≥–Μ–Α –Ϋ–Α –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Κ―É―Ä―¹ –Η –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ζ–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α ―¹―²–Α―Ä―²–Ψ–≤―É―é –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―É. –ü―Ä–Η –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α―¹–Α –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ–Η―¹―¨ –Ω―Ä–Β–¥–≤–Α―Ä–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η, ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ψ–Ι –Ϋ–Α–≤–Η–≥–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―¹–Α –Η –≤–Ζ–Α–Η–Φ–Ψ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Β–Φ ―¹ –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–≤–Α―é―â–Η–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Φ, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ω―É―¹–Κ–Α.
–ù–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü, –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α―Ä―²–Ψ–≤–Α―è –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Α. –£―¹–Β –Η―¹–Ω―΄―²–Α―²–Β–Μ–Η –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―è―²―¹―è –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Φ–Β―¹―²–Α―Ö: ―¹―²–Α―Ä―²–Ψ–≤–Α―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Α ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Β―² –Ϋ–Α –Ω―É–Μ―¨―²–Α―Ö, –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α―é―² –Ζ–Α –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è–Φ–Η –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤ –Η ―³―É–Ϋ–Κ―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―¹–Η―¹―²–Β–Φ –Η –Α–Ω–Ω–Α―Ä–Α―²―É―Ä―΄. –€–Ψ–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ βÄî –Ϋ–Α ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–Ι –Ω–Α–Μ―É–±–Β ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Α –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ –Ω―É―¹–Κ–Ψ–≤–Ψ–Ι ―à–Α―Ö―²―΄. –€–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―²―è–Ϋ―É―²―¨ ―Ä―É–Κ―É –Η –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨ –Β–Β –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹ ―à–Α―Ö―²―΄ βÄî ―²–Α–Φ, ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Ψ, ―¹―²–Ψ–Η―² ―Ä–Α–Κ–Β―²–Α, ―²–Α–Φ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ―è―²―¹―è –≥–Ψ―Ä―é―΅–Β–Β –Η –Ψ–Κ–Η―¹–Μ–Η―²–Β–Μ―¨, –Ζ–Α―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Β―² –Φ–Ψ―â–Ϋ―΄–Ι –¥–≤–Η–≥–Α―²–Β–Μ―¨ –Η –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Α―è ―¹–Η–Μ–Α –Ω–Ψ–Ϋ–Β―¹–Β―² ―Ä–Α–Κ–Β―²―É –≤–≤–Β―Ä―Ö. –£―¹–Β –Ζ–Ϋ–Α―é―² –Ψ –Ω–Ψ―²–Β–Ϋ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―è―²―¹―è –≤ –Ϋ–Α–Ω―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Η. –≠―²–Ψ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ, ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –¥–Β―¹―è―²―¨-–¥–≤–Β–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²―¨ –Ω―É―¹–Κ–Ψ–≤ –Ω–Ψ―è–≤–Η―²―¹―è ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Α―è ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤ –±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―¹―²–Α―Ä―²–Α, –Α ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –Ψ―¹―²―Ä–Ψ –Ψ―â―É―â–Α–Β―² ―¹–≤–Ψ–Β –Ω―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Β –≤ –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Φ –Ζ–Α–Φ–Κ–Ϋ―É―²–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―¹―²–≤–Β –Ψ―²―¹–Β–Κ–Α, –≤ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Β –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è ―¹―²–Α―Ä―²―É―é―â–Α―è ―Ä–Α–Κ–Β―²–Α, –Ψ―²–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ψ―² –Μ―é–¥–Β–Ι ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Β―²–Α–Μ–Μ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±–Ψ–Μ–Ψ―΅–Κ–Ψ–Ι –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Α ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ–Ψ–Ι ―à–Α―Ö―²―΄. –£ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Β ―¹―²–Ψ–Η―² ―²–Η―à–Η–Ϋ–Α, –Ϋ–Α ―³–Ψ–Ϋ–Β –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―΅–Β―²–Κ–Ψ –Η–¥―É―² –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΄ –Ψ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Β–Φ―΄―Ö –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η―è―Ö.
–®–Α―Ö―²–Α –Ζ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Β―²―¹―è –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι, –Η–¥–Β―² –Ϋ–Α–¥–¥―É–≤ –±–Α–Κ–Ψ–≤ ―Ä–Α–Κ–Β―²―΄, –¥–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –≤ ―à–Α―Ö―²–Β –≤―΄―Ä–Α–≤–Ϋ–Η–≤–Α–Β―²―¹―è ―¹ –Ζ–Α–±–Ψ―Ä―²–Ϋ―΄–Φ, –Ψ―²–Κ―Ä―΄–≤–Α–Β―²―¹―è –Κ―Ä―΄―à–Κ–Α ―à–Α―Ö―²―΄, –Ϋ–Α–±―Ä–Α–Ϋ―΄ –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≤―¹–Β―Ö ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö ―Ü–Β–Ω–Β–Ι, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Α –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –±–Ψ―Ä―²–Ψ–≤–Ψ–Ι ―¹–Η―¹―²–Β–Φ―΄ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è ―Ä–Α–Κ–Β―²―΄ –Η –≤–Ψ―² βÄî ―¹―²–Α―Ä―²! –£–Ψ–Ω―Ä–Β–Κ–Η –Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Η―è–Φ, ―¹–Μ―΄―à–Β–Ϋ –Ϋ–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―à―É–Φ –≤ ―à–Α―Ö―²–Β, –Ζ–Α―²–Β–Φ βÄî –¥–≤–Α –Ϋ–Β―¹–Η–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―É–¥–Α―Ä–Α –±―É–≥–Β–Μ–Β–Ι ―Ä–Α–Κ–Β―²―΄ –Ψ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è―é―â–Η–Β –Ω―É―¹–Κ–Ψ–≤–Ψ–Ι ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Η –Η βÄî –Φ–Β―Ä―²–≤–Α―è ―²–Η―à–Η–Ϋ–Α. –ß–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Β–Κ―É–Ϋ–¥ –Ω–Ψ –≥―Ä–Ψ–Φ–Κ–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―â–Β–Ι ―¹–≤―è–Ζ–Η –Η–Ζ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―¹―²–Α –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―² ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η–Β: ¬Ϊ―Ä–Α–Κ–Β―²–Α –≤―΄―à–Μ–Α!¬Μ. –£–Ζ―Ä―΄–≤ ―ç–Φ–Ψ―Ü–Η–Ι, –≤―¹–Β –Ε–Φ―É―² ―Ä―É–Κ–Η –¥―Ä―É–≥ –¥―Ä―É–≥―É, –Ψ–Ε–Η–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –¥–Β–Μ―è―²―¹―è –≤–Ω–Β―΅–Α―²–Μ–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η. –½–Α―²–Β–Φ, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –≤―¹–Ω–Μ―΄―²–Η―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –≤ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β, ―¹ –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–≤–Α―é―â–Β–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―² –Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η―è –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –≤―΄―Ö–Ψ–¥ ―Ä–Α–Κ–Β―²―΄ –Η–Ζ-–Ω–Ψ–¥ –≤–Ψ–¥―΄ –Η –Β–Β –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ ―É―΅–Α―¹―²–Κ–Β ―²―Ä–Α–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Η–Η –Ω–Ψ–Μ–Β―²–Α –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Η ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ. –û―¹―²–Α–Β―²―¹―è –Ε–¥–Α―²―¨, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ω―Ä–Η–¥–Β―² ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η–Β ―¹ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ―è –Ψ ―²–Ψ–Φ, –Κ―É–¥–Α –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ–Α ―Ä–Α–Κ–Β―²–Α.
–ù–Ψ ―ç―²–Ψ –±―É–¥–Β―² –Β―â–Β –Ϋ–Β ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ, –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ ―É–Ζ–Ϋ–Α–Β–Φ –Ω–Ψ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Β –≤ –±–Α–Ζ―É, –Α –Ω–Ψ–Κ–Α –Ψ–±―ä―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è ¬Ϊ–Ω–Β―Ä–Β–Κ―É―¹¬Μ. –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―².

–£–Β―Ä―é–Ε―¹–Κ–Η–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–£–ù–ê), –™–Ψ―Ä–Μ–Ψ–≤ –û–Μ–Β–≥ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–û–ê–™), –€–Α–Κ―¹–Η–Φ–Ψ–≤ –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–€–£–£), –ö–Γ–£.
198188. –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥, ―É–Μ. –€–Α―Ä―à–Α–Μ–Α –™–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α, –¥–Ψ–Φ 11/3, –Κ–≤. 70. –ö–Α―Ä–Α―¹–Β–≤ –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅, –Α―Ä―Ö–Η–≤–Α―Ä–Η―É―¹.
–Γ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Α–Φ–Η –Η –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η –Ψ–±―Ä–Α―â–Α―²―¨―¹―è fregat@ post.com –€–Α–Κ―¹–Η–Φ–Ψ–≤ –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅
29.05.201108:2429.05.2011 08:24:22
0
28.05.201108:1028.05.2011 08:10:28
–ö–Α–Κ-―²–Ψ –Φ–Β–Ϋ―è –≤―΄–Ζ–≤–Α–Μ –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Α―Ä –Ω–Ψ–Μ–Κ–Α, ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Β–¥–Β―² –Ϋ–Α –¥–Β–Ϋ–Β–Κ –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥, –Η –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –Φ–Ϋ–Β –Ϋ–Α–≤–Β―¹―²–Η―²―¨ –Φ–Α―²―¨. –· –±―΄―¹―²―Ä–Ψ ―¹–±–Β–≥–Α–Μ –Ϋ–Α –±–Α―²–Α―Ä–Β―é –Κ –Ψ―²―Ü―É. –£–¥–≤–Ψ–Β–Φ ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Μ–Η –Κ–Ψ–Β-―΅―²–Ψ –Η–Ζ –Β–¥―΄, –Η –Φ―΄ ―²―Ä–Ψ–Ϋ―É–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Ω―É―²―¨. –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤ –≤―΄―¹–Α–¥–Η–Μ –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Β–¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –Ψ―² –¥–Ψ–Φ–Α, –Ϋ–Α –Δ–Β–Α―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Η, –Η –≤–Β–Μ–Β–Μ –≤–Β―΅–Β―Ä–Ψ–Φ –Ω―Ä–Η–±―΄―²―¨ –Κ –Ϋ–Β–Φ―É –Ϋ–Α –ü–Β―²―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ―É―é ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―É, –Κ 20 ―΅–Α―¹–Α–Φ. –· –Ω–Ψ–Φ―΅–Α–Μ―¹―è –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι. –£–Η–¥–Η–Φ–Ψ, ―¹–Ψ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ ―è –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥–Η–Μ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –≤–Ω–Β―΅–Α―²–Μ–Β–Ϋ–Η–Β. –€–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Η–Ι ―¹–Ψ–Μ–¥–Α―² –≤ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―³–Ψ―Ä–Φ–Β, ―¹ –Ϋ–Α–≥–Α–Ϋ–Ψ–Φ, –±–Β–Ε–Α–Μ –≤ ―¹–Α–Ω–Ψ–≥–Α―Ö, –Ω–Ψ–¥–±–Η―²―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–Κ–Ψ–≤–Α–Φ–Η, –Ω–Ψ ―É–Μ–Η―Ü–Β –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –ü–Β―΅–Α―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤. –£–Ψ―² –Η –¥–Ψ–Φ. –ü–Ψ―¹―²―É―΅–Α–Μ. –ù–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β―². –Θ–≤–Η–¥–Β–Μ–Α ―¹–Ψ―¹–Β–¥–Κ–Α, –Ζ–Α–Ψ―Ö–Α–Μ–Α, –Ω–Ψ―à–Μ–Α –Ϋ–Α –Ϋ–Α–±–Β―Ä–Β–Ε–Ϋ―É―é –Κ–Α–Ϋ–Α–Μ–Α –™―Ä–Η–±–Ψ–Β–¥–Ψ–≤–Α –Ζ–Α –Φ–Α―²–Β―Ä―¨―é, –≥–¥–Β ―²–Α –Ω–Ψ–Μ–Η–≤–Α–Μ–Α –≥―Ä―è–¥–Κ–Η. –‰ –≤–Ψ―² –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ –Φ–Α–Φ–Α. –· –Β–Β –Ϋ–Β ―É–Ζ–Ϋ–Α–Μ. –€–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Α―è, ―¹–≥–Ψ―Ä–±–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è, ―Ö―É–¥–Α―è, ―¹ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ –Ε–Η–≤–Ψ―²–Ψ–Φ... –ö–Α–Κ ―É―Ä–Ψ–¥―É–Β―² ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α –≥–Ψ–Μ–Ψ–¥...
–Γ―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–Μ ―è ―¹ –Φ–Α―²–Β―Ä―¨―é –Ψ―²–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Φ–Ϋ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è. –ü–Ψ–Φ–Ψ–≥ –Β–Ι –Ϋ–Α –Ψ–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ψ–Ϋ–Α –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ ―¹–Ψ―¹–Β–¥―è–Φ–Η ―Ä–Α–Ζ–±–Η–Μ–Α –Ω―Ä―è–Φ–Ψ –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ –¥–Ψ–Φ–Α, –Ϋ–Α –Ϋ–Α–±–Β―Ä–Β–Ε–Ϋ–Ψ–Ι. –Γ―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤―¹–Β ―ç―²–Ψ –≤―΄–≥–Μ―è–¥–Β–Μ–Ψ. –Π–Β–Ϋ―²―Ä –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α, –Ω―Ä–Ψ―¹–Ω–Β–Κ―² –†–Η–Φ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ-–ö–Ψ―Ä―¹–Α–Κ–Ψ–≤–Α –Η... –Ψ–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―Ü―΄. –ù–Ψ –±–Μ–Ψ–Κ–Α–¥–Α –Ζ–Α―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Α –Μ–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―Ü–Β–≤ ―Ä–Α–Ζ–±–Η–≤–Α―²―¨ –≥―Ä―è–¥–Κ–Η –Η –Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥–Η ―É–Μ–Η―Ü...
–ü–Ψ―¹–Μ–Β –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ ―è ―΅–Α―¹―²–Ψ –Ω―Ä–Η–Β–Ζ–Ε–Α–Μ –Κ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É ―¹―²–Α―Ä–Ψ–Φ―É –¥–Ψ–Φ―É. –ù–Α –Φ–Β―¹―²–Β –±―΄–≤―à–Η―Ö –Ψ–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤ ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –≤―΄―Ä–Ψ―¹–Μ–Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Β –¥–Β―Ä–Β–≤―¨―è, –Η –Ϋ–Η―΅―²–Ψ –Ϋ–Β –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Β―² –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ζ–¥–Β―¹―¨ –±―΄–Μ–Ψ –≤ –≤–Ψ–Ι–Ϋ―É. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ ―â–Β―Ä–±–Η–Ϋ–Α–Φ –≤ –Ψ–±–Μ–Η―Ü–Ψ–≤–Κ–Β ―è ―É–Ζ–Ϋ–Α–Μ ―²–Ψ –Φ–Β―¹―²–Ψ, –≥–¥–Β –Ω–Β―Ä–Β–Ε–Η–Μ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –Α―Ä―²–Ψ–±―¹―²―Ä–Β–Μ, ―É–≤–Η–¥–Β–Μ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ ―É–±–Η―²–Ψ–≥–Ψ.
...–£–Β―΅–Β―Ä–Ψ–Φ –Φ–Α–Φ–Α –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Α –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Α –Κ–≤–Α―Ä―²–Η―Ä―É –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Α―Ä–Α. –€―΄ ―É–Β―Ö–Α–Μ–Η –≤ –Ω–Ψ–Μ–Κ.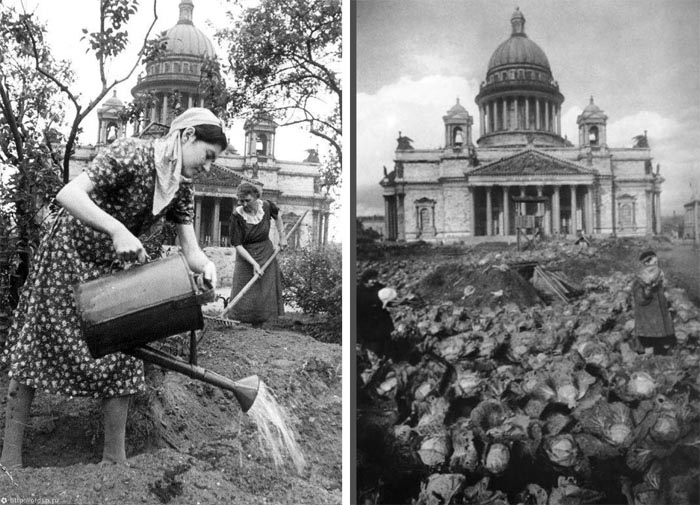
* * *
–£―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―è ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Α–Μ –Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Α –≤ –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Η–Β –Φ–Α―¹―²–Β―Ä―¹–Κ–Η–Β βÄî –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α―²―¨ –Ψ―²―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―É―é –≥–Α―É–±–Η―Ü―É. –‰–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä, –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η–≤ –±–Ψ–Ι―Ü–Ψ–≤ –Ϋ–Α –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Β, ―É―¹–Α–¥–Η–Μ –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Ι –Φ–Ψ―²–Ψ―Ü–Η–Κ–Μ. –Γ–Β–Μ ―è, –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Α –Ζ–Α–¥–Ϋ–Β–Β ―¹–Η–¥–Β–Ϋ―¨–Β, –Η –Φ―΄ –Ω–Ψ–Β―Ö–Α–Μ–Η. –ù–Ψ–≥–Η –Φ–Ψ–Η –¥–Ψ ―É–Ω–Ψ―Ä–Ϋ―΄―Ö –Ω–Β–¥–Α–Μ–Β–Ι –Ϋ–Β –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Η, –Η –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ι –Ε–Β –Κ–Ψ―΅–Κ–Β ―è –Β–¥–≤–Α –Ϋ–Β –≤―΄–Μ–Β―²–Β–Μ –Η–Ζ ―¹–Β–¥–Μ–Α. –‰–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä ―΅–Β―Ä―²―΄―Ö–Ϋ―É–Μ―¹―è –Η –≤–Β–Μ–Β–Μ –Κ―Ä–Β–Ω–Κ–Ψ –¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨―¹―è –Ζ–Α –Β–≥–Ψ ―à–Β―é. –ù–Ψ –Η ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Μ–Ψ.
–ù–Α –Ϋ–Β―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Β ―è ―²–Ψ –Η –¥–Β–Μ–Ψ ―¹―ä–Β–Ζ–Ε–Α–Μ –Ϋ–Α–±–Ψ–Κ –Η –Ϋ–Α –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–Φ ―É―Ö–Α–±–Β –Ϋ–Β ―É–¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ―¹―è –Η ―É–Ω–Α–Μ. –‰ –Ψ–±–Η–¥–Ϋ–Ψ, –Η –±–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Η –≤ ―²–Ψ –Ε–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹–Φ–Β―à–Ϋ–Ψ. –ê –Β―Ö–Α―²―¨-―²–Ψ –Ϋ–Α–¥–Ψ. –ù–Β –±―Ä–Ψ―¹–Α―²―¨ –Ε–Β –Φ–Β–Ϋ―è –≤ –Μ–Β―¹―É –Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥–Η –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Η. –Γ―²–Α–Μ–Η –¥―É–Φ–Α―²―¨, –Κ–Α–Κ –Φ–Ϋ–Β ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ ―É–Ω–Ψ―Ä―΄ –¥–Μ―è –Ϋ–Ψ–≥. –ü―Ä–Η–¥―É–Φ–Α–Μ–Η. –‰–Ζ –≤–Β―Ä–Β–≤–Κ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –≤ ―¹―É–Φ–Κ–Β ―¹ –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Φ–Β–Ϋ―²–Α–Φ–Η, –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä –Ω–Ψ–Μ–Κ–Α ―¹–≤―è–Ζ–Α–Μ ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –≤―Ä–Ψ–¥–Β ―¹―²―Ä–Β–Φ―è–Ϋ. –Δ–Α–Κ –Η –¥–Ψ–Β―Ö–Α–Μ–Η. –û–±―Ä–Α―²–Ϋ―΄–Ι –Ω―É―²―¨ ―è –Ω―Ä–Ψ–¥–Β–Μ–Α–Μ –Ϋ–Α –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Β ―¹ –±–Ψ–Ι―Ü–Α–Φ–Η. –‰―¹–Ω―΄―²―΄–≤–Α―²―¨ ―¹―É–¥―¨–±―É –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Β ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Ψ―¹―¨.
–û–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ –Ϋ–Α–Φ –Ψ–±―ä―è–≤–Η–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Κ –Ψ―²–≤–Ψ–¥–Η―²―¹―è –Ϋ–Α –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Η. –ü–Ψ ¬Ϊ―¹–Ψ–Μ–¥–Α―²―¹–Κ–Ψ–Φ―É ―²–Β–Μ–Β–≥―Ä–Α―³―É¬Μ ―¹―²–Α–Μ–Ψ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ ―¹ –ö–Α―Ä–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–Β―à–Β–Ι–Κ–Α ―΅–Α―¹―²―¨ –Ω–Β―Ä–Β–±―Ä–Α―¹―΄–≤–Α―é―² –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ –ù–Β–≤―¹–Κ–Ψ–Ι –î―É–±―Ä–Ψ–≤–Κ–Η, ―΅―²–Ψ –Φ―΄ –±―É–¥–Β–Φ ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤ –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –Ω–Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤―É –±–Μ–Ψ–Κ–Α–¥―΄. –ë–Ψ–Ι―Ü―΄ –Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ –Μ–Η–Κ–Ψ–≤–Α–Μ–Η. –ù–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü-―²–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹–Η–¥–Β–Ϋ–Η–Β –≤ –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β, –Ω–Ψ―Ä–Α –¥–Α―²―¨ ―³―Ä–Η―Ü–Α–Φ –Ω–Η–Ϋ–Κ–Α –Η –Ψ―²–±―Ä–Ψ―¹–Η―²―¨ –Ψ―² –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Α!
–£ ―²–Α–Κ–Ψ–Φ –Ϋ–Α―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η–Η –Φ―΄ –≤ –Ψ–¥–Ϋ―É –Η–Ζ –Ϋ–Ψ―΅–Β–Ι –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ζ–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Φ–Α―à–Η–Ϋ―΄, –Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Α―è –Κ–Ψ–Μ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Α –¥–≤–Η–Ϋ―É–Μ–Α―¹―¨ –≤ –Ω―É―²―¨. –†–Α–Ϋ–Ψ ―É―²―Ä–Ψ–Φ –Β–Β –Ψ–±―¹―²―Ä–Β–Μ―è–Μ–Η ¬Ϊ–Φ–Β―¹―¹–Β―Ä―à–Φ–Η―²―²―΄¬Μ. –ë–Ψ–Ι―Ü―΄ –Ζ–Α–Μ–Β–≥–Μ–Η –≤ –Κ―é–≤–Β―²–Α―Ö –Η –Ψ―²–Κ―Ä―΄–Μ–Η –Ω–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Α–Φ –Ψ–≥–Ψ–Ϋ―¨ –Η–Ζ –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―Ä―É–Ε–Η―è. –†–Α―¹―¹―²―Ä–Β–Μ―è–Μ –≤–Β―¹―¨ –±–Α―Ä–Α–±–Α–Ϋ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―¨–≤–Β―Ä–Α –Η ―è. –£ ―²–Β –¥–Ϋ–Η –≤–Ψ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Ψ–≤–Ψ–Ι –≥–Α–Ζ–Β―²–Β –Ω–Β―΅–Α―²–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹―²–Η―Ö–Η –Δ–≤–Α―Ä–¥–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ –£–Α―¹–Η–Μ–Η–Η –Δ–Β―Ä–Κ–Η–Ϋ–Β, –Ψ ―²–Ψ–Φ, –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ ―¹–±–Η–Μ –Η–Ζ –≤–Η–Ϋ―²–Ψ–≤–Κ–Η ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―². –ê –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É –Η ―è –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥―É ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ ―¹–±–Η―²―¨ –Η–Ζ ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―¨–≤–Β―Ä–Α ¬Ϊ–Φ–Β―¹―¹–Β―Ä¬Μ? –î–Α –Η –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―²―¨... 
–ö –≤–Β―΅–Β―Ä―É –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ–Η –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Ψ–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ. –†–Α–Ζ–Ε–Η–≥–Α―²―¨ –Κ–Ψ―¹―²―Ä―΄ –Ζ–Α–Ω―Ä–Β―²–Η–Μ–Η. –ü–Ψ–Β–Μ–Η ―¹―É―Ö–Α―Ä–Β–Ι. –€–Β–Ϋ―è –≤–¥―Ä―É–≥ –≤―΄–Ζ–≤–Α–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–Μ–Κ–Α –Ω–Ψ–¥–Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ –ù–Β―¹–≤–Β―²–Α–Ι–Μ–Ψ. –û–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Ψ―Ä―É–¥–Η–Β –Ϋ–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Φ ―ç―²–Α–Ω–Β ―¹–±–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹ –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Η –Η –Β–≥–Ψ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Ι―²–Η. –ù–Β―¹–≤–Β―²–Α–Ι–Μ–Ψ ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ, ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Μ–Η ―è –Ζ–Α–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥―É. –· ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ϋ―é –≤―¹–Β –Ω–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ―²―΄, ―΅―²–Ψ ―É –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö ―΅―²–Ψ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Ζ–Α–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Μ. –Γ―²–Α–Μ –Β–Φ―É –Ω–Β―Ä–Β―΅–Η―¹–Μ―è―²―¨, –≥–¥–Β –Μ–Β–Ε–Α–Μ–Α ―²―Ä―É–±–Κ–Α –Ψ―² –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–≥–Α–Ζ–Α, –≥–¥–Β –Κ–Α―¹–Κ–Α... –û–Ϋ –Ω–Β―Ä–Β–±–Η–Μ –Η ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ:
βÄî –Ξ–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ. –ü–Ψ–Β–¥–Β―à―¨ ―¹ –≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Φ –Ϋ–Α –Φ–Ψ―²–Ψ―Ü–Η–Κ–Μ–Β –Η –Ϋ–Α–Ι–¥–Β―à―¨ –Ψ―Ä―É–¥–Η–Β. –ù―É–Ε–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²―¨ –Β–≥–Ψ –Κ –Φ–Β―¹―²―É ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–Μ–Κ–Α. –£–Ψ–Ζ―¨–Φ–Η―²–Β ―¹ ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –Ϋ–Α –≤―¹―è–Κ–Η–Ι ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι –Κ–Α–Ϋ–Η―¹―²―Ä―É ―¹ –±–Β–Ϋ–Ζ–Η–Ϋ–Ψ–Φ...
–€–Α―à–Η–Ϋ―É ―¹ –Ω―Ä–Η―Ü–Β–Ω–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Κ –Ϋ–Β–Ι –Ω―É―à–Κ–Ψ–Ι –Φ―΄ –Ϋ–Α―à–Μ–Η –Ϋ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ ―Ä–Α–Ζ–≤–Η–Μ–Ψ–Κ –Ω–Ψ–Ζ–¥–Ϋ–Ψ –Ϋ–Ψ―΅―¨―é. –û–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ ―É –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η―¹―²–Ψ–≤ –Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ―¹―è –±–Β–Ϋ–Ζ–Η–Ϋ –Η –Ψ–Ϋ–Η –¥–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Μ–Η―¹―¨ ―É―²―Ä–Α, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Η―¹–Κ–Α―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö. –£–Ψ―² –≥–¥–Β –Ω―Ä–Η–≥–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≥–Ψ―Ä―é―΅–Β–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –≤–Ζ―è–Μ–Η –Ω–Ψ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Η―é –Ω–Ψ–¥–Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ–Α.
–½–Α–Ω―Ä–Α–≤–Η–≤ –Φ–Α―à–Η–Ϋ―É, –Φ―΄ –Ω–Ψ–Β―Ö–Α–Μ–Η –≤ –Ω–Ψ–Μ–Κ. –ö ―É―²―Ä―É ―è –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É –Ω–Ψ–Μ–Κ–Α, ―΅―²–Ψ –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η–Β –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Ψ.
βÄî –Γ–Ω–Α―¹–Η–±–Ψ, ―¹―΄–Ϋ–Ψ–Κ! –ë―É–¥–Β―à―¨. –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ –Κ –Φ–Β–¥–Α–Μ–Η, βÄî ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ω–Ψ–¥–Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ. βÄî –ê ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –Ω―Ä–Η―¹–≤–Α–Η–≤–Α―é ―²–Β–±–Β –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β ¬Ϊ–Β―³―Ä–Β–Ι―²–Ψ―Ä¬Μ.
–Δ–Α–Κ –Φ–Ϋ–Β –≤ –Ψ–¥–Η–Ϋ–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²―¨ –Μ–Β―² –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ψ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Β –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β. –· –Η–Φ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –≥–Ψ―Ä–¥–Η–Μ―¹―è. –Θ –Φ–Β–Ϋ―è ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Β –Ω―É―¹―²―΄–Β –Ω–Β―²–Μ–Η―Ü―΄ ―Ä―è–¥–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ, –Α –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Α―è –Ω–Ψ–Μ–Ψ―¹–Κ–Α ―¹ –Φ–Β–¥–Ϋ―΄–Φ ―²―Ä–Β―É–≥–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ. –€–Β–¥–Α–Μ–Η –Ε–Β –≤ ―²–Ψ―² ―Ä–Α–Ζ ―è –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ. –Θ–Ε–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –Φ–Ϋ–Β –±―΄–Μ –≤―Ä―É―΅–Β–Ϋ –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ II ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Η. –£ ―É–Κ–Α–Ζ–Β –ü―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Η―É–Φ–Α –£–Β―Ä―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ–≤–Β―²–Α –Γ–Γ–Γ–† –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ ―è –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Α―é―¹―¨ ¬Ϊ–Ζ–Α –Ψ―²–Μ–Η―΅–Η―è –≤ –±–Ψ―è―Ö ―¹ –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Ψ-―³–Α―à–Η―¹―²―¹–Κ–Η–Φ–Η –Ζ–Α―Ö–≤–Α―²―΅–Η–Κ–Α–Φ–Η –≤ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ 1941βÄ™1945 –≥–≥.¬Μ.* * *
–ü–Β―Ä–≤–Ψ–Β, ―΅―²–Ψ –Φ―΄ ―¹―²–Α–Μ–Η –¥–Β–Μ–Α―²―¨, –Ω―Ä–Η–±―΄–≤ –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ –ù–Β–≤―¹–Κ–Ψ–Ι –î―É–±―Ä–Ψ–≤–Κ–Η, βÄî ―ç―²–Ψ –Ζ–Α―Ä―΄–≤–Α―²―¨―¹―è –≤ –Ζ–Β–Φ–Μ―é. –Θ–Ε–Β –Ϋ–Α ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –Ϋ–Β–Φ―Ü―΄ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β–Μ–Η ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ψ–≥–Ϋ–Β–≤–Ψ–Ι –Ϋ–Α–Μ–Β―² –Ϋ–Α –Ϋ–Α―à–Η –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Η. –ü–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Β, ―³–Α―à–Η―¹―²―΄ ―É–Ε–Β ―É–Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ψ―à–Μ–Α ―¹–≤–Β–Ε–Α―è ―΅–Α―¹―²―¨. 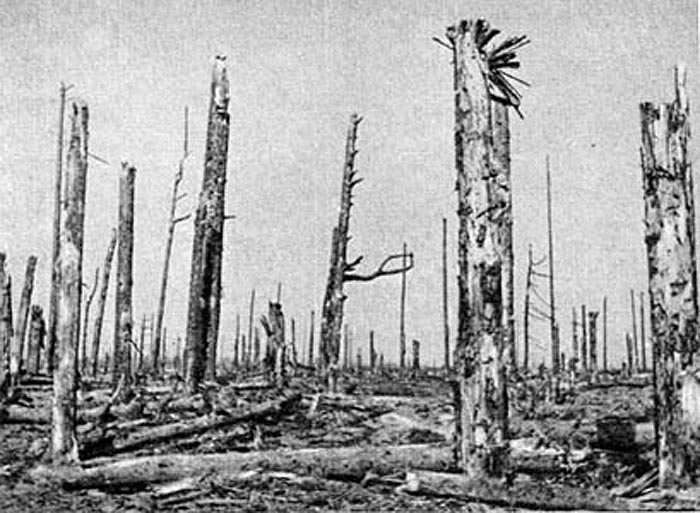
–ü–Β―Ä–Β–¥ ―¹–Α–Φ―΄–Φ –Α―Ä―²–Ϋ–Α–Μ–Β―²–Ψ–Φ ―è –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ –Φ–Α―Ä―à–Β–≤―΄―Ö ―¹―²―Ä–Β–Μ–Κ–Ψ–≤―΄―Ö –Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η–Κ –Μ–Β―² ―΅–Β―²―΄―Ä–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²–Η. –ï―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Φ―΄ –Ψ–±―Ä–Α–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –¥―Ä―É–≥ –¥―Ä―É–≥―É, ―¹―²–Α–Μ–Η ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―²―¨ –Ψ –Ϋ–Α―à–Η―Ö ―¹–Ψ–Μ–¥–Α―²―¹–Κ–Η―Ö –¥–Β–Μ–Α―Ö. –ü–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η –Φ―΄ –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Η–Ϋ―É―², ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ –Ϋ–Β–Φ―Ü―΄ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ψ–±―¹―²―Ä–Β–Μ. –€–Ψ–Ι ―¹–Ψ–±–Β―¹–Β–¥–Ϋ–Η–Κ ―¹–Κ–Α―²–Η–Μ―¹―è –≤ –Ω―Ä–Η–¥–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ―É―é –Κ–Α–Ϋ–Α–≤―É, –Α ―è –Ω–Ψ–Μ–Ζ–Κ–Ψ–Φ –¥–Ψ–±―Ä–Α–Μ―¹―è –¥–Ψ –≤―΄―Ä―΄―²–Ψ–≥–Ψ –¥–Μ―è –Α–≤―²–Ψ–Φ–Α―à–Η–Ϋ―΄ ―É–Κ―Ä―΄―²–Η―è. –ö–Ψ―²–Μ–Ψ–≤–Α–Ϋ –Β―â–Β –Ϋ–Β –±―΄–Μ –≥–Ψ―²–Ψ–≤, –Η –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Α ―¹―²–Ψ―è–Μ–Α ―Ä―è–¥–Ψ–Φ. –Γ–Ψ–±―Ä–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Α―¹ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Ω―è―²―¨. –Γ–Ϋ–Α―Ä―è–¥―΄ –Ω–Α–¥–Α–Μ–Η –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Ψ. –î–Β―Ä–Β–≤―¨―è, –≤―΄–≤–Ψ―Ä–Ψ―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≤–Ζ―Ä―΄–≤–Α–Φ–Η, ―¹ ―²―Ä–Β―¹–Κ–Ψ–Φ ―Ä―É―à–Η–Μ–Η―¹―¨, –Ψ―¹―΄–Ω–Α―è –Ϋ–Α―¹ ―¹–±–Η―²―΄–Φ–Η –≤–Β―²–Κ–Α–Φ–Η.
–ù–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―¹–Ϋ–Α―Ä―è–¥―΄ –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ―Ä―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨, –Α ―É―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –≤ –±–Ψ–Μ–Ψ―²–Ψ ―¹ ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ –±―É–Μ―¨–Κ–Α―é―â–Η–Φ –Ζ–≤―É–Κ–Ψ–Φ. –£–Ϋ–Β–Ζ–Α–Ω–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–Ζ–¥–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Β –≤–Η–Ζ–≥ ―¹–Ϋ–Α―Ä―è–¥–Α, –Α –Ϋ–Η–Ζ–Κ–Η–Ι ―Ä–Β–≤. –£–Ζ―Ä―΄–≤! –ù–Α―¹ ―²―Ä―è―Ö–Ϋ―É–Μ–Ψ, –Ψ–±―¹―΄–Ω–Α–Μ–Ψ –Κ–Ψ–Φ―¨―è–Φ–Η –Ζ–Β–Φ–Μ–Η. –û–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, ―¹–Ϋ–Α―Ä―è–¥ ―É–≥–Ψ–¥–Η–Μ –≤ ―¹―²–Ψ―è–≤―à―É―é –Ϋ–Α–≤–Β―Ä―Ö―É –Φ–Α―à–Η–Ϋ―É.
–ü―Ä–Η–Ω–Ψ–Μ–Ζ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ –Φ–Μ–Α–¥―à–Η–Ι –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―². –û―¹–Κ–Ψ–Μ–Κ–Ψ–Φ ―¹–Ϋ–Α―Ä―è–¥–Α –Β–Φ―É –Ψ―²–Ψ―Ä–≤–Α–Μ–Ψ –Κ–Η―¹―²―¨ –Μ–Β–≤–Ψ–Ι ―Ä―É–Κ–Η. –†–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–≤―è–Ζ–Α–Μ–Η.
–û–±―¹―²―Ä–Β–Μ –¥–Μ–Η–Μ―¹―è –Φ–Η–Ϋ―É―² –Ω―è―²–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²―¨. –û―΅–Β–Ϋ―¨ ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ –¥–Ψ―¹―²–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹―²–Ψ―è–≤―à–Β–Ι –≤ ―Ä–Ψ―â–Η―Ü–Β –Ζ–Β–Ϋ–Η―²–Ϋ–Ψ–Ι –±–Α―²–Α―Ä–Β–Β. –Δ―É–¥–Α ―¹–Ω–Β―à–Η–Μ–Η ―¹–Α–Ϋ–Η―²–Α―Ä―΄, ―²–Α–Φ –±―΄–Μ–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ―΄―Ö. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ–±―¹―²―Ä–Β–Μ–Α –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η―²―¨―¹―è ―¹ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Η–Ζ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –Φ–Ϋ–Β ―²–Α–Κ –Η –Ϋ–Β ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨.
–€–Β–Ε–¥―É ―²–Β–Φ –Ζ–Β–Φ–Μ―è–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ–Η―¹―¨. –®―²–Α―²–Ϋ―΄–Β –Ζ–Β–Φ–Μ―è–Ϋ–Κ–Η ―Ä―΄–Μ–Η –Κ–Η–Μ–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Α―Ö –≤ –¥–≤―É―Ö –Ψ―² –±–Β―Ä–Β–≥–Α –ù–Β–≤―΄, –Ω–Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α –Μ–Η–Ϋ–Η―è ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Α. –ü–Β―Ä–Β–¥–Ψ–≤–Ψ–Ι –ù–ü ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―¹―²–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Β–¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –Ψ―² –≤–Ψ–¥―΄. –ü―Ä–Ψ―²―è–Ϋ―É–Μ–Η ―¹–≤―è–Ζ―¨. –£―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –≤ –Ω–Ψ–Μ–Κ –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä 70-–Ι ―¹―²―Ä–Β–Μ–Κ–Ψ–≤–Ψ–Ι –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ –ê.–ê.–ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–≤. –ï–≥–Ψ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η―è –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ ―³–Ψ―Ä―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –ù–Β–≤―É, –Η –Ϋ–Α―à –Ω–Ψ–Μ–Κ –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―΄–Μ –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η―²―¨ –Ω–Β―Ä–Β–Ω―Ä–Α–≤―É –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Η–Φ –Ψ–≥–Ϋ–Β–Φ. –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–≤ –Φ–Ϋ–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ω–Ψ–Ϋ―Ä–Α–≤–Η–Μ―¹―è: –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Ι, ―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Ϋ―΄–Ι. –Ξ–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ζ–Α–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ―¹―è –Β–≥–Ψ –Α–¥―ä―é―²–Α–Ϋ―² βÄî –Κ―Ä–Α―¹–Η–≤–Α―è –¥–Β–≤―É―à–Κ–Α ―¹ –Ω–Β―²–Μ–Η―Ü–Α–Φ–Η –Φ–Μ–Α–¥―à–Β–≥–Ψ –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α, –≤ –≥–Α–Μ–Η―³–Β –Η –Κ–Ψ–≤–Β―Ä–Κ–Ψ―²–Ψ–≤–Ψ–Ι –≥–Η–Φ–Ϋ–Α―¹―²–Β―Ä–Κ–Β. –Θ–≤–Η–¥–Β–≤ –Φ–Β–Ϋ―è, –Ψ–Ϋ–Α –Ζ–Α–Ψ―Ö–Α–Μ–Α –Η ―¹―²–Α–Μ–Α ―É–≥–Ψ―â–Α―²―¨ ―à–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Α–¥–Ψ–Φ. –≠―²–Α –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α –Ζ–Α–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ–Α―¹―¨ –Β―â–Β –Η –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–Μ–Κ–Α –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –Φ–Β–Ϋ―è –Ψ―²–¥–Α―²―¨ –¥–Β–≤―É―à–Κ–Β –≤–Α―²–Ϋ–Η–Κ: –±―΄–Μ ―É–Ε–Β ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä―¨, –Α –Β–Ι ―¹ –Κ–Ψ–Φ–¥–Η–≤–Ψ–Φ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ–±―΄–≤–Α―²―¨ –≤ –¥―Ä―É–≥–Η―Ö ―΅–Α―¹―²―è―Ö. –ö ―¹―΅–Α―¹―²―¨―é, –Φ–Ψ–Ι –≤–Α―²–Ϋ–Η–Κ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―à–Β–Μ―¹―è –Β–Ι –≤–Ω–Ψ―Ä―É. –î–Β–≤―É―à–Κ–Α –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ω–Ψ―à–Η―Ä–Β –Η –Ω–Ψ–≤―΄―à–Β –Φ–Β–Ϋ―è. –ü–Ψ―΅–Β–Φ―É ¬Ϊ–Κ ―¹―΅–Α―¹―²―¨―é¬Μ? –ü–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –Φ–Ϋ–Β –Ϋ–Β ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Ψ―¹―¨ ―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –≤ ―à–Η–Ϋ–Β–Μ–Η. –£ –≤–Α―²–Ϋ–Η–Κ–Β –±―΄–Μ–Ψ ―²–Β–Ω–Μ–Β–Β –Η ―É–¥–Ψ–±–Ϋ–Β–Β.  –™–Β―Ä–Ψ–Ι –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ–Η–Ι –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Β–≤–Η―΅ –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–≤ –≤ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ , –≤ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Β–Φ . –™–Β―Ä–Ψ–Ι –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ–Η–Ι –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Β–≤–Η―΅ –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–≤ –≤ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ , –≤ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Β–Φ .
–ù–Α –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ¬Ϊ–Ϋ–Ψ–≤–Ψ―¹–Β–Μ―¨―è¬Μ ―è –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ–Η ―¹–Ψ–Μ–¥–Α―²–Α–Φ–Η ―¹―²–Α–Μ ―¹–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ–Β–Φ –Ψ–Ε–Β―¹―²–Ψ―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―à–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±–Ψ―è.
–ü–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η―è–Φ –Ω–Ψ–Μ–Κ–Α –Ϋ–Α–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η ―É–¥–Α―Ä –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η–Β –±–Ψ–Φ–±–Α―Ä–¥–Η―Ä–Ψ–≤―â–Η–Κ–Η. –‰―Ö –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―è–Μ–Η –≤ –Ϋ–Β–±–Β ―΅–Β―²―΄―Ä–Β –Η―¹―²―Ä–Β–±–Η―²–Β–Μ―è. –£–¥―Ä―É–≥ –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ω–Α―Ä–Α –Ϋ–Α―à–Η―Ö –‰-16, –Η–Μ–Η, –Κ–Α–Κ –Φ―΄ –Η―Ö –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η, ¬Ϊ–Η―à–Α–Κ–Ψ–≤¬Μ. –Γ―²―Ä–Β–Φ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Α―²–Α–Κ–Α βÄî –Η –Ψ–¥–Η–Ϋ –±–Ψ–Φ–±–Α―Ä–¥–Η―Ä–Ψ–≤―â–Η–Κ, –Ψ–±―ä―è―²―΄–Ι –Ω–Μ–Α–Φ–Β–Ϋ–Β–Φ, –≥―É―¹―²–Ψ –Ζ–Α–¥―΄–Φ–Η–≤, ―¹―²–Α–Μ –Ω–Α–¥–Α―²―¨. –£ –Μ–Β―¹―É ―Ä–Α–Ζ–¥–Α–Μ―¹―è –≤–Ζ―Ä―΄–≤. –£ –Ϋ–Β–±–Β –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Α―è –Κ–Α―Ä―É―¹–Β–Μ―¨. –û–¥–Η–Ϋ –Ϋ–Α―à –Η―¹―²―Ä–Β–±–Η―²–Β–Μ―¨ ―²–Ψ–Ε–Β –≤―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –Ζ–Α–¥―΄–Φ–Η–Μ –Η ―É―à–Β–Μ –≤ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―É –Α―ç―Ä–Ψ–¥―Ä–Ψ–Φ–Α. –û―¹―²–Α–Μ―¹―è –Ψ–¥–Η–Ϋ –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ζ–≤–Β–Ζ–¥–Ϋ―΄–Ι –Η―¹―²―Ä–Β–±–Η―²–Β–Μ―¨ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ ―΅–Β―²―΄―Ä–Β―Ö –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η―Ö. –î–≤–Ψ–Η―Ö –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–¥ –Ϋ–Α―à–Η –≤–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Κ―Ä–Η–Κ–Η ―¹–±–Η–Μ, –Ϋ–Ψ –Η –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥–±–Η–Μ–Η. –Γ –≤–Ψ–Β–Φ ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―² –≥–Β―Ä–Ψ―è ―É―¹―²―Ä–Β–Φ–Η–Μ―¹―è –≤–Ϋ–Η–Ζ –Η –≤―Ä–Β–Ζ–Α–Μ―¹―è –≤ –Ζ–Β–Φ–Μ―é –≤ –Ω–Ψ–Μ―É–Κ–Η–Μ–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Β –Ψ―² –Ϋ–Α―¹. –€―΄ –Κ–Η–Ϋ―É–Μ–Η―¹―¨ –Κ ―É–Ω–Α–≤―à–Β–Φ―É ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²―É, –Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ψ–Ι―²–Η –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Φ–Ψ–≥–Μ–Η: –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Α –≥–Ψ―Ä–Β–Μ–Α, –Κ–Α–Κ –Κ–Ψ―¹―²–Β―Ä. –€―΄ ―¹―²–Ψ―è–Μ–Η –Φ–Β―²―Ä–Α―Ö –≤ ―¹―²–Α, –Η ―¹–Μ–Β–Ζ―΄ ―²–Β–Κ–Μ–Η ―É –Ϋ–Α―¹ –Ω–Ψ ―â–Β–Κ–Α–Φ. –ù–Α ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –Ω―Ä–Η–Β―Ö–Α–Μ–Η –Μ–Β―²―΅–Η–Κ–Η, ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Η –Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Β–≥–Ψ. –ù–Α –Φ–Β―¹―²–Β ―¹–≥–Ψ―Ä–Β–≤―à–Β–≥–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Α –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Α―à–Μ–Η –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –½–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η. –¦–Β―²―΅–Η–Κ–Η –Ϋ–Α–Φ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Ω–Η–Μ–Ψ―² –±―΄–Μ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ψ–Φ, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –Η―Ö ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä–Η–Μ―¨–Η.* * *
–£–Β―΅–Β―Ä–Ψ–Φ 25 ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä―è –Φ–Β–Ϋ―è –Ω–Ψ―¹–Μ–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Β–¥–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ω―É–Ϋ–Κ―² –Ω–Ψ–Μ–Κ–Α. –ß–Α―¹–Α –≤ –¥–≤–Α –Ϋ–Ψ―΅–Η –Ζ–Β–Φ–Μ―è –±―É–Κ–≤–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–¥―Ä–Ψ–Ε–Α–Μ–Α –Ψ―² ―Ä–Α–Ζ―Ä―΄–≤–Ψ–≤ –Ϋ–Α―à–Η―Ö ―¹–Ϋ–Α―Ä―è–¥–Ψ–≤. –ß–Β―Ä–Β–Ζ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―΄ –±–Ψ–Ι―Ü–Ψ–≤ –Μ–Β―²–Β–Μ–Η –Ϋ–Α –≤―Ä–Α–Ε–Β―¹–Κ–Η–Ι –±–Β―Ä–Β–≥ ―¹–Ϋ–Α―Ä―è–¥―΄ –Η –Φ–Η–Ϋ―΄. –ù–Ψ –≤–Ψ―² –Ϋ–Α ―³–Ψ–Ϋ–Β –Ψ–±―â–Β–Ι –Κ–Α–Ϋ–Ψ–Ϋ–Α–¥―΄ –Ω–Ψ―¹–Μ―΄―à–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Η–Ζ–Κ–Ψ–Β –Ϋ–Α–¥―Ä―΄–≤–Ϋ–Ψ–Β –Ζ–Α–≤―΄–≤–Α–Ϋ–Η–Β, –Η ―²―É―² –Ε–Β –Ω–Ψ –Ϋ–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ϋ–Β–±―É –Ζ–Α–Φ–Β–Μ―¨―²–Β―à–Η–Μ–Η –Ψ–≥–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹―²―Ä–Β–Μ―΄. –ù–Α –±–Β―Ä–Β–≥―É, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ψ–Ϋ–Η –≤–Ω–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨, –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Μ–Α ―¹–Ω–Μ–Ψ―à–Ϋ–Α―è –Ζ–Α–≤–Β―¹–Α –Ψ–≥–Ϋ―è. –Δ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ ―è –Β―â–Β –Ϋ–Β –≤–Η–¥–Β–Μ!
–· –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ –Ζ–Α ―¹―²―Ä–Β–Μ―΄, –Ϋ–Ψ –Κ―²–Ψ-―²–Ψ ―Ä―è–¥–Ψ–Φ –≤–Ψ―¹―Ö–Η―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ:
βÄî –ù―É –≤–Ψ―² –Η ¬Ϊ–Κ–Α―²―é―à–Η¬Μ –Ζ–Α–Η–≥―Ä–Α–Μ–Η!
–‰ ―²–Ψ–≥–¥–Α –Φ–Ϋ–Β ―¹―²–Α–Μ–Ψ –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ –Η –Β―¹―²―¨ –Ζ–Α–Μ–Ω―΄ –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²―΄―Ö ¬Ϊ–Κ–Α―²―é―à¬Μ, –Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ϋ–Α ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Β ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ ―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Μ–Β–≥–Β–Ϋ–¥. –ù–Ψ ―É–≤–Η–¥–Β―²―¨ ¬Ϊ–Κ–Α―²―é―à―É¬Μ –≤–±–Μ–Η–Ζ–Η, –Ϋ–Β–Ζ–Α―΅–Β―Ö–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―É―é, –Φ–Ϋ–Β ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Η–Ζ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Α―Ä–Α–¥–Ψ–≤. 
–î–Α, –≤ ―²―É –Ϋ–Ψ―΅―¨ ¬Ϊ–Κ–Α―²―é―à–Η¬Μ –¥–Α–Μ–Η ―³–Α―à–Η―¹―²–Α–Φ –Ε–Α―Ä―É! –ê―Ä―²–Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Α –¥–Μ–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ ―΅–Α―¹–Α. –£ ―¹―²–Β―Ä–Β–Ψ―²―Ä―É–±―É –Μ–Β–≤―΄–Ι –±–Β―Ä–Β–≥ –ù–Β–≤―΄ –±―΄–Μ –≤–Η–¥–Β–Ϋ –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α –Μ–Α–¥–Ψ–Ϋ–Η. –ù–Α―à–Η –±–Ψ–Ι―Ü―΄ –Ω–Μ―΄–Μ–Η ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ―Ä–Β–Κ―É –Ϋ–Α –±–Ψ–Μ―¨―à–Η―Ö –Ω―Ä–Ψ―¹–Φ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö. –ù–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α –≥―É―¹―²―΄–Β –≤–Ζ―Ä―΄–≤―΄ –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥ –Ϋ–Η―Ö, ―¹–Ψ–Μ–¥–Α―²―΄ 70-–Ι ―¹―²―Ä–Β–Μ–Κ–Ψ–≤–Ψ–Ι –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η ―³–Ψ―Ä―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η –ù–Β–≤―É –Η –Ζ–Α–≤―è–Ζ–Α–Μ–Η –±–Ψ–Ι –Ϋ–Α –Μ–Β–≤–Ψ–Φ –±–Β―Ä–Β–≥―É. –£―¹–Κ–Ψ―Ä–Β ―¹―²–Α–Μ–Α –Ω–Β―Ä–Β–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è―²―¨―¹―è ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Α, –Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Α―è –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η―è. –Γ―²–Ψ―è–Μ –Ψ–≥–Μ―É―à–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –≥―Ä–Ψ―Ö–Ψ―². –û–≥–Ψ–Ϋ―¨ –≤–Β–Μ–Η –Η –Ϋ–Α―à–Η, –Η –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η–Β –±–Α―²–Α―Ä–Β–Η. –ö –Ω–Ψ–Μ―É–¥–Ϋ―é –Ϋ–Α―à –±–Β―Ä–Β–≥ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ–Η―¹―¨ –Ψ–±―Ä–Α–±–Α―²―΄–≤–Α―²―¨ ¬Ϊ–Φ–Β―¹―¹–Β―Ä―à–Φ–Η―²―²―΄¬Μ. –£―¹―²–Α–≤ –≤ –Κ―Ä―É–≥, –Ψ–Ϋ–Η –Ω–Ψ–Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ, ―¹–≤–Α–Μ–Η–≤–Α―è―¹―¨ –Ϋ–Α –Κ―Ä―΄–Μ–Ψ, –Ψ–±―¹―²―Ä–Β–Μ–Η–≤–Α–Μ–Η –¥–Β―¹–Α–Ϋ―², ―Ä–Ψ―²―΄, ―¹–Κ–Ψ–Ω–Η–≤―à–Η–Β―¹―è –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Β–Ω―Ä–Α–≤–Β...
–û―΅–Β–Ϋ―¨ ―΅–Α―¹―²–Ψ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α –Η–Ζ ―¹―²―Ä–Ψ―è ―¹–≤―è–Ζ―¨ ―¹ –ö–ü –Ω–Ψ–Μ–Κ–Α. –ù–Α –Μ–Η–Ϋ–Η―é –Ψ–¥–Η–Ϋ –Ζ–Α –¥―Ä―É–≥–Η–Φ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η ―¹–≤―è–Ζ–Η―¹―²―΄ –Η ―¹–≤―è–Ζ–Ϋ―΄–Β. –ù–Α―¹―²–Α–Μ–Α –Η –Φ–Ψ―è –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥―¨. –£–Φ–Β―¹―²–Β ―¹–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ―à–Β–Μ –Ω–Ψ–Ε–Η–Μ–Ψ–Ι, –Μ–Β–≥–Κ–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―É –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Α―Ä–Φ–Β–Β―Ü. –Δ―Ä–Α–Ϋ―à–Β–Η –±―΄–Μ–Η –Ζ–Α–Μ–Η―²―΄ –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι, –Η –Η–¥―²–Η –Ω–Ψ –Ϋ–Η–Φ –±―΄–Μ–Ψ ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ. –ü–Β―Ä–Β–±–Β–Ε–Κ–Α–Φ–Η –Η –Ω–Ψ-–Ω–Μ–Α―¹―²―É–Ϋ―¹–Κ–Η –Φ―΄ –¥–≤–Η–≥–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤–¥–Ψ–Μ―¨ ―²―Ä–Α–Ϋ―à–Β–Ι. –ù–Β–Φ―Ü―΄ –Ϋ–Α―¹ –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η–Μ–Η –Η –Ψ―²–Κ―Ä―΄–Μ–Η –Φ–Η–Ϋ–Ψ–Φ–Β―²–Ϋ―΄–Ι –Ψ–≥–Ψ–Ϋ―¨. –Γ–Ψ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –≤―΄―¹―²―Ä–Β–Μ–Α ―è –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α―¹ –≤–Ζ―è–Μ–Η –≤ –≤–Η–Μ–Κ―É. –ù–Α–¥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä―΄–≥–Α―²―¨ –≤ ―²―Ä–Α–Ϋ―à–Β―é. –†–Α–Ζ–¥–Α–Μ―¹―è –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ―΄–Ι, –Μ–Β–¥–Β–Ϋ―è―â–Η–Ι –¥―É―à―É –≤–Ψ–Ι –Φ–Η–Ϋ―΄. –· –Ω―Ä―΄–≥–Ϋ―É–Μ –Η ―²―É―² –Ε–Β ―É―¹–Μ―΄―à–Α–Μ –≤–Ζ―Ä―΄–≤. –£ –≥–Μ–Α–Ζ–Α―Ö –≤―¹–Ω―΄―Ö–Ϋ―É–Μ–Η –Ψ–≥–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Κ―Ä―É–≥–Η.
–û―΅–Ϋ―É–Μ―¹―è, –Η –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Β, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ, βÄî –Ζ–Α–Ω–Α―Ö –≥–Α―Ä–Η –Η –¥–Η–Κ–Η–Ι ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥. –ü–Ψ–Ω―Ä–Ψ–±–Ψ–≤–Α–Μ –≤―¹―²–Α―²―¨, –Ϋ–Ψ –±–Ψ–Μ―¨ –≤ ―Ä―É–Κ–Β, –Ϋ–Ψ–≥–Β –Η –≥―Ä―É–¥–Η –Ϋ–Β –¥–Α–Μ–Α –¥–Α–Ε–Β –Ω–Ψ―à–Β–≤–Β–Μ―¨–Ϋ―É―²―¨―¹―è. –· –Μ–Β–Ε–Α–Μ –Ϋ–Α –¥–Ϋ–Β ―²―Ä–Α–Ϋ―à–Β–Η –≤ –±–Ψ–Μ–Ψ―²–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–¥–Β. –£–Ψ–¥–Α –Ψ―² –Κ―Ä–Ψ–≤–Η ―¹―²–Α–Μ–Α –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α―²–Ψ–Ι, –±―Ä―É―¹―²–≤–Β―Ä –≤ –Φ–Β―²―Ä–Β –Ψ―² –Φ–Β–Ϋ―è –±―΄–Μ ―Ä–Α–Ζ–≤–Ψ―Ä–Ψ―΅–Β–Ϋ –Φ–Η–Ϋ–Ψ–Ι. –· –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ, ―΅―²–Ψ ―¹–Ω–Α―¹―¹―è ―΅―É–¥–Ψ–Φ. –ü–Ψ–Ε–Η–Μ–Ψ–Ι ―¹–≤―è–Ζ–Η―¹―² –Ϋ–Β ―É―¹–Ω–Β–Μ –¥–Ψ–±–Β–Ε–Α―²―¨ –¥–Ψ ―²―Ä–Α–Ϋ―à–Β–Η. –û–Ϋ –Μ–Β–Ε–Α–Μ –Ϋ–Α –±―Ä―É―¹―²–≤–Β―Ä–Β, ―¹–≤–Β―¹–Η–≤ –Ϋ–Ψ–≥–Η –≤–Ϋ–Η–Ζ. –™―Ä―É–¥―¨ ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –±―΄–Μ–Α ―Ä–Α–Ζ–Ψ―Ä–≤–Α–Ϋ–Α –Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ–Κ–Α–Φ–Η. –£―¹–Κ–Ψ―Ä–Β ―è ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–Μ ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Β. –ù–Β –Ζ–Ϋ–Α―é, ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―è –Ω―Ä–Ψ–±―΄–Μ –≤ –≤–Ψ–¥–Β. –û―΅–Ϋ―É–Μ―¹―è, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Β―¹–Μ–Η –¥–≤–Α ―¹–Α–Ϋ–Η―²–Α―Ä–Α. –ù–Β―¹–Μ–Η –Ϋ–Β –Ϋ–Α –Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Κ–Α―Ö, –Α –Ϋ–Α ―Ä―É–Κ–Α―Ö, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α ―¹―²―É–Μ―¨―΅–Η–Κ–Β. –€–Ϋ–Β ―¹―²–Α–Μ–Ψ ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ–Ψ. –ö―Ä―É–≥–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ–Η ―Ä–≤–Α―²―¨―¹―è –Φ–Η–Ϋ―΄, ―¹–Ϋ–Α―Ä―è–¥―΄, –Η ―è –±–Ψ―è–Μ―¹―è, ―΅―²–Ψ ―¹–Α–Ϋ–Η―²–Α―Ä–Ψ–≤ ―É–±―¨―é―² –Η –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Β–Κ–Ψ–Φ―É –±―É–¥–Β―² ―¹–Ω–Α―¹―²–Η.
–ü―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Μ–Η –≤ –Φ–Β–¥―¹–Α–Ϋ–±–Α―², –Ω–Β―Ä–Β–≤―è–Ζ–Α–Μ–Η. –ß–Β―Ä–Β–Ζ –Κ–Α–Κ–Ψ–Β-―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω―Ä–Η–±–Β–Ε–Α–Μ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –±–Α―²–Α–Μ―¨–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Α―Ä. –Γ–Μ―΄―à―É, –Ψ–Ϋ ―¹–Ψ–Κ―Ä―É―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä―è–Β―²:
βÄî –ö–Α–Κ –Ε–Β –Φ―΄ ―²–Β–±―è –Ϋ–Β ―É–±–Β―Ä–Β–≥–Μ–Η? –ß―²–Ψ ―è ―¹–Κ–Α–Ε―É –€–Α―Ä–Η–Η –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Β? 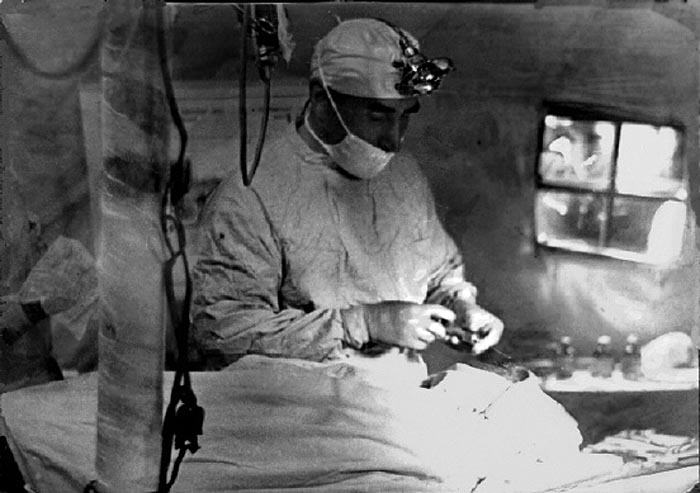
–½–Α―²–Β–Φ –Φ–Β–Ϋ―è –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ–Η ―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω–Ψ–≤–Β–Ζ–Μ–Η –Ϋ–Α –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Β –≤ –Ω–Ψ–Μ–Β–≤–Ψ–Ι –≥–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ―¨.
–û―΅–Ϋ―É–Μ―¹―è ―è –Ψ―²―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ –Κ―²–Ψ-―²–Ψ –Ϋ–Α –Φ–Β–Ϋ―è –Ω―Ä–Η―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ. –ü–Β―Ä–Β–¥–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Η–¥–Β–Μ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―à–Ω–Α–Μ–Ψ–Ι –≤ –Ω–Β―²–Μ–Η―Ü–Α―Ö. –ù–Α ―Ä―É–Κ–Α–≤–Α―Ö –Ω–Ψ –Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²–Ψ–Ι –Ζ–≤–Β–Ζ–¥–Β. –Γ―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Ω–Ψ–Μ–Η―²―Ä―É–Κ ―É–Μ―΄–±–Ϋ―É–Μ―¹―è, ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Α―Ä –≥–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ―è, ―¹―É–Ϋ―É–Μ –Φ–Ϋ–Β –¥–≤–Β ―à–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Α–¥–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ–Ϋ―³–Β―²―΄, ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β ―Ä–Α–Ζ–≤–Η–≤–Α–Β―²―¹―è ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ, –Η –≤–Β–Μ–Β–Μ –Ϋ–Β –≤–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è.
–· –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–Ω―΄―²–Κ–Α –Ω―Ä–Ψ―Ä–≤–Α―²―¨ –±–Μ–Ψ–Κ–Α–¥―É –≤ ―²–Ψ―² ―Ä–Α–Ζ ―¹–Ψ―Ä–≤–Α–Μ–Α―¹―¨, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Κ –Ϋ–Α―à –Ω–Ψ–Ϋ–Β―¹ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Β –Ω–Ψ―²–Β―Ä–Η...
–ù–Α ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â―É―é –Ϋ–Ψ―΅―¨ –Ϋ–Α―¹ –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ζ–Η–Μ–Η –≤ ―¹–Α–Ϋ–Η―²–Α―Ä–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥ –Η –Ω–Ψ–≤–Β–Ζ–Μ–Η –≤ ―¹―²–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α―Ä–Ϋ―΄–Ι –≥–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ―¨ –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥. –£–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β –Φ–Β–Ϋ―è –Ω–Ψ–Φ–Β―¹―²–Η–Μ–Η –≤ –±–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Η―Ü―É –Η–Φ–Β–Ϋ–Η –£–Ψ–Μ–Ψ–¥–Α―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ. –ü–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Η –≤ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Φ –Ζ–Α–Μ–Β. –Θ –Φ–Β–Ϋ―è ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ –±–Ψ–Μ–Β–Μ–Η ―Ä–Α–Ϋ―΄. –ü–Ψ–Ζ–≤–Α–Μ –Φ–Β–¥―¹–Β―¹―²―Ä―É, ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –±–Ψ–Μ–Η―² –≥―Ä―É–¥―¨ –Η ―Ä―É–Κ–Α. –Γ–Β―¹―²―Ä–Η―΅–Κ–Α –Φ–Β–Ϋ―è –Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ–Α, ―É―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Η–Μ–Α: –±–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Φ–Ϋ–Β –Ψ―²―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ –±–Η–Ϋ―²―΄ –Ω―Ä–Η―¹–Ψ―Ö–Μ–Η –Κ ―Ä–Α–Ϋ–Α–Φ. –· ―¹―²–Α–Μ –Ω―Ä–Ψ―¹–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Φ–Β–Ϋ―è –±―΄―¹―²―Ä–Β–Β –Ω–Β―Ä–Β–±–Η–Ϋ―²–Ψ–≤–Α–Μ–Η. –ü―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ω–Ψ–¥–Ψ―à–Μ–Α –Φ–Ψ―è –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥―¨ –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Β–≤―è–Ζ–Κ―É. –£–Β–¥―¨ ―è –±―΄–Μ –Ϋ–Β –Ψ–¥–Η–Ϋ, –±―΄–Μ–Η ―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Κ―É–¥–Α –±–Ψ–Μ–Β–Β ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ. –ü–Ψ–¥–Ψ―à–Β–Μ –≤―Ä–Α―΅, ―¹―²–Α–Μ ―Ä–Α–Ζ–±–Η–Ϋ―²–Ψ–≤―΄–≤–Α―²―¨ –≥―Ä―É–¥―¨ –Η ―Ä―É–Κ―É. –£–¥―Ä―É–≥ –Κ–Α–Κ –¥–Β―Ä–Ϋ–Β―² –Ω―Ä–Η―¹–Ψ―Ö―à–Η–Β –Κ ―Ä–Α–Ϋ–Α–Φ –±–Η–Ϋ―²―΄, –¥–Α ―²–Α–Κ, ―΅―²–Ψ ―É –Φ–Β–Ϋ―è –Ψ―² –±–Ψ–Μ–Η –Ω–Ψ―²–Β–Φ–Ϋ–Β–Μ–Ψ –≤ –≥–Μ–Α–Ζ–Α―Ö. –· –Ϋ–Β–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Κ―Ä–Η―΅–Α–Μ. –£–Ψ–Β–Ϋ–≤―Ä–Α―΅ –Ω–Ψ―è―¹–Ϋ–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Φ–Ψ–≥ –±―΄ –Ψ―²–Φ–Α―΅–Η–≤–Α―²―¨ –±–Η–Ϋ―²―΄, –Ϋ–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–Β –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β, ―Ö–Ψ―²―è ―ç―²–Ψ –Η –±–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ψ―²–Ψ―Ä–≤–Α―²―¨ –Φ–Α―Ä–Μ―é –Ψ―² ―Ä–Α–Ϋ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ –Κ―Ä–Ψ–≤―¨. –Δ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –±―É–¥–Β―² –Ϋ–Α–≥–Ϋ–Ψ–Β–Ϋ–Η―è.
–ù–Β –Ζ–Ϋ–Α―é, –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, –Ω–Ψ ―²–Β–Ψ―Ä–Η–Η –Ψ–Ϋ–Ψ –Η ―²–Α–Κ, –Ϋ–Ψ ―è –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Β–≤―è–Ζ–Κ–Α―Ö –±–Η–Ϋ―²―΄ –Φ–Ϋ–Β –Ψ―²–Φ–Α―΅–Η–≤–Α―²―¨. –î–Ψ ―¹–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä –¥―É–Φ–Α―é, ―΅―²–Ψ, ―¹–Κ–Ψ―Ä–Β–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ, ―É –≤―Ä–Α―΅–Α –Ϋ–Α –Ψ―²–Φ–Α―΅–Η–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η. –Γ–Μ–Η―à–Κ–Ψ–Φ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Κ–Ψ–Ω–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ―΄―Ö.
–£―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –Φ–Β–Ϋ―è –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ζ–Η–Μ–Η –Ϋ–Α ―¹–Α–Ϋ–Η―²–Α―Ä–Ϋ―É―é –Φ–Α―à–Η–Ϋ―É –Η –Ω–Ψ–≤–Β–Ζ–Μ–Η –≤ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι –≥–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ―¨. –ù–Α ―ç―²–Ψ―² ―Ä–Α–Ζ –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Η –Ϋ–Α –Ϋ–Α–±–Β―Ä–Β–Ε–Ϋ―É―é –ù–Β–≤―΄, –Ϋ–Β–¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –Ψ―² –Λ–Η–Ϋ–Μ―è–Ϋ–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Κ–Ζ–Α–Μ–Α. 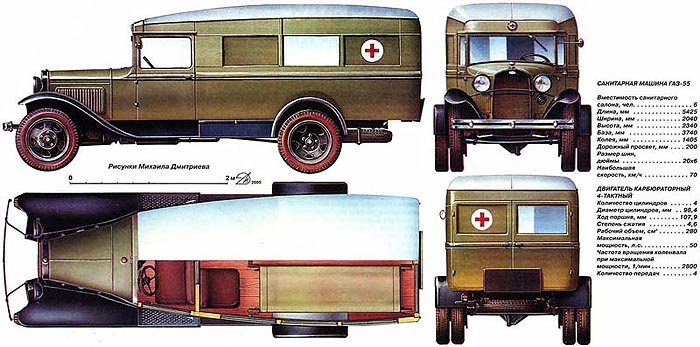
–£ –Ω–Α–Μ–Α―²–Β –Ϋ–Α―¹ –Μ–Β–Ε–Α–Μ–Ψ –¥–≤–Ψ–Β. –· –Η –Ω–Α―Ä–Β–Ϋ―¨-–Κ–Α–Ζ–Α―Ö. –· ―²―É―² –Ε–Β –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Μ –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι, –Η –≤–Ψ―² –≤―Ö–Ψ–¥–Η―² –≤ –Ω–Α–Μ–Α―²―É –Ζ–Α–Ω–Μ–Α–Κ–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è –Φ–Α–Φ–Α. –ö–Ψ–Β-–Κ–Α–Κ –Β–Β ―É―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Η–Μ–Η, –Ω―Ä–Η―à–Β–Μ –≤―Ä–Α―΅, –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ–Η–Μ, ―΅―²–Ψ ―è ―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ –≤ –≥―Ä―É–¥―¨ –Η ―Ä―É–Κ―É –Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ–Κ–Α–Φ–Η –Φ–Η–Ϋ―΄, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ω–Α―¹–Α―²―¨―¹―è –Ζ–Α –Φ–Ψ―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Ι –Ϋ–Β―². –€–Α–Φ–Α ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α, ―΅―²–Ψ –±―É–¥–Β―² –Φ–Β–Ϋ―è ―΅–Α―¹―²–Ψ –Ϋ–Α–≤–Β―â–Α―²―¨. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Ϋ–Β–Ι –Φ–Ϋ–Β –Ψ–±―ä―è–≤–Η–Μ–Η, ―΅―²–Ψ ―è –≤ ―΅–Η―¹–Μ–Β ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ―΄―Ö –±―É–¥―É ―ç–≤–Α–Κ―É–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ –≤ –≥–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ―¨ –Ϋ–Α –ë–Ψ–Μ―¨―à―É―é –Ζ–Β–Φ–Μ―é. –ù–Η–Κ–Α–Κ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―¨–±―΄ –Η ―¹–Μ–Β–Ζ―΄ (–Ϋ–Β ―Ö–Ψ―΅―É, –Φ–Ψ–Μ, ―É–Β–Ζ–Ε–Α―²―¨ –Η–Ζ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Α) –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Μ–Η.
–£ ―¹–Β―Ä–Β–¥–Η–Ϋ–Β –Ψ–Κ―²―è–±―Ä―è ―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ζ–Η–Μ–Η –Ϋ–Ψ―΅―¨―é –≤ ―¹–Α–Ϋ–Η―²–Α―Ä–Ϋ―΄–Β –Φ–Α―à–Η–Ϋ―΄ –Η –Ω–Ψ–≤–Β–Ζ–Μ–Η –Ϋ–Α ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―é. –Θ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Η –≤ ―¹–Α–Ϋ–Η―²–Α―Ä–Ϋ―΄–Β ―²–Β–Ω–Μ―É―à–Κ–Η, –Η –Φ―΄ –Ω–Ψ–Β―Ö–Α–Μ–Η. –€―΄ –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Α –Η–Ζ –±–Μ–Ψ–Κ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Α βÄî ―ç―²–Ψ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –¦–Α–¥–Ψ–Ε―¹–Κ–Ψ–Β –Ψ–Ζ–Β―Ä–Ψ –Η–Μ–Η –Ω–Ψ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö―É ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Ψ–Φ. –ù–Η–Κ―²–Ψ –Ϋ–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ, –Κ―É–¥–Α –Ϋ–Α―¹ –≤–Β–Ζ―É―². –· –¥―É–Φ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α –Α―ç―Ä–Ψ–¥―Ä–Ψ–Φ. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ ―É―²―Ä–Ψ–Φ –Φ―΄ –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ–Η –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥ –¦–Α–¥–Ψ–Ε―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Ζ–Β―Ä–Α, –Κ –Ω―Ä–Η―΅–Α–Μ―É, –≥–¥–Β ―¹―²–Ψ―è–Μ–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η. –ù–Α –Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Κ–Α―Ö –Ϋ–Α―¹ ―¹―²–Α–Μ–Η –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è―²―¨ –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨. –Γ―²–Ψ―è–Μ ―¹–Ψ–Μ–Ϋ–Β―΅–Ϋ―΄–Ι, –Ϋ–Ψ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –¥–Β–Ϋ―¨. –¦–Α–¥–Ψ–≥–Α –±―É―à–Β–≤–Α–Μ–Α. –ü–Ψ–Κ–Α –Φ–Β–Ϋ―è –Ω–Β―Ä–Β–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η, ―è ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Φ–Β―Ä–Ζ –Η –Ζ―É–±―΄ –≤―΄―¹―²―É–Κ–Η–≤–Α–Μ–Η –¥―Ä–Ψ–±―¨. –≠―²–Ψ ―è ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –¥―É–Φ–Α―é, ―΅―²–Ψ –Ζ–Α–Φ–Β―Ä–Ζ, –Α ―²–Ψ–≥–¥–Α, –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, –¥―Ä–Ψ–Ε–Α–Μ –Η –Ψ―² ―¹―²―Ä–Α―Ö–Α. –®―É―²–Κ–Α –Μ–Η, –±–Β―¹–Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ―΄–Ι, –≤–Β―¹―¨ –Ζ–Α–±–Η–Ϋ―²–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι, –¥–Α –Β―â–Β –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β, –¥–Α –Β―â–Β –≤ ―à―²–Ψ―Ä–Φ –Η–¥―²–Η –Ω–Ψ –Ϋ–Β–Ψ–±―ä―è―²–Ϋ–Ψ–Φ―É –Φ–Ψ―Ä―é. –· –≤–Β–¥―¨ –¦–Α–¥–Ψ–≥―É –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ ―¹–Β–±–Β –Κ–Α–Κ –±–Β―¹–Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Β–Β –Φ–Ψ―Ä–Β.
–€–Α―²―Ä–Ψ―¹―΄ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Η –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Β –≤ ―²―Ä―é–Φ, –Α –≤ –≤―΄–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Κ–Β –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ ―²―Ä―É–±―΄. –· ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ ―¹–Ψ–≥―Ä–Β–Μ―¹―è. –ü―Ä–Η―à–Β–Μ –Ω–Ψ–Μ–Η―²―Ä―É–Κ, ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è –Κ–Α–Ϋ–Ψ–Ϋ–Β―Ä―¹–Κ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α ¬Ϊ–ß–Α–Ω–Α–Β–≤¬Μ, ―΅―²–Ψ –Η–¥―²–Η –Ϋ–Α–Φ ―΅–Α―¹–Α ―²―Ä–Η, ―΅―²–Ψ, –Β―¹–Μ–Η –±―É–¥―É―² –Ϋ–Α–Μ–Β―²–Α―²―¨ –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η–Β ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²―΄, ―è –Ϋ–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±–Ψ―è―²―¨―¹―è, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ ¬Ϊ–ß–Α–Ω–Α–Β–≤¬Μ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ.
–ö–Ψ –Φ–Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹―΄. –ö–Ψ–Κ ―¹–≤–Α―Ä–Η–Μ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –¥–Μ―è –Φ–Β–Ϋ―è ―¹–Μ–Α–¥–Κ―É―é ―Ä–Η―¹–Ψ–≤―É―é –Κ–Α―à―É. –‰ –Φ–Ϋ–Β ―¹―²–Α–Μ–Ψ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ, ―²–Β–Ω–Μ–Ψ –Η ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ. –€–Α―²―Ä–Ψ―¹―΄ –Ψ―² –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Β –Ψ―²―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η. –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―².
 –£–Β―Ä―é–Ε―¹–Κ–Η–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–£–ù–ê), –™–Ψ―Ä–Μ–Ψ–≤ –û–Μ–Β–≥ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–û–ê–™), –€–Α–Κ―¹–Η–Φ–Ψ–≤ –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–€–£–£), –ö–Γ–£. –£–Β―Ä―é–Ε―¹–Κ–Η–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–£–ù–ê), –™–Ψ―Ä–Μ–Ψ–≤ –û–Μ–Β–≥ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–û–ê–™), –€–Α–Κ―¹–Η–Φ–Ψ–≤ –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–€–£–£), –ö–Γ–£.
198188. –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥, ―É–Μ. –€–Α―Ä―à–Α–Μ–Α –™–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α, –¥–Ψ–Φ 11/3, –Κ–≤. 70. –ö–Α―Ä–Α―¹–Β–≤ –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅, –Α―Ä―Ö–Η–≤–Α―Ä–Η―É―¹.
28.05.201108:1028.05.2011 08:10:28
–Γ―²―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü―΄:
–ü―Ä–Β–¥.
|
1
|
...
|
568
|
569
|
570
|
571
|
572
|
...
|
865
|
–Γ–Μ–Β–¥.
|



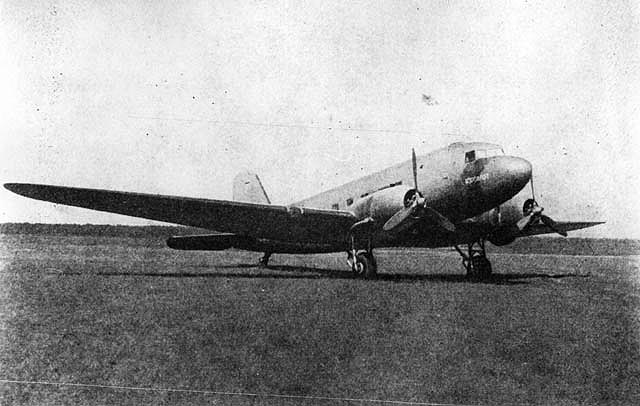
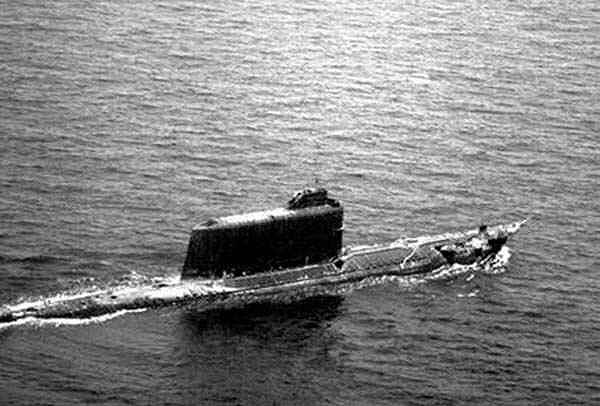









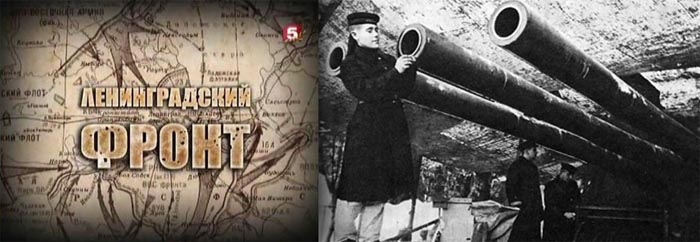



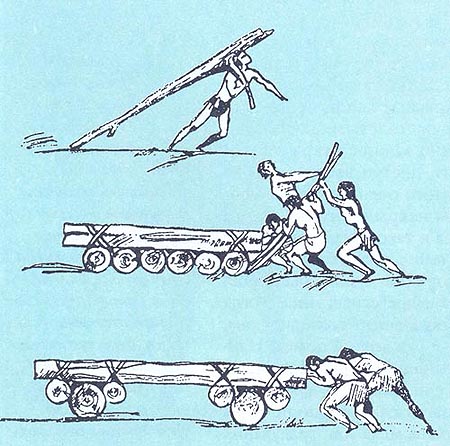

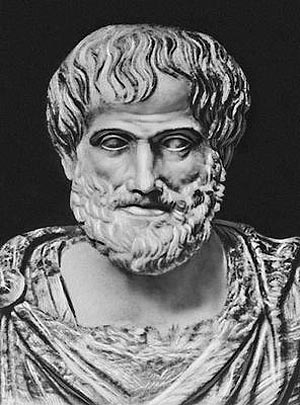
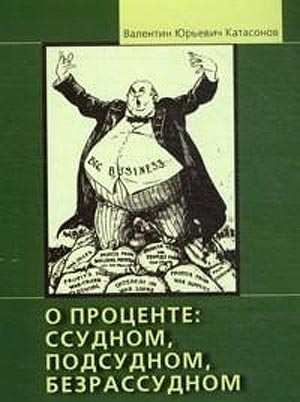

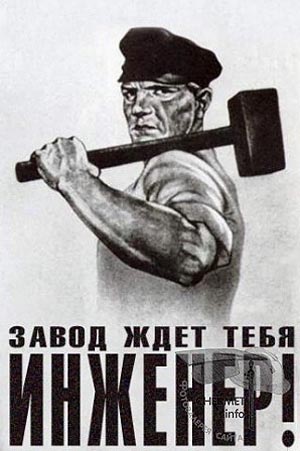





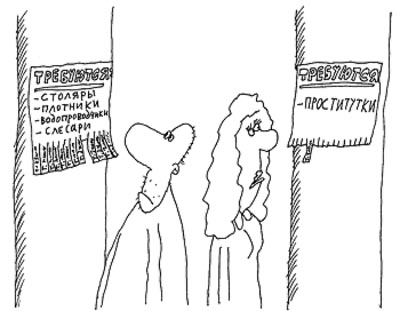



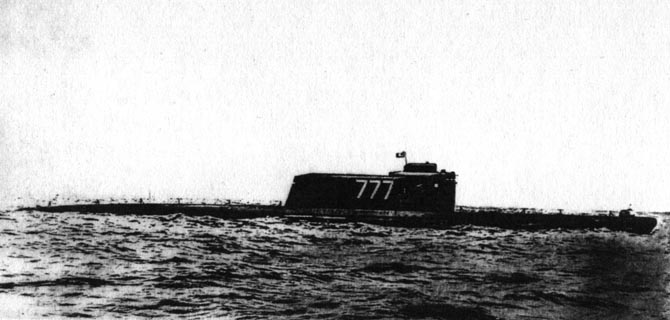
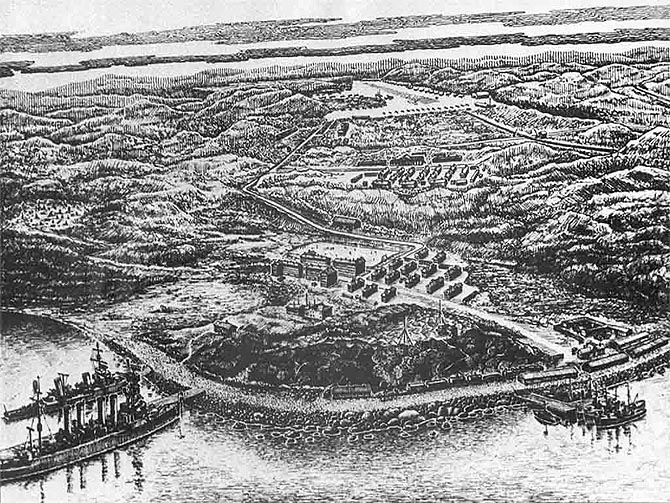
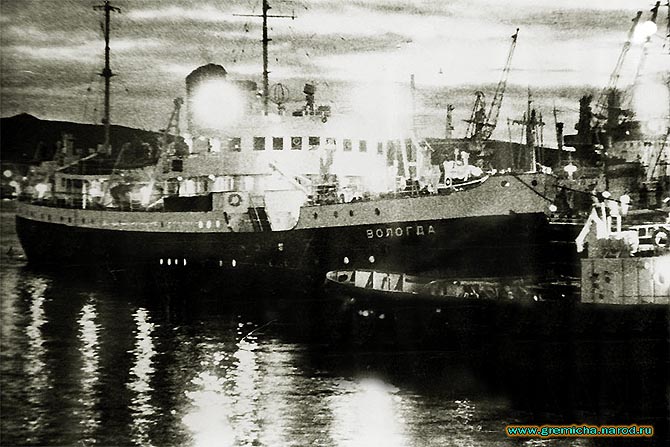



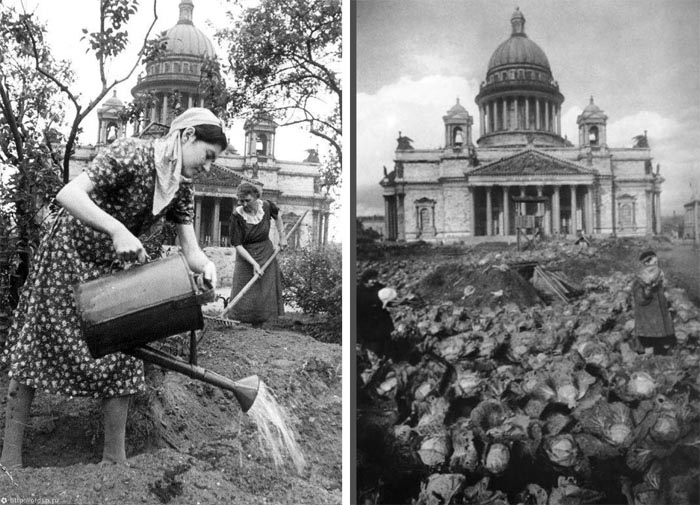

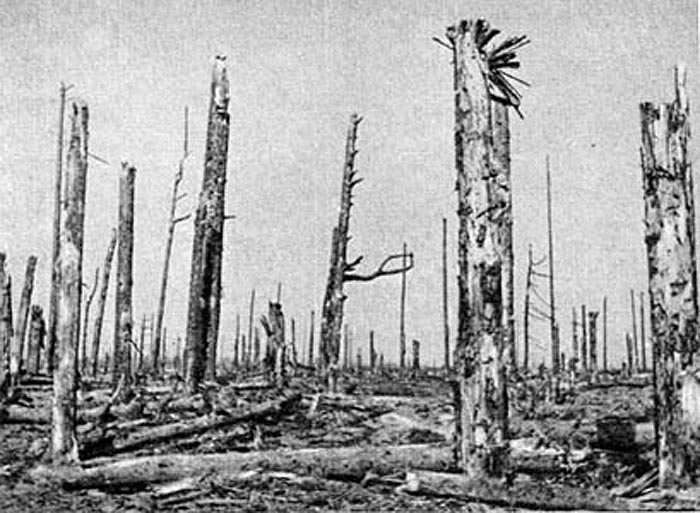


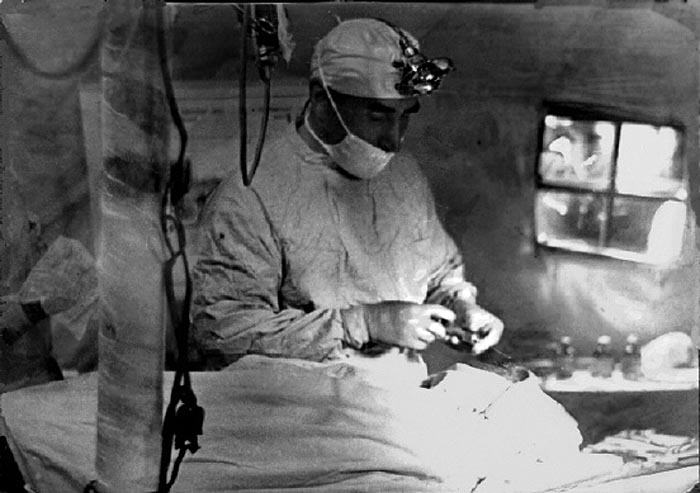
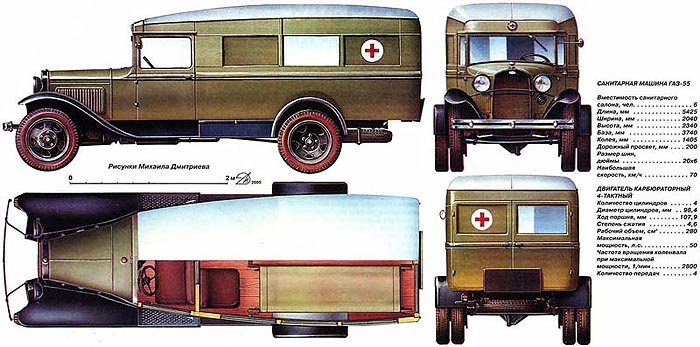

.jpg)


