–ë–Α–Ϋ–Ϋ–Β―Ä

–ü―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―¨ –Φ–Β―²–Α–Μ–Μ–Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―Ü–Η–Ι –Ω―Ä–Η―à–Β–Μ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨ –Ω―Ä–Β–¥–Ω―Ä–Η―è―²–Η―è–Φ –û–ü–ö
|
–£―¹–Κ–Ψ―Ä–Φ–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹ –Κ–Ψ–Ω―¨―è - –Γ–Ψ–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Α –¥–Β–Κ–Α–±―Ä―¨ 2014 –≥–Ψ–¥–Α
0
23.12.201400:1223.12.2014 00:12:16
7 ―³–Β–≤―Ä–Α–Μ―è 2013 –≥–Ψ–¥–Α –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨ 32 –≥–Ψ–¥–Α ―¹–Ψ –¥–Ϋ―è ―²―Ä–Α–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –≥–Η–±–Β–Μ–Η –≤ –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Α―²–Α―¹―²―Ä–Ψ―³–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α –≤–Ψ –≥–Μ–Α–≤–Β ―¹ –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Φ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Ψ–Φ –≠.–ù.–Γ–Ω–Η―Ä–Η–¥–Ψ–Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ. –€–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Β–≥–Ψ –±―΄–≤―à–Η–Β ―¹–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η–≤―Ü―΄ ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ ―ç―²–Ψ―² –¥–Β–Ϋ―¨ –≤ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Φ ―¹–Ψ–±–Ψ―Ä–Β, –≥–¥–Β –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Α―è –¥–Ψ―¹–Κ–Α ―¹ –Η–Φ–Β–Ϋ–Α–Φ–Η –Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Η―Ö, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¨ –Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Η―Ö –Η –Ω–Ψ―΅―²–Η―²―¨ –Η―Ö –Ω–Α–Φ―è―²―¨. –ë―΄–Μ–Α –Ψ―²―¹–Μ―É–Ε–Β–Ϋ–Α –Ζ–Α―É–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Α―è ―¹–Μ―É–Ε–±–Α. –£―¹―ë ―ç―²–Ψ –Ϋ–Α–≤–Β―è–Μ–Ψ –Ϋ–Α –Φ–Β–Ϋ―è –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è. –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ–Η ―è –Η ―Ä–Β―à–Η–Μ –Ω–Ψ–¥–Β–Μ–Η―²―¨―¹―è.  –†–Α–Κ–Β―²–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä ―¹―²―Ä–Α―²–Β–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η―è ¬Ϊ–ö-366¬Μ –≤ 1974 –≥–Ψ–¥―É –±―΄–Μ –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ –Ϋ–Α ―¹―É–¥–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Β –≥. –ö–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Α-–Ϋ–Α- –ê–Φ―É―Ä–Β –Η –≤–Ψ―à―ë–Μ –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Α 667-–ë –Κ–Α–Κ –¥–Μ―è –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Α, ―²–Α–Κ –Η –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Β –Δ–û–Λ. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ―²–¥–Β–Μ–Κ–Η, ―É―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α–Ϋ–Η–Ι, –≤―΄―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤ ―Ö–Ψ–¥–Β ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤―΄―Ö –Η –™–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η–Ι, –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ –≤ –±―É―Ö―²―É –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤–Ψ―à―ë–Μ –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ 26 –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è ―²–Α–Φ –±–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Α―¹―¨. –ü–Ψ―¹–Μ–Β ―¹–¥–Α―΅–Η –Κ―É―Ä―¹–Ψ–≤―΄―Ö –Ζ–Α–¥–Α―΅, –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ζ–Κ–Η –Ψ―Ä―É–Ε–Η―è –†–ü–ö –Γ–ù ¬Ϊ–ö-366¬Μ –≤ ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä–Β 1975 –≥–Ψ–¥–Α –Ω–Β―Ä–Β–±–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ―É–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤ –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ–Α, –≥–¥–Β –Η –≤–Ψ―à―ë–Μ –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι 25 –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η 2 ―³–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –±―΄–Μ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ë–Α–Ε–Α–Ϋ–Ψ–≤ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –™–Β–Ψ―Ä–≥–Η–Β–≤–Η―΅, ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Φ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –±―΄–Μ ―è βÄ™ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 2 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ü–Μ–Α―²–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –≠–¥―É–Α―Ä–¥ –Δ―Ä–Ψ―³–Η–Φ–Ψ–≤–Η―΅, –¥–≤–Α ―¹―²–Α―Ä―à–Η―Ö –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Α –Ω–Ψ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Φ―É ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―é –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ―΄ 2 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ß–Β―³–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –‰–≥–Ψ―Ä―¨ –™–Β―Ä–Α―¹–Η–Φ–Ψ–≤–Η―΅ –Η –Θ―à–Α–Κ–Ψ–≤ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅, –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Ω–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 2 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ö―Ä–Α―é―à–Κ–Η–Ϋ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤–Η―΅. –Γ –Ω―Ä–Η–±―΄―²–Η–Β–Φ –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ 25 –î–Η–ü–¦ –Φ―΄ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η –Η–Ϋ―²–Β–Ϋ―¹–Η–≤–Ϋ―É―é –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ―É –Κ –≤―΄―Ö–Ψ–¥―É –Ϋ–Α –±–Ψ–Β–≤―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É.  –ö–Α–Κ ―à―É―²–Η–Μ–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η, ¬Ϊ―¹–Κ–Ψ―Ä–Β–Ι –±―΄ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ―¹―è ―ç―²–Ψ―² –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤―΄–Ι –Ψ―²–¥―΄―Ö, –¥–Α –Ϋ–Α –±–Ψ–Β–≤―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―ɬΜ, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α ―ç―²–Ψ―² –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―²―Ä―ë―Ö―¹―É―²–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι –Ψ―²–¥―΄―Ö –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Μ―¹―è. –ê ―É –Ϋ–Α―¹ ―ç―²–Α –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤–Α―è ―¹―É–Β―²–Α –Β―â―ë ―É―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ―è–Μ–Α―¹―¨ ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ ―¹ –Ϋ–Α–Φ–Η –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Η –≤―΄–Ι―²–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –€–Α―¹–Μ–Ψ–≤ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι 2 –Λ–Μ–ü–¦ –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –™―Ä–Ψ–Φ–Ψ–≤ –ë–Ψ―Ä–Η―¹ –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅. –ù–Ψ ―¹―Ä–Ψ–Κ–Η –Ϋ–Β―É–Φ–Ψ–Μ–Η–Φ–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ε–Η–Φ–Α–Μ–Η. –‰ –≤–Ψ―², –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–≤ –≤―¹–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η―è, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Η –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –≤―΄―Ö–Ψ–¥ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β, ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥―è ―²―Ä―ë―Ö―¹―É―²–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤―΄–Ι –Ψ―²–¥―΄―Ö, –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–≤ –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―² –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Δ–û–Λ –Η 2 –Λ–Μ–ü–¦ (–Α ―¹ –Ϋ–Η–Φ–Η, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Η –≥―Ä―É–Ω–Ω―É –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ ―à―²–Α–±–Α, –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ ―¹–Α–Φ–Η –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Ψ –Ω–Ψ―²–Β―¹–Ϋ–Η–≤―à–Η―¹―¨) –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Ϋ–Ψ―è–±―Ä―è 1975 –≥–Ψ–¥–Α –Φ―΄ –≤―΄―à–Μ–Η –Ϋ–Α –±–Ψ–Β–≤―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É. –ù–Β –±―É–¥―É –Ψ–Ω–Η―¹―΄–≤–Α―²―¨ –≤―¹–Β ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Η –Η –≥–Ψ―Ä–Β―¹―²–Η –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ –Ζ–Α–¥–Α―΅–Α –Φ–Ψ–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–≤–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Η–Ϋ–Α―è, –Α –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ―é―¹―¨ –Μ–Η―à―¨ –Ϋ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Β―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Η. –ß–Β―Ä–Β–Ζ –¥–≤–Β –Ϋ–Β–¥–Β–Μ–Η –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è ―¹ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è ―É–±―΄–Μ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –£.–ü.–€–Α―¹–Μ–Ψ–≤, –¥–Μ―è ―΅–Β–≥–Ψ –Φ―΄ –≤―¹–Ω–Μ―΄–Μ–Η –≤ –û―Ö–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β –Η –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ–Η―¹―¨ ―¹ –Ω–Μ–Α–≤–±–Α–Ζ–Ψ–Ι ¬Ϊ–€–Α–≥–Α–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ–Β―Ü¬Μ, –Α –Β―â―ë ―΅–Β―Ä–Β–Ζ 2 –Ϋ–Β–¥–Β–Μ–Η ―É–±―΄–Μ ―²–Α–Κ–Η–Φ –Ε–Β –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ –Η –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –ë.–‰.–™―Ä–Ψ–Φ–Ψ–≤, –Α –Κ –Ϋ–Α–Φ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Φ –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ ―à―²–Α–±–Α 25 –î–Η–ü–¦ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ü―É―²–Η–Μ–Ψ–≤ –†–Ψ–±–Β―Ä―² –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅. –î–Α–Μ–Β–Β –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ –Ω–Ψ –Ϋ–Α–Κ–Α―²–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―Ö–Β–Φ–Β: –≤–Α―Ö―²―΄, –Ψ―²–¥―΄―Ö, –±–Ψ–Β–≤–Α―è –Η –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Α. –ü―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ, –≤ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Α–Φ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Κ―É―Ä―¹–Ψ–≤―΄―Ö –Ζ–Α–¥–Α―΅, –≤―¹–Β–Φ―É –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Φ―É ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤―É –±―΄–Μ–Η ―Ä–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ―΄ –Ζ–Α―΅―ë―²–Ϋ―΄–Β –Μ–Η―¹―²―΄ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β –¥–Ψ–Ω―É―¹–Κ–Α –Κ ―¹–Α–Φ–Ψ―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ―É ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―é –Ζ–Α–≤–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ. –ß–Β–Φ –≤―¹–Β –Η –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η―¹―¨, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η –Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η–Η –≤–Α―Ö―²―΄: –Η–Ζ―É―΅–Α–Μ–Η ―²–Ψ―² –Η–Μ–Η –Η–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ –Η ―¹–¥–Α–≤–Α–Μ–Η –Ω–Ψ –Ϋ–Β–Φ―É –Ζ–Α―΅―ë―²―΄ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ–Α–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α–Φ –≥―Ä―É–Ω–Ω, –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –Η –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö ―΅–Α―¹―²–Β–Ι.  –‰ –≤–Ψ―², –≤ –Ψ–¥–Η–Ϋ –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Ι –¥–Β–Ϋ―¨, (―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ–Ψ–Ι –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η) –ë–Β–Ζ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―è―¹―¨ –Ϋ–Α –Ω–Ψ―¹―²―É –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ―è –Ζ–Α –Φ–Η–Κ―Ä–Ψ–Κ–Μ–Η–Φ–Α―²–Ψ–Φ –≤ ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ―΄―Ö ―à–Α―Ö―²–Α―Ö –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ―¹―è –Κ ―¹–¥–Α―΅–Β –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤, ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ ―¹–¥–Α–Μ –Ζ–Α―΅―ë―² –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ ―¹―². –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²―É –Γ.–‰.–ö–Α–Μ―É–≥–Η–Ϋ―É, –Ϋ–Β―¹―É―â–Β–Φ―É –≤–Α―Ö―²―É –Ϋ–Α –ü–Θ–†–û (–Ω―É–Μ―¨―² ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ―΄–Φ –Ψ―Ä―É–Ε–Η–Β–Φ) –Η –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¹―è –Ψ―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α―²―¨ –Ψ―²―¹–Β–Κ. –ü―Ä–Η–±―΄–≤―à–Η–Ι –Ϋ–Α ―¹–Φ–Β–Ϋ―É –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Α –ë–Β–Ζ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Ψ–≤―΄–Ι –≤–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι, –Ϋ–Β –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–≤ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α –Φ–Β―¹―²–Β, –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Η―¹–Κ–Η. –½–¥–Β―¹―¨ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ –≤ 4 (―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ–Ψ–Φ) –Ψ―²―¹–Β–Κ–Β –Η–Φ–Β–Β―²―¹―è 3 –Ω–Α–Μ―É–±―΄. –£–Β―Ä―Ö–Ϋ–Β–Β –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η–Β, –≤ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥―¨–Β –Η–Φ–Β–Ϋ―É–Β–Φ–Ψ–Β ¬Ϊ―΅–Β―Ä–¥–Α–Κ–Ψ–Φ¬Μ, –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ϋ–Η–Ζ–Κ–Ψ–Β, ―²–Α–Φ –Η –Ω―Ä–Ψ–Ι―²–Η-―²–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Η–Ζ―Ä―è–¥–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ–≥–Ϋ―É–≤―à–Η―¹―¨. –‰ –≤–Ψ―² –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ–Φ ¬Ϊ―΅–Β―Ä–¥–Α–Κ–Β¬Μ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Ι –≤–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Η –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–Μ –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Α –ë–Β–Ζ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö, –Μ–Β–Ε–Α―â–Η–Φ –Ϋ–Α –Ω–Α–Ι–Ψ–Μ–Α―Ö, ―¹ –Ϋ–Ψ–Ε–Ψ–Φ –≤ –≥―Ä―É–¥–Η –≤ –Ψ–±–Μ–Α―¹―²–Η ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Α, –Ψ ―΅―ë–Φ –Η –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –Ϋ–Β–Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α –ü–Θ–†–û –Η –≤ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ―¹―². –€–Α―²―Ä–Ψ―¹–Α ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Η –≤ –Μ–Α–Ζ–Α―Ä–Β―², –≥–¥–Β –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Ψ–Ω–Β―Ä–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –Φ–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –™―É―â –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–≤–Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Η –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ―¨ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η, –¥–Ψ–Κ―²–Ψ―Ä –Φ–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Ϋ–Α―É–Κ, –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Ψ―Ä, –Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ –Φ/―¹), ―΅–Β–Φ –Η ―¹–Ω–Α―¹ –Β–Φ―É –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨. –û –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―à–Β―¹―²–≤–Η–Η –Φ―΄ –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Η –Ϋ–Α –ö–ü –Δ–û–Λ. –ù–Α–Φ –±―΄–Μ–Α –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Α ―²–Ψ―΅–Κ–Α –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Η ―¹ –≥–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ–Φ, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –Φ―΄ ―²―É―² –Ε–Β –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ ―¹–Α–Φ―΄–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Φ ―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ. –£―¹–Ω–Μ―΄–≤ –≤ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Η –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–≤―à–Η―¹―¨ ―¹ –≥–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ–Φ, –Φ―΄ –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –Ϋ–Β–≥–Ψ –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Α –ë–Β–Ζ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö, –Α ―¹–Α–Φ–Η –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Η–Μ–Η –Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η–Β –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄. –ö–Α–Κ –≤―΄―è―¹–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―ç―²–Ψ―² –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ, –±–Β–Ζ –Κ–Α–Κ–Η―Ö-―²–Ψ –≤–Η–¥–Η–Φ―΄―Ö –Η –Ϋ–Β–≤–Η–¥–Η–Φ―΄―Ö –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ ―Ä–Β―à–Η–Μ –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η―²―¨ –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ ―¹–Α–Φ–Ψ―É–±–Η–Ι―¹―²–≤–Ψ–Φ. –î–Μ―è ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Ϋ –≤–Ζ―è–Μ –Ψ–±―΄―΅–Ϋ―΄–Ι ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–≤―΄–Ι, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ –Ζ–Α―²–Ψ―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Ψ–Ε, –Ζ–Α–Μ–Β–Ζ –Ϋ–Α ¬Ϊ―΅–Β―Ä–¥–Α–Κ¬Μ –Η, –Ω―Ä–Η―¹―²–Α–≤–Η–≤ –Ϋ–Ψ–Ε –Κ ―¹–Β―Ä–¥―Ü―É, –Ϋ–Α–≤–Α–Μ–Η–Μ―¹―è ―Ä―É–Κ–Ψ―è―²–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Ψ–Ε–Α –Ϋ–Α ―à–Α―Ö―²―É. –ù–Ψ –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Β –Ψ–Ϋ –Ζ–Α–¥–Β–Μ –Μ–Η―à―¨ ―¹–Μ–Β–≥–Κ–Α. –€―΄ –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ–Η, ―΅―²–Ψ ―É ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Α –Ϋ–Β –≤―¹―ë –≤ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Β ―¹ –Ω―¹–Η―Ö–Η–Κ–Ψ–Ι. –Γ–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α–Β―²―¹―è, –Ζ–Α―΅–Β–Φ –±―΄–Μ–Ψ ―¹–¥–Α–≤–Α―²―¨ –Ζ–Α―΅―ë―², –Β―¹–Μ–Η ―²―΄ ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Μ―¹―è ―É–Φ–Η―Ä–Α―²―¨? –½–Α–±–Β–≥–Α―è –≤–Ω–Β―Ä―ë–¥, ―¹–Κ–Α–Ε―É, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―É–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –≤ –Ζ–Α–Ω–Α―¹, –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –≥–Ψ–¥, –Ψ–Ϋ –≤―¹―ë –Ε–Β –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ ―¹ ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι. –£ –≥–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ–Β –≥.–ü–Β―²―Ä–Ψ–Ω–Α–≤–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Α-–ö–Α–Φ―΅–Α―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, –Κ―É–¥–Α –±―΄–Μ –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―²―â–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Β–≥–Ψ –Ψ–±―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è, –Ω―Ä–Η―à–Μ–Η –Κ –≤―΄–≤–Ψ–¥―É, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α―à –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –≤―Ä–Α―΅ –Ω―Ä–Ψ–≤―ë–Μ –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η―é –≤ ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ϋ–Η―΅―É―²―¨ –Ϋ–Β ―Ö―É–Ε–Β, ―΅–Β–Φ ―ç―²–Ψ –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –±―΄ ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ –Ψ–Ϋ–Η –≤ ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö –≥–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ―è.  –ü–Ψ –Ω―Ä–Η–±―΄―²–Η–Η –≤ –±–Α–Ζ―É –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Α–¥–Α―΅ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄, –Ϋ–Α―¹ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Μ –ü–Β―Ä–≤―΄–Ι –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –Δ–û–Λ –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –Γ–Ω–Η―Ä–Η–¥–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –≠–Φ–Η–Μ―¨ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Ψ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η –Ζ–Α–¥–Α―΅, –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α: - –Κ―²–Ψ –Ψ–Ω–Β―Ä–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Α? –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä: - ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –™―É―â. –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ: -–Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –Κ –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ―É. –ê –Κ―²–Ψ –Α―¹―¹–Η―¹―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ? –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä: -―Ö–Η–Φ–Η–Κ-―¹–Α–Ϋ–Η―²–Α―Ä ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹ –°–Ε–Α–Μ–Κ–Η–Ϋ. –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ: -–Ω―Ä–Β–¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ 10 ―¹―É―²–Ψ–Κ –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Α ―¹ –≤―΄–Β–Ζ–¥–Ψ–Φ –Ϋ–Α ―Ä–Ψ–¥–Η–Ϋ―É. –½–Α–≤―²―Ä–Α –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨ –Ψ –Β–≥–Ψ ―É–±―΄―²–Η–Η. –£―¹―ë –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Ψ –Η ―è―¹–Ϋ–Ψ. –£ ―¹–≤–Ψ–Ι –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η–Β–Ζ–¥ –Ϋ–Α –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ―É –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –≠.–ù.–Γ–Ω–Η―Ä–Η–¥–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –≤―΄–Ζ–≤–Α–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Η ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ, –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥–Η–Μ–Η –Μ–Η –¥–Ψ–Κ―²–Ψ―Ä–Α, –Ϋ–Α ―΅―²–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥–Α –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Α. –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –Ω–Ψ–Ψ–±–Β―â–Α–Μ ―Ä–Α–Ζ–Ψ–±―Ä–Α―²―¨―¹―è. –£―¹–Κ–Ψ―Ä–Β ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –£.–£.–™―É―â –±―΄–Μ –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥―ë–Ϋ –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Ψ–Φ  –û―¹–Β–Ϋ―¨―é 1976 –≥–Ψ–¥–Α, –Ψ–Ω―è―²―¨ –Ε–Β –≤ –Ψ–¥–Ϋ―É ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―É―é –Ϋ–Ψ―΅―¨, –≤–Β―¹―¨ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε –†–ü–ö –Γ–ù ¬Ϊ–ö-366¬Μ –±―΄–Μ –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è―² –Ω–Ψ ―²―Ä–Β–≤–Ψ–≥–Β. –½–Α –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―è―â–Η–Φ–Η―¹―è –¥–Ψ–Φ–Α –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α–Φ–Η –Η –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ–Α–Φ–Η –±―΄–Μ–Η –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ―΄ –Ψ–Ω–Ψ–≤–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ–Η. –ß–Β―Ä–Β–Ζ 1-1,5 ―΅–Α―¹–Α –≤–Β―¹―¨ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―²―É –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è. –û–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è, –Ϋ–Α –ü–Θ–†–û –≤―΄–Ω–Α–Μ ―¹–Η–≥–Ϋ–Α–Μ βÄ™ ¬Ϊ–Ω―Ä–Β–≤―΄―à–Β–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ-–¥–Ψ–Ω―É―¹―²–Η–Φ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α―Ü–Η–Η¬Μ (–ü–î–ö) –Ω–Ψ ―²–Ψ–Ω–Μ–Η–≤―É –Η–Μ–Η –Ω–Ψ –Ψ–Κ–Η―¹–Μ–Η―²–Β–Μ―é –≤ 6 ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ―΄―Ö ―à–Α―Ö―²–Α―Ö ―².–Β. –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Α ―Ä–Α–Ζ–Α–Φ–Ω―É–Μ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―è 6 ―Ä–Α–Κ–Β―². –ê –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ ―à–Α―Ö―² –Η –Ω–Ψ ―²–Ψ–Ω–Μ–Η–≤―É –Η –Ω–Ψ –Ψ–Κ–Η―¹–Μ–Η―²–Β–Μ―é. –Δ–Ψ–Ω–Μ–Η–≤–Ψ –Η –Ψ–Κ–Η―¹–Μ–Η―²–Β–Μ―¨, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―è―â–Η–Β―¹―è –≤ ―Ä–Α–Κ–Β―²–Α―Ö –†-29, ―¹―²–Ψ―è―â–Η―Ö –Ϋ–Α –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Α, –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―²–Ψ–Κ―¹–Η―΅–Ϋ―΄. –ü–î–ö –Η –Ω–Ψ ―²–Ψ–Ω–Μ–Η–≤―É –Η –Ω–Ψ –Ψ–Κ–Η―¹–Μ–Η―²–Β–Μ―é –Η―¹―΅–Η―¹–Μ―è―é―²―¹―è –≤ –¥–Β―¹―è―²–Η―²―΄―¹―è―΅–Ϋ―΄―Ö –¥–Ψ–Μ―è―Ö –Φ–≥/–Κ―É–±.―¹–Φ. –û―²―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Η―Ö –Ω–Α―Ä–Α–Φ–Η ―¹–Φ–Β―Ä―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Α ―¹–Φ–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β ―²–Ψ–Ω–Μ–Η–≤–Α ―¹ –Ψ–Κ–Η―¹–Μ–Η―²–Β–Μ–Β–Φ –≤―΄–Ζ―΄–≤–Α–Β―² ―¹–Α–Φ–Ψ–≤–Ψ–Ζ–≥–Ψ―Ä–Α–Ϋ–Η–Β –Η –≤–Ζ―Ä―΄–≤. –ï–¥–Η–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β ―²–Ψ–Ω–Μ–Η–≤–Α –Η –Ψ–Κ–Η―¹–Μ–Η―²–Β–Μ―è –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–Κ–Β―²―΄ –†-29 –≤―΄–Ζ―΄–≤–Α–Β―² –≤–Ζ―Ä―΄–≤ –Φ–Ψ―â–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –≤ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Κ–Η–Μ–Ψ―²–Ψ–Ϋ–Ϋ –≤ ―²―Ä–Ψ―²–Η–Μ–Ψ–≤–Ψ–Φ ―ç–Κ–≤–Η–≤–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Β. –£–Ψ―² ―²–Α–Κ–Α―è –Ω–Β―Ä―¹–Ω–Β–Κ―²–Η–≤–Α –≤―΄―Ä–Η―¹–Ψ–≤―΄–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α –Ϋ–Α―à–Β–Φ –†–ü–ö –Γ–ù. –£–Η–¥–Η–Φ–Ψ, –Ω―Ä–Ψ―¹―΅–Η―²–Α–≤ –≤―¹–Β –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Β –≤–Α―Ä–Η–Α–Ϋ―²―΄, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Α –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Ψ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Β–Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η―²―¨ –Ϋ–Α―¹ –≤ –ü―Ä–Η–Φ–Ψ―Ä―¨–Β –≤ –±―É―Ö―²―É –ö–Ψ–Ϋ―é―à–Κ–Ψ–≤–Ψ –¥–Μ―è –≤―΄–≥―Ä―É–Ζ–Κ–Η –≤―¹–Β–≥–Ψ ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±–Ψ–Β–Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―²–Α. –†–Η―¹–Κ–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –±–Α–Ζ–Ψ–Ι –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Ϋ–Β ―Ö–Ψ―²–Β–Μ. –ù–Α–Φ –±―΄–Μ –Κ–Α―²–Β–≥–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Ζ–Α–Ω―Ä–Β―â―ë–Ϋ ―¹―Ö–Ψ–¥ ―¹ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è, –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η ―ç–Κ―¹―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤–≤–Ψ–¥ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄―Ö ―ç–Ϋ–Β―Ä–≥–Β―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Κ –Ψ–±–Ψ–Η―Ö –±–Ψ―Ä―²–Ψ–≤ –Η –Ω―Ä–Η–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –Κ –±–Ψ―é, –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥―É –Η –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―é. –ü–Ψ –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≤―΄―à–Μ–Η –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Η –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ –ü―Ä–Η–Φ–Ψ―Ä―¨–Β, –Κ―²–Ψ –≤ ―΅―ë–Φ –±―΄–Μ –Η ―¹ ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ ―É –Κ–Ψ–≥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ. –ù–Ψ ¬Ϊ–≤–Ω―Ä–Ψ―΅–Β–Φ –Ω–Β―¹–Ϋ―è –Ϋ–Β –Ψ ―²–Ψ–ΦβÄΠ¬Μ. –†–Α–Ζ ―è –Ω–Η―à―É ―ç―²–Η ―¹―²―Ä–Ψ–Κ–Η, –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―² –≤―¹―ë –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω–Ψ–Μ―É―΅–Ϋ–Ψ. –£ –ö–Ψ–Ϋ―é―à–Κ–Ψ–≤–Ψ –Φ―΄ –≤―΄–≥―Ä―É–Ζ–Η–Μ–Η –±–Ψ–Β–Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―² –Η –Ω–Β―Ä–Β―à–Μ–Η –≤ –±―É―Ö―²―É –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Ω―è―²―¨ –Ε–Β –≤ 26 –î–Η–ü–¦. –½–¥–Β―¹―¨ –Φ―΄ –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹–Ψ–≤–Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ ―¹ –Ω―Ä–Ψ–Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Μ–Η–Κ–≤–Η–¥–Α―Ü–Η–Β–Ι –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Ι –Α–≤–Α―Ä–Η–Η, –¥–Ψ―Ä–Α–±–Ψ―²–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―¹–Α –Η –≤―΄―è―¹–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Β–¥―à–Β–≥–Ψ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―²–Α–Κ ―²–Ψ–Μ–Κ–Ψ–Φ –≤―΄―è―¹–Ϋ–Β–Ϋ―΄ –Η –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Η. –ö–Α–Κ –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ –≤–Ψ –≤―¹―ë–Φ –Ψ–±–≤–Η–Ϋ–Η–Μ–Η –Ω―Ä–Β―¹–Μ–Ψ–≤―É―²―΄–Ι ¬Ϊ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι ―³–Α–Κ―²–Ψ―Ä¬Μ. –ü–Ψ–Ζ–¥–Ϋ–Β–Β –±―΄–Μ–Η ―¹–Ϋ―è―²―΄ ―¹ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –£.–™.–ë–Α–Ε–Α–Ϋ–Ψ–≤, –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Ω–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Η―²―΅–Α―¹―²–Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 2 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ê.–ü.–ö―Ä–Α―é―à–Κ–Η–Ϋ –Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ–Ψ–Ι –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 3 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –£.–ö.–ü–Β―²―Ä–Α–Ϋ–Κ–Η–Ϋ. –≠―²–Η–Φ–Η ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Φ–Η –Φ―΄ –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Μ–≥–Ψ–¥–Α. –Γ –Ω―Ä–Η–±―΄―²–Η–Β–Φ –≤ –ü―Ä–Η–Φ–Ψ―Ä―¨–Β –Ϋ–Α–Φ, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―²–Η–Μ–Η –≤―΄–Ω–Μ–Α―²―É –Κ–Α–Φ―΅–Α―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –¥–Β–Ϋ–Β–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η―è (–¥–≤–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–Κ–Μ–Α–¥). –ß–Β―Ä–Β–Ζ –Ω–Ψ–Μ–≥–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α–Φ –Ϋ–Α ―¹–Φ–Β–Ϋ―É –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε, –Α –Φ―΄ –Ϋ–Α –±–Β–Μ–Ψ–Φ –Ω–Α―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Β ¬Ϊ ¬Μ –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ―É.  –ù–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü-―²–Ψ ―¹–≤–Β―Ä―à–Η–Μ–Ψ―¹―¨! –€―΄ –≤–Ψ―¹―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Η–Μ–Η―¹―¨ ―¹ ―¹–Β–Φ―¨―è–Φ–Η, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Η –Κ–Α–Φ―΅–Α―²―¹–Κ―É―é –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Κ―É –Η –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ –Μ–Β―²–Ψ–Φ. –£–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ –Ψ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Β–Φ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α –Ϋ–Α ―²–Ψ―² –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―² –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―Ä–Β―à―ë–Ϋ –Ϋ–Β –±―΄–Μ. –ö–Α–Κ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –≤–Α―Ä–Η–Α–Ϋ―²–Ψ–≤ –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Α –Ϋ–Α–Φ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²―¨ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –Η –≤―΄–Ι―²–Η –Ϋ–Α –±–Ψ–Β–≤―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É. –ù–Ψ –≤ ―²–Ψ―² –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―² –≤―¹–Β –Ϋ–Α―à–Η –Ω–Ψ–Φ―΄―¹–Μ―΄ –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ –Μ–Η―à―¨ –Ψ–± –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ: –Κ–Α–Κ –¥–Ψ―¹―²–Α―²―¨ –±–Η–Μ–Β―²―΄ –Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―². –ü–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Α –Ϋ–Α–Φ –±―΄–Μ–Α –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Α –Ζ–Α–¥–Α―΅–Α ―É–±―΄―²―¨ –≤ –ü―Ä–Η–Φ–Ψ―Ä―¨–Β, –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨, –Ζ–Α–≥―Ä―É–Ζ–Η―²―¨ –Ψ―Ä―É–Ε–Η–Β –Η –Ω–Β―Ä–Β–±–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è –≤ ―¹–≤–Ψ―é 25 –î–Η–ü–¦ –Ϋ–Α –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ―É. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –£.–™.–ë–Α–Ε–Α–Ϋ–Ψ–≤, ―΅―É–≤―¹―²–≤―É―è, ―΅―²–Ψ –¥–Ϋ–Η –Β–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―¹―²–≤–Α ―¹–Ψ―΅―²–Β–Ϋ―΄, –Μ―ë–≥ –≤ –≥–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ―¨, ―²–Α–Κ ―΅―²–Ψ –≤―¹–Β –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹―΄, ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹ –Ω–Β―Ä–Β–Β–Ζ–¥–Ψ–Φ –≤ –ü―Ä–Η–Φ–Ψ―Ä―¨–Β, –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ ―Ä–Β―à–Α―²―¨ –Φ–Ϋ–Β. –‰ ―²―É―² –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Ι –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹, –Α –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –¥–Β–Ϋ–Β–Ε–Ϋ―΄–Ι. –ù–Α―΅―³–Η–Ϋ ―³–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η–Η –Ω–Ψ–¥–Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ –£–Α―¹–Η–Μ–Η–Ι –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ (―³–Α–Φ–Η–Μ–Η–Η –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Φ–Ϋ―é) –Ζ–Α―è–≤–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –Κ–Ψ–Μ―¨ ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ –Φ―΄ –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ–Η –Ϋ–Α –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ―É ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Μ―è ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η―²―¨―¹―è –≤ –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ, ―²–Ψ –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Ϋ―΄–Β –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η –Η–Ζ ―Ä–Α―¹―΅―ë―²–Α –¥–≤–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Α –Ϋ–Α–Φ –±―΄–Μ–Η –≤―΄–Ω–Μ–Α―΅–Β–Ϋ―΄ –Ϋ–Β–Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η –Ψ–Ϋ –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ –Ω–Β―Ä–Β―Ä–Α―¹―΅―ë―², ―².–Β. –≤―΄―¹―΅–Η―²–Α―²―¨ ―É –Ϋ–Α―¹ –¥–≤–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Κ–Η. –£―¹–Β –Φ–Ψ–Η –¥–Ψ–≤–Ψ–¥―΄ –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Φ―΄ –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ–Η –Ϋ–Α –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ―É –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Μ―è –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Κ–Η –≤ –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ, –Α –≤ ―¹–≤–Ψ―é –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η―é –Η ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ –Ϋ–Α―à–Β–Φ ―É–±―΄―²–Η–Η –≤ –ü―Ä–Η–Φ–Ψ―Ä―¨–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅―²–Ψ, –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η―è ―É –Ϋ–Α―΅―³–Η–Ϋ–Α –Ϋ–Β –Ϋ–Α―à–Μ–Η. –‰―²–Α–Κ, –Φ―΄ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Η ―É–±―΄―²―¨ –≤ –ü―Ä–Η–Φ–Ψ―Ä―¨–Β –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –±–Β–Ζ –¥–Β–Ϋ–Β–≥ –Η –Ψ―¹―²–Α–≤–Η–≤ –Ϋ–Α 2 –Φ–Β―¹―è―Ü–Α ―¹–Β–Φ―¨–Η (41 –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä –Η 40 –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ–Ψ–≤) –±–Β–Ζ ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤ –Κ ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―é. –ù–Α–Ω–Ψ–Φ–Ϋ―é, –Φ―΄ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Α. –ê –Ϋ–Α―΅―³–Η–Ϋ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―² –Φ–Ϋ–Β ―¹―²–Α―²―¨―é –≤ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Β –€–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä–Α –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Ψ –¥–Β–Ϋ–Β–Ε–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Η–Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Α―â–Η―Ö, ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Ϋ–Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ –≤―΄―¹―΅–Η―²–Α―²―¨ ―É –Ϋ–Α―¹ –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η. –ß―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β ―ç―²–Ψ―² –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ, ―è ―É–Ε–Β –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Μ. –£ –Ϋ―ë–Φ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Ι―²–Η ―¹―²–Α―²―¨–Η –Ϋ–Α –≤―¹–Β ―¹–Μ―É―΅–Α–Η –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Η―¹―²–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Α―²―¨ –Η ―²–Α–Κ –Η ―ç–¥–Α–Κ. –Δ–Α–Κ –≤ 1965 –≥–Ψ–¥―É ―è, –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥―è ―¹–Μ―É–Ε–±―É ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Ψ–Φ –Ϋ–Α –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –Γ–Λ, –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥―è―â–Β–Ι ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―² –≤ –≥. –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ψ–¥–≤–Η–Ϋ―¹–Κ–Β, –±―΄–Μ –Ψ―²–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Η –Η ―É–±―΄–Μ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Ϋ–Α 5 –Φ–Β―¹―è―Ü–Β–≤. –Δ–Α–Κ –Ϋ–Α―΅―³–Η–Ϋ, ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Ϋ–Ψ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α –Ζ–Α ―ç―²–Ψ―² ―¹―Ä–Ψ–Κ –≤―΄―¹―΅–Η―²–Α–Μ ―É –Φ–Β–Ϋ―è 35%, –≤―΄–Ω–Μ–Α―΅–Η–≤–Α–Β–Φ―΄–Β –Ζ–Α –Ψ―¹–Ψ–±―΄–Β ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Ϋ–Α –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö. –ê –Ζ–Α–Φ–Ω–Ψ–Μ–Η―²―É, –Ψ―²–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –≤ ―ç―²–Ψ –Ε–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–Ι –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤ –Ϋ–Α ―Ü–Β–Μ–Η–Ϋ―É –¥–Μ―è –±–Η―²–≤―΄ –Ζ–Α ―É―Ä–Ψ–Ε–Α–Ι, ―ç―²–Η 35% –≤―΄–Ω–Μ–Α―²–Η–Μ, –Ψ–Ω―è―²―¨ –Ε–Β –≤ ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Η–Η ―¹ ―ç―²–Η–Φ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Ψ–Φ.  –ù–Ψ –≤–Β―Ä–Ϋ―ë–Φ―¹―è –Κ –Ϋ–Α―à–Η–ΦβÄΠ –£―¹–Β –Φ–Ψ–Η –Ω–Ψ–Ω―΄―²–Κ–Η –Ϋ–Α–Ι―²–Η –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Κ―É ―É –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –Ϋ–Β ―É–≤–Β–Ϋ―΅–Α–Μ–Η―¹―¨ ―É―¹–Ω–Β―Ö–Ψ–Φ. –î–Β―¹–Κ–Α―²―¨, ―²–Β–±–Β –¥–Α–Ϋ–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Α –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η―²―¨ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε, –≤–Ψ―² –Η ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Ι. –ë–Β–Ζ ―²–Β–±―è –¥–Β–Μ –Ϋ–Β–≤–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ―², –Α ―²―É―² ―²―΄ –Β―â―ë ―¹ –Κ–Α–Κ–Η–Φ-―²–Ψ –Φ–Β―Ä–Κ–Α–Ϋ―²–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Ψ–Φ. –ù–Ψ ―²―É―² –Ϋ–Α , –Α –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤–Ψ 2 –Λ–Μ–ü–¦, –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ –Ω–Ψ–Κ–Α –Β―â―ë –ü–Β―Ä–≤―΄–Ι –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –Δ–û–Λ –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –≠.–ù.–Γ–Ω–Η―Ä–Η–¥–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –Η –Ω–Ψ―¹–Β–Μ–Η–Μ―¹―è, –Κ–Α–Κ –≤―¹–Β–≥–¥–Α, –Ϋ–Α ―à―²–Α–±–Ϋ–Ψ–Ι –ü–ö–½ (–Ω–Μ–Α–≤–Κ–Α–Ζ–Α―Ä–Φ–Α) 25 –î–Η–ü–¦, –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ–Ι –Ε–Β –ü–ö–½ ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―â–Α–Μ―¹―è –Η –Ϋ–Α―à ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε. –‰ ―è, –Ϋ–Α–±―Ä–Α–≤―à–Η―¹―¨ ―¹–Φ–Β–Μ–Ψ―¹―²–Η (–Α –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨ –Ϋ–Α―Ö–Α–Μ―¨―¹―²–≤–Α), –Ψ–±―Ä–Α―²–Η–Μ―¹―è –Ω―Ä―è–Φ–Ψ –Κ –Ϋ–Β–Φ―É. –ö―Ä–Α―²–Κ–Ψ –Η–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Η–≤ –Β–Φ―É –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Ω–Β―Ä–Β–¥–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ζ–Α–¥–Α―΅―É –Η –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ―à―É―é –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ―É, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ ―΅―ë―²–Κ–Η–Ι –Ψ―²–≤–Β―² : ¬Ϊ–ü–Β―Ä–Β–¥–Α–Ι –Ϋ–Α―΅―³–Η–Ϋ―É –Φ–Ψ―ë –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η–Β, –≤―΄–Ω–Μ–Α―²–Η―²―¨ –≤―¹―ë –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é!¬Μ –û–Κ―Ä―΄–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―É―¹–Ω–Β―Ö–Ψ–Φ, ―è –Ω–Ψ–Μ–Β―²–Β–Μ –Κ –Ϋ–Α―΅―³–Η–Ϋ―É. –ù–Ψ –Ϋ–Β ―²―É―²-―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ. –£―΄―¹–Μ―É―à–Α–≤ –Φ–Β–Ϋ―è, –Ψ–Ϋ –Ζ–Α―è–≤–Μ―è–Β―², ―΅―²–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤–Α –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –Κ –¥–Β–Μ―É –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–Ψ―à―¨―ë―à―¨, –Α –Ω―Ä–Η–Β–¥–Β―² –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Κ–Α, –≤–Η–Ϋ–Ψ–≤–Α―²―΄–Φ –Ψ–Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è –Ψ–Ϋ –Η ―².–¥. –‰ –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Α–≥–Α–Β―²: ¬Ϊ–î–Α–≤–Α–Ι –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η–Φ ―²–Β–Μ–Β–≥―Ä–Α–Φ–Φ―É –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ―É ―³–Η–Ϋ–Α–Ϋ―¹–Ψ–≤–Ψ-―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Δ–û–Λ –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–Φ–Α–Ι–Ψ―Ä―É –ù–Ψ–≤–Η–Κ–Ψ–≤―É.¬Μ –ù―É ―è, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, ―΅―É–≤―¹―²–≤―É―è –Ζ–Α ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι ―²–Α–Κ―É―é –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Κ―É, ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η–Μ―¹―è. –ß–Β―Ä–Β–Ζ –Ω–Α―Ä―É ―΅–Α―¹–Ψ–≤ –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Ϋ–Η–Μ –Φ–Ϋ–Β –Η –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –Ζ–Α–Ι―²–Η. –ö–Ψ–≥–¥–Α ―è –Ω―Ä–Η―à―ë–Μ –Κ –Ϋ–Β–Φ―É, –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Ψ―²―è–Ϋ―É–Μ –Φ–Ϋ–Β ―²–Β–Μ–Β–≥―Ä–Α–Φ–Φ―É –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –±―΄–Μ–Ψ –¥–Α–Ϋ–Ψ ―΅―ë―²–Κ–Ψ–Β ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η–Β: ¬Ϊ–£―΄―¹―΅–Η―²–Α―²―¨ –≤―¹―ë –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Η–Ζ –¥–Β–Ϋ–Β–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η―è –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ –Η –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ–Ψ–≤¬Μ. –£–Ψ―² ―²―É―²-―²–Ψ ―è –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ, ―΅―²–Ψ –Η–Ϋ–Η―Ü–Η–Α―²–Η–≤―É –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –±―Ä–Α―²―¨ –≤ ―¹–≤–Ψ–Η ―Ä―É–Κ–Η –Η –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –Ϋ–Α―΅―³–Η–Ϋ―É: ¬Ϊ–ë–Β―Ä–Η ―²–Β–Μ–Β–≥―Ä–Α–Φ–Φ―É –Η –Ω–Ψ―à–Μ–Η –≤–Φ–Β―¹―²–Β –Κ –Γ–Ω–Η―Ä–Η–¥–Ψ–Ϋ–Ψ–≤―ɬΜ. –ü–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Η–Φ –Κ –ü–ö–½, –Α –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –Γ–Ω–Η―Ä–Η–¥–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ ―¹–Ω―É―¹–Κ–Α–Β―²―¹―è –Ω–Ψ ―²―Ä–Α–Ω―É –Ω–Ψ–¥ –Α–Κ–Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Β–Φ–Β–Ϋ―² –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄ ¬Ϊ–Γ–€–‰–†–ù–û!¬Μ. –Θ–≤–Η–¥–Β–≤ –Φ–Β–Ϋ―è, ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ: ¬Ϊ–ù―É ―΅―²–Ψ, –ü–Μ–Α―²–Ψ–Ϋ–Ψ–≤, –≤―΄–Ω–Μ–Α―²–Η–Μ–Η –≤–Α–Φ –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η?¬Μ –Ϋ–Α ―΅―²–Ψ ―è: ¬Ϊ–ù–Η–Κ–Α–Κ –Ϋ–Β―²¬Μ. –‰ ―²―É―² –Ψ–Ϋ ―É–≤–Η–¥–Β–Μ –Ϋ–Α―΅―³–Η–Ϋ–Α (–Α –Ψ–Ϋ –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ –Β―â―ë ―¹ ―²–Β―Ö –Ω–Ψ―Ä, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –±―΄–≤―à–Β–Ι –¥–Ψ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η―è 2–Λ–Μ–ü–¦). –½–¥–Β―¹―¨ –Η ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ―¹―è –¥–Η–Α–Μ–Ψ–≥: –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ: - –Α, –Η ―²―΄ –Ζ–¥–Β―¹―¨? –Δ―΄, ―è ―¹–Μ―΄―à–Α–Μ, –Ϋ–Α –Ω–Β–Ϋ―¹–Η―é ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–Β―à―¨―¹―è? –ù–Α―΅―³–Η–Ϋ: - –Δ–Α–Κ ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ, –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―² –Ω–Ψ–¥–Ε–Η–Φ–Α–Β―². –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ: - –ê –Ϋ–Α 50% –Ω–Β–Ϋ―¹–Η–Η –Ϋ–Β ―Ö–Ψ―΅–Β―à―¨ ―É–Ι―²–Η? (–≤ ―²–Β –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β –Ϋ–Α–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η–Β, ―É–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ―è–Β–Φ―΄–Φ ―¹ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Ω–Ψ –¥–Η―¹–Κ―Ä–Β–¥–Η―²–Α―Ü–Η–Η –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α) –ù–Α―΅―³–Η–Ϋ: - –ê –Ζ–Α ―΅―²–Ψ, ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ, ―è –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β –≥―Ä–Α–±–Η–Μ, –Ϋ–Β ―É–±–Η–≤–Α–Μ. –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ: - –ê –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ-―²–≤–Ψ–Β–Φ―É, –Η–Ζ–¥–Β–≤–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Α–¥ ―Ü–Β–Μ―΄–Φ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Φ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β? –ù–Α―΅―³–Η–Ϋ: - –Θ –Φ–Β–Ϋ―è ―²–Β–Μ–Β–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Α –Ψ―² –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ–Α –ù–Ψ–≤–Η–Κ–Ψ–≤–Α. –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –Ω―Ä–Ψ–±–Β–Ε–Α–Μ –≥–Μ–Α–Ζ–Α–Φ–Η ―²–Β–Μ–Β–≥―Ä–Α–Φ–Φ―É, ―¹–Κ–Ψ–Φ–Κ–Α–Μ –Β―ë –Η ―¹―É–Ϋ―É–Μ –≤ –Κ–Α―Ä–Φ–Α–Ϋ: - –≤―΄–Ω–Μ–Α―²–Η―²―¨ –≤―¹―ë –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é, –Α ―¹ –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ–Η–Ϋ–Ψ–Φ –ù–Ψ–≤–Η–Κ–Ψ–≤―΄–Φ ―è –Ω–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―é –Ϋ–Α –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Γ–Ψ–≤–Β―²–Β. –£ ―²–Ψ―² –Ε–Β –¥–Β–Ϋ―¨ –Ϋ–Α–Φ –±―΄–Μ–Ψ –≤―΄–¥–Α–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –¥–Β–Ϋ–Β–Ε–Ϋ–Ψ–Β –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η–Β –Ζ–Α 2 –Φ–Β―¹―è―Ü–Α –Η –Φ―΄ ―¹ ―¹–Ψ ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ–Ι –¥―É―à―ë–Ι –Η ―΅–Η―¹―²–Ψ–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―¹―²―¨―é ―É–±―΄–Μ–Η –≤ –ü―Ä–Η–Φ–Ψ―Ä―¨–Β.  –ß–Α–≥–Α–¥–Α–Β–≤ –ê.–Γ. ¬Ϊ–ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―΄ –Η –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ―΄ ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–≤. –ü–Ψ―Ä―²―Ä–Β―²–Ϋ–Α―è –≥–Α–Μ–Β―Ä–Β―è –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Κ–Ψ-–Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α –Ω―Ä–Η –ü―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Β –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –Λ–Β–¥–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η.¬Μ –ö–Ϋ–Η–≥–Α-–Α–Μ―¨–±–Ψ–Φ. –Θ –Φ–Β–Ϋ―è –±―΄–Μ–Ψ –Β―â―ë –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―¹―²―Ä–Β―΅ ―¹ ―ç―²–Η–Φ –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Φ, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Φ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ, –Α –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Α –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –†–ü–ö –Γ–ù, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α 25 –î–Η–ü–¦. –£ 1977 –≥–Ψ–¥―É –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –≠.–ù.–Γ–Ω–Η―Ä–Η–¥–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –≤ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―è ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–±–Ψ–Ι –≤―΄―à–Β–Μ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Ϋ–Α –Ϋ–Α―à–Β–Φ –†–ü–ö –Γ–ù. –£ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Α ―¹ –Ϋ–Α–Φ–Η –Ε–Β –≤―΄―à–Β–Μ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ ―à―²–Α–±–Α 25 –î–Η–ü–¦ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ï―Ä–Ψ―³–Β–Β–≤ –û–Μ–Β–≥ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–≤–Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ, –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ). –‰ –≤–Ψ―² –û.–ê.–ï―Ä–Ψ―³–Β–Β–≤, –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ, –¥–Β–Φ–Ψ–Ϋ―¹―²―Ä–Η―Ä―É―è ―¹–≤–Ψ―é ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Η –≥―Ä–Α–Φ–Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –±―É–Κ–≤–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–¥―ë―Ä–≥–Α–Μ –≤―¹–Β―Ö –≤ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ―¹―²―É –Ψ―² –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –¥–Ψ ―Ä―É–Μ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ. –≠.–ù.–Γ–Ω–Η―Ä–Η–¥–Ψ–Ϋ–Ψ–≤, –Ω–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–≤ –Ϋ–Α –Β–≥–Ψ –±―É―Ä–Ϋ―É―é –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ: - –ï―Ä–Ψ―³–Β–Β–≤, –Η–¥–Η ―¹―é–¥–Α. –£―¹―²–Α–Ϋ―¨ ―¹–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä―è–¥–Ψ–Φ –Η –Φ–Ψ–Μ―΅–Η. –Δ―΄ ―΅―²–Ψ –¥―É–Φ–Α–Β―à―¨, ―΅―²–Ψ –Β―¹–Μ–Η ―è –Φ–Ψ–Μ―΅―É, ―²–Ψ ―è –Ϋ–Β –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α―é –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Η―Ö –Ω―Ä–Ψ–Φ–Α―Ö–Ψ–≤ –Η –Ϋ–Β–¥–Ψ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ψ–Κ? –€–Β–Ϋ―è –Ζ–Α –Φ–Ψ―é –¥–Ψ–Μ–≥―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ –Ω―΄―²–Α–Μ–Η―¹―¨ –Η –Ω–Ψ―¹–Α–¥–Η―²―¨ –Ϋ–Α –Φ–Β–Μ―¨, –Η ―¹―²–Ψ–Μ–Κ–Ϋ―É―²―¨ ―¹ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―ë–Φ. –ù–Ψ ―è –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –≤–Φ–Β―à–Η–≤–Α–Μ―¹―è –≤ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α, –Β―¹–Μ–Η ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β –≤–Β–Μ–Ψ –Ϋ–Α–Ω―Ä―è–Φ―É―é –Κ –Α–≤–Α―Ä–Η–Η. –£–Ψ―² –Η ―²―΄ –Ζ–Α–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ι –≤―¹–Β –Ϋ–Β–¥–Ψ―΅―ë―²―΄ –Η–Μ–Η –Ζ–Α–Ω–Η―¹―΄–≤–Α–Ι, –Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Ϋ–Α ―Ä–Α–Ζ–±–Ψ―Ä–Β ―¹–¥–Β–Μ–Α–Β―à―¨ –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α–Ϋ–Η―è –Η –¥–Α―à―¨ ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―è. –Γ –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Ι –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Β–Ι ―¹ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Ψ–Φ –≠.–ù.–Γ–Ω–Η―Ä–Η–¥–Ψ–Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ ―è ―É–Ζ–Ϋ–Α–≤–Α–Μ –Β–≥–Ψ ―¹ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Η –≤–Ψ―¹―Ö–Η―â–Α–Μ―¹―è –Β–≥–Ψ –Φ―É–¥―Ä–Ψ―¹―²―¨―é, –≤―΄–¥–Β―Ä–Ε–Κ–Ψ–Ι, ―É–Φ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –±―΄―²―¨ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Η–Φ –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―΄–Φ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ, ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Φ –Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹―²―΄–Φ –Η –¥–Ψ―¹―²―É–Ω–Ϋ―΄–Φ ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Β–Φ. –£ ―³–Β–≤―Ä–Α–Μ–Β 1981 –≥–Ψ–¥–Α ―è, –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α 25 –î–Η–Ω–Μ, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±–Β –Ϋ–Α –†–ü–ö –Γ–ù ¬Ϊ–ö-455¬Μ 667-–ë–î–† –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Α ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Φ –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―²―É. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä βÄ™ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ö―É–Ζ–Ϋ–Β―Ü–Ψ–≤ –£–Η―²–Α–Μ–Η–Ι –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Η―΅. –£–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ ―¹–Β–Α–Ϋ―¹–Ψ–≤ ―¹–≤―è–Ζ–Η –Φ―΄ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Η –Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η―é –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –£.–£.–Γ–Η–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤ –Ω–Ψ―¹–Β―²–Η–Μ –±–Α–Ζ―É –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –≤ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Β –Γ―²―Ä–Β–Μ–Ψ–Κ, 4 –Λ–Μ–ü–¦ –≤ –±―É―Ö―²–Β –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ. –€―΄-―²–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –±―΄–≤―à–Η–Ι –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ ―à―²–Α–±–Α –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –£.–£.–Γ–Η–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤ ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Φ –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Η–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ, –Η –Η―¹–Κ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Β ―É–¥–Η–≤–Η–Μ–Η―¹―¨, –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α―è, ―΅―²–Ψ –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Η–≤–Β–Μ–Ψ –Ϋ–Α –Δ–û–Λ, –¥–Α –Β―â―ë –Η –≤ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Β –Β–≥–Ψ –±–Α–Ζ―΄. –‰ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Ϋ–Β–Ι –Ϋ–Α–Φ ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Η–Μ–Η –Ψ ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ–Ψ–Ι ―²―Ä–Α–≥–Β–¥–Η–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Α ―¹ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α –Η ―΅―²–Ψ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –£.–£.–Γ–Η–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ –Β–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Φ.. –ê ―ç―²–Ψ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Α ―²―Ä–Α–≥–Β–¥–Η―è! –‰ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α, –Ϋ–Ψ –Η –≤―¹–Β–≥–Ψ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α, –€–Η–Ϋ–Η―¹―²–Β―Ä―¹―²–≤–Α –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄, –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Α.  –ö–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –≤ –Ψ―²―¹―²–Α–≤–Κ–Β –≠.–Δ.–ü–Μ–Α―²–Ψ–Ϋ–Ψ–≤
23.12.201400:1223.12.2014 00:12:16
0
22.12.201400:1122.12.2014 00:11:03
–£ 1969 –≥–Ψ–¥―É –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι –Λ–Μ–Ψ―² ―Ä–Β―à–Η–Μ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―¹―²–Η –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η―é –Ω–Ψ–¥ –Κ–Ψ–¥–Ψ–≤―΄–Φ –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ ¬Ϊ–ö–≤–Α―Ä―²–Β―²¬Μ. –Γ―É―²―¨ –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤ ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–Φ. –£ –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η –±―΄–Μ–Ψ –Ζ–Α–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ψ 4 –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Η: –¥–≤–Α –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―΄―Ö –Η –¥–≤–Β –¥–Η–Ζ–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö. –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ –Μ–Ψ–¥–Κ–Α–Φ –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ―΄ ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ―΄ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è, ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Β ―¹―Ä–Ψ–Κ–Η –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è, –Α –Ϋ–Α―Ä―è–¥―É ―¹ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α–¥–Α―΅ (–Ω–Ψ–Η―¹–Κ –Η –≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ–Η –≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α) ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ζ–Α–¥–Α―΅–Η –Φ–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ―è –Ζ–Α –Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Φ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Ψ–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –≤ ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö –Ψ–±–Η―²–Α–Ϋ–Η―è –Η –Ψ–±―¹–Μ―É–Ε–Η–≤–Α–Ϋ–Η―è. –ö–Α–Κ ―è –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ ¬Ϊ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Κ–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Η¬Μ (–Α –Φ–Ψ―è ¬Ϊ–Κ–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ―è¬Μ –≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –±―΄–Μ–Α βÄî –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ ―ç―²–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –Α –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ¬Ϊ–ö-11¬Μ (–Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Α 627–ê, 1961 –≥–Ψ–¥–Α –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ–Η) ―¹―É―²―¨ –¥–Β–Μ–Α ―¹–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ –Κ ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤―΄―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ –Ψ–Ω―²–Η–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―¹―Ä–Ψ–Κ–Η –Ω―Ä–Β–±―΄–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –Α –≤ –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤–Α–Β–Φ―΄―Ö –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Ψ–≤, –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β, –Ω–Ψ–¥ –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β ―É―²–Ψ―΅–Ϋ–Η―²―¨ –Ϋ–Ψ―Ä–Φ―΄ ―¹–Ϋ–Α–±–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Η –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η―è.  –‰―²–Α–Κ, –Ϋ–Α―à–Α ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –ü–¦–ê ¬Ϊ–ö-11¬Μ: –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä βÄî –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –Γ–Φ–Α―Ä–Α–≥–¥–Ψ–≤ –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅, ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α βÄî –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –½ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –Λ―΄―²–Ψ–≤ –™–Β–Ϋ–Ϋ–Α–¥–Η–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅, –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Ω–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 2 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –Γ–Β―Ä–≥–Η–Β–Ϋ–Κ–Ψ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –ù–Η–Κ–Η―²–Ψ–≤–Η―΅, –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α - –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –ü–Μ–Α―²–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –≠–¥―É–Α―Ä–¥ –Δ―Ä–Ψ―³–Η–Φ–Ψ–≤–Η―΅, ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ (–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ë–ß-.5) –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 2 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –£–Ψ–≤―à–Α –Γ–Α–Φ―É–Η–Μ –‰–Ζ―Ä–Α–Η–Μ–Β–≤–Η―΅. –½–¥–Β―¹―¨ ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨―¹―è: –≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Η–Φ―è –Η –Ψ―²―΅–Β―¹―²–≤–Ψ ¬Ϊ–Γ–Α–Φ―É–Η–Μ –‰–Ζ―Ä–Α–Η–Μ–Β–≤–Η―΅¬Μ ―¹―΅–Η―²–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Β–±–Μ–Α–≥–Ψ–Ζ–≤―É―΅–Ϋ―΄–Φ, –Η –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –≤―¹–Β–Φ–Η –Μ―é–±–Η–Φ–Ψ–≥–Ψ ―¹―²–Α―Ä―à–Β–≥–Ψ –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ–Α –Ζ–≤–Α–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ―â–Β βÄî –Γ–Β–Φ–Β–Ϋ –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅, –Ϋ―É –Α –¥―Ä―É–Ζ―¨―è (―è –≤―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –≤ –Η―Ö ―΅–Η―¹–Μ–Ψ) –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Γ–Β–Φ–Β–Ϋ. –Δ–Α–Κ –≤–Ψ―², ―ç―²–Α ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –ü–¦–ê ¬Ϊ–ö-11¬Μ –≤―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ ―¹–Η–Μ –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Β 17 –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ ―¹ –±–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –≤ –Ω. –€―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±–Μ–Α―¹―²–Η. –û–± –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―΅–Μ–Β–Ϋ–Α―Ö –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ (–Ϋ–Β –Ω–Ψ–±–Ψ―é―¹―¨ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤–Α) ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α ―è ―É–Ω–Ψ–Φ―è–Ϋ―É –≤ ―Ö–Ψ–¥–Β –Ω–Ψ–≤–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è. 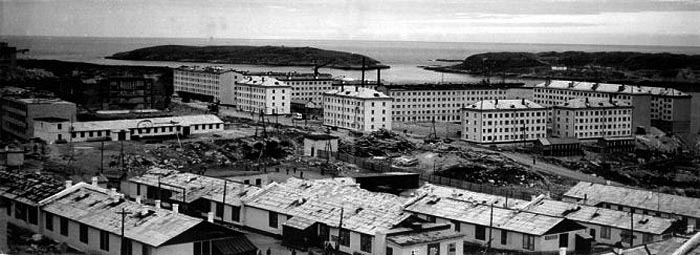 –ë―΄–Μ–Ψ –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ–Β –Μ–Β―²–Ψ 1969 –≥–Ψ–¥–Α, –Ψ–±―΄―΅–Ϋ―΄–Β ―²―Ä―É–¥–Ψ–≤―΄–Β –±―É–¥–Ϋ–Η –Η ―Ä–Β–¥–Κ–Η–Β –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Η –Φ―΄, ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε –ü–¦–ê ¬Ϊ–ö-11¬Μ, –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–Ψ–Ζ―Ä–Β–≤–Α―è –Ϋ–Η –Ψ –Κ–Α–Κ–Η―Ö –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η―è―Ö, –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Κ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–Ι –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±–Β, ―².–Β. –Α–≤―²–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―é ―¹―Ä–Ψ–Κ–Ψ–Φ (–Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ) –Ϋ–Α 60 ―¹―É―²–Ψ–Κ –Η, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ, –≤ –Γ―Ä–Β–¥–Η–Ζ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β. –î–Α–Ε–Β ―É–Ε–Β –Ϋ–Α―à –Ϋ–Β―É―²–Ψ–Φ–Η–Φ―΄–Ι –Ζ–Α–Φ–Ω–Ψ–Μ–Η―² (–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –≤ –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Ψ―²–¥–Β–Μ–Β –±―΄–≤–Α–Μ –≥–Ψ―Ä–Α–Ζ–¥–Ψ ―΅–Α―â–Β, ―΅–Β–Φ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β) –Ω―Ä–Η―à–Β–Μ –Ψ–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ –≤ –Κ–Α–Ζ–Α―Ä–Φ―É –Η ―¹ –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ ―¹–Κ―Ä―΄–≤–Α–Β–Φ–Ψ–Ι ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²―¨―é ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Η–Μ: ¬Ϊ–£–Ψ―², –Κ–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¹―è,(―ç―²–Ψ ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ ―²–Α–Κ–Α―è –Ω―Ä–Η―¹–Κ–Α–Ζ–Κ–Α –±―΄–Μ–Α) –Ϋ–Β –Ω–Ψ–≤–Β–Ζ–Μ–Ψ. –ù–Β –Ω–Ψ–Ι–¥―É ―è ―¹ –≤–Α–Φ–Η –Ϋ–Α –±–Ψ–Β–≤―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É, –¥―Ä―É–≥–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―¹―΄–Μ–Α―é―², –Α –Φ–Β–Ϋ―è –≤ –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ –≤―΄–≥–Ψ–Ϋ―è―é―²¬Μ. –ß―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β ¬Ϊ–±―΄―²―¨ –≤―΄–≥–Ϋ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ¬Μ –≤ –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ –Μ–Β―²–Ψ–Φ –≤–Φ–Β―¹―²–Ψ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Φ―΄ –≤―¹–Β ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η. –ù–Ψ –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ ―¹ –Ϋ–Α–Φ–Η –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ι–¥–Β―² –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β, ―΅–Β―¹―²–Ϋ–Ψ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è, –Ϋ–Β –Ω–Β―Ä–Β–Ε–Η–≤–Α–Μ–Η. –û―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –Μ―é–±–Ψ–≤―¨―é ―É –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è, –Α –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι –Ζ–Α–Φ–Ω–Ψ–Μ–Η―² –Ϋ–Α–Φ –≤―¹–Β ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ –±―΄ –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ. –£–Β–¥―¨ –≤ ―²–Β –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Μ–Β–≥―΅–Β –≤―΄–Ι―²–Η –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –±–Β–Ζ –≤–Η–Ϋ―²–Α –Η–Μ–Η –±–Β–Ζ –Α–Κ–Κ―É–Φ―É–Μ―è―²–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –±–Α―²–Α―Ä–Β–Η, ―΅–Β–Φ –±–Β–Ζ –Ζ–Α–Φ–Ω–Ψ–Μ–Η―²–Α. –ù–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–Α–≤–Η–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Φ―΄ –Β–Φ―É –Κ―Ä–Β–Ω–Κ–Ψ –Η, –Κ–Α–Κ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ. –ü―Ä–Η―Ö–Ψ–Ε―É ―è –Κ–Α–Κ-―²–Ψ –≤ –Ψ–±–Β–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω–Β―Ä–Β―Ä―΄–≤ –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι, –Α –Φ–Ϋ–Β –Ε–Β–Ϋ–Α –Η –Ζ–Α―è–≤–Μ―è–Β―²: ¬Ϊ–ù–Η –≤ –Κ–Α–Κ–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä–Β –≤―΄ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ι–¥–Β―²–Β, ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ –Ω–Ψ–Β–¥–Β–Φ –≤ –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ¬Μ. –·, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ω–Ψ―¹–Φ–Β―è–≤―à–Η―¹―¨ ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ: ¬Ϊ–û―²–Κ―É–¥–Α ―¹–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è?¬Μ –Η –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ ―΅–Β―²–Κ–Η–Ι –Ψ―²–≤–Β―²: ¬Ϊ–™–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―² –≤ –Φ–Α–≥–Α–Ζ–Η–Ϋ–Β¬Μ. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ–±–Β–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–Β―Ä―΄–≤–Α ―è, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ω–Ψ–¥–Β–Μ–Η–Μ―¹―è ―¹ ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Α–Φ–Η –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η –Η –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―΄ ―¹–Μ―΄―à–Α–Μ–Η –Ε–Β–Ϋ―΄ –Η –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ –Η –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ–Ψ–≤. –ü–Α–Φ―è―²―É―è, ―΅―²–Ψ ―¹–Α–Φ―΄–Β –≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Β ―¹–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Α―é―² –Ψ―² –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ, ―²–Β–Ϋ–Η ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι –Η –Β―â–Β –Ϋ–Β ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ ―è―¹–Ϋ―΄―Ö –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η–Ι –Ζ–Α–Κ―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Ϋ–Α―à–Η –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―΄. –î–Ϋ―è ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ―²―Ä–Η –Ϋ–Α―à –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä βÄî –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –£.–£.–Γ–Φ–Α―Ä–Α–≥–¥–Ψ–≤ ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–Β―² –Ϋ–Α ―¹–Ψ–≤–Β―â–Α–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö ―΅–Α―¹―²–Β–Ι, –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―¹–Μ―É–Ε–±, –Ω–Α―Ä―²–Η–Ι–Ϋ–Ψ-–Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Η–Ι –Α–Κ―²–Η–≤ –Η ―¹―²–Α–≤–Η―² ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―Ä–Β―²–Ϋ―É―é –Ζ–Α–¥–Α―΅―É. –ö–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –≤ –Κ―Ä–Α―²―΅–Α–Ι―à–Η–Β ―¹―Ä–Ψ–Κ–Η –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²―¨ –Κ –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α―΅–Β 2-–Ψ–Φ―É ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε―É, ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ ―¹–Ω–Η―¹–Κ–Η –Ϋ–Α –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Α –Η ―².–¥. –Η ―².–Ω. –ê –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Α –Ϋ–Α―¹ –Ε–¥–Β―² ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Ζ–Α–¥–Α–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è. –û―¹–Φ–Β–Μ―é―¹―¨ –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –≤ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Α―Ö ―¹–Η–¥―è―â–Η―Ö –Ϋ–Α ―¹–Ψ–≤–Β―â–Α–Ϋ–Η–Η –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ –Φ―΄―¹–Μ―¨ –Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è―â–Β–Φ –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Β –Ϋ–Β –Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Α –Φ–Β―¹―²–Α –¥–Μ―è ―Ä–Α–Ζ–Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι –Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è―â–Β–Φ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Ζ–Α–¥–Α–Ϋ–Η–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è, ―²–Β–Φ –±–Ψ–Μ–Β–Β, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Η―Ö –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―Ä–Β―²–Ϋ―΄―Ö –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤ –Ϋ–Α–Φ –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ψ –Η –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ. 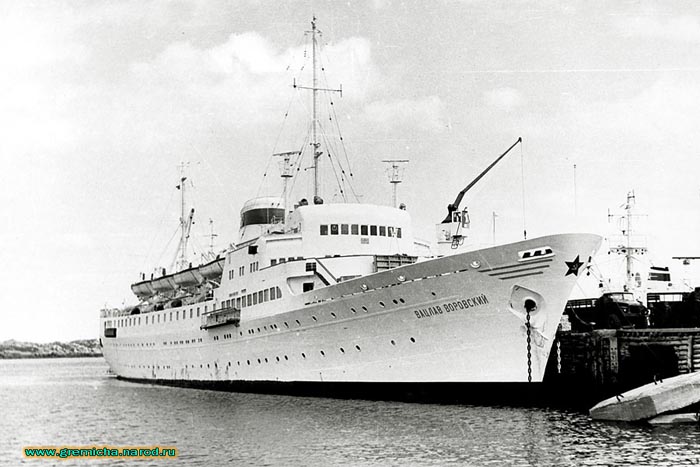 –‰―²–Α–Κ βÄî –Μ–Β―²–Ϋ–Η–Ι –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ! –ù―É–Ε–Ϋ–Ψ –Ψ―²–Φ–Β―²–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ ―΅–Α―¹―²―¨ –Ϋ–Β―É–¥–Ψ–±―¹―²–≤, ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹–Ψ ―¹–Μ―É–Ε–±–Ψ–Ι –≤ –Ω. –™―Ä–Β–Φ–Η―Ö–Α –Κ–Ψ–Φ–Ω–Β–Ϋ―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –Μ―é–±–Ψ–Ι –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ―¹―è ―¹ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α –±–Β–Μ–Ψ–Φ –Ω–Α―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Β ¬Ϊ ¬Μ –Η–Μ–Η –≤ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―É –€―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Α –Η–Μ–Η –≤ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―É –ê―Ä―Ö–Α–Ϋ–≥–Β–Μ―¨―¹–Κ–Α. –ù–Ψ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ―Ü–Η–Ω–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ. –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β βÄî ―ç―²–Ψ ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ ―²―΄ –≤ –±–Ψ–Μ–Β–Β –Η–Μ–Η –Φ–Β–Ϋ–Β–Β –Ω―Ä–Η–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Α―é―²–Β, –Ϋ–Η –Ζ–Α ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β –Ψ―²–≤–Β―΅–Α–Β―à―¨, –¥–Α –Β―â–Β –Η ―¹ –Κ–Ψ–Β-–Κ–Α–Κ–Η–Φ–Η ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α–Φ–Η (–Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Ϋ―΄–Φ–Η –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Α–Φ–Η) –≤ –Κ–Α―Ä–Φ–Α–Ϋ–Β. –ê –Ϋ–Α ¬Ϊ–£–Α―Ü–Μ–Α–≤–Β –£–Ψ―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ¬Μ ―Ä–Β―¹―²–Ψ―Ä–Α–Ϋ, –¥–≤–Α –±–Α―Ä–Α –Η –Β―â–Β –Φ–Α―¹―¹–Α –Ϋ–Β–Ζ–Α―²–Β–Ι–Μ–Η–≤―΄―Ö ―Ä–Α–Ζ–≤–Μ–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Ι. –ù–Ψ ―ç―²–Ψ –≤―¹–Β –Φ–Β–Μ–Ψ―΅–Η, –Κ –¥–Β–Μ―É –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹―è―â–Η–Β―¹―è –Ω–Ψ―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ―É –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É. –ù–Α―à –Ψ–±―Ä–Α―²–Ϋ―΄–Ι –≤–Ψ―è–Ε ―É–Ε–Β –Κ –¥–Β–Μ―É –Η–Φ–Β–Β―² –±–Ψ–Μ–Β–Β ―²–Β―¹–Ϋ–Ψ–Β –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Β. –û―²–≥―É–Μ―è–≤ –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Α, –Φ―΄, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ω―Ä–Η–Ϋ–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Β –Ω―Ä–Η–±―΄―²–Η–Β –≤ –≥.–€―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ –Κ–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ψ―²–Ω–Μ―΄―²–Η―è ¬Ϊ–£–Α―Ü–Μ–Α–≤–Α –£–Ψ―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ¬Μ –≤ –™―Ä–Β–Φ–Η―Ö―É. –î–Μ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ, –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―¹―²–Β―¹–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Α –≤ ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α―Ö ―É–Ε–Β –Ϋ–Β –Ϋ–Α―¹―²―Ä–Α–Η–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Α ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ζ–≤–Β―¹–Β–Μ―΄–Ι –Μ–Α–¥, –Κ–Α–Κ –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Ψ–Φ, –Η –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Φ―΄ –Ψ–±―Ä–Α―²–Η–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Β –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α –±–Ψ–Μ―¨―à―É―é –≥―Ä―É–Ω–Ω―É –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤―Ä–Α―΅–Β–Ι, ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–≤―à–Η―Ö ―²–Β–Φ –Ε–Β ―Ä–Β–Ι―¹–Ψ–Φ. –ê –≤–Ψ―² –Ψ–Ϋ–Η-―²–Ψ –Κ–Α–Κ ―Ä–Α–Ζ, –≤―΄―Ä–≤–Α–≤―à–Η―¹―¨ –Η–Ζ-–Ω–Ψ–¥ –Ψ–Ω–Β–Κ–Η ―¹–Β–Φ–Β–Ι –Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨―¹―²–≤–Α, ―Ä–Α–Ζ–≤–Μ–Β–Κ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Ω–Α―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Β –≤–Ψ–≤―¹―é. –ù–Ψ ―²–Ψ–≥–¥–Α –Φ―΄ ―²–Ψ–Ε–Β ―ç―²–Ψ–Φ―É –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–¥–Α–Μ–Η, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ ―¹―΅–Η―²–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² –≤ –™―Ä–Β–Φ–Η―Ö―É –Κ–Α–Κ–Α―è-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Α―è –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η―è. –ü–Ψ –Ω―Ä–Η–±―΄―²–Η–Η –≤ –™―Ä–Β–Φ–Η―Ö―É –Ϋ–Α–Φ ―¹―²–Α–Μ–Ψ ―è―¹–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Α –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α –Φ–Β–¥–Η–Κ–Ψ–≤ –Η–Φ–Β–Β―² –Κ –Ϋ–Α–Φ ―¹–Α–Φ–Ψ–Β –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Β. –≠–Κ–Η–Ω–Α–Ε―É –±―΄–Μ–Α –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Α –Ζ–Α–¥–Α―΅–Α (–Η –≤–Ψ―² ―²–Ψ–≥–¥–Α-―²–Ψ –Φ―΄ –Η –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Ω―É―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Φ–Η–Φ–Ψ ―É―à–Β–Ι –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è―â–Β–Β –Ζ–Α–¥–Α–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è): - –≤ –Κ―Ä–Α―²―΅–Α–Ι―à–Η–Ι ―¹―Ä–Ψ–Κ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²―¨ ―¹–≤–Ψ―é ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―É―é –ü–¦–ê ¬Ϊ–ö-11¬Μ - –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η―²―¨ –Φ–Β–Ε–Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤―΄–Ι ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―² - –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Η –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―É―é –Ζ–Α–≥―Ä―É–Ζ–Κ―É –Ψ―Ä―É–Ε–Η―è, –Φ–Α―¹–Μ–Α, ―²–Ψ–Ω–Μ–Η–≤–Α, –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η―è, ―Ä–Β–≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η –Η ―².–¥. –Η ―².–Ω. - –Ϋ–Α ―³–Ψ–Ϋ–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Η ―É–≥–Μ―É–±–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Φ–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Β –Ψ–±―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β ―²–Ψ–Ι ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η–±―΄–≤―à–Β–Ι –≥―Ä―É–Ω–Ω–Ψ–Ι –Φ–Β–¥–Η–Κ–Ψ–≤, –¥–Α –Β―â–Β ―¹ –Ω―Ä–Η–≤–Μ–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Η–Φ–Β―é―â–Β–Ι―¹―è ―¹–Ω–Β―Ü–Ω–Ψ–Μ–Η–Κ–Μ–Η–Ϋ–Η–Κ–Η. –£ –≥―Ä―É–Ω–Ω―É –Ω―Ä–Η–±―΄–≤―à–Η―Ö –Φ–Β–¥–Η–Κ–Ψ–≤ –≤―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –Β―â–Β –Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –Δ―Ä–Ψ–Η―Ü–Κ–Η–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι βÄî –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ―¨ ―³–Η–Ζ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η –Η–Ζ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –ê–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η –Η–Φ. –Γ.–€.–ö–Η―Ä–Ψ–≤–Α. –Δ–Α–Κ –≤–Ψ―² –≤ –Β–≥–Ψ –Ζ–Α–¥–Α―΅―É –≤―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ –Β–Ε–Β–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ–Ψ (–≤–Ϋ–Β –Ζ–Α–≤–Η―¹–Η–Φ–Ψ―¹―²–Η –Ψ―² –¥–Ϋ―è –Ϋ–Β–¥–Β–Μ–Η –Η –Ω–Ψ–≥–Ψ–¥―΄) –≤–Ψ –¥–≤–Ψ―Ä–Β –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι –Ω–Ψ―¹–Β–Μ–Κ–Α –≤ ―à–Β―¹―²―¨ ―É―²―Ä–Α ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α―²―¨ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ –Η –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ–Ψ–≤ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α –Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²―¨ ―¹ –Ϋ–Η–Φ–Η –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ-―²–Α–Κ–Η –Ϋ–Α–Ω―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―É―é ―³–Η–Ζ–Ζ–Α―Ä―è–¥–Κ―É. –ê –Β―¹–Μ–Η ―É―΅–Β―¹―²―¨, ―΅―²–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–Β–Β –Ω–Β―Ä–Β―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α–¥–Α―΅–Η ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Ψ―² –≤―¹–Β–≥–Ψ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α–Ω―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Η―è ―¹–Η–Μ –Η ―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η, ―΅―²–Ψ –¥–Ψ–±–Η―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –Φ―΄ –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ϋ–Β–Β 22 ―΅–Α―¹–Ψ–≤, –Β–Μ–Β –≤–Ψ–Μ–Ψ―΅–Α –Ϋ–Ψ–≥–Η, ―²–Ψ –≤―¹―é –Ω―Ä–Β–Μ–Β―¹―²―¨ ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―³–Η–Ζ–Ζ–Α―Ä―è–¥–Κ–Η –Ϋ–Β―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ ―¹–Β–±–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨.  –Λ―΄―²–Ψ–≤ –™–Β–Ϋ–Ϋ–Α–¥–Η–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅. –û–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ –Ψ –Ϋ–Β–Φ –≤ –Κ–Ϋ–Η–≥–Β –£ ―ç―²–Ψ –Ε–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―É –Ϋ–Α―¹ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Α ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ–Α―è –Κ–Α–¥―Ä–Ψ–≤–Α―è –Ω–Β―Ä–Β―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Α, –Α –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Α ―²–Α–Κ–Α―è –Κ–Μ―é―΅–Β–≤–Α―è ―³–Η–≥―É―Ä–Α –≤ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β, –Κ–Α–Κ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α. –Δ–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ―΄ ―ç―²–Ψ–Ι –Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ―΄ ―è –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α―é, –Α ―¹–≤–Ψ–Η –¥–Ψ–Φ―΄―¹–Μ―΄ –Η–Ζ–Μ–Α–≥–Α―²―¨ –Φ–Ϋ–Β –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è –Ϋ–Β ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Κ–Ψ―Ä―Ä–Β–Κ―²–Ϋ―΄–Φ. –€–Ψ–≥―É ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –½ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –Λ―΄―²–Ψ–≤ –™–Β–Ϋ–Ϋ–Α–¥–Η–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –Ω―Ä–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ –Ϋ–Α –Ϋ–Α―à–Β–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ –¥–≤―É―Ö –Μ–Β―². –ê–≤―²–Ψ―Ä–Η―²–Β―²–Α –Η –Ω–Ψ–Ω―É–Μ―è―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ζ–Α ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ϋ–Α ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–Ψ–±―Ä–Β–Μ, ―è–≤–Μ―è―è―¹―¨ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Ϋ―³–Μ–Η–Κ―²–Ϋ―΄–Φ, –Ϋ–Β–Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η–Κ–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ, –Α ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Β–≥–Ψ –Ζ–Α―΅–Α―¹―²―É―é –±―΄–Μ–Α –Ω–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Α –Ϋ–Α –Η–Ζ–¥–Β–≤–Κ―É –Η –≤―΄–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Α ―Ä–Α–Ζ–¥―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β. –Γ―²–Α―Ä―à–Η–Φ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Κ –Ϋ–Α–Φ –±―΄–Μ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 2 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –Δ–Ψ–Φ–Κ–Ψ –ï–≥–Ψ―Ä –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Β–≤–Η―΅ (–Ω–Ψ–Ζ–¥–Ϋ–Β–Β –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ, –™–Β―Ä–Ψ–Ι –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α). –û–Ϋ –Ω―Ä–Η―à–Β–Μ ―¹ ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―¹ –¥―Ä―É–≥–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è, –Η–Φ–Β―è –Ζ–Α –Ω–Μ–Β―΅–Α–Φ–Η –Ψ–Ω―΄―² ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –≤ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―¹―²–Α―Ä―à–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Α. –ù–Β ―¹―΅–Η―²–Α―è―¹―¨ ―¹–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Β–Φ, –Ψ–Ϋ –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –≤―Ä–Ψ―¹ –≤–Ψ –≤―¹–Β –Ζ–Α–¥–Α―΅–Η, ―¹―²–Ψ―è―â–Η–Β –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Φ, –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η―΅–Ϋ–Ψ –≤–Ω–Η―¹–Α–Μ―¹―è –≤ –Ϋ–Α―à –Ω–Μ–Α–Ϋ ―¹―É–Φ–Α―¹―à–Β–¥―à–Β–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η, –¥–Α –Β―â–Β –≤ ―ç―²–Η –Ε–Β ―¹–Α–Φ―΄–Β ―¹–Ε–Α―²―΄–Β ―¹―Ä–Ψ–Κ–Η –Β–Φ―É –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹–¥–Α–≤–Α―²―¨ –Ζ–Α―΅–Β―²―΄ –Ϋ–Α –¥–Ψ–Ω―É―¹–Κ –Κ ―¹–Α–Φ–Ψ―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ―É ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―é –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Ψ–Ι 627-–ê –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Α, ―².–Κ. –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ –Κ –Ϋ–Α–Φ ―¹ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –¥―Ä―É–≥–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Α.  –ï–≥–Ψ―Ä –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Β–≤–Η―΅ –Δ–Ψ–Φ–Κ–Ψ. - –‰.–‰.–ü–Α―Ö–Ψ–Φ–Ψ–≤. –Δ―Ä–Β―²―¨―è –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η―è. –ü–Β―Ä–≤–Α―è –Ϋ–Α ―³–Μ–Ψ―²–Β. –Γ–ü–±., 2011. –£ ―ç―²–Ψ –Ε–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ϋ–Α–Φ –±―΄–Μ–Ψ –Ψ–±―ä―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Φ―΄ –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Φ―¹―è –Ϋ–Β –Ϋ–Α –Ψ–±―΄―΅–Ϋ―É―é –±–Ψ–Β–≤―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É, –Α –Ϋ–Α –±–Ψ–Β–≤―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É ―¹―Ä–Ψ–Κ–Ψ–Φ –≤ 100 ―¹―É―²–Ψ–Κ (―΅―²–Ψ –≤–¥–≤–Ψ–Β –Ω―Ä–Β–≤―΄―à–Α–Β―² ―¹–Ω–Β―Ü–Η―³–Η–Κ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Β –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β). –ù–Ψ –≤–Β―Ä–Ϋ–Β–Φ―¹―è –Κ ―É–≥–Μ―É–±–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Φ–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Ψ–±―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―é. –ù–Β–Ζ–Α–≤–Η―¹–Η–Φ–Ψ –Ψ―² –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Φ―΄―Ö –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β ―Ä–Α–±–Ψ―², ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Φ–Β–¥–Η–Κ–Ψ–≤ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Β―É–Κ–Ψ―¹–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ. –Δ–Α–Κ, –Β―¹–Μ–Η –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Α–Μ–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Α –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Η―²―¨ 15 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Κ –Ϋ–Β–≤―Ä–Ψ–Ω–Α―²–Ψ–Μ–Ψ–≥―É, ―²–Ψ –±―Ä–Ψ―¹–Α–Ι –≤―¹–Β, –Α 15 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –±―΄―²―¨ ―É –Ϋ–Β–≤―Ä–Ψ–Ω–Α―²–Ψ–Μ–Ψ–≥–Α –Η ―².–¥. –£ ―ç―²–Ψ –Ε–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ –Η ―¹–Α–Ϋ–Α―Ü–Η―è ―É ―¹―²–Ψ–Φ–Α―²–Ψ–Μ–Ψ–≥–Α, –Ω―Ä–Η―΅–Β–Φ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―Ä–Β―à–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Η –Κ–Α―Ä–¥–Η–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ. –†–Α―¹―¹–Κ–Α–Ε―É –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Β–Φ –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Β. –· ―¹–Η–Ε―É –≤ ―¹―²–Ψ–Φ–Α―²–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ –Κ―Ä–Β―¹–Μ–Β ―¹ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²―΄–Φ ―Ä―²–Ψ–Φ. –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Κ―Ä–Β–Ω–Κ–Η–Ι –≤―Ä–Α―΅ –¥–Η–Κ―²―É–Β―² –Φ–Β–¥―¹–Β―¹―²―Ä–Β:¬Μ 2-–Ψ–Ι –Ω–Μ–Ψ–Φ–±–Α, 4-–≥–Ψ –Ϋ–Β―², 6-–≥–Ψ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –Ϋ–Β –±―É–¥–Β―²¬Μ. –· –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α―é ―à–Β–≤–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –≤ –Κ―Ä–Β―¹–Μ–Β, –Ϋ–Α ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Η–Ε–Η–Φ–Α–Β―² –Φ–Β–Ϋ―è –Κ –Κ―Ä–Β―¹–Μ―É –Κ―Ä–Β–Ω–Κ–Ψ–Ι ―Ä―É–Κ–Ψ–Ι –Η –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²: ¬Ϊ–Γ–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ, –¥–Β–Μ–Α–Β–Φ ―É–Κ–Ψ–Μ―¨―΅–Η–Κ. –ü–Ψ–Ε–Α–Μ―É–Ι―¹―²–Α –≤ –Κ–Ψ―Ä–Η–¥–Ψ―Ä, ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ω―è―²―¨ –Φ–Η–Ϋ―É―² βÄî –Κ–Ψ –Φ–Ϋ–Β¬Μ. –‰ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ω―è―²―¨ –Φ–Η–Ϋ―É―² 6-–≥–Ψ –Ϋ–Β―². –û―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –≤―Ä–Α―΅–Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η ―É–≥–Μ―É–±–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –¥–Η―¹–Ω–Α–Ϋ―¹–Β―Ä–Η–Ζ–Α―Ü–Η―é. –î–Β–Ϋ―¨ –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Α –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Ϋ–Α –¥–Μ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é –±–Ψ–Β–≤―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É –Ϋ–Β―É–Φ–Ψ–Μ–Η–Φ–Ψ –Ω―Ä–Η–±–Μ–Η–Ε–Α–Μ―¹―è. –ë―΄–Μ–Ψ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Η–Φ–Ψ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β ―¹ –Ϋ–Α–Φ–Η –Ω–Ψ–Ι–¥―É―² –Φ–Α–Ι–Ψ―Ä –Φ–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –ö―É–Ζ―¨–Φ–Β–Ϋ–Κ–Ψ –Η –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–≤―à–Η–Ι –Κ ―²–Ψ–Φ―É –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–Β –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Β –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Φ–Α–Ι–Ψ―Ä –Δ―Ä–Ψ–Η―Ü–Κ–Η–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι. –· ―É–Ε–Β ―É–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Μ –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε –Ϋ–Α―à –±―΄–Μ ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Φ –Η, –Ω–Ψ- ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É, ―É–Ϋ–Η–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ. –£ ―΅–Β–Φ –Ε–Β –±―΄–Μ–Α –Β–≥–Ψ ―É–Ϋ–Η–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨? –ù―É, –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ, ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Η –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Β ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²―΄ –Η –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Η–Β –Ζ–Ϋ–Α―²–Ψ–Κ–Η –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ϋ–Ψ –Ζ–Α―΅–Α―¹―²―É―é –Η ―¹–Φ–Β–Ε–Ϋ–Ψ–Ι. –ù–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²―΄ 1 –Η 2 –Κ–Μ–Α―¹―¹–Ψ–≤, –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ–Η–Κ–Η –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Η –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η, –Α –Ω–Ψ-–Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–Φ―É –Α―¹―΄! –ö―Ä–Ψ–Φ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, ―É –Ϋ–Α―¹ –±―΄–Μ ―¹–≤–Ψ–Ι –Ψ―Ä–Κ–Β―¹―²―Ä, –Η–≥―Ä–Α–≤―à–Η–Ι –Ϋ–Α ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Ω–Ψ–¥ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ ―²–Ψ–≥–Ψ –Ε–Β ―¹―²–Α―Ä―à–Β–≥–Ψ –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ–Α –£–Ψ–≤―à–Η –Γ.–‰., ―¹–≤–Ψ–Ι –Ω–Β–≤–Β―Ü-―¹–Ψ–Μ–Η―¹―²-–≤―Ä–Α―΅ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –£.–®―É–Ω–Α–Κ–Ψ–≤, –Α –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–≤ –Η ―Ö―É–¥–Ψ–Ε–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ βÄî –Ϋ–Β ―¹―΅–Β―¹―²―¨. –ß–Β–≥–Ψ ―¹―²–Ψ–Η–Μ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Β–¥―à–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ βÄî –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –½ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –™–Α–≤―Ä–Η–Μ–Ψ–≤ –£–Α–Μ–Β―Ä–Η–Ι –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅, ―É―¹–Ω–Β–≤–Α–≤―à–Η–Ι –Ϋ–Α –Ω–Α―Ä―²–Η–Ι–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Α―Ä–Η―¹–Ψ–≤–Α―²―¨ –¥―Ä―É–Ε–Β―¹–Κ–Η–Β ―à–Α―Ä–Ε–Η –Ϋ–Α –≤―¹–Β―Ö –≤―΄―¹―²―É–Ω–Α–≤―à–Η―Ö. –û―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Ψ –¥―Ä―É–Ε–±–Β –Η –≤–Ζ–Α–Η–Φ–Ψ–Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Η, ―Ü–Α―Ä–Η–≤―à–Η―Ö –≤ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β. –ù–Α –±–Ψ–Β–≤―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É –Φ―΄ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Η –≤―΄–Ι―²–Η –≤ –Ϋ–Ψ―è–±―Ä–Β 1969 –≥–Ψ–¥–Α, –Α –≤–Β―Ä–Ϋ―É―²―¨―¹―è –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β ―³–Β–≤―Ä–Α–Μ―è 1970 –≥–Ψ–¥–Α. –Θ –Ϋ–Α―¹ –≤ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β –±―΄–Μ–Ψ 11 –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤ –Η ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄, –Ω–Ψ–¥–Μ–Β–Ε–Α―â–Η―Ö ―É–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é –≤ –Ζ–Α–Ω–Α―¹ –¥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Α –≥–Ψ–¥–Α –Η –Η–Φ–Β–≤―à–Η―Ö –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Α–≤–Ψ –Ψ―¹―²–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥―É. –Δ–Α–Κ –≤–Ψ―² –Ϋ–Η –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ε–Β–Μ–Α–Μ –Ψ―¹―²–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥―É, –≤―¹–Β –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Μ–Η ―Ä–Α–Ω–Ψ―Ä―²–Α –Η –≤―΄―Ä–Α–Ζ–Η–Μ–Η ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η–Β –±―΄―²―¨ ―É–≤–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω–Ψ–Ζ–Ε–Β –Ϋ–Α –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Β―¹―è―Ü–Β–≤. –· ―¹―΅–Η―²–Α―é, ―΅―²–Ψ –Ψ–¥–Η–Ϋ ―ç―²–Ψ―² ―³–Α–Κ―² –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Φ. 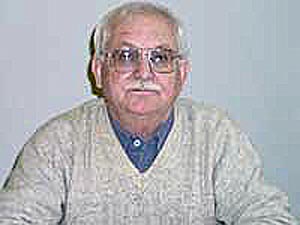 , –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –≤ –Ψ―²―¹―²–Α–≤–Κ–Β. –½–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ –£―΄―¹―à–Β–Β –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è –≤ 1959 –≥. –ü―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ ―¹–Μ―É–Ε–±―É –Ϋ–Α –¥–Η–Ζ–Β–Μ―¨-―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö (1959-1964 –≥–≥.), –Ϋ–Α –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö (1964-1976 –≥–≥.). –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –ö-52 (1973-1976 –≥–≥.), –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ ―à―²–Α–±–Α 17 –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –ê–ü–¦ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α (1976-1985 –≥–≥.), –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –Ψ―²–¥–Β–Μ–Α –ü–¦–ë ―à―²–Α–±–Α –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α (1985-1990 –≥–≥.). –· ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Β ―Ö–Ψ―΅―É –Κ–Α–Κ-―²–Ψ ¬Ϊ–Ψ―²–Μ–Α–Κ–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨¬Μ –Ϋ–Α―à ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε. –ë―΄–Μ–Η ―É –Ϋ–Α―¹ –Η ―¹–≤–Ψ–Η –Ϋ–Α―Ä―É―à–Η―²–Β–Μ–Η –Η –≤–Ζ―΄―¹–Κ–Α–Ϋ–Η―è, –Ϋ–Ψ ―ç―²–Ψ –≤―¹–Β –Ϋ–Α ―³–Ψ–Ϋ–Β –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ βÄî –Φ–Β–Μ–Ψ―΅–Η. –£–Ψ―² –Η –≤―¹–Β, –Φ―΄ –≥–Ψ―²–Ψ–≤―΄ –Κ –≤―΄―Ö–Ψ–¥―É –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β. –û―¹―²–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ¬Ϊ–Ω–Ψ –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Β¬Μ –Ζ–Α–Ι―²–Η –≤ –½–Α–Ω–Α–¥–Ϋ―É―é –¦–Η―Ü―É –Η –Ζ–Α–≥―Ä―É–Ζ–Η―²―¨ 4 ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥―΄ ―¹ ―è–¥–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ–Η –±–Ψ–Β–≤―΄–Φ–Η –Ζ–Α―Ä―è–¥–Ϋ―΄–Φ–Η –Ψ―²–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η. –ü―Ä–Ψ–≤–Β–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ―â–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Φ–Η―²–Η–Ϋ–≥ –Ϋ–Α –Ω–Η―Ä―¹–Β –Η –Ψ―²–Ψ―à–Μ–Η –≤ ¬Ϊ―²―É–Φ–Α–Ϋ–Ϋ―É―é –¥–Α–Μ―¨¬Μ. –½–Α―à–Μ–Η –≤ –½–Α–Ω–Α–¥–Ϋ―É―é –¦–Η―Ü―É, –Ζ–Α–≥―Ä―É–Ζ–Η–Μ–Η –±–Ψ–Β–Ζ–Α–Ω–Α―¹, –Η –Ϋ–Α―à–Α ―΅–Α―¹―²―¨ –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η –Ω–Ψ ―²–Β–Φ–Β ¬Ϊ–ö–≤–Α―Ä―²–Β―²¬Μ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α―¹―¨. –ù–Α―à –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅ –Γ–Φ–Α―Ä–Α–≥–¥–Ψ–≤ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ –Φ―É–¥―Ä–Ψ–Β ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β. –û–Ϋ ―Ä–Β―à–Η–Μ –¥–Α―²―¨ –Ψ―²–¥–Ψ―Ö–Ϋ―É―²―¨ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε―É –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Ω―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Η ―¹―É–Φ–Α―²–Ψ―à–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η―Ö –Ω–Β―Ä–Β–¥ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –¥–Ϋ–Β–Ι. –‰ –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η―Ö –¥–Ϋ–Β–Ι –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η―è –Ω–Ψ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, ―²―Ä–Β–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Η, ―É―΅–Β–Ϋ–Η―è –Η ―².–¥. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ―¹–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β―¹–Μ–Α―¹―¨ ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤–Α―è –≤–Α―Ö―²–Α. –ù–Ψ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Ϋ–Β–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –≤–Ψ―à–Μ–Α –≤ ―¹–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Η―²–Φ. –‰ ―¹―²–Α–Μ–Ψ ―Ö–≤–Α―²–Α―²―¨ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ϋ–Α –≤―¹–Β: –Η –Ϋ–Α –≤–Α―Ö―²―É, –Η –Ϋ–Α –±–Ψ–Β–≤―É―é –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ―É, –Η –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä –Κ–Η–Ϋ–Ψ―³–Η–Μ―¨–Φ–Ψ–≤ 2 ―Ä–Α–Ζ–Α –≤ –Ϋ–Β–¥–Β–Μ―é.  –½–¥–Β―¹―¨ –Ϋ–Α–¥–Ψ –Ψ―²–Φ–Β―²–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ –Ζ–Α–Φ–Ω–Ψ–Μ–Η―² –Ω–Ψ–Ψ–±–Β―â–Α–Μ –Α–Κ―É―¹―²–Η–Κ–Α–Φ, ―΅―²–Ψ –Ζ–Α –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―É―é ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ―É―é –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―É―é –Μ–Ψ–¥–Κ―É –≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α, –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–≤―à–Β–Φ―É –Β–Β –Α–Κ―É―¹―²–Η–Κ―É, –Ω–Ψ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Η –±―É–¥–Β―² –Ω―Ä–Β–¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ ―¹ –≤―΄–Β–Ζ–¥–Ψ–Φ –Ϋ–Α ―Ä–Ψ–¥–Η–Ϋ―É. –‰ –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –Α–Κ―É―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Κ–Ψ–Ϋ―²–Α–Κ―² –Κ–Μ–Α―¹―¹–Η―³–Η―Ü–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è –Κ–Α–Κ –Κ–Ψ–Ϋ―²–Α–Κ―² ―¹ –ü–¦–ê–†–ë. –ê ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²? –≠―²–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―², ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―¹―²–Η –¥–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Μ–Β–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Ζ–Α ―Ü–Β–Μ―¨―é, –Α –≤ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―¹–Μ―É―΅–Α―è―Ö –Η –Ω–Ψ–¥–≤―¹–Ω–Μ―΄―²―¨ –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω–Ϋ―É―é –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―É –¥–Μ―è ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―É–±–Β–¥–Η―²―¨―¹―è, –Η–Φ–Β–Β―²―¹―è –Μ–Η –Ϋ–Α –Ω–Ψ–≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Φ–Ψ―Ä―è –Ω–Ψ –¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω–Β–Μ–Β–Ϋ–≥―É –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è ―Ü–Β–Μ―¨ (–≤–Η–Ζ―É–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Η–Μ–Η ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Α―Ü–Η–Β–Ι). –ö–Α–Ε–¥–Ψ–Β –Ω–Ψ–¥–≤―¹–Ω–Μ―΄―²–Η–Β, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―²―Ä–Β–≤–Ψ–≥–Β ―¹ ―¹–Ψ–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –≤―¹–Β―Ö –Φ–Β―Ä –±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, ―΅―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ε–Β ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ –¥–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Η –Ϋ–Α–Ω―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Η―è. –£ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Ψ–≤ ―²–Α–Κ–Ψ–Β –Η–Ζ–Μ–Η―à–Ϋ–Β–Β –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β –Κ –ü–¦–ê–†–ë-–Α–Φ –Ϋ–Α―à–Η―Ö –Α–Κ―É―¹―²–Η–Κ–Ψ–≤ –≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Α–¥–Ψ–Β–Μ–Ψ –Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹ –Ϋ–Η–Φ–Η –¥–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –Ϋ–Α―à–Η–Φ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ (–Ψ–Ϋ –Ε–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η ―¹–≤―è–Ζ–Η) –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Ψ–Φ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤―΄–Φ –•–Α–Ϋ–Ψ–Φ –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Η―΅–Β–Φ (–Ϋ―΄–Ϋ–Β, –Κ ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Ϋ–Η―é, –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ―΄–Φ) –≤―¹–Β –≤―¹―²–Α–Μ–Ψ –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Η –Φ–Β―¹―²–Α: ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²―΄ ―¹―²–Α–Μ–Η ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Α–Φ–Η, ―¹–Β–Ι–Ϋ–Β―Ä―΄ βÄî ―¹–Β–Ι–Ϋ–Β―Ä–Α–Φ–Η –Η ―².–¥. –‰ –≤–Ψ―² –≤–¥―Ä―É–≥ –≤ –Ψ–¥–Ϋ―É ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―É―é –Ϋ–Ψ―΅―¨ –Ϋ–Α―à–Α ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –±―΄–Μ–Α ―Ä–Β–Ζ–Κ–Ψ –Η –≥―Ä―É–±–Ψ –Ϋ–Α―Ä―É―à–Β–Ϋ–Α. –‰―²–Α–Κ, –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Α 120 –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤, ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²―¨ 12-14 ―É–Ζ–Μ–Ψ–≤, –±–Ψ–Β–≤–Α―è –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Δ 2, –≤–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä βÄî –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –≠.–Δ.–ü–Μ–Α―²–Ψ–Ϋ–Ψ–≤, –≤–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä-–Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –ü–Α–Ϋ–Η―²–Κ–Ψ–≤ –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ–Η–Ι –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤–Η―΅, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α –Ε–Η–≤―É―΅–Β―¹―²–Η, –≤–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä βÄî –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –Γ–Φ–Α―Ä–Α–≥–¥–Ψ–≤ –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅. –™–Μ―É–±–Ψ–Κ–Α―è –Ϋ–Ψ―΅―¨, –Α–Κ―É―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –≥–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ψ–Ϋ―² ―΅–Η―¹―². –‰ –≤–¥―Ä―É–≥ βÄî –≤–Ζ―Ä―΄–≤, ―É–¥–Α―Ä, ―Ö–Μ–Ψ–Ω–Ψ–Κ βÄî –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α―²―¨ –Κ–Α–Κ ―É–≥–Ψ–¥–Ϋ–Ψ, –Η –≤ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ―¹―²―É βÄî ―¹―²–Ψ–Μ–± –≤–Ψ–¥―΄ –Η –≥―É―¹―²–Ψ–Ι ―²―É–Φ–Α–Ϋ... ¬Ϊ–ê–≤–Α―Ä–Η–Ι–Ϋ–Α―è ―²―Ä–Β–≤–Ψ–≥–Α βÄî –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –≤–Ψ–¥―΄ –≤ ―²―Ä–Β―²–Η–Ι –Ψ―²―¹–Β–Κ; –±–Ψ―Ü–Φ–Α–Ϋ, –≤―¹–Ω–Μ―΄–≤–Α–Ι –Ϋ–Α –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―É 40 –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤, –Α–Κ―É―¹―²–Η–Κ―É –Ω―Ä–Ψ―¹–Μ―É―à–Α―²―¨ –≥–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ψ–Ϋ―²... –Η ―².–¥. –Η ―².–Ω. –ü–Ψ –Φ–Β―Ä–Β ―É–Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β–Ϋ–Η―è –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―΄ –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è ―¹―²–Ψ–Μ–± –≤–Ψ–¥―΄ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ ―É–Φ–Β–Ϋ―¨―à–Α―²―¨―¹―è. –Γ–Ψ–±–Μ―é–¥–Α―è –≤―¹–Β –Φ–Β―Ä―΄ –Ω―Ä–Β–¥–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≤―¹–Ω–Μ―΄–≤–Α–Β–Φ –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω–Ϋ―É―é –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―É. –Θ–Ε–Β –≤–Η–¥–Ϋ–Ψ –Φ–Β―¹―²–Ψ –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è –≤–Ψ–¥―΄ βÄî –¥―΄―Ä–Α –Ϋ–Β–¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –Ψ―² –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω–Α. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―² ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –≤―¹–Ω–Μ―΄―²―¨ –≤ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β: ¬Ϊ–ü―Ä–Ψ–¥―É―²―¨ ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ―é―é!¬Μ. 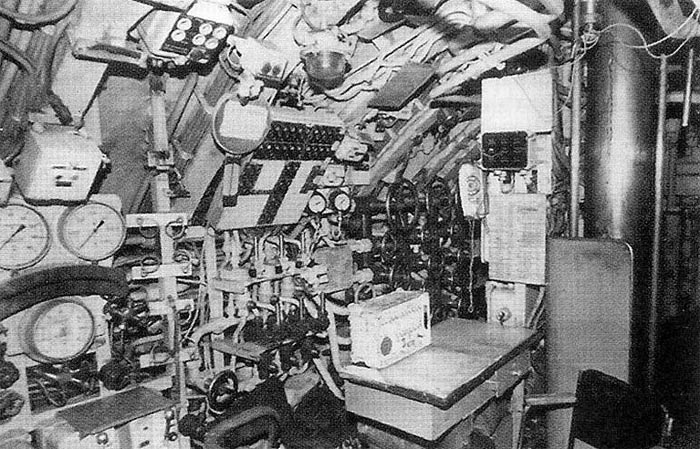 –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ―¹―² –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –ü–¦ –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Α 627–ê. - –‰.–‰.–ü–Α―Ö–Ψ–Φ–Ψ–≤. –Δ―Ä–Β―²―¨―è –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η―è. –ü–Β―Ä–≤–Α―è –Ϋ–Α ―³–Μ–Ψ―²–Β. –Γ–ü–±., 2011. –· –≤―¹–Μ–Β–¥ –Ζ–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ–Α―é―¹―¨ –Ϋ–Α –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ. –Δ–Β–Φ–Ϋ–Α―è –Ϋ–Ψ―΅―¨, –Φ–Ψ―Ä–Β –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ-―²–Α–Κ–Η ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ–Β (–Ϋ–Β ―¹–≤―΄―à–Β 1-2 –±–Α–Μ–Μ–Ψ–≤), –Η ―΅―²–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–Β –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β βÄî –≤–Η–Ζ―É–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≥–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ψ–Ϋ―² ―΅–Η―¹―². –ù–Α―΅–Α–Μ–Η –Ψ–±―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Φ–Β―¹―²–Α ―²–Β―΅–Η. –û–¥–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ βÄî ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Β –Ψ―¹―É―à–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Η–Ε–Ϋ–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η―è –½-–≥–Ψ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Α, –≥–¥–Β –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è –Φ–Α―¹―¹–Α ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±–Ψ―Ä―É–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β, –Κ–Α–Κ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, –Η–Φ–Β–Β―² ―¹–≤–Ψ–Ι―¹―²–≤–Ψ –≤–Ψ–Ζ–≥–Ψ―Ä–Α―²―¨―¹―è, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –Ζ–Α–±–Ψ―Ä―²–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–¥―΄. –û―¹–Φ–Ψ―²―Ä –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Φ―΄ –Η–Φ–Β–Β–Φ –≤ –Ω―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Β ―¹–Κ–≤–Ψ–Ζ–Ϋ―É―é –¥―΄―Ä―É –¥–Η–Α–Φ–Β―²―Ä–Ψ–Φ ―ç–¥–Α–Κ 20-–½–û –Φ–Φ. –î–Β–Μ–Ψ –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ζ–Α–≤–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Α –Ϋ–Α–Φ ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¨ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Ι –≥–Η–¥―Ä–Ψ–Α–Κ―É―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―¹. –€–Ψ–¥–Β―Ä–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―è –Ω–Ψ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Α–Φ –Ϋ–Β ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ–Α―¹―¨, –Ϋ–Ψ –≤–≤–Α―Ä―΄―à–Β–Ι –¥–Μ―è –Κ–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―²―Ä–Α―¹―¹ –≤ –Ω―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Β –Ϋ–Α–¥–Β–Μ–Α―²―¨ ―É―¹–Ω–Β–Μ–Η. –£–Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Η –≤―¹–Β ―ç―²–Η –≤–≤–Α―Ä―΄―à–Η –±―΄–Μ–Η –Ζ–Α–¥–Β–Μ–Α–Ϋ―΄, –Ϋ–Ψ –Κ–Α–Κ –≤–Η–¥–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –≤―¹–Β. –ü–Β―Ä–Β–¥ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ ―¹―²–Ψ–Η―² –Ψ–¥–Ϋ–Α –Ζ–Α–¥–Α―΅–Α - –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Ζ–Α–¥–Α―΅ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄. –£–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ –Ψ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Η –≤ –±–Α–Ζ―É, –¥–Α ―²–Β–Φ –±–Ψ–Μ–Β–Β –≤ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –≤ –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Ψ–≤ –ù–ê–Δ–û, –Ω–Ψ-–Φ–Ψ–Β–Φ―É, –¥–Α–Ε–Β –Η –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―à–Β–Μ –Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ―É –≤ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―É. –ê –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―², –Κ–Α–Κ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄―¹―²―Ä–Β–Β ―É―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Η―²―¨ ―²–Β―΅―¨, –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ζ–Η―²―¨―¹―è –Η ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ –¥–Α–Μ–Β–Β –Ω–Ψ –Ω–Μ–Α–Ϋ―É. –‰ –¥–Μ―è ―ç―²–Ψ–Ι ―Ü–Β–Μ–Η ―É –Ϋ–Α―¹ –±―΄–Μ–Α –Ψ―¹–Ψ–±–Α―è ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Ϋ–Α―è –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Α, ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ–Α―è –Ϋ–Α –Φ–Ψ–Ι –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥ –Ψ―²―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤―¹–Β. –≠―²–Ψ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄ ―²―Ä―é–Φ–Ϋ―΄―Ö –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ –ë–Β–Μ–Β–Ϋ–Κ–Ψ, ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄ –Φ–Ψ―²–Ψ―Ä–Η―¹―²–Ψ–≤ –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ –½–Α–≤–Α―Ü–Κ–Η–Ι, ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄ ―Ä–Β―³―Ä–Η–Ε–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä―â–Η–Κ–Ψ–≤ –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ –Γ–Ψ–Μ–Ψ–Ϋ–Β–Ϋ–Κ–Ψ, –±–Ψ―Ü–Φ–Α–Ϋ –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ –€–Α–Μ–Α―Ö–Ψ–≤, ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―² ―²―Ä―é–Φ–Ϋ―΄–Ι –î–Β–≤―è―²–Κ–Η–Ϋ –Η –¥―Ä. ―¹ –Ω―Ä–Η–≤–Μ–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β–Φ, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Μ―é–±–Ψ–≥–Ψ ―΅–Μ–Β–Ϋ–Α ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α –Η, –Ϋ–Β―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ω–Ψ–¥ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ ―¹―²–Α―Ä―à–Β–≥–Ψ –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ–Α –Γ.–‰.–£–Ψ–≤―à–Η. 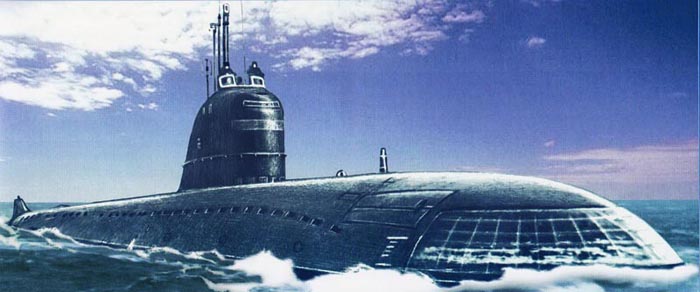 –ö–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¹―è, –±―΄―¹―²―Ä–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Κ–Α ―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è... –£ –Ψ–±―â–Β–Φ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅–Α―¹–Ψ–≤ ―²–Β―΅―¨ –±―΄–Μ–Α ―É―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Α. –Ϋ–Η–Κ–Β–Φ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Α –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Α –Η ... ¬Ϊ–Ω–Ψ –Φ–Β―¹―²–Α–Φ ―¹―²–Ψ―è―²―¨, –Κ –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―é¬Μ. –™–Μ―É–±–Η–Ϋ–Α 10 –Φ, 40 –Φ, 100 –Φ, 200 –Φ βÄî –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è –≤–Ψ–¥―΄ –Ϋ–Β –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ψ! –Γ–Μ–Β–¥―É–Β–Φ –¥–Α–Μ–Β–Β –Ω–Ψ –Ω–Μ–Α–Ϋ―É, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Α –Ω–Ψ–≤―΄―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²–Η, ―².–Κ. –Ϋ–Α―à–Α –≤―΄–Ϋ―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Α –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α―Ä―É―à–Η–Μ–Α –Ϋ–Α―à –≥―Ä–Α―³–Η–Κ. –î–Ψ –™–Η–±―Ä–Α–Μ―²–Α―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤–Α ―¹–Μ–Β–¥―É–Β–Φ –±–Β–Ζ –Ψ―¹–Ψ–±―΄―Ö –Ψ―²–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι –Η ―¹–±–Ψ–Β–≤. –½–Α―²–Ψ ―³–Ψ―Ä―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –™–Η–±―Ä–Α–Μ―²–Α―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤–Α –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―² ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―É―é ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –£–Ψ-–Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö, –Ω–Β―Ä–Β–¥ –≤―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ –≤ –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤ –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ ―¹–Α–Φ―΄–Φ ―²―â–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Η―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β. –ê ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤ –¥–Μ―è ―ç―²–Η―Ö ―Ü–Β–Μ–Β–Ι –Ϋ–Α –Ϋ–Α―à–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö 1-–≥–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η―è –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ. –£–Ψ-–≤―²–Ψ―Ä―΄―Ö, ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –≤ –™–Η–±―Ä–Α–Μ―²–Α―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤–Β –Ϋ–Α ―Ä–Β–¥–Κ–Ψ―¹―²―¨ –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –Ψ–Ϋ–Ψ –Φ–Β–Ϋ―è–Β―² ―¹–≤–Ψ―é ―¹–Η–Μ―É –Η –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Α―Ö. –‰ –≤-―²―Ä–Β―²―¨–Η―Ö, –Η–Ϋ―²–Β–Ϋ―¹–Η–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―¹―É–¥–Ψ―Ö–Ψ–¥―¹―²–≤–Α –≤ –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤–Β –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤–Β–Μ–Η–Κ–Α, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤―¹–Ω–Μ―΄―²―¨ –¥–Μ―è ―É―²–Ψ―΅–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Φ–Β―¹―²–Α –±–Β–Ζ ―Ä–Η―¹–Κ–Α –±―΄―²―¨ –Ω―Ä–Ψ―²–Α―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Ψ―¹―¨ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Φ. –ù–Ψ, –Ϋ–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ë–ß-1 (―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ) ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –ü–Μ–Α―¹―²–Η–Ϋ–Η–Ϋ –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ–Η–Ι –≤ ―ç―²–Ψ–Ι –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ –≤ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Β –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β, ―¹ –Ζ–Α–¥–Α―΅–Β–Ι –Φ―΄ ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ. –ü–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Β―²―¹―è, –Ϋ–Α―à–Η –Φ–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Β –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Η –Ψ–±―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Η–¥―É―² –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Φ ―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ. –î–Μ―è –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è ―ç–Κ―¹–Ω–Β―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ―²–Ψ–≤ –≤–Β―¹―¨ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε –±―΄–Μ ―Ä–Α–Ζ–±–Η―² –Ϋ–Α ―²―Ä–Η –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄. –ü–Β―Ä–≤–Α―è –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Α ―ç–Μ–Β―É―²–Β―Ä–Ψ–Κ–Ψ–Κ–Κ, –≤―²–Ψ―Ä–Α―è –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Α –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ–Ι ―΅–Α–Ι ―¹ –¥–Ψ–±–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―΅–Β–≥–Ψ-―²–Ψ –¥–Μ―è –≤–Κ―É―¹–Α –Η –Ζ–Α–Ω–Α―Ö–Α, –Η ―ç―²–Ψ ―²–Ψ–Ε–Β –≤―΄–¥–Α–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ζ–Α ―ç–Μ–Β―É―²–Β―Ä–Ψ–Κ–Ψ–Κ–Κ, ―²―Ä–Β―²―¨―è –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Α –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ. –î–Α–Ε–Β –±―΄–Μ–Α ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Α: ¬Ϊ2-–Ι ―¹–Φ–Β–Ϋ–Β –≤―¹―²–Α–≤–Α―²―¨, –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨ ―ç–Μ–Β―É―²–Β―Ä–Ψ–Κ–Ψ–Κ–Κ!¬Μ. –ë―΄–Μ–Α –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η (–Ϋ–Β –Ω–Ψ–Φ–Ϋ―é ―¹ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é) –¥―΄―à–Α–Μ–Α ―΅–Η―¹―²―΄–Φ –Κ–Η―¹–Μ–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ψ–Φ. –£–Β―¹―¨ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε –Ω–Ψ–¥ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ –Φ–Α–Ι–Ψ―Ä–Α –Δ―Ä–Ψ–Η―Ü–Κ–Ψ–≥–Ψ –Β–Ε–Β–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ–Ψ –¥–Β–Μ–Α–Μ ―³–Η–Ζ–Ζ–Α―Ä―è–¥–Κ―É. –û–¥–Η–Ϋ ―Ä–Α–Ζ –≤ –Ϋ–Β–¥–Β–Μ―é –Ψ–±―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è –≤–Β―¹―¨ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε: –¥–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β, –≠–ö–™ –Η ―É ―΅–Α―¹―²–Η –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –Α–Ϋ–Α–Μ–Η–Ζ –Κ―Ä–Ψ–≤–Η. –ê –Φ―΄ –Ϋ–Α ―³–Ψ–Ϋ–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ―΄―¹–Κ–Η–≤–Α–Μ–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –Η –Ω–Ψ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―¹–Μ–Β–¥–Η–Μ–Η –Ζ–Α –Ϋ–Η–Φ–Η. –î–Μ―è –Ω–Ψ–Η―¹–Κ–Α –Ϋ–Α–Φ –±―΄–Μ–Ψ –Ψ―²–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Ψ–≤, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Φ―΄ –Η –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ζ–Α–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è.  –ï―â–Β –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ-―²–Α–Κ–Η –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ―΄–Ι –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―² –±―΄–Μ –≤ –Ϋ–Α―à–Β–Φ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Β βÄî ―ç―²–Ψ –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥ –Η–Ζ –½–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –Γ―Ä–Β–¥–Η–Ζ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è –≤ –£–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ―É―é, ―².–Β. ―³–Ψ―Ä―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Δ―É–Ϋ–Η―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤–Α. –ê –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤ ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η―Ö –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―²–Α―Ö: - –Ω–Ψ –Η–Ϋ―²–Β–Ϋ―¹–Η–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―¹―É–¥–Ψ―Ö–Ψ–¥―¹―²–≤–Α –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β ―É―¹―²―É–Ω–Α–Β―² –™–Η–±―Ä–Α–Μ―²–Α―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ―É, - –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―΄ –≤ –Ϋ–Β–Φ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β, –Α –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Α–Κ –Ζ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ψ –≤ –Μ–Ψ―Ü–Η–Η, ―²–Α–Φ –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η―² –¥–Ϋ–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Η –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –¥–Α–Ε–Β ―²–Β–Φ –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Α–Φ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ―΄ –Ϋ–Α –Ϋ–Α–≤–Η–≥–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Α―Ä―²–Β, –¥–Ψ–≤–Β―Ä―è―²―¨ –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è. –ù–Ψ –Φ―΄ ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Η ―¹ ―ç―²–Ψ–Ι –Ζ–Α–¥–Α―΅–Β–Ι. –‰ –Ζ–¥–Β―¹―¨ βÄî –Ψ, ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²―¨ –Ψ–Ε–Η–¥–Α–Μ–Α –Ϋ–Α―¹! βÄî –Φ―΄ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Β–Φ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ―É, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Ϋ–Α–Φ –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Η―¹―΄–≤–Α–Β―² ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤ –Ζ–Α–Μ–Η–≤ –Γ–Α–Μ–Μ―É–Φ, –≥–¥–Β –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è –Ϋ–Α―à–Α –Ω–Μ–Α–≤–±–Α–Ζ–Α ―¹–Ψ ―à―²–Α–±–Ψ–Φ –Γ―Ä–Β–¥–Η–Ζ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä―΄ –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―²―É, –¥–Μ―è –Ω–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Α–Ω–Α―¹–Ψ–≤ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η―è –Η ―Ä–Β–≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Α. –ù–Ψ –Η –Ϋ–Α ―¹–Β–Ι ―Ä–Α–Ζ, ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²―¨ –Ϋ–Α―à–Α –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Α. –î–Μ―è –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –Ω―Ä–Η –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Β –Κ ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –≤–Ψ–¥–Α–Φ –ï–≥–Η–Ω―²–Α, –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–≤ –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω, –Φ―΄ –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–Μ–Η –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι ―³―Ä–Β–≥–Α―² ―¹ –≤–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ―è–Κ–Ψ―Ä–Ϋ―΄–Φ–Η –Ψ–≥–Ϋ―è–Φ–Η, ―Ö–Ψ―²―è –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Α –Φ–Β―¹―²–Α ―²–Α–Φ –±―΄–Μ–Α –±–Ψ–Μ–Β–Β 1000 –Φ. –ê ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ –≤―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –≤ ―΅―É–Ε–Η–Β ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –≤–Ψ–¥―΄ –≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Ζ–Α–Ω―Ä–Β―â–Β–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Α–Φ –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –≤―¹–Ω–Μ―΄―²―¨ –Ϋ–Α –≥–Μ–Α–Ζ–Α―Ö ¬Ϊ–≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α¬Μ, –≤–Κ–Μ―é―΅–Η―²―¨ ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤―΄–Β –Ψ–≥–Ϋ–Η, –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è―²―¨ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―³–Μ–Α–≥ –Γ–Γ–Γ–† –Η ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤ ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –≤–Ψ–¥―΄ –ï–≥–Η–Ω―²–Α. –ü–Ψ–¥–Ψ–Ι–¥―è –Κ –Ω–Μ–Α–≤–±–Α–Ζ–Β (–Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Β–Β ―è, –Κ ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Ϋ–Η―é, –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Φ–Ϋ―é, –Ω–Ψ–Φ–Ϋ―é ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Α –Η–Ζ –½–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Ψ–Ι –¦–Η―Ü―΄) –Φ―΄ –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –Κ –Ϋ–Β–Ι –Ψ―à–≤–Α―Ä―²–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨. –ê –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ ―à―²–Α–±–Α 5-–Ψ–Ι –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Γ―Ä–Β–¥–Η–Ζ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä―΄ –±―΄–Μ –Φ–Ψ–Ι –¥–≤–Ψ―é―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –±―Ä–Α―², –≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ü–Μ–Α―²–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –£–Η―²–Α–Μ–Η–Ι –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅ (–Ϋ―΄–Ϋ–Β –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –≤ –Ψ―²―¹―²–Α–≤–Κ–Β). –ö―Ä–Ψ–Φ–Β –Ϋ–Α―¹ –≤–Ψ–Ζ–Μ–Β –Ω–Μ–Α–≤–±–Α–Ζ―΄ ―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ –Β―â–Β –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Η–Ζ–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―²–Ψ–Ε–Β –Ω–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ–Η –Ζ–Α–Ω–Α―¹―΄.  ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –≤ 1925 –≥–Ψ–¥―É. –î–Β―è―²–Β–Μ―¨ ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –£–€–Λ, –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ. –Γ―΄–Ϋ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –£.–‰.–ü–Μ–Α―²–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Α. –Θ―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö ―¹–Μ―É–Ε–± –Η –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Η―Ö –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤, –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ ―à―²–Α–±–Α –Γ―Ä–Β–¥–Η–Ζ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä―΄, –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –£―΄―¹―à–Β–≥–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Η–Φ. –€. –Λ. –Λ―Ä―É–Ϋ–Ζ–Β, –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―¨ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η –Η–Φ. –ê. –ê. –™―Ä–Β―΅–Κ–Ψ. –£ 1987 –≥. –Θ–≤–Ψ–Μ–Β–Ϋ –≤ –Ζ–Α–Ω–Α―¹. –ù–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ 6 –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Α–Φ–Η, 23 –Φ–Β–¥–Α–Μ―è–Φ–Η, ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ –Ω–Α―Ä–Α–¥–Α –ü–Ψ–±–Β–¥―΄ –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β. –ù–Α–Φ –±―΄–Μ–Α –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Α –Ζ–Α–¥–Α―΅–Α –¥–Ψ ―Ä–Α―¹―¹–≤–Β―²–Α –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Ζ–Α–≥―Ä―É–Ζ–Η―²―¨―¹―è –Η –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Η―²―¨ –±–Ψ–Β–≤―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É. –ß―²–Ψ ―ç―²–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²? –≠―²–Ψ –¥–Α–Ε–Β ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ ―¹–Β–±–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨. –ß–Β―Ä–Β–Ζ –½ –Μ―é–Κ–Α (–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ϋ–Α –Ω–Μ–Α–≤―É –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤―¹–Β –Ψ―²–Κ―Ä―΄–≤–Α―²―¨ –Κ–Α―²–Β–≥–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Ζ–Α–Ω―Ä–Β―â–Α–Β―²―¹―è), –Ϋ–Α–Φ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Α–≥―Ä―É–Ζ–Η―²―¨, –Α –Ζ–Α–Κ–Η–Ϋ―É―²―¨ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―²–Ψ–Ϋ–Ϋ –≥―Ä―É–Ζ–Ψ–≤. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Β–≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η –Ϋ–Α–Φ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ –Ζ–Α–≥―Ä―É–Ζ–Η―²―¨ 2700 –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―²–Ψ–≤. –£ –Ϋ–Ψ―Ä–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö –Κ–Α–Ε–¥–Α―è –±–Α–Ϋ–Κ–Α –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Α –±―΄―²―¨ –Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Ϋ–Α, –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Α –≤ –Β–Φ–Κ–Ψ―¹―²―¨ ―¹ –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι –¥–Μ―è –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Κ–Η –Ϋ–Α –≥–Β―Ä–Φ–Β―²–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –Ζ–Α―²–Β–Φ –Ζ–Α–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Α –≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―É―é –Μ–Ψ–¥–Κ―É –Η ―Ä–Α―¹–Κ―Ä–Β–Ω–Μ–Β–Ϋ–Α –Ϋ–Α ―à―²–Α―²–Ϋ–Ψ–Φ –Φ–Β―¹―²–Β. –ë―΄–Μ–Ψ –Μ–Η ―É –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è? –ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ –Ε–Β –Ϋ–Β―². –î–Α–Ε–Β –Φ–Ψ–Η ―Ä–Ψ–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹–≤―è–Ζ–Η –Ϋ–Η―΅–Β–Φ –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―΅―¨ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –£–€–Λ –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –Λ–Μ–Ψ―²–Α –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –™–Ψ―Ä―à–Κ–Ψ–≤–Α –Γ–Β―Ä–≥–Β―è –™–Β–Ψ―Ä–≥–Η–Β–≤–Η―΅–Α. –£―¹–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ ―¹ –¥–Η–Ζ–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ–Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Α–Φ–Η –±―΄–Μ–Η –Ω―Ä–Η–Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ―΄, –Η –≤―¹–Β –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β –±―΄–Μ–Ψ ―É–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α–Φ. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ –≤―¹–Β –≤–Η–Ϋ–Ψ ―É–Ε–Β –≤―΄–¥–Α–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α –¥–Η–Ζ–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –ü–¦ –Η –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω–Ψ–Μ―É―΅–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ψ. –€–Ψ–Ι –±―Ä–Α―² –≤―΄–Ζ–≤–Α–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –ü–¦ –Η –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Β–≥–Ψ –≤―΄–≥―Ä―É–Ζ–Η―²―¨ –Ψ–±―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ. –Δ–Β., –≤ ―¹–≤–Ψ―é –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥―¨, –Ω―Ä–Η―à–Μ–Η –Κ –Φ–Ψ–Β–Φ―É –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É –Γ–Φ–Α―Ä–Α–≥–¥–Ψ–≤―É –£.–£. –Η –≤–Ζ–Φ–Ψ–Μ–Η–Μ–Η―¹―¨ ―¹ –Ω―Ä–Ψ―¹―¨–±–Ψ–Ι –Ψ―²–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨―¹―è –Ψ―² –≤–Η–Ϋ–Α, ―².–Κ. –¥–Μ―è –Β–≥–Ψ –≤―΄–≥―Ä―É–Ζ–Κ–Η –Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –±―΄ –Η–Ζ–≤–Μ–Β―΅―¨ –Η–Ζ –Ω―Ä–Ψ–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Ψ–Κ ―É–Ε–Β –Ζ–Α–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –≤ –Ϋ–Η―Ö –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η–Β –Η –Φ–Α―¹―¹–Α –¥―Ä―É–≥–Η―Ö ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι. –€–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –≤―΄–Ζ–≤–Α–Μ –Φ–Β–Ϋ―è –Η –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Η―²―¨ –±―Ä–Α―²–Α –Ψ―²–Φ–Β–Ϋ–Η―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Β –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α―¹―΅–Β―² –≤–Η–Ϋ–Α, –Α –Φ―΄, –¥–Β―¹–Κ–Α―²―¨, –Ψ–±–Ψ–Ι–¥–Β–Φ―¹―è –Η ―¹–Ψ–Κ–Ψ–Φ. –ß―²–Ψ –Η –±―΄–Μ–Ψ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Ϋ–Ψ, –£ –Ψ–±―â–Β–Φ, –Κ ―É―²―Ä―É –≤―¹–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ζ–Α–Κ–Η–Ϋ―É―²–Ψ –≤ –Μ–Ψ–¥–Κ―É. –£ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Α―Ö –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Ω–Α–Μ―É–±–Α―Ö –Μ–Β–Ε–Α–Μ–Η ―è―â–Η–Κ–Η, –Φ–Β―à–Κ–Η, –±–Α–Ϋ–Κ–Η –Η ―².–¥. ―¹ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η–Β–Φ –Η –≤―΄―¹–Η–Μ–Η―¹―¨ –≥–Ψ―Ä―΄ ―Ä–Β–≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η. –ü–Ψ–Φ–Η–Φ–Ψ –≤―¹–Β―Ö ―ç―²–Η―Ö –Ϋ–Β―É–¥–Ψ–±―¹―²–≤ –Η ―É―¹―²–Α–Μ–Ψ―¹―²–Η –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α, –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α―¹―¨ –Β―â–Β –Η –Ϋ–Α–Ω―Ä–Ψ―΅―¨ ―Ä–Α–Ζ–¥–Η―³―³–Β―Ä–Β–Ϋ―²–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι. –ü―Ä–Η –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Β –Κ ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü–Β –Φ―΄ –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–Μ–Η –≤―¹–Β ―²–Ψ―² –Ε–Β ―³―Ä–Β–≥–Α―². –ù–Α–Φ –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –¥–Β–Μ–Α―²―¨, –Κ–Α–Κ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ–±―ä―è–≤–Η―²―¨ ¬Ϊ–Γ―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Β¬Μ –Η –¥–Α―²―¨ ―¹–Α–Φ―΄–Ι –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Ι ―Ö–Ψ–¥. –ù–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Φ―΄ –Ω―Ä–Ψ―¹–Μ―É―à–Η–≤–Α–Μ–Η ―Ä–Α–±–Ψ―²―É –≥–Η–¥―Ä–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Α―²–Ψ―Ä–Ψ–≤ ―³―Ä–Β–≥–Α―²–Α, –Ϋ–Ψ –Ζ–Α―²–Β–Φ –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–Μ –Ϋ–Α―¹ –±–Β–Ζ–≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ. –ê –Φ―΄ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η ―Ä–Α―¹―²–Α―¹–Κ–Η–≤–Α―²―¨ –Ω–Ψ ¬Ϊ–Ζ–Α–Κ―Ä–Ψ–Φ–Α–Φ¬Μ ―¹–≤–Ψ–Β –±–Ψ–≥–Α―²―¹―²–≤–Ψ, ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―â–Α―²―¨, ―Ä–Α―¹–Κ―Ä–Β–Ω–Μ―è―²―¨, –Η –≤―¹–Β ―ç―²–Ψ, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β ―¹–Ϋ–Η–Ε–Α―è ―Ö–Ψ–¥–Α. –‰ –Μ–Η―à―¨, –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ, ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ―¹―É―²–Κ–Η, –Ω–Ψ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹–Ϋ–Η–Ε–Α―è ―Ö–Ψ–¥, –Φ―΄ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η ―É–¥–Η―³―³–Β―Ä–Β–Ϋ―²–Ψ–≤―΄–≤–Α―²―¨ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―É―é –Μ–Ψ–¥–Κ―É. –ù―É –Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –≤―¹–Β –≤–Ψ―à–Μ–Ψ –≤ ―¹–≤–Ψ―é –Κ–Ψ–Μ–Β―é. –ë―΄–Μ–Α ―É –Ϋ–Α―¹ –Β―â–Β –≤–Β―¹―¨–Φ–Α –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ–Α―è –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―è. –£ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –≤ –Ω―Ä–Β―¹―¹–Β –Ω―Ä–Ψ–Ζ–≤―É―΅–Α–Μ–Ψ ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η–Β, ―΅―²–Ψ –‰–Ζ―Ä–Α–Η–Μ―¨ ―É–Κ―Ä–Α–Μ ―É –Λ―Ä–Α–Ϋ―Ü–Η–Η –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ―΄―Ö –Κ–Α―²–Β―Ä–Ψ–≤. –Δ–Α–Κ –≤–Ψ―² –Ϋ–Α–Φ –±―΄–Μ–Α –¥–Α–Ϋ–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Α –Κ–Α–Ε–¥―΄–Β 2 ―΅–Α―¹–Α –Ψ―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α―²―¨ –Ω–Ψ–≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Β–¥–Φ–Β―² –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è ―ç―²–Η―Ö ―¹–Α–Φ―΄―Ö –Κ–Α―²–Β―Ä–Ψ–≤.  –ê ―΅―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β –Κ–Α–Ε–¥―΄–Β 2 ―΅–Α―¹–Α –Ψ―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α―²―¨ –Ω–Ψ–≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Ψ―¹―²―¨? –ü―Ä–Ψ–Ζ―Ä–Α―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤–Ψ–¥―΄ –≤ –Γ―Ä–Β–¥–Η–Ζ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β –¥–Ψ―¹―²–Η–≥–Α–Β―² 120 –Η –±–Ψ–Μ–Β–Β –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ϋ–Α―à–Β –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ –Ϋ–Α –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Α―Ö, –≤ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ, –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β 150 –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤. –£―¹–Β –≤―¹–Ω–Μ―΄―²–Η―è –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω–Ϋ―É―é –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―É –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²―¨ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ ―²―Ä–Β–≤–Ψ–≥–Β, ―¹ –Ω―Ä–Β–¥–≤–Α―Ä–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Ψ―¹–Μ―É―à–Η–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –≤―¹–Β–≥–Ψ –≥–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ψ–Ϋ―²–Α –Ϋ–Α –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Α―Ö, –Ϋ–Α–Η–±–Ψ–Μ–Β–Β –¥–Μ―è ―²–Ψ–≥–Ψ ―É–¥–Ψ–±–Ϋ―΄―Ö ―¹ ―²–Ψ―΅–Κ–Η –Ζ―Ä–Β–Ϋ–Η―è –≥–Η–¥―Ä–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η–Η. –ê ―ç―²–Ψ, –Ω–Ψ―΅–Η―²–Α–Ι, ―²―Ä–Β–≤–Ψ–≥–Α –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Α –Ψ–±―ä―è–≤–Μ―è―²―¨―¹―è –Β–Ε–Β―΅–Α―¹–Ϋ–Ψ. –ü–Β―Ä–≤–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –≤―¹–Β –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―²–Α–Κ –Η –¥–Β–Μ–Α–Μ–Ψ―¹―¨. –£–Ψ―² ―²―É―²-―²–Ψ –Η –≤–Ζ–Φ–Ψ–Μ–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α―à–Α –Φ–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ―¹–Κ–Α―è –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α. –£―¹–Β –Η―Ö –Φ–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Β –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²–Β–Μ–Η ―Ä–Β–Ζ–Κ–Ψ –Ω–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ζ–Μ–Η –≤–Ϋ–Η–Ζ, –Κ–Α–Κ, –≤–Ω―Ä–Ψ―΅–Β–Φ, –Η ―³–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Β –Η –Ϋ–Α―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η–Β –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α. –¦―é–¥–Η ―¹―²–Α–Μ–Η –Ω―Ä–Β–≤―Ä–Α―â–Α―²―¨―¹―è –≤ ¬Ϊ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Α–Φ–±―É–Μ¬Μ, –Α ―ç–¥–Α–Κ –Η –¥–Ψ –±–Β–¥―΄ –Ϋ–Β–¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ. –‰ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ψ–Ω―è―²―¨ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ –≥―Ä–Α–Φ–Ψ―²–Ϋ–Ψ–Β ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β. –Δ―Ä–Β–≤–Ψ–≥―É –¥–Μ―è –≤―¹–Ω–Μ―΄―²–Η―è –Ψ–±―ä―è–≤–Μ―è–Μ–Η –Ϋ–Β –≤―¹–Β–Φ―É –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―é, –Α ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Φ―É –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ―¹―²―É. –≠―²–Ψ –¥–Β–Μ–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ. –ù―É, –Α ―²–Β–Φ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Β–Φ –Η ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –Λ―Ä–Α–Ϋ―Ü–Η–Η –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω–Ψ–Μ―É―΅–Ϋ–Ψ –¥–Ψ–±―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –¥–Ψ –‰–Ζ―Ä–Α–Η–Μ―è. –ù–Α―à–Α ―¹–Μ―É–Ε–±–Α –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ–Α―¹―¨ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ψ–Φ. –½–Α–¥–Α―΅–Η –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ–Η―¹―¨, –Μ―é–¥–Η –Κ―Ä–Β–Ω–Μ–Η, –Ζ–Α–Κ–Α–Μ―è–Μ–Η―¹―¨, ―É―΅–Η–Μ–Η―¹―¨. –ë―΄–Μ ―É –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ ―¹–Ϋ–Α–±–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ –™―É―à–Κ–Ψ–≤. –‰ ―Ö–Ψ―²―è –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―² –Β–≥–Ψ –±―΄–Μ ―É–Ε–Β –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ-―²–Α–Κ–Η –Ω–Ψ―΅―²–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –¥–Μ―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α (–Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Α ―¹–Ψ―Ä–Ψ–Κ–Α –Μ–Β―²), –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö ―Ä–Α–Ϋ–Β–Β –Ψ–Ϋ –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ. –Δ–Α–Κ –≤–Ψ―² –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Β –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Η―Ö–≤–Α―²–Η–Μ –Α–Ω–Ω–Β–Ϋ–¥–Η―Ü–Η―². –î–Μ―è –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Α―΅–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α –°―Ä–Η―è –Λ―Ä–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η―΅–Α –Ψ―²―Ä–Β–Ζ–Α―²―¨ ―ç―²–Ψ―² –Ϋ–Β―¹―΅–Α―¹―²–Ϋ―΄–Ι –Ψ―²―Ä–Ψ―¹―²–Ψ–Κ βÄî –Ψ–¥–Ϋ–Ψ ―É–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η–Β. –‰ –≤–Ψ―² –Κ–Α―é―²-–Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Β–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Α –≤ –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―É―é, –≤―¹–Β –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ψ –Κ –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η, –±–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Α ―¹―²–Ψ–Μ–Β, –≤―Ä–Α―΅ –Ϋ–Α –Φ–Β―¹―²–Β, –Α―¹―¹–Η―¹―²–Η―Ä―É–Β―² –Β–Φ―É ―Ö–Η–Φ–Η–Κ-―¹–Α–Ϋ–Η―²–Α―Ä ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ–Α 2 ―¹―²–Α―²―¨–Η –°–Ε–Α–Μ–Κ–Η–Ϋ. –£―¹–Κ―Ä―΄–≤–Α–Β―²―¹―è –Ω–Ψ–Μ–Ψ―¹―²―¨ –Ε–Η–≤–Ψ―²–Α –Η ... ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ–Α 2 ―¹―²–Α―²―¨–Η –°–Ε–Α–Μ–Κ–Η–Ϋ –Ω–Α–¥–Α–Β―² –≤ –Ψ–±–Φ–Ψ―Ä–Ψ–Κ. –ù–Ψ ―è –Ε–Β –Ϋ–Β–¥–Α―Ä–Ψ–Φ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ –Ψ –≤–Ζ–Α–Η–Φ–Ψ–Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ―è–Β–Φ–Ψ―¹―²–Η. –ù–Α –Β–≥–Ψ –Φ–Β―¹―²–Ψ ―²―É―² –Ε–Β ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¹―è ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄ –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ –‰–Μ―¨–Η–Ϋ–Ψ–≤. –‰ –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η―è –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η―² ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ. –ù–Ψ ―²―É―² –Ϋ–Ψ–≤–Α―è –Ϋ–Α–Ω–Α―¹―²―¨. –Θ –™―É―à–Κ–Ψ–≤–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η ―¹–Κ–Α–Ω–Μ–Η–≤–Α―é―²―¹―è –Η –Ϋ–Β –Ψ―²―Ö–Ψ–¥―è―² –≥–Α–Ζ―΄, –Ω―Ä–Η―΅–Β–Φ –¥–Μ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è. –£―Ä–Α―΅ –Ω―Ä–Β–¥―É–Ω―Ä–Β–Ε–¥–Α–Β―², ―΅―²–Ψ –Β―¹–Μ–Η ―ç―²–Ψ –±―É–¥–Β―² –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α―²―¨―¹―è, ―²–Ψ –Ω―Ä–Η–¥–Β―²―¹―è –¥–Α–≤–Α―²―¨ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ, –≤―΄–Ζ―΄–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ ―¹ ―Ö–Η―Ä―É―Ä–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Ψ–Ι –Η –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–≤–Α―²―¨ –±–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ. –ê ―ç―²–Ψ ―¹―Ä―΄–≤ –Ζ–Α–¥–Α―΅–Η, –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è ―¹–Κ―Ä―΄―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –ù–Ψ ―²―É―² –Ψ–Ω―è―²―¨ ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²―¨ –Ψ–Ε–Η–¥–Α–Μ–Α –Ϋ–Α―¹. –û–±―ä―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Λ―Ä–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η―΅–Α –Ω–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Μ―è―Ü–Η–Η: ¬Ϊ–€–Η―΅–Φ–Α–Ϋ –™―É―à–Κ–Ψ–≤ –Ω―É–Κ–Ϋ―É–Μ¬Μ - –±―΄–Μ–Ψ –Ζ–Α–≥–Μ―É―à–Β–Ϋ–Ψ –Κ―Ä–Η–Κ–Α–Φ–Η ¬Ϊ–Θ―Ä–Α!¬Μ. –‰ –≤–Ψ―² ―ç―²–Ψ―² –™―É―à–Κ–Ψ–≤ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ ―É–Φ–Ψ–Μ―è―²―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α: ¬Ϊ–Δ–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä! –ö–Ψ–≥–¥–Α –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―²–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤ –±–Α–Ζ―É, ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Η―²–Β –Φ–Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ–≤–Β―Ä–Ϋ―É―²―¨ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –Ϋ–Α –Ϋ–Ψ–≤―΄–Ι –Κ―É―Ä―¹!¬Μ –‰ –≤–Ψ―² –Ψ–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Α –Ω―Ä–Ψ–Ζ–≤―É―΅–Α–Μ–Α: ¬Ϊ–€–Η―΅–Φ–Α–Ϋ –™―É―à–Κ–Ψ–≤! –ù–Α –≤–Β―Ä―²–Η–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―Ä―É–Μ―¨! –¦–Ψ–Ε–Η―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –Κ―É―Ä―¹ ...¬Μ –ù–Α―΅–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α―à–Α –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Α –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι. 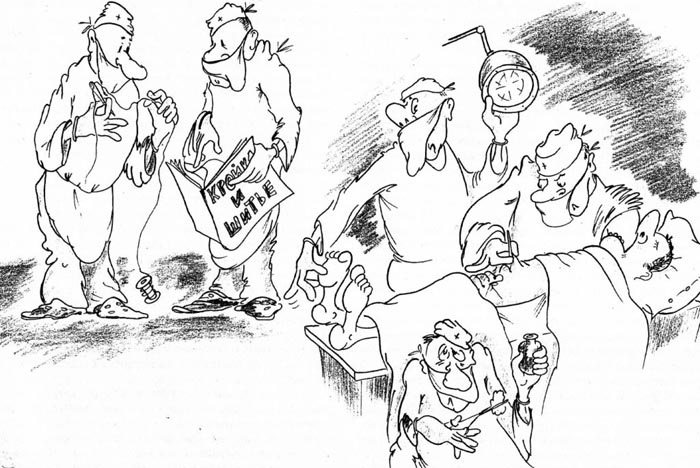 –Γ ―ç―²–Η–Φ –Ε–Β –™―É―à–Κ–Ψ–≤―΄–Φ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Β–Μ –Β―â–Β –Ψ–¥–Η–Ϋ –Ζ–Α–±–Α–≤–Ϋ―΄–Ι ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι. –£–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Α–≤―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ζ–Κ–Η –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η―è ―¹ –Ω–Μ–Α–≤–±–Α–Ζ―΄ –Ψ–Ϋ, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Κ―Ä―É―²–Η–Μ―¹―è , –Κ–Α–Κ –≤–Ψ–Μ―΅–Ψ–Κ. –ù–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ζ–Κ–Η, –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ, ―¹–Μ–Β–≥–Κ–Α –Ψ―²–Φ–Β―²–Η–Μ–Η ―ç―²–Ψ –¥–Β–Μ–Ψ ―¹ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Ω–Μ–Α–≤–±–Α–Ζ―΄, ―΅―²–Ψ –Ψ―²―Ä–Α–Ζ–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Α –Ψ―³–Ψ―Ä–Φ–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Ψ–≤. –½–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–Ε–Β, –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä―è―è –Ϋ–Α–Κ–Μ–Α–¥–Ϋ―΄–Β, –Φ―΄ –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–Μ–Η, ―΅―²–Ψ ―¹ –Ω–Μ–Α–≤–±–Α–Ζ―΄ –Ϋ–Α–Φ–Η –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Ψ –≤―¹–Β–≥–Ψ-–Ϋ–Α–≤―¹–Β–≥–Ψ 4,5 –Κ–≥ ―¹–Μ–Η–≤–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Α―¹–Μ–Α, –Ϋ–Ψ –Ζ–Α―²–Ψ 600 –Κ–≥ ―¹―É―Ö–Η―Ö –¥―Ä–Ψ–Ε–Ε–Β–Ι, –Γ–Μ–Η–≤–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Β –Φ–Α―¹–Μ–Ψ-―²–Ψ –Μ–Α–¥–Ϋ–Ψ, –Ω―É―¹―²―¨ –Ψ –Ϋ–Β–Φ –±–Ψ–Μ–Η―² –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Α ―É –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Ω–Μ–Α–≤–±–Α–Ζ―΄, –Ϋ–Ψ –≤–Ψ―² ―¹–Ω–Η―¹–Α―²―¨ 600 –Κ–≥ ―¹―É―Ö–Η―Ö –¥―Ä–Ψ–Ε–Ε–Β–Ι βÄî ―ç―²–Ψ, –Ω―Ä―è–Φ–Ψ ―¹–Κ–Α–Ε–Β–Φ, –Ζ–Α–¥–Α―΅–Α –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Α―è. –‰ –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ―É –™―É―à–Κ–Ψ–≤―É ―Ä–Α–Ζ―΄―¹–Κ–Η–≤–Α―²―¨ –Ω–Μ–Α–≤–±–Α–Ζ―É –Ω–Ψ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ―É –Λ–Μ–Ψ―²―É, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―²―¨ –≤ –Ϋ–Α–Κ–Μ–Α–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤―É―é―â―É―é –Ζ–Α–Ω–Η―¹―¨ –Η –Ζ–Α–≤–Β―²–Ϋ―É―é –Ω–Β―΅–Α―²―¨. –‰―²–Α–Κ, –Ψ–±―Ä–Α―²–Ϋ―΄–Φ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Ψ–Φ –Φ―΄ ―¹–Μ–Β–¥―É–Β–Φ –≤ ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―É―é –±–Α–Ζ―É. –£―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Ζ–Α–¥–Α―΅ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Β―²―¹―è, –Ψ–±―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β ―²–Ψ–Ε–Β. –ü–Ψ–Φ–Ϋ―é –¥–Α–Ε–Β, ―΅―²–Ψ –≤ ―΅–Β―¹―²―¨ –¥–Ϋ―è ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Φ–Α–Ι–Ψ―Ä–Α –Δ―Ä–Ψ–Η―Ü–Κ–Ψ–≥–Ψ –±―΄–Μ –≤―΄–Ω―É―â–Β–Ϋ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Μ–Η―¹―²–Ψ–Κ ―¹ ―²–Α–Κ–Η–Φ–Η ―¹–Μ–Ψ–≤–Α–Φ–Η: ¬Ϊ... –Η ―Ä–Β―à–Η―²―¨ –Ϋ–Α–Φ –≤―¹–Β –Ζ–Α–¥–Α―΅–Η –ö–Ψ–Μ―è –Δ―Ä–Ψ–Η―Ü–Κ–Η–Ι –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥ –Η ―ç–Μ–Β―É―²–Β―Ä–Ψ–Κ–Ψ–Κ–Κ¬Μ. –‰ –≤–¥―Ä―É–≥ –Φ―΄ –Ψ–Ω―è―²―¨ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Β–Φ –Ϋ–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ―É―é ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ―É, –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Η―¹―΄–≤–Α―é―â―É―é –Ϋ–Α–Φ –≤–Β―Ä–Ϋ―É―²―¨―¹―è –Ϋ–Β –≤ –™―Ä–Β–Φ–Η―Ö―É, –Α –¥–Μ―è –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –Ζ–Α–Ι―²–Η –Ϋ–Α ―Ä–Β–Ι–¥ –€–Ψ–≥–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι (―É –Ψ-–≤–Α –ö–Η–Μ―¨–¥–Η–Ϋ–Α), –≥–¥–Β –Η –≤―¹―²–Α―²―¨ –Ϋ–Α ―è–Κ–Ψ―Ä―¨. –ß―²–Ψ –Φ―΄ –Η ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ–Η. –Γ–Μ–Β–¥―É–Β―² –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ ―É–Ε–Β –Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü ―³–Β–≤―Ä–Α–Μ―è, –Α –Φ–Ψ―Ä–Β –ë–Α―Ä–Β–Ϋ―Ü–Β–≤–Ψ, –Α –Ϋ–Β –Γ―Ä–Β–¥–Η–Ζ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–Β, –Α –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²―¨ ―²–Β–Φ–Β–Ϋ―¨ –Η –Ω―É―Ä–≥–Α. –ù–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ―΄ –≤―¹―²–Α–Μ–Η –Ϋ–Α ―è–Κ–Ψ―Ä―¨, –Κ–Α–Κ –Κ –Ϋ–Α–Φ –Ω–Ψ–¥–Μ–Β―²–Β–Μ ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ―΄–Ι –Κ–Α―²–Β―Ä ―¹ 1-―΄–Φ –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ–Β–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ –Λ–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Ψ–Φ –ü–Β―²–Β–Μ–Η–Ϋ―΄–Φ –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―²―É, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Η –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Η–Μ –Ϋ–Α―¹ ―¹ ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ―΄–Φ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –ü―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ζ–Α–¥–Α―΅–Η –Η –Ω–Ψ–Ε–Β–Μ–Α–Μ –≤―¹–Β―Ö –±–Μ–Α–≥. –ü–Ψ―¹–Μ–Β ―΅–Β–≥–Ψ –Ψ–Ϋ, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, ―É–±―΄–Μ, ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Η–≤ –Ϋ–Α–Φ –¥–Α–Μ–Β–Β ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤ ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―É―é –±–Α–Ζ―É. –ù–Ψ ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Α, –Ω―Ä–Ψ–±―΄–≤ –¥–Μ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –≤ ―²–Β–Ω–Μ–Ψ–Ι –Η –≤–Β―¹―¨–Φ–Α ―¹–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–¥–Β, ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ –Ψ―²–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ βÄî ―è–Κ–Ψ―Ä―¨ –Ϋ–Β –≤―΄–±–Η―Ä–Α–Μ―¹―è. –û–Ω―è―²―¨ –Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α―à–Α ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Ϋ–Α―è –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Β–≤–Α–Μ–Α ―¹ –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹–Μ―É―à–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅–Α―¹–Ψ–≤. –£ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Ψ–≤ –Φ―΄ –Ω–Ψ–±–Β–¥–Η–Μ–Η –Η –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Η–Μ –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ–Ε–¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥ ¬Ϊ–·–Κ–Ψ―Ä―¨ –≤ –Κ–Μ―é–Ζ–Β¬Μ.  –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –ü–Β―²–Β–Μ–Η–Ϋ. - –‰.–‰.–ü–Α―Ö–Ψ–Φ–Ψ–≤. –Δ―Ä–Β―²―¨―è –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η―è. –ü–Β―Ä–≤–Α―è –Ϋ–Α ―³–Μ–Ψ―²–Β. –Γ–ü–±., 2011. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η―è –≤ ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―É―é –±–Α–Ζ―É –Ϋ–Α―¹ –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹―É―Ö–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Η–Μ ―¹ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ζ–Α–¥–Α―΅–Η –Ϋ–Α―à ―¹―É―Ä–Ψ–≤―΄–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –ù.–Λ.–†–Β–Ϋ–Ζ–Α–Β–≤, –Ϋ–Ψ –¥–Α–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²―¨ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –Κ –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α―΅–Β 2-–Ψ–Φ―É ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε―É, –Α ―¹–Α–Φ–Η–Φ –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²―¨―¹―è –Κ ―É–±―΄―²–Η―é –Ϋ–Α –Ψ―²–¥―΄―Ö –Η –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ–±―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –≤ –¥–Ψ–Φ –Ψ―²–¥―΄―Ö–Α ¬Ϊ–™–Ψ―Ä–Κ–Η¬Μ –Ω–Ψ–¥ –€–Ψ―¹–Κ–≤―É –≤―¹–Β–Φ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Φ. –Δ–Α –Ε–Β –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α –≤―Ä–Α―΅–Β–Ι –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Η–Μ–Α –Ϋ–Α―¹ –Ζ–Α–±–Ψ―²–Ψ–Ι –Η –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β–Φ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –±―΄–Μ–Η –≤–Β―¹―¨–Φ–Α ―É―²–Ψ–Φ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄. –£ –¥–Ψ–Φ –Ψ―²–¥―΄―Ö–Α ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Η–Μ–Η –≤–Ζ―è―²―¨ –Η ―¹–Β–Φ―¨–Η. –û–±―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ–Ψ―¹―¨. –ü―Ä–Α–≤–¥–Α, –Ζ–¥–Β―¹―¨ –≤―Ä–Α―΅–Α–Φ –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Β–Β ―¹ –¥–Ψ–±―΄–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Ψ–±―ä–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²–Β–Μ–Β–Ι. –£ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η―Ö –Κ–Η–Μ–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Α―Ö –Ψ―² –¥–Ψ–Φ–Α –Ψ―²–¥―΄―Ö–Α –±―΄–Μ ―¹–Ψ–≤―Ö–Ψ–Ζ, –≥–¥–Β –≤ –Μ―é–±–Ψ–Φ –¥–Ψ–Φ–Β –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Κ―É–Ω–Η―²―¨ –≤–Κ―É―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Α―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Α, –Α –≤ –Φ–Α–≥–Α–Ζ–Η–Ϋ–Β βÄî –Ω–Ψ―Ä―²–≤–Β–Ι–Ϋ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―²–Ψ–Ε–Β –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É-―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–¥–Α–≤–Α–Μ―¹―è –≤ ―²―Ä–Β―Ö–Μ–Η―²―Ä–Ψ–≤―΄―Ö –±–Α–Ϋ–Κ–Α―Ö. –ù–Ψ –≤―Ä–Α―΅–Η –Η –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –≤―΄―¹–Ψ―²–Β. –Δ–Β–Φ –±–Ψ–Μ–Β–Β, ―΅―²–Ψ –Φ–Α–Ι–Ψ―Ä―΄ –ö―É–Ζ―¨–Φ–Β–Ϋ–Κ–Ψ –Η –Δ―Ä–Ψ–Η―Ü–Κ–Η–Ι –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ―΄ –Ε–Β―²–Ψ–Ϋ–Α–Φ–Η ¬Ϊ–½–Α –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Ι –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥¬Μ, –Η –ö–Ψ–Μ―è –Δ―Ä–Ψ–Η―Ü–Κ–Η–Ι ―¹ –≥–Ψ―Ä–¥–Ψ―¹―²―¨―é –Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ζ–Β–Μ–Β–Ϋ–Ψ–Ι ―²―É–Ε―É―Ä–Κ–Β. –‰―²–Α–Κ, –¥–Β–Μ–Ψ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Ϋ–Ψ. –ü–Ψ–Ζ–Ε–Β ―è –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ä–Α–Ζ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Μ―¹―è ―¹ –ö―É–Ζ―¨–Φ–Β–Ϋ–Κ–Ψ –Η –Δ―Ä–Ψ–Η―Ü–Κ–Η–Φ –≤ –≥. –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β. –Θ–Ζ–Ϋ–Α–Μ –Ψ―² –Ϋ–Η―Ö, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Α–Φ –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α –±―΄–Μ–Η –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ―΄ ¬Ϊ–±–Β―¹―Ü–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β¬Μ, –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹―²–Α―²–Β–Ι –Η –Ζ–Α―â–Η―â–Β–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Η―¹―¹–Β―Ä―²–Α―Ü–Η–Ι. –ê –≤–Ψ―² ―¹ –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ –Ω―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –≤―¹–Β―Ö ―ç―²–Η―Ö –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –¥–Β–Μ–Ψ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Β–Β. –£–Ψ –≤―¹―è–Κ–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β, ―è –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –¥–Μ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±–Β –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α –Κ–Α–Κ–Η―Ö-–Μ–Η–±–Ψ ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ―΄―Ö –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι –Ϋ–Β –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η–Μ. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―É–≤–Β–Μ–Η―΅–Η–Μ–Α―¹―¨ –Α–≤―²–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ϋ–Α –Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö ―¹―²―Ä–Α―²–Β–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è―Ö.  –≠–¥―É–Α―Ä–¥ –Δ―Ä–Ψ―³–Η–Φ–Ψ–≤–Η―΅ –ü–Μ–Α―²–Ψ–Ϋ–Ψ–≤
22.12.201400:1122.12.2014 00:11:03
0
21.12.201400:0421.12.2014 00:04:06
–½–Α –≤―Ä–Β–Φ―è –Φ–Ψ–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Β–±―΄–≤–Α–Ϋ–Η―è –≤ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α 25 –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ (―¹ 1980 –Ω–Ψ 1985 –≥.) ―è ―²―Ä–Η–Ε–¥―΄ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¹―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –Ψ―²―Ä―è–¥–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η―è –¥–Μ―è –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Η –≤ –ß―É–Κ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Α―é―â–Η―Ö –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥ –Ω–Ψ–¥–Ψ –Μ―¨–¥–Α–Φ–Η –ê―Ä–Κ―²–Η–Κ–Η ―¹ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α –Ϋ–Α –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Λ–Μ–Ψ―². –£ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –Φ–Ψ–Β–≥–Ψ –Ψ―²―Ä―è–¥–Α –≤―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ, –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –±―É–Κ―¹–Η―Ä, –≥–Η–¥―Ä–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ –Η –±–Α–Ζ–Ψ–≤―΄–Ι ―²―Ä–Α–Μ―¨―â–Η–Κ. –ö―Ä–Ψ–Φ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –Φ–Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–¥–Α–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ 2 ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―²–Α –ê–ù-24, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω–Β―Ä–Β–±–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Η–Ζ –ï–Μ–Η–Ζ–Ψ–≤–Ψ (–ü–Β―²―Ä–Ψ–Ω–Α–≤–Μ–Ψ–≤―¹–Κ-–ö–Α–Φ―΅–Α―²―¹–Κ–Η–Ι) –Ϋ–Α –Α―ç―Ä–Ψ–¥―Ä–Ψ–Φ –Φ―΄―¹–Α –®–Φ–Η–¥―²–Α –≤ –ß―É–Κ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β –¥–Μ―è –≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ –Φ–Ψ–Β–Φ―É –Ζ–Α–¥–Α–Ϋ–Η―é –Μ–Β–¥–Ψ–≤–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Η. –£―¹–Β ―²―Ä–Η –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α –≤–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Φ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Ψ–¥–Η–Ϋ –Ϋ–Α –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι, –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É ―è ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ε―É –Ψ ―¹–≤–Ψ―ë–Φ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Φ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ―¹―è –≤ 1984 –≥–Ψ–¥―É.  1984 –≥–Ψ–¥ –±―΄–Μ –¥–Μ―è –Φ–Β–Ϋ―è –≥–Ψ–¥–Ψ–Φ ―²―Ä–Α–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ. –£ –Φ–Α–Β ―è –Ω–Ψ―Ö–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Μ –Ε–Β–Ϋ―É –≤ –≥. –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β –Η –≤ ―ç―²–Ψ –Ε–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –±―΄–Μ –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Β–Ϋ ―Ä–Α–Κ –Ε–Β–Μ―É–¥–Κ–Α –≤ 4 ―¹―²–Α–¥–Η–Η ―É –Φ–Ψ–Β–Ι –Φ–Α―²–Β―Ä–Η. –Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ, ―É–±―΄–≤–Α―è –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Η―é–Μ―è –Η–Ζ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Α –Ϋ–Α –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ―É, ―è –Ζ–Ϋ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –¥–Ϋ–Η –Β―ë ―¹–Ψ―΅―²–Β–Ϋ―΄. –û–± ―ç―²–Ψ–Φ ―è –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Μ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Ϋ–Β–Β, ―΅―²–Ψ –Φ–Β–Ϋ―è ¬Ϊ―¹–Ω–Ψ–¥–≤–Η–≥–Ϋ―É–Μ–Ψ¬Μ –Ϋ–Α –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–Β –¥–Μ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Β. –‰―²–Α–Κ, –≤ –Η―é–Μ–Β ―è –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ―¹―è –Η–Ζ –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Α –Η –Ω―Ä–Η―¹―²―É–Ω–Η–Μ –Κ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι. –ê –≤ ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ ―à―²–Α–±–Α –Ϋ–Α―à–Β–Ι 25 –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –¦–Α–Ζ–Α―Ä–Β–≤ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ ―É―¹–Β―Ä–¥–Ϋ–Ψ –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ―¹―è –Κ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥―É –≤ –ß―É–Κ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä–Β –¥–Μ―è –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–Ι –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Η –Ω–Β―Ä–Β–±–Α–Ζ–Η―Ä―É―é―â–Η―Ö―¹―è ―¹ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ. –Δ–Α–Κ –Κ–Α–Κ –≤ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥ –Ψ–Ϋ –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―΄–Μ –Ω–Ψ–Ι―²–Η –≤ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι ―Ä–Α–Ζ, ―²–Ψ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤ ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ βÄ™ –Ϋ–Β ―¹―΅–Β―¹―²―¨. –€–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ―¹―è –Η –Ζ–Α–Κ–Α–Ϋ―΅–Η–≤–Α–Μ―¹―è –Ψ―²–≤–Β―²–Α–Φ–Η –Ϋ–Α –Β–≥–Ψ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹―΄. –‰ –≤–Ψ―² ―²―É―²-―²–Ψ –Φ–Β–Ϋ―è –Η –Ψ―¹–Β–Ϋ–Η–Μ–Ψ: –Α –Ϋ–Β –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η―²―¨―¹―è –Μ–Η –Φ–Ϋ–Β ―²―É–¥–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ―É? –ö–Ψ–≥–¥–Α ―è –≤―΄―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ ―ç―²―É –Φ―΄―¹–Μ―¨ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α―é –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅―É, ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Η –Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Α. –ù–Ψ ―²―É―² –±―΄–Μ–Α –Η ―¹–Β―Ä―¨―ë–Ζ–Ϋ–Α―è –Ζ–Α–≥–≤–Ψ–Ζ–¥–Κ–Α, –≤–Β–¥―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ψ―²―Ä―è–¥–Α –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¹―è –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Φ –£–€–Λ! –· –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Ϋ–Η–Μ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ―É ―à―²–Α–±–Α ―³–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η–Η –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―É –ï―Ä–Ψ―³–Β–Β–≤―É –û–Μ–Β–≥―É –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅―É –Η ¬Ϊ–Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ ―¹–≤–Ψ–Η ―É―¹–Μ―É–≥–Η¬Μ. –î–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ψ–±―Ä–Α–¥–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è –Η –Ψ–±–Β―â–Α–Μ ―Ä–Β―à–Η―²―¨ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹. –‰ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ –±―΄–Μ ―Ä–Β―à―ë–Ϋ –Ζ–Α ―¹―É―²–Κ–Η. –· –±―΄–Μ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –Ψ―²―Ä―è–¥–Α, ―΅–Β–Φ –≤―΄–Ζ–≤–Α–Μ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Β –Ϋ–Β―É–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –ï―Ä―ë–Φ–Β–Ϋ–Κ–Ψ –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ–Η―è –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤–Η―΅–Α, –≤–Β–¥―¨ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹-―²–Ψ ―Ä–Β―à–Α–Μ―¹―è –±–Β–Ζ –Β–≥–Ψ –≤–Β–¥–Ψ–Φ–Α. –·, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ–Η–Μ ―ç―²–Ψ ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ ¬Ϊ―Ö–Ψ―²–Β–Μ, –Κ–Α–Κ –Μ―É―΅―à–ΒβÄΠ¬Μ  . –ö–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ–Η–Ι –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤–Η―΅ –ï―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Κ–Ψ. - –î–Β―¹―è―²–Α―è –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α. –¦―é–¥–Η, ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è, –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η. - –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥, 2005. –Γ–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –≤―΄–Ω―É―¹–Κ –Α–Μ―¨–Φ–Α–Ϋ–Α―Ö–Α –Δ–Α–Ι―³―É–Ϋ. –£―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –¥–Ψ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Α –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Γ―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι ―à―²–Α–±, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ –Η–Ζ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ ―à―²–Α–±–Α 25 –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –Η –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η―Ö –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö ―΅–Α―¹―²–Β–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Ϋ–Α―à–Β–Ι –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η. –ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―à―²–Α–±–Α ―è –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Η–Μ ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Α –Ϋ–Α―à–Β–Ι –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 2 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –†―è–±–Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―¨ –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Α. –ï―â―ë –Κ –Ϋ–Α–Φ –Ω―Ä–Η–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤―΄–≤–Α–Μ―¹―è –Η–Ζ –≥–Η–¥―Ä–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ ―¹–Η–Ϋ–Ψ–Ω―²–Η–Κ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―΄–Μ ¬Ϊ–Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Α―¹ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–Ι –Ω–Ψ–≥–Ψ–¥–Ψ–Ι¬Μ. –ù–Α –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―²–Α–Ε–Β ―É –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η–Β–Ι –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Ϋ–Α –≠–¥―É–Α―Ä–¥–Α –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Β–≤–Η―΅–Α ―è –Β―â―ë ―É–Ζ–Ϋ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ ―É –Φ–Β–Ϋ―è –±―É–¥–Β―² –¥―É–±–Μ―ë―Ä –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ ―à―²–Α–±–Α 10 –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –£–Α–Μ―É–Β–≤ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –ü―Ä–Ψ–Κ–Ψ―³―¨–Β–≤–Η―΅, (–≤–Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Η –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Η–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ). –ù–Α –Φ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ –Ζ–Α―΅–Β–Φ –Φ–Ϋ–Β –Ϋ―É–Ε–Β–Ϋ –¥―É–±–Μ―ë―Ä, –Ψ–Ϋ –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ: ¬Ϊ–Δ―΄-―²–Ψ –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥ –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–¥–Η―²―¨―¹―è ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Μ―¹―è, –Α –Κ–Ψ–≥–Ψ ―è –±―É–¥―É –≤ –ß―É–Κ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä–Β –Ω–Ψ―¹―΄–Μ–Α―²―¨?¬Μ. –ù―É –Α –Φ–Ϋ–Β ―ç―²–Ψ –Ϋ–Α–Μ–Η―΅–Η–Β –¥―É–±–Μ―ë―Ä–Α –¥–Α–Ε–Β –Ω–Ψ–Ϋ―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨.  . –ù–Α―¹―²–Α–Μ –¥–Β–Ϋ―¨ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Α –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β. –£ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –Φ–Ψ–Β–≥–Ψ –Ψ―²―Ä―è–¥–Α –≤–Ψ―à–Μ–Η: –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ ¬Ϊ–Γ–Α–¥–Κ–Ψ¬Μ, –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –±―É–Κ―¹–Η―Ä –€–ë-182, –≥–Η–¥―Ä–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ –™–‰–Γ–Θ ¬Ϊ–Λ―ë–¥–Ψ―Ä –¦–Η―²–Κ–Β¬Μ –Η –±–Α–Ζ–Ψ–≤―΄–Ι ―²―Ä–Α–Μ―¨―â–Η–Κ. –€–Ψ–Ι –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι ―à―²–Α–± –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β. –¦–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ ¬Ϊ–Γ–Α–¥–Κ–Ψ¬Μ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨, –≤–Ψ–¥–Ψ–Η–Ζ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Α 5000 ―²–Ψ–Ϋ–Ϋ, –Ϋ–Β–¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―à–Β–¥―à–Η–Ι ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―² –≤ –Γ–Η–Ϋ–≥–Α–Ω―É―Ä–Β –Η –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ-―²–Α–Κ–Η –±–Μ–Α–≥–Ψ―É―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι, ―¹ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Φ–Η –±―΄―²–Ψ–≤―΄–Φ–Η ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è–Φ–Η. –î–Α –Η –Φ―΄, –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η, –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―Ö–Ψ―²–Μ–Η–≤―΄–Ι. –≠–Κ–Η–Ω–Α–Ε –Ϋ–Α –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι. –™–‰–Γ–Θ ¬Ϊ–Λ―ë–¥–Ψ―Ä –¦–Η―²–Κ–Β¬Μ ―²–Ψ–Ε–Β –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι βÄ™ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 3 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –Η –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α βÄ™ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―², –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι. –ù―É –€–ë-182 βÄ™ –Ψ–Ϋ –±―É–Κ―¹–Η―Ä –Η –Β―¹―²―¨. –ë–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι, –Φ–Ψ―â–Ϋ―΄–Ι –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –±―É–Κ―¹–Η―Ä, –≤ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–Φ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Η, ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι. –ù―É –Α –¥–Μ―è ―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α–Φ –Ω―Ä–Η–¥–Α–≤–Α–Μ―¹―è ―²―Ä–Α–Μ―¨―â–Η–Κ, ―è –¥–Ψ ―¹–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥―É –Ω–Ψ–Ϋ―è―²―¨. –ù–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, –¥–Μ―è –Ω―Ä–Η–¥–Α–Ϋ–Η―è –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Α―à–Β–Φ―É –Ψ―²―Ä―è–¥―É. –Γ 10-―¹―É―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Α–≤―²–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é, ―¹–Κ―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Ψ―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é, –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ–Η –Ζ–Α–Ω–Α―¹–Α–Φ–Η ―²–Ψ–Ω–Μ–Η–≤–Α, –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η―è –Η –Ω―Ä–Β―¹–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–¥―΄, ―è –Β–≥–Ψ –≤–Ψ―¹–Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ, –Κ–Α–Κ –¥–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é –Ϋ–Α–≥―Ä―É–Ζ–Κ―É. –†–Α―¹―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α―²―¨ –Β–≥–Ψ, –Κ–Α–Κ –Ζ–Α―â–Η―²–Ϋ–Η–Κ–Α –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –Ψ―²―Ä―è–¥–Α –≤ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β –Ψ–±–Ψ―¹―²―Ä–Β–Ϋ–Η―è –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Η, –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω―Ä–Η –Ϋ–Α–Μ–Η―΅–Η–Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι ―³–Α–Ϋ―²–Α–Ζ–Η–Η. –£–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –≤―¹–Β―Ö –Φ–Ψ–Η―Ö ―²―Ä―ë―Ö –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤ ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ε–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Α –Η–Ζ –ê–≤–Α―΅–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –±―É―Ö―²―΄ –Φ―΄ –±―Ä–Α–Μ–Η ―²―Ä–Α–Μ―¨―â–Η–Κ –Ϋ–Α –±―É–Κ―¹–Η―Ä (–¥–Μ―è ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η–Η ―²–Ψ–Ω–Μ–Η–≤–Α –Η ―¹–±–Β―Ä–Β–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Β–≥–Ψ –Φ–Ψ―²–Ψ―Ä–Β―¹―É―Ä―¹–Α), –Α –Ω―Ä–Η –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Β –Η–Ζ –±―É―Ö―²―΄ –ü―Ä–Ψ–≤–Η–¥–Β–Ϋ–Η―è (–ß―É–Κ–Ψ―²―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Ψ–Μ―É–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤) –≤ –ß―É–Κ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä–Β, ―è –≤―¹–Β ―²―Ä–Η ―Ä–Α–Ζ–Α –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ –Β–≥–Ψ –≤ –±―É―Ö―²–Β –ü―Ä–Ψ–≤–Η–¥–Β–Ϋ–Η―è ―¹ ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –±―΄―²―¨ –Ϋ–Α ―¹–≤―è–Ζ–Η. –ß―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β –¥–Β–Μ–Α―²―¨ ―Ö–Ψ–Μ–Ψ―¹―²–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–±–Β–≥, –Ϋ–Α –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ –Η –™–‰–Γ–Θ –Ζ–Α–≥―Ä―É–Ζ–Η–Μ–Η –Η–Ζ―Ä―è–¥–Ϋ–Ψ–Β –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –Ϋ–Α–≤–Η–≥–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ-–≥–Η–¥―Ä–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±–Ψ―Ä―É–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –¥–Μ―è –ê–Ϋ–Α–¥―΄―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –Φ―΄ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Η –≤―΄–≥―Ä―É–Ζ–Η―²―¨ –≤ –Ω–Ψ―Ä―²―É –ê–Ϋ–Α–¥―΄―Ä―¨. –ü―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥―è –ê–Ϋ–Α–¥―΄―Ä―¹–Κ–Η–Φ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Ψ–Φ, –Φ―΄ –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–Μ–Η –≤ –Ϋ―ë–Φ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Β –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –±–Β–Μ―É―Ö, –Α ―ç―²–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–Μ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Η–¥―ë―² –Ω―É―²–Η–Ϋ–Α –Η ―Ä―΄–±―΄ ―²–Α–Φ βÄ™ ¬Ϊ–Ϋ–Β–Φ–Β―Ä–Β–Ϋ–Ψ¬Μ!  –ü―Ä–Η –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Β –Κ –Ω―Ä–Η―΅–Α–Μ―É –≤ –ê–Ϋ–Α–¥―΄―Ä–Β –Η –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è ―à–≤–Α―Ä―²–Ψ–≤–Κ–Η –Ϋ–Α –Ω―Ä–Η―΅–Α–Μ–Β –Φ―΄ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α–Μ–Η –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ―É ―¹ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι ―Ä–Α–Φ–Ψ–Ι (–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ 2 ―Ö 1,5 –Φ), –Ψ–±―²―è–Ϋ―É―²–Ψ–Ι –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ–Ψ―è―΅–Β–Η―¹―²–Ψ–Ι ―¹–Β―²–Κ–Ψ–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –Ψ–Ϋ –Ϋ–Α –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Η–Ϋ―É―² –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Ψ–Ω―É―¹–Κ–Α–Μ –≤ –≤–Ψ–¥―É. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ –≤―΄–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ ―ç―²–Ψ, ―²–Α–Κ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ–Ψ–Β ¬Ϊ–Ψ–Κ–Ϋ–Ψ¬Μ –Η–Ζ –≤–Ψ–¥―΄, –≤ ―¹–Β―²–Η ―²―Ä–Β–Ω―΄―Ö–Α–Μ–Η―¹―¨ 2-3 –±–Ψ–Μ―¨―à–Η―Ö ―Ä―΄–±–Η–Ϋ―΄ (–Κ–Β―²–Α, –Κ–Η–Ε―É―΅ –Η –¥―Ä. –Μ–Ψ―¹–Ψ―¹–Β–≤―΄–Β). –ù–Α–±–Η–≤ –±–Ψ–Μ―¨―à―É―é ―¹―É–Φ–Κ―É ―Ä―΄–±–Ψ–Ι –Η ―¹–Μ–Ψ–Ε–Η–≤ ―¹–≤–Ψ―ë ¬Ϊ–Ψ–Κ–Ϋ–Ψ¬Μ, –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ–Α ―É–¥–Α–Μ–Η–Μ―¹―è. –ù–Α―à–Η–Φ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Α–Φ ―ç―²–Ψ –¥–Β–Μ–Ψ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ω–Ψ–Ϋ―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨. –Θ–Φ–Β–Μ―¨―Ü―΄ –±―΄―¹―²―Ä–Ψ ―¹–Κ–Ψ–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η ¬Ϊ–Ψ–Κ–Ϋ–Ψ¬Μ, –Ω―Ä–Η―²–Α―â–Η–Μ–Η –Ϋ–Α –Ω―Ä–Η―΅–Α–Μ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η―Ö –Μ–Α–≥―É–Ϋ–Ψ–≤ –Ω–Ψ–¥ ―Ä―΄–±―É –Η –Ω―Ä–Ψ–Φ―΄―¹–Β–Μ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¹―è. –£–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Φ―΄―¹–Μ–Α –Ϋ–Α –Ω―Ä–Η―΅–Α–Μ –Ω―Ä–Η―à―ë–Μ –Β―â―ë –Ψ–¥–Η–Ϋ –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ–Α. –û–Ϋ ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ ―¹–Β–Μ –Ϋ–Α –Κ–Ϋ–Β―Ö―², –Ζ–Α–Κ―É―Ä–Η–Μ –Η –Ω–Ψ―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α–Μ –Ϋ–Α –Ϋ–Α―à–Η―Ö ¬Ϊ–¥–Ψ–±―΄―²―΅–Η–Κ–Ψ–≤¬Μ. –ö–Ψ–≥–¥–Α –±―΄–Μ–Η –Ζ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ―΄ –Ω–Α―Ä–Α –Μ–Α–≥―É–Ϋ–Ψ–≤, –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ–Α –≤―¹―²–Α–Μ, –≤―΄–±―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –Ψ–Κ―É―Ä–Ψ–Κ, –Ω–Ψ–¥–Ψ―à―ë–Μ –Κ –Ϋ–Α―à–Η–Φ ―Ä―΄–±–Α–Κ–Α–Φ –Η –Ω―Ä–Β–¥―ä―è–≤–Η–Μ ―É–¥–Ψ―¹―²–Ψ–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Η–Β –Η–Ϋ―¹–Ω–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Α ―Ä―΄–±–Ϋ–Α–¥–Ζ–Ψ―Ä–Α. –ê ―É―¹―²–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–Ζ―ä―è―¹–Ϋ–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –Φ―΄ –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Β–Φ―¹―è –±―Ä–Α–Κ–Ψ–Ϋ―¨–Β―Ä―¹–Κ–Η–Φ –Μ–Ψ–≤–Ψ–Φ ―Ä―΄–±―΄ –Η –Ζ–Α ―ç―²–Ψ –Φ―΄ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –Ζ–Α–Ω–Μ–Α―²–Η―²―¨ ―à―²―Ä–Α―³ –≤ ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―Ä–Β 70 ―Ä―É–±–Μ–Β–Ι ―¹ ―Ö–≤–Ψ―¹―²–Α –Η –±―É–¥–Β―² ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ –Ω―Ä–Ψ―²–Ψ–Κ–Ψ–Μ –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ ¬Ϊ–Γ–Α–¥–Κ–Ψ¬Μ –Η –™–‰–Γ–Θ ¬Ϊ–Λ―ë–¥–Ψ―Ä –¦–Η―²–Κ–Β¬Μ (–€–ë-182 –Η ―²―Ä–Α–Μ―¨―â–Η–Κ ―¹―²–Ψ―è–Μ–Η –Ϋ–Α ―Ä–Β–Ι–¥–Β –Ϋ–Α ―è–Κ–Ψ―Ä―è―Ö) –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η―¹―¨ –±―Ä–Α–Κ–Ψ–Ϋ―¨–Β―Ä―¹―²–≤–Ψ–Φ ―¹–Ψ –≤―¹–Β–Φ–Η –≤―΄―²–Β–Κ–Α―é―â–Η–Φ–ΗβÄΠ, –Α ―Ä―΄–±–Α –±―É–¥–Β―² –Κ–Ψ–Ϋ―³–Η―¹–Κ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Α. –½–Ϋ–Α―è ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –¥―É–±–Μ―ë―Ä–Α –£.–ü.–£–Α–Μ―É–Β–≤–Α, –Κ–Α–Κ –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η–Κ–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η ―É–Φ–Β―é―â–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α–Ι―²–Η –≤―΄―Ö–Ψ–¥ –Ω–Ψ―΅―²–Η –Η–Ζ –Μ―é–±–Ψ–Ι ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η–Η, ―è –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –Β–≥–Ψ –≤–Ζ―è―²―¨ –Ϋ–Α ―¹–Β–±―è ―¹–≥–Μ–Α–Ε–Η–≤–Α–Ϋ–Η–Β ―ç―²–Ψ–Ι –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ–Ι –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ ―¹ ―É―¹–Ω–Β―Ö–Ψ–Φ –Η ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ. –£―¹―ë ―ç―²–Ψ –Ϋ–Α–Φ –Ψ–±–Ψ―à–Μ–Ψ―¹―¨ –≤ 400 ―Ä―É–±–Μ–Β–Ι (―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Β –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η –Ω–Ψ ―²–Β–Φ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α–Φ) –Η 3 –Μ–Η―²―Ä–Α ―¹–Ω–Η―Ä―²–Α. –ü–Ψ―¹–Μ–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α–Φ ―É–Ε–Β –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Ϋ–Β –Φ–Β―à–Α–Μ –Ω–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è―²―¨ –Ζ–Α–Ω–Α―¹―΄ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η―è ―Ä―΄–±–Ψ–Ι, ―΅―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –≤–Β―¹―¨–Φ–Α –Κ―¹―²–Α―²–Η. –î–Β–Μ–Ψ –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―¹―É–¥–Α―Ö –£–€–Λ –Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Μ―è–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Α 82 –Κ–Ψ–Ω–Β–Ι–Κ–Η –≤ ―¹―É―²–Κ–Η –Ϋ–Α ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α (―΅―²–Ψ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β, ―΅–Β–Φ –≤ ―²―é―Ä–Β–Φ–Ϋ―΄―Ö –Μ–Α–≥–Β―Ä―è―Ö). –½–Α―²–Ψ –Φ―΄ –¥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Α –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Ω–Η―²–Α–Μ–Η―¹―¨ ―É―Ö–Ψ–Ι –Η–Ζ –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä―΄–±―΄, –Ε–Α―Ä–Β–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä―΄–±–Ψ–Ι, –Α ―¹–Ψ–Μ―ë–Ϋ–Α―è ―Ä―΄–±–Α –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹―²–Ψ―è–Μ–Α –Ϋ–Α ―¹―²–Ψ–Μ–Α―Ö –≤ –Κ–Α―é―²-–Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η –Η ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ι ―Ä―è–¥–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α. –£―΄–≥―Ä―É–Ζ–Η–≤ –Ϋ–Α–≤–Η–≥–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ-–≥–Η–¥―Ä–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β –Ψ–±–Ψ―Ä―É–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β, –Φ―΄ –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –¥–Α–Μ―¨―à–Β, –≤ –±―É―Ö―²―É –ü―Ä–Ψ–≤–Η–¥–Β–Ϋ–Η―è.  –ü―Ä–Η–±―΄–≤ –≤ , –≤–Β―¹―¨ –Ϋ–Α―à –Ψ―²―Ä―è–¥ ―¹―²–Α–Μ –Ϋ–Α ―Ä–Β–Ι–¥–Β –Ϋ–Α ―è–Κ–Ψ―Ä―è, ―².–Κ. ―¹―²–Ψ―è―²―¨ ―É –Ω―Ä–Η―΅–Α–Μ–Α ―¹–Μ–Η―à–Κ–Ψ–Φ –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ–Β ―É–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η–Β –¥–Μ―è –£–€–Λ. –¦–Η―à―¨ –Ω–Ψ–Ζ–Ε–Β –Φ―΄ –¥–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η―¹―¨ ―¹ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ –Ω–Ψ―Ä―²–Α –Ψ –Ω–Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Β –Κ –Ω―Ä–Η―΅–Α–Μ―É ―²―Ä–Α–Μ―¨―â–Η–Κ–Α, –¥–Α–±―΄ –Ϋ–Β –Ε–Β―΅―¨ –Β–≥–Ψ –Φ–Α–Μ–Ψ―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―²–Ψ–Ω–Μ–Η–≤–Ψ –Η –Ϋ–Β –¥–Ψ–±–Η–≤–Α―²―¨ –Φ–Ψ―²–Ψ―Ä–Β―¹―É―Ä―¹ –¥–Η–Ζ–Β–Μ―¨–≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä–Α. –ù–Α ―Ä–Β–Ι–¥–Β –±. –ü―Ä–Ψ–≤–Η–¥–Β–Ϋ–Η―è, –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β –Ϋ–Α―¹, ―¹―²–Ψ―è–Μ –Β―â―ë –Ω–Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Ϋ―΄–Ι –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ ¬Ϊ–ü―É―Ä–≥–Α¬Μ. –ù–Α –≤–Η–¥ –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ –Ω–Ψ–±–Ψ–Μ–Β–Β –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ, –Ω–Ψ–Κ―Ä–Α―à–Β–Ϋ –≤ ―à–Α―Ä–Ψ–≤―΄–Ι ―Ü–≤–Β―², –Η–Φ–Β–Μ –Ω–Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Ϋ―΄–Ι –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―³–Μ–Α–≥ –Η –≥―é–Ι―¹, –Α –Ϋ–Α –Β–≥–Ψ –±–Α–Κ–Β –≥–Ψ―Ä–¥–Ψ ―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Β –Ψ―Ä―É–¥–Η–Β. –‰ –Κ–Α–Κ –Φ―΄ ―É–Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η –Ω–Ψ–Ζ–Ε–Β, ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ, –Α –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä, –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ 1-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α. –ù–Α ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –Φ―΄ ―¹ –£.–ü.–£–Α–Μ―É–Β–≤―΄–Φ –Ϋ–Α –Κ–Α―²–Β―Ä–Β –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Η―²―¨―¹―è ―¹ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ –Ω–Ψ―Ä―²–Α, –¥–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨―¹―è –Ψ ―Ä–Β–Ε–Η–Φ–Β –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –≤ –±―É―Ö―²–Β, –Ω–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η –Ζ–Α–Ω–Α―¹–Ψ–≤ ―²–Ψ–Ω–Μ–Η–≤–Α, –Ω―Ä–Β―¹–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–¥―΄ –Η ―².–¥. –Γ–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ϋ–Α–Φ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ ―²–Α–Φ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨―¹―è, –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Μ. –€―΄ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Η –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η―²―¨―¹―è –≤ –ß―É–Κ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä–Β –Ω–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Β ―¹ –Π–ö–ü –™–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ–Α. –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―³–Μ–Ψ―² –≤ –Ω–Ψ―¹―ë–Μ–Κ–Β –ü―Ä–Ψ–≤–Η–¥–Β–Ϋ–Η―è –±―΄–Μ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Ψ–Φ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Η–Φ–Β–Ϋ–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Φ –Κ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–¥–Α–Ϋ―²–Ψ–Φ –Ω–Ψ―Ä―²–Α –Η –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Η―Ö –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β ―Ä–Β―à–Α–Μ. –û–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–≤ –≤―¹–Β –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹―΄ –Η –¥–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–≤―à–Η―¹―¨ –Ψ –Ϋ–Α―à–Β–Φ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Β–Φ –≤–Ζ–Α–Η–Φ–Ψ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Η, –Φ―΄ ―¹ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–Φ –ü―Ä–Ψ–Κ–Ψ―³―¨–Β–≤–Η―΅–Β–Φ ―Ä–Β―à–Η–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ–≥―É–Μ―è―²―¨―¹―è –Ω–Ψ –Ω–Ψ―¹―ë–Μ–Κ―É. –· –Ϋ–Α –Ω―Ä–Α–≤–Α―Ö ¬Ϊ–Α–±–Ψ―Ä–Η–≥–Β–Ϋ–Α¬Μ –±―΄–Μ –≥–Η–¥–Ψ–Φ. –û–±–Ψ–Ι–¥―è –Ζ–Α –Ω–Α―Ä―É ―΅–Α―¹–Ψ–≤ –≤–Β―¹―¨ –Ω–Ψ―¹―ë–Μ–Ψ–Κ, –Κ―É–Ω–Η–≤ –≤ –Κ–Ϋ–Η–Ε–Ϋ–Ψ–Φ –Φ–Α–≥–Α–Ζ–Η–Ϋ–Β –Ω–Ψ –Κ–Ϋ–Η–≥–Β, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Κ–Α―¹―¹–Η―Ä –Ψ–±―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Α ―à―²–Α–Φ–Ω ¬Ϊ–ü–Ψ–Μ―É–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤ –ß―É–Κ–Ψ―²–Κ–Α, –Ω–Ψ―¹. –ü―Ä–Ψ–≤–Η–¥–Β–Ϋ–Η―è¬Μ, –Φ―΄ ―Ä–Β―à–Η–Μ–Η –Ω–Ψ–Ψ–±–Β–¥–Α―²―¨ –≤ –Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–Ι ―à–Α―à–Μ―΄―΅–Ϋ–Ψ–Ι. –ù–Α –Κ―Ä―΄–Μ―¨―Ü–Β ―à–Α―à–Μ―΄―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Κ―É―Ä–Η–Μ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –Ω–Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö –≤–Ψ–Ι―¹–Κ. –Θ–≤–Η–¥–Β–≤ –Ϋ–Α―¹, –Ψ–Ϋ –Η―¹–Κ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Β ―É–¥–Η–≤–Η–Μ―¹―è: ¬Ϊ–· –¥―É–Φ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ ―è –Ϋ–Α –≤―¹―é –ß―É–Κ–Ψ―²–Κ―É –Ψ–¥–Η–Ϋ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α, –Α ―²―É―² –Ω―Ä–Η―à–Μ–Η ―¹―Ä–Α–Ζ―É –¥–≤–Α!¬Μ –‰ ―²―É―² –Ε–Β –≤ –Ζ–Α–Μ: ¬Ϊ–‰–≤–Α–Ϋ!¬Μ –ù–Α –Κ―Ä―΄–Μ―¨―Ü–Β –Φ–≥–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ―¹―è –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ―â―ë–Κ–Η–Ι –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―è–Κ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 2 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α, ―²–Ψ–Ε–Β, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ω–Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Ϋ–Η–Κ. ¬Ϊ–‰–≤–Α–Ϋ! –Γ―²–Ψ–Μ –Ϋ–Α ―΅–Β―²–≤–Β―Ä―΄―Ö!¬Μ –ù–Α ―΅―²–Ψ –±―΄–Μ ―΅―ë―²–Κ–Η–Ι –Ψ―²–≤–Β―²: ¬Ϊ–·–≤–Ψ–Μ―¨, –Φ–Ψ–Ι –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ!¬Μ –≠―²–Ψ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Α ¬Ϊ–ü―É―Ä–≥–Α¬Μ –Η –Β–≥–Ψ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ. –Ξ–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ω–Ψ–Ψ–±–Β–¥–Α–≤ –Η –Ω–Ψ―É–Ε–Η–Ϋ–Α–≤ ( –Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ¬Ϊ–ü―É―Ä–≥–Η¬Μ –¥–Α–Ε–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ), ―è –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –≤―΄–Ζ–≤–Α―²―¨ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –¥–Η―¹–Ω–Β―²―΅–Β―Ä–Α –Ω–Ψ―Ä―²–Α –Κ–Α―²–Β―Ä ―¹ –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Α, –Ϋ–Α ―΅―²–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Κ–Α―²–Β―Ä –Β–≥–Ψ –Ε–¥―ë―². –‰, –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, ―É –Ω―Ä–Η―΅–Α–Μ–Α ―¹―²–Ψ―è–Μ –Κ–Α―²–Β―Ä. –€―΄ –≤―¹–Β –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α ¬Ϊ–ü―É―Ä–≥―ɬΜ. –¦–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ ¬Ϊ–ü―É―Ä–≥–Α¬Μ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―ë–Φ –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ–Η 30-―Ö –≥–Ψ–¥–Ψ–≤. –£–Ϋ―É―²―Ä–Η –Ψ―²–¥–Β–Μ–Α–Ϋ –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Φ –¥–Β―Ä–Β–≤–Ψ–Φ –Η –Φ–Β–¥―¨―é, –Η –≤―¹―ë ―ç―²–Ψ –≤ –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Η. –£―¹―ë –±–Μ–Β―¹―²–Η―² –Η ―¹–≤–Β―Ä–Κ–Α–Β―² ―΅–Η―¹―²–Ψ―²–Ψ–Ι, –Α –≤ –Κ–Ψ―Ä–Η–¥–Ψ―Ä–Β ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Κ–Α–Ε–¥―΄–Β –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤ ―¹―²–Ψ–Η―² –≤–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹. –Θ–Ε –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α―é, ―΅―²–Ψ ―²–Α–Φ –Ψ–Ϋ–Η –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―è–Μ–Η, –Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Ψ–Κ ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è –≤–Ψ –≤―¹―ë–Φ. –£ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Κ–Α―é―²–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ―Ä–Α―¹―¹–Μ–Α–±–Η–Μ―¹―è –Η ―É―¹–Ϋ―É–Μ. –ù–Ψ ―²―É―² –Ω–Ψ ―²–Β–Μ–Β―³–Ψ–Ϋ―É –¥–Β–Ε―É―Ä–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―é –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä―è―é―â–Η–Ι –Η–Ζ –Ω–Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Κ―Ä―É–≥–Α. –€–Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨―¹―è –¥–Β–Ε―É―Ä–Ϋ–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ ―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –≤―¹–Β–≥–Ψ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²―Ä―è–¥–Α, ―¹―²–Ψ―è―â–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α ―Ä–Β–Ι–¥–Β –Η –Ϋ–Α –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ –¥–Μ―è –Ψ–±―¹―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è ―¹ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –Ϋ–Α―à–Η―Ö –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Η―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι –Η –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β ―É –Ϋ–Α―¹ ―Ä–Α–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ―΄ ―¹–Β–Κ―Ä–Β―²–Ϋ―΄–Β –Κ–Α―Ä―²―΄ –Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―² ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²―¨ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä―è―é―â–Β–≥–Ψ. 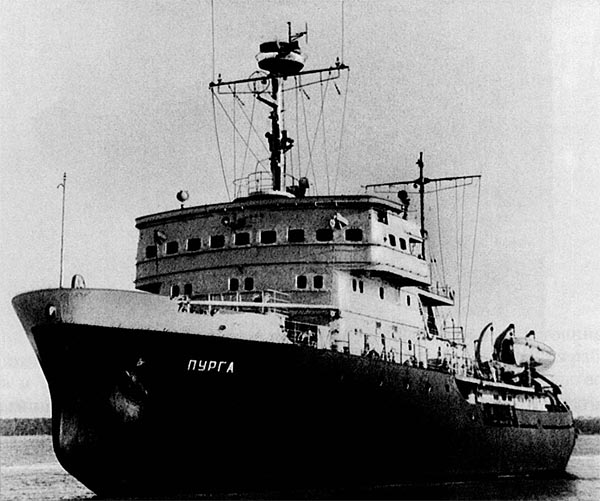 –ß–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –¥–Β–Ε―É―Ä–Ϋ―΄–Ι –Ζ–Α–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Κ―É –Κ–Α―²–Β―Ä–Α ―¹ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä―è―é―â–Η–Φ –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Κ–Α―²–Β―Ä –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ―¹―è, –Φ―΄ ―¹ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–Φ –ü―Ä–Ψ–Κ–Ψ―³―¨–Β–≤–Η―΅–Β–Φ –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ–Φ –Κ–Α―²–Β―Ä–Β –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Ι –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ. –ù–Α ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Ι –¥–Β–Ϋ―¨, –±–Μ–Η–Ε–Β –Κ –≤–Β―΅–Β―Ä―É, –Φ–Β–Ϋ―è –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―¹–Η–Μ –Ϋ–Α ―¹–≤―è–Ζ―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ¬Ϊ ¬Μ: ¬Ϊ–Γ–Α―É–Ϋ–Α –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Α, ―¹―²–Ψ–Μ –Ϋ–Α–Κ―Ä―΄―², –Κ–Α―²–Β―Ä –Ζ–Α –≤–Α–Φ–Η –≤―΄―à–Β–Μ¬Μ. –· –≤–Ζ–≥–Μ―è–Ϋ―É–Μ –Ϋ–Α –Α–Κ–≤–Α―²–Ψ―Ä–Η―é, –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –≤ –Ϋ–Α―à―É ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―É –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Φ ―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ ―à―ë–Μ –Κ–Α―²–Β―Ä, –Α –Ζ–Α ―Ä―É–Μ―ë–Φ βÄ™ ―¹–Α–Φ –‰–≤–Α–Ϋ. –£ ―²–Ψ―² –≤–Β―΅–Β―Ä –Φ―΄ –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –Ψ–±―â–Α–Μ–Η―¹―¨, ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η –¥―Ä―É–≥ –¥―Ä―É–≥―É –Ψ –≤―¹–Β―Ö ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²―è―Ö –Η –Ϋ–Β–≤–Ζ–≥–Ψ–¥–Α―Ö ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ―¹–Β―²–Ψ–≤–Α–Μ –Ϋ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ 7-8 –Φ–Β―¹―è―Ü–Β–≤ –≤ –≥–Ψ–¥―É –Ψ–Ϋ ―É―²―é–Ε–Η―² –ë–Β―Ä–Η–Ϋ–≥–Ψ–≤–Ψ –Φ–Ψ―Ä–Β –≤–¥–Ψ–Μ―¨ –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨―è –Ψ―² –ë–Β―Ä–Η–Ϋ–≥–Ψ–≤–Α –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤–Α –¥–Ψ –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ–Η, –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Ζ–Α―Ö–Ψ–¥―è –≤ –±―É―Ö―²―É –ü―Ä–Ψ–≤–Η–¥–Β–Ϋ–Η―è –¥–Μ―è –Ω–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Α–Ω–Α―¹–Ψ–≤ –Η –Φ–Β–Μ–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Α. –£–Ψ―² –Ζ–¥–Β―¹―¨-―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Η –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–Β―² ―¹–Β–±–Β –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ä–Α―¹―¹–Μ–Α–±–Η―²―¨―¹―è. –ß–Β―Ä–Β–Ζ –¥–Β–Ϋ―¨ ¬Ϊ–ü―É―Ä–≥–Α¬Μ –≤―΄―à–Μ–Α –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Η –Φ―΄ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Η ―¹ –Ϋ–Β–Ι, –Ϋ–Η ―¹ –Β―ë –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –Ϋ–Β –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Μ–Η―¹―¨. –ß–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Ϋ–Β–Ι –Φ–Β–Ϋ―è –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―¹–Η–Μ –Κ ―¹–Β–±–Β –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –Ω–Ψ―Ä―²–Α –Η –¥–Α–Ε–Β –Ω―Ä–Η―¹–Μ–Α–Μ –Ζ–Α –Φ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–≤–Ψ–Ι –Κ–Α―²–Β―Ä. –û–Ϋ –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –Φ–Β–Ϋ―è –¥–Α―²―¨ –Β–Φ―É –€–ë-182 –Ϋ–Α –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Ϋ–Β–Ι –¥–Μ―è –±―É–Κ―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Η –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η―Ö ―¹–Β–Κ―Ü–Η–Ι –Ω–Μ–Α–≤–Ω–Η―Ä―¹–Α –≤ –±―É―Ö―²―É –¦–Α–≤―Ä–Β–Ϋ―²–Η―è (–ß―É–Κ–Ψ―²―¹–Κ–Η–Ι –Ω-–Ψ–≤, –Κ ―¹–Β–≤–Β―Ä―É –Ψ―² –±. –ü―Ä–Ψ–≤–Η–¥–Β–Ϋ–Η―è). –· –Β–Φ―É, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –±―É–Κ―¹–Η―Ä –Φ–Ϋ–Β –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ–Α–¥–Μ–Β–Ε–Η―² –Η ―²–Α–Κ–Η–Β ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―è ―è ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥―É, –Ϋ–Ψ –Φ–Ψ–≥―É –Ζ–Α–Ω―Ä–Ψ―¹–Η―²―¨ ―²–Β–Μ–Β–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Ψ–Ι –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α ―à―²–Α–±–Α ―³–Μ–Ψ―²–Α. –£–Ψ―² ―²―É―²-―²–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –Ω–Ψ―Ä―²–Α –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ –Ψ –≥–Ψ―¹―²–Β–Ω―Ä–Η–Η–Φ―¹―²–≤–Β. –· ―É–Ζ–Ϋ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α –Δ–≠–Π –Ω–Ψ―¹. –ü―Ä–Ψ–≤–Η–¥–Β–Ϋ–Η―è –Β―¹―²―¨ –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Ι –±–Α―¹―¹–Β–Ι–Ϋ ―¹ ―¹–Α―É–Ϋ–Ψ–Ι, –¥–Ε–Α–Κ―É–Ζ–Η, –¥―É―à–Β–Φ –®–Α―Ä–Κ–Ψ –Η ―².–¥. –€―΄ ―¹ –Φ–Ψ–Η–Φ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ ―à―²–Α–±–Ψ–Φ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η –Β–≥–Ψ ―Ä–Β–≥―É–Μ―è―Ä–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―¹–Β―â–Α―²―¨. –ù–Α―΅–Α–Μ–Η―¹―¨ ―Ä–Β–≥―É–Μ―è―Ä–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä―΄ –Κ–Η–Ϋ–Ψ―³–Η–Μ―¨–Φ–Ψ–≤, –≤―΄–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Β ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Α –¥–Μ―è –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥–Κ–Η –≤ ―¹–Ψ―¹–Β–¥–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ―¹―ë–Μ–Κ–Η –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ―΄–Β –Φ–Β–Μ–Ψ―΅–Η. –†–Α–Ζ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ―² –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α ―à―²–Α–±–Α ―³–Μ–Ψ―²–Α ―è –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ―É –Ω–Ψ―Ä―²–Α ―è ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ ―à―²–Α–±–Α ―³–Μ–Ψ―²–Α ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Η–Μ –Φ–Ϋ–Β –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨ –±―É–Κ―¹–Η―Ä –Ω–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É ―É―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Ϋ–Η―é. –ü–Ψ―¹–Μ–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Φ―΄ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Η –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Φ–Β―¹―²–Α ―É –Ω―Ä–Η―΅–Α–Μ–Ψ–≤ –¥–Μ―è ―²―Ä–Α–Μ―¨―â–Η–Κ–Α –Η –±―É–Κ―¹–Η―Ä–Α –Η –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ω–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è―²―¨ –Ζ–Α–Ω–Α―¹―΄ ―²–Ψ–Ω–Μ–Η–≤–Α –Η –≤–Ψ–¥―΄ –≤ –Μ―é–±–Ψ–Β, ―É–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ–Β –¥–Μ―è –Ϋ–Α―¹ –≤―Ä–Β–Φ―è.  –Λ–Ψ―²–Ψ –Η–Ζ –Α―Ä―Ö–Η–≤–Α –≠.–Δ.–ü–Μ–Α―²–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Α. 1984 –≥. –ß―É–Κ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä–Β. –ö–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Α "–Γ–Α–¥–Κ–Ψ", –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –™–‰–Γ–Θ, –£–Α–Μ―É–Β–≤ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –ü―Ä–Ψ–Κ–Ψ―³―¨–Β–≤–Η―΅, –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ ―à―²–Α–±–Α 10 –î–Η–ü–¦, –≤ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β –¥―É–±–Μ–Β―Ä–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Ψ―²―Ä―è–¥–Α ―¹―É–¥–Ψ–≤ –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η―è, –≠.–Δ.–ü–Μ–Α―²–Ψ–Ϋ–Ψ–≤. –ù–Ψ –≤–Ψ―² –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Α ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ –¥–Α–Μ―¨―à–Β –≤ –ß―É–Κ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä–Β. –£―¹―²―Ä–Β―΅―É –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Φ―΄ –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ –Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Μ―è–Μ–Η –Κ ―¹–Β–≤–Β―Ä―É –Ψ―² –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –£―Ä–Α–Ϋ–≥–Β–Μ―è. –· –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β ―²―Ä–Α–Μ―¨―â–Η–Κ –Η –€–ë-182 –Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –≤ –±. –ü―Ä–Ψ–≤–Η–¥–Β–Ϋ–Η―è, –Α –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ―É –Η –™–‰–Γ–Θ ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Η. –ù–Α―à–Α –Ζ–Α–¥–Α―΅–Α ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ–Α –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Α–Ι―²–Η ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―Ä–Ψ–≤, ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –Ψ―² –Μ―¨–¥–Α, –Η–Φ–Β―é―â–Η–Ι –Ω―Ä–Η–Β–Φ–Μ–Β–Φ―΄–Β –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―΄, ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Η―²―¨ –Κ–Ψ–Ψ―Ä–¥–Η–Ϋ–Α―²―΄ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α –Ϋ–Α –Π–ö–ü –£–€–Λ –Η –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ –Ζ–Α ―¹―É―²–Κ–Η –¥–Ψ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Η –≤―΄―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –≤ ―ç―²–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –≥–Η–¥―Ä–Ψ–Α–Κ―É―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Φ–Α―è–Κ–Η-–Ψ―²–≤–Β―²―΅–Η–Κ–Η, ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Η―²―¨ –Η―Ö –Κ–Ψ–Ψ―Ä–¥–Η–Ϋ–Α―²―΄ –Η –Κ–Ψ–¥―΄ –Ϋ–Α –Π–ö–ü –£–€–Λ –Η –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α―²―¨ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α―²―¨ –Ζ–Α ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ. –£ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β ―Ä–Β–Ζ–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Η –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β (–Ω–Ψ–¥–≤–Η–Ε–Κ–Η –Μ―¨–¥–Α), ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥―΄―¹–Κ–Η–≤–Α―²―¨ –Η –Ψ–±–Ψ―Ä―É–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ. –½–Α 12 ―΅–Α―¹–Ψ–≤ –¥–Ψ –≤―¹–Ω–Μ―΄―²–Η―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ϋ–Α―΅–Α―²―¨ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥–Η―²―¨ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –≤–Ζ―Ä―΄–≤―΄ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Ψ–Φ–Β–Ε―É―²–Κ–Η –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η. –½–Α–¥–Α―΅–Α ―É―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ―è–Μ–Α―¹―¨ ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ ―é–Ε–Ϋ–Α―è ―΅–Α―¹―²―¨ –ß―É–Κ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Φ–Β–Μ–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è, –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―΄ –≤ ―ç―²–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –Φ–Ψ―Ä―è ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è―é―² 40-60 –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤. –Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ –Φ–Α–Ϋ–Β–≤―Ä–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, –≤―΄―¹–Ψ―²–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ψ―² –Κ–Η–Μ―è –¥–Ψ –≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Β–≥–Ψ ―¹―Ä–Β–Ζ–Α –Ψ–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è ―Ä―É–±–Κ–Η ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―² 16 –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤, –Α –¥–Μ–Η–Ϋ–Α –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Α 150 –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤, –Ϋ–Α ―²–Α–Κ–Η―Ö –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Α―Ö –Ω–Ψ–¥–Ψ –Μ―¨–¥–Ψ–Φ –≤–Β―¹―¨–Φ–Α –Ζ–Α―²―Ä―É–¥–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ. –Γ―Ä–Α–Ζ―É, –Κ–Α–Κ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ―΄ –≤―΄―à–Μ–Η –Η–Ζ –Ϋ–Α―à–Η―Ö ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –≤–Ψ–¥, –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Ψ–±–Μ–Β―²–Α―²―¨ –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ―΄–Β ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―²―΄ ¬Ϊ–û―Ä–Η–Ψ–Ϋ¬Μ. 1-2 ―Ä–Α–Ζ–Α –≤ ―¹―É―²–Κ–Η –Ψ–±―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Α –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –Η ―΅–Α―â–Β. –‰–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ–Η ―¹–±―Ä–Α―¹―΄–≤–Α–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ–Η―¹–Κ–Ψ–≤―΄–Β –±―É–Η, –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä―è―è –Ϋ–Β ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Α–Β―² –Μ–Η –Ϋ–Α―¹ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α. –ù–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –±―É–Η –Φ―΄ –≤―΄–Μ–Α–≤–Μ–Η–≤–Α–Μ–Η –Η–Ζ –Μ―é–±–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, ―΅―²–Ψ –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ –Μ―ë―²―΅–Η–Κ–Α–Φ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ϋ–Β –Ϋ―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨. –û–Ϋ–Η –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ–Η –Ψ–±–Μ–Β―²–Α―²―¨ –Ϋ–Α―¹ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Ψ –Η –Ϋ–Α –Φ–Α–Μ―΄―Ö –≤―΄―¹–Ψ―²–Α―Ö. –ù–Α―à–Η–Φ ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―²–Α–Φ ―è –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –¥–Α–≤–Α–Μ –Ζ–Α–¥–Α–Ϋ–Η–Β –Ψ–±―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ ―²–Ψ―² –Η–Μ–Η –Η–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –Η –¥–Β–Μ–Α–Μ–Η –Η –Ω–Ψ―¹―΄–Μ–Α–Μ–Η –Φ–Ϋ–Β –Κ–Α―Ä―²―É –Ω–Ψ ―³–Α–Κ―¹–Η–Φ–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–≤―è–Ζ–Η. –ü―Ä–Α–≤–¥–Α, –¥–Β–Μ–Α–Μ–Η ―ç―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –≤–Β―¹―¨–Φ–Α –Ϋ–Β–Ψ―Ö–Ψ―²–Ϋ–Ψ. –£―Ä–Β–Φ―è –Ψ―² –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ϋ–Α –Φ–Ψ–Η –Ζ–Α–¥–Α–Ϋ–Η―è ―è –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Μ –Ψ―²–≤–Β―²–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ―΄, ―²–Η–Ω–Α ¬Ϊ–Ζ–Α–≤―²―Ä–Α –≤―΄–Μ–Β―²–Β―²―¨ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β–Φ, ―².–Κ. ―É –Ϋ–Α―¹ ―¹―²―Ä–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―¹–Φ–Ψ―²―Ä¬Μ –Η–Μ–Η ¬Ϊ–≤―΄–Μ–Β―² –Ω―Ä–Ψ―à―É –Ω–Β―Ä–Β–Ϋ–Β―¹―²–Η, ―².–Κ. ―É –Ϋ–Α―¹ –Ζ–Α–≤―²―Ä–Α –±–Α–Ϋ―è¬Μ. –€–Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹ ―ç―²–Η–Φ –Φ–Η―Ä–Η―²―¨―¹―è, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Ϋ–Α –Ϋ–Η―Ö –Κ–Α–Κ–Ψ–Β-–Μ–Η–±–Ψ –≤–Ψ–Ζ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ.  –†–Α–Ι–Ψ–Ϋ―΄ –Φ―΄ –Ψ–±―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Η –≤ ―¹–≤–Β―²–Μ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹―É―²–Ψ–Κ, –Α –Ϋ–Α –Ϋ–Ψ―΅―¨ –Ω―Ä–Η–≤―è–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Κ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Μ―¨–¥–Η–Ϋ–Β. –£–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è ―ç―²–Η―Ö ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ψ–Κ –Ϋ–Α―¹ ―΅–Α―¹―²–Β–Ϋ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ―¹–Β―â–Α–Μ–Η –±–Β–Μ―΄–Β –Φ–Β–¥–≤–Β–¥–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Φ―΄ –Ω–Ψ–¥–Κ–Α―Ä–Φ–Μ–Η–≤–Α–Μ–Η. –û―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η–Φ –Ϋ―Ä–Α–≤–Η–Μ―¹―è ―Ö–Μ–Β–± ―¹–Ψ ―¹–≥―É―â―ë–Ϋ–Κ–Ψ–Ι. –ö―Ä–Ψ–Φ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, ―ç―²–Η ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Κ–Η –Φ―΄ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ–Η –¥–Μ―è –Ω–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Α–Ω–Α―¹–Ψ–≤ –Ω―Ä–Β―¹–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–¥―΄. –î–Β–Μ–Ψ –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Μ–Β―²–Ψ–Φ –Ϋ–Α –±–Ψ–Μ―¨―à–Η―Ö –Μ―¨–¥–Η–Ϋ–Α―Ö –Ψ–±―Ä–Α–Ζ―É―é―²―¹―è –Ψ–Ζ―ë―Ä–Α –Η–Ζ ―Ä–Α―¹―²–Α―è–≤―à–Β–≥–Ψ ―¹–Ϋ–Β–≥–Α, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―¹–Κ–Α–Ω–Μ–Η–≤–Α–Β―²―¹―è –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Β –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ ―΅–Η―¹―²–Β–Ι―à–Β–Ι –Η –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –≤–Κ―É―¹–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Β―¹–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–¥―΄. –ê –Ϋ–Α―à ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ –≤ –±. –ü―Ä–Ψ–≤–Η–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Β―¹–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–¥―΄, ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α―è, ―΅―²–Ψ ―²–Ψ–Ι –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è –¥–Α–Ε–Β –¥–Η–Ζ–Β–Μ―è –Ψ―Ö–Μ–Α–Ε–¥–Α―²―¨, –Ϋ–Ψ –≤ –Ϋ–Β–Ι –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è –¥–Α–Ε–Β ―¹―²–Η―Ä–Α―²―¨ ―Ä―É–±–Α―à–Κ–Η, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ ―Ä–Α―¹―²–≤–Ψ―Ä―è―é―²―¹―è –Ω―É–≥–Ψ–≤–Η―Ü―΄, ―É–Ε –Ϋ–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―É–Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Μ―è―²―¨ –Β―ë –≤ –Ω–Η―â―É. –Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ –Φ―΄ –Ω―Ä–Ψ―²―è–≥–Η–≤–Α–Μ–Η –Κ ―²–Α–Κ–Ψ–Φ―É –Ψ–Ζ–Β―Ä―É ―à–Μ–Α–Ϋ–≥ –Η –Κ–Α–±–Β–Μ―¨ –Η –Ψ–Ω―É―¹–Κ–Α–Μ–Η –≤ –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α―¹–Ψ―¹, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–Μ–Ψ –Ϋ–Α–Φ –±―΄―²―¨ –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι. –ü–Ψ–¥–Ψ–±―Ä–Α–≤ –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥―è―â–Η–Ι ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ, ―è ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Η–Μ –Β–≥–Ψ –Κ–Ψ–Ψ―Ä–¥–Η–Ϋ–Α―²―΄ –Ϋ–Α –Π–ö–ü –£–€–Λ, –Α –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–≤ –Ψ―² –Ϋ–Η―Ö –¥–Α―²―É –Η –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω―Ä–Η–±―΄―²–Η―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –≤―΄―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Η –≥–Η–¥―Ä–Ψ–Α–Κ―É―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –±―É–Η. –î–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Η –Ω―Ä–Η–±―΄―²―¨ ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä ¬Ϊ–ö-211¬Μ 667–ë–î–† –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Α, –Ω–Β―Ä–Β–±–Α–Ζ–Η―Ä―É―é―â–Η–Ι―¹―è –≤ 25 –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η―é –Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―Ü–Β–Μ–Β–≤–Α―è –ê–ü–¦ 670 –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Α –¥–Μ―è 10 –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η. –ê ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―²―΄ ¬Ϊ–û―Ä–Η–Ψ–Ϋ¬Μ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ–Η –Ϋ–Β―É―¹―²–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ ―²―Ä―É–¥–Η―²―¨―¹―è. –Δ―É―² ―è ―Ä–Β―à–Η–Μ –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Η―²―¨ ¬Ϊ–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―É―é ―Ö–Η―²―Ä–Ψ―¹―²―¨¬Μ. –½–Α ―¹―É―²–Κ–Η –¥–Ψ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Η, –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ψ–±–Μ―ë―²–Α ¬Ϊ–û―Ä–Η–Ψ–Ϋ–Α¬Μ, ―è –≤―΄–Ζ–≤–Α–Μ –Ϋ–Α ―Ä–Α–¥–Η–Ψ―¹–≤―è–Ζ―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –™–‰–Γ–Θ –Η –Ψ–±―ä―è–≤–Η–Μ –Β–Φ―É, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α―à–Α –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Α―è ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α –Ω–Μ–Α–Ϋ–Η―Ä―É–Β―²―¹―è –Ϋ–Α 16 ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä―è, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–Ζ–Α–≤―²―Ä–Α, –≤ 16 ―΅–Α―¹–Ψ–≤. –ö–Ψ–≥–¥–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―² ―É–Μ–Β―²–Β–Μ, ―è –Ω–Ψ–¥–Ψ–Ζ–≤–Α–Μ –™–‰–Γ–Θ –Ϋ–Α –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹–Ψ–≤―É―é ―¹–≤―è–Ζ―¨ –Η ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Η–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É, ―΅―²–Ψ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Ζ–Α–≤―²―Ä–Α, 15 ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä―è –≤ 12 ―΅–Α―¹–Ψ–≤. –Γ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Ψ. –£―¹―²―Ä–Β―΅―É –Φ―΄ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–Μ–Η –±–Β–Ζ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α―²–Β–Μ–Β–Ι, –Α –≤ 16 ―΅–Α―¹–Ψ–≤ 16 ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä―è –Φ―΄ –±―΄–Μ–Η ―É–Ε–Β –≤ –Ϋ–Α―à–Η―Ö ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –≤–Ψ–¥–Α―Ö –ë–Β―Ä–Η–Ϋ–≥–Ψ–≤–Α –Φ–Ψ―Ä―è. –ü―Ä–Α–≤–¥–Α, –Η ―²―É―² –Ϋ–Β –Ψ–±–Ψ―à–Μ–Ψ―¹―¨ –±–Β–Ζ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―à–Β―¹―²–≤–Η―è. –£–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –≤–Ζ―Ä―΄–≤–Ψ–≤ –Ϋ–Α –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β –≥–Η–¥―Ä–Α–≤–Μ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ ―É–¥–Α―Ä–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ζ–Ψ―Ä–≤–Α–Μ–Ψ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ ―²―Ä―É–±–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Ψ–≤ –Ζ–Α–±–Ψ―Ä―²–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–¥―΄, –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Α―é―â–Β–Ι –Ϋ–Α –Ψ―Ö–Μ–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β –¥–Η–Ζ–Β–Μ–Β–Ι. –ù–Α–Φ –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Η―²―¨ –Ω–Μ–Α―¹―²―΄―Ä―¨ –Ω–Ψ–¥ –Ω―Ä–Η―ë–Φ–Ϋ–Ψ–Β –Ψ―²–≤–Β―Ä―¹―²–Η–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―²―Ä―É–±–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Α, ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ ―²―Ä―É–±–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥, –Α –≤–Ζ―Ä―΄–≤―΄ –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―²–Η―²―¨, ―΅–Β–Φ –Φ―΄ –Ψ–Ζ–Α–¥–Α―΅–Η–Μ–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤. –ù–Ψ –≤―¹―ë –Ψ–±–Ψ―à–Μ–Ψ―¹―¨ –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω–Ψ–Μ―É―΅–Ϋ–Ψ. –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –≤―¹–Ω–Μ―΄–Μ–Η –≤–Ψ–≤―Ä–Β–Φ―è –Η –≤ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Φ–Β―¹―²–Β. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –≤–Ζ–Α–Η–Φ–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Η–≤–Β―²―¹―²–≤–Η–Ι –Η –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι –Φ―΄ –≤–Ζ―è–Μ–Η –Κ―É―Ä―¹ –Ϋ–Α –ë–Β―Ä–Η–Ϋ–≥–Ψ–≤ –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤. –™–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Φ ―à―ë–Μ –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ, –Ζ–Α –Ϋ–Η–Φ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Η –Ζ–Α–Φ―΄–Κ–Α–Μ ―¹―²―Ä–Ψ–Ι –™–‰–Γ–Θ ¬Ϊ–Λ―ë–¥–Ψ―Ä –¦–Η―²–Κ–Β¬Μ.–ü―Ä–Ψ–Ι–¥―è –ë–Β―Ä–Η–Ϋ–≥–Ψ–≤ –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤, –Φ―΄ –Ζ–Α―à–Μ–Η –≤ –±―É―Ö―²―É –î–Β–Ε–Ϋ–Β–≤–Α –Η –≤―¹―²–Α–Μ–Η –Ϋ–Α ―è–Κ–Ψ―Ä―è, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―΅–Β–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–Β―¹–Α–¥–Η–Μ–Η –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β ―à―²–Α–±―΄ ―¹ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Ϋ–Α –™–‰–Γ–Θ –¥–Μ―è –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Κ–Η –Η―Ö –≤ –Ω–Ψ―¹. –ü―Ä–Ψ–≤–Η–¥–Β–Ϋ–Η―è, –Ψ―²–Κ―É–¥–Α –Η–Φ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è–Μ –Ω–Β―Ä–Β–Μ―ë―² –Ψ–±―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι ―³–Μ–Ψ―². –ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ ―à―²–Α–±–Α 10 –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –£.–ü.–£–Α–Μ―É–Β–≤ –Ω–Β―Ä–Β―à―ë–Μ –Ϋ–Α –ü–¦–ê 670 –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Α –Η –≤–Ψ–Ζ–≥–Μ–Α–≤–Η–Μ –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥ –Β―ë –Ϋ–Α –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ―É –≤ ―¹–≤–Ψ―é –Ϋ–Ψ–≤―É―é –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η―é, –Α ―è, –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–≤ ¬Ϊ–±―Ä–Α–Ζ–¥―΄ –Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è¬Μ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ―É –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―à―²–Α–±–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ―É 2 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –£.–ê.–†―è–±–Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―¨, –Ω–Β―Ä–Β―à―ë–Μ –Ϋ–Α –†–ü–ö –Γ–ù ¬Ϊ–ö-211¬Μ –Η –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¹―è ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Φ –Ϋ–Α –±–Ψ–Β–≤―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É –Β―â―ë –Ϋ–Α –Ω–Α―Ä―É –Φ–Β―¹―è―Ü–Β–≤. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ ¬Ϊ–ö-211¬Μ –±―΄–Μ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –½–Α―Ö–Α―Ä–Ψ–≤ –¦–Β–≤ –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅, –Φ–Ψ–Ι –¥–Α–≤–Ϋ–Η–Ι –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―΄–Ι –Β―â–Β –Ω–Ψ ―¹–Μ―É–Ε–±–Β –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α –†–ü–ö –Γ–ù 667–ê –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Α. 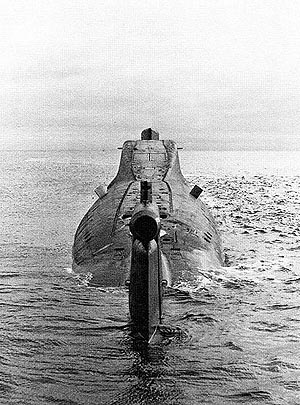 –£―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–≤ –≤―¹–Β –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Ϋ–Α–Φ–Η –Ζ–Α–¥–Α―΅–Η, –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Ϋ–Ψ―è–±―Ä―è 1984 –≥–Ψ–¥–Α –Φ―΄ –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ–Η –Ϋ–Α –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ―É –≤ 25 –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η―é –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –≥–¥–Β –†–ü–ö –Γ–ù ¬Ϊ–ö-211¬Μ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É. –ü―Ä–Η –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Β –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Α –Ω–Η―Ä―¹–Β, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ω―Ä–Η―ë–Φ–Α –≤―¹–Β―Ö –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤ ―²–Α–Κ–Η―Ö ―¹–Μ―É―΅–Α―è―Ö –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Ψ–≤, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι 2 ―³–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η–Β–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –ë–Α–Μ―²–Η–Ϋ –≠–¥―É–Α―Ä–¥ –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Β–≤–Η―΅ –Ω–Ψ―à―É―²–Η–Μ: ¬Ϊ–Δ―ë–Ζ–Κ–Α, ―²―΄ –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Ι ―Ä–Α–Ζ –±―É–¥–Β―à―¨ ―²–Α–Κ –Ϋ–Α–¥–Ψ–Μ–≥–Ψ ―É―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β, –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Ι –Φ–Ϋ–Β ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―é, –Α ―²–Ψ ―è ―É–Ε–Β –Ζ–Α–±―΄–Μ, –Κ–Α–Κ ―²―΄ –≤―΄–≥–Μ―è–¥–Η―à―¨.¬Μ –‰ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ―¹―è ―ç―²–Ψ―² –Φ–Ψ–Ι –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥ –Β―â―ë –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―à―É―²–Κ–Ψ–Ι. –ö–Ψ–≥–¥–Α ―è –Ω―Ä–Η―à―ë–Μ –≤ ―à―²–Α–± ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η, –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ, –¥–Β–Ε―É―Ä–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ ―à―²–Α–±―É –Ψ–±―Ä–Α―²–Η–Μ―¹―è –Κ–Ψ –Φ–Ϋ–Β: ¬Ϊ–Δ–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –Κ–Ψ–Φ―É –Η –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ε–Β―²–Β –Ψ –≤–Α―¹ –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨?¬Μ –ù–Α ―΅―²–Ψ ―è –Β–Φ―É –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ : ¬Ϊ–· –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ –Κ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ―É 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ü–Μ–Α―²–Ψ–Ϋ–Ψ–≤―É.¬Μ –î–Β–Ε―É―Ä–Ϋ―΄–Ι: ¬Ϊ–ê –Β–≥–Ψ –Ϋ–Β―², –Ψ–Ϋ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β.¬Μ  –≠–¥―É–Α―Ä–¥ –Δ―Ä–Ψ―³–Η–Φ–Ψ–≤–Η―΅ –ü–Μ–Α―²–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –ü―Ä–Η–Φ–Β―΅–Α–Ϋ–Η–Β–£–Ψ―² ―²–Α–Κ–Α―è –Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η―è –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ–Α―¹―¨: –ö-211, "–ü–Β―²―Ä–Ψ–Ω–Α–≤–Μ–Ψ–≤―¹–Κ-–ö–Α–Φ―΅–Α―²―¹–Κ–Η–Ι" –ü―Ä–Ψ–Β–Κ―² 667–ë–î–† 1984 –≥–Ψ–¥ 21 –Α–≤–≥―É―¹―² - 6 –Ϋ–Ψ―è–±―Ä―è –£―΄–Ι–¥―è –Η–Ζ –±―É―Ö―²―΄ –·–≥–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è (–≥.–™–Α–¥–Ε–Η–Β–≤–Ψ) –Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Η–Μ ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Α―Ä–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Φ–Β–Ε―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥ (21.8 - 15.9) ―¹ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Φ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Φ –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―²―É (–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä - –Κ–Α–Ω.1―Ä. –½–Α―Ö–Α―Ä–Ψ–≤ –¦.–£., ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι - –ö–î–Η–ü–¦ –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ. –ê–≥–Α―³–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –£.–ü., –Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –±―É―Ö―²―΄ –ü―Ä–Ψ–≤–Η–¥–Β–Ϋ–Η―è - –½–ö–î 25-–Ι –î–Η–ü–¦ –Κ–Α–Ω.1―Ä. –ü–Μ–Α―²–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –≠.–Δ.) ―¹ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Φ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ζ–Α–¥–Α―΅ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ 15.9 - 6.11). –ù–Α –±–Ψ―Ä―²―É –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―à―²–Α―²–Ϋ–Ψ–Β –Ψ―Ä―É–Ε–Η–Β. –ü–Ψ–¥–Ψ –Μ―¨–¥–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–Μ 12 ―¹―É―²–Ψ–Κ. –ü–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –≤ –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η –ê–ü–¦ –ö-524 "60 –Μ–Β―² ―à–Β―³―¹―²–≤―É –£–¦–ö–Γ–€" –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Α 671–†–Δ–€. 6.11 –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ –≤ –±―É―Ö―²―É –ö―Ä–Α―à–Β–Ϋ–Η–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤–Α (–≥.–£–Η–Μ―é―΅–Η–Ϋ―¹–Κ). –ü–Β―Ä–Β―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –ö–Δ–û–Λ (–Β―¹―²―¨ –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ψ –≤–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η–Η –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –ö–Δ–û–Λ 15.09.1982). –½–Α―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ 25-–Ι –î–Η–ü–¦ 2-–Ι –Λ–Μ–ü–¦ –ö–Δ–û–Λ. –ö–Γ–£: –ö–Α–Κ –£―΄ ―¹―΅–Η―²–Α–Β―²–Β, ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² –¥–Ψ–±–Α–≤–Η―²―¨ ―²–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä –ê–ü–¦ –Η –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Η―²―¨ –Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Α? –≠.–Δ.–ü–Μ–Α―²–Ψ–Ϋ–Ψ–≤: –Δ–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä –Β―ë ―è –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Φ–Ϋ―é, –Ϋ–Ψ ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Α –ü–¦ –Ω―Ä. 670 ―ç―²–Ψ ―è –Ω–Ψ–Φ–Ϋ―é ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ.
21.12.201400:0421.12.2014 00:04:06
0
20.12.201400:2520.12.2014 00:25:59
–£ ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä–Β 1953 –≥–Ψ–¥–Α ―è ―¹–¥–Α–Μ ―¹–Μ―É–Ε–Β–±–Ϋ―΄–Β –¥–Β–Μ–Α –Η ―É–±―΄–Μ –Ϋ–Α ―É―΅–Β–±―É –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥, –Κ–Α–Κ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―Ä–Α–Ϋ–Β–Β. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β ―É―΅–Β–±–Α –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α―¹―¨ ―Ä–Α–Β–Φ. –û―²–≤–Β―΅–Α–Β―à―¨ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ζ–Α ―¹–Β–±―è, ―É―΅–Η–Μ―¹―è –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄―Ö –¥–≤–Α ―¹–Β–Φ–Β―¹―²―Ä–Α, ―¹–¥–Α–Μ ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ –≥–Ψ―¹―ç–Κ–Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ―΄, –≤―Ä―É―΅–Η–Μ–Η ―É–¥–Ψ―¹―²–Ψ–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Η–Β ―¹ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Η–Β–Φ. –ü―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Ψ–Φ –Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä–Α –£–€–Λ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι ―³–Μ–Ψ―² –≤ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Κ–Α–¥―Ä–Ψ–≤.  –ù–Α―à–Α ―É―΅–Β–±–Ϋ–Α―è –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η―è ―É―΅–Β–±―΄ –Ϋ–Α –£―΄―¹―à–Η―Ö –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Η―Ö ―Ä–Α–¥–Η–Ψ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α―Ö. –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥, –Ψ–Κ―²―è–±―Ä―¨ 1954 –≥. –£–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è ―É―΅–Β–±―΄ –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β –≤ 1953-1954 –≥–≥., ―è –Κ–Α–Κ ―Ö–Ψ–Μ–Ψ―¹―²―è–Κ, ―¹–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ –Κ–Ψ–Φ–Ϋ–Α―²―É ―É ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η―Ö ―Ö–Ψ–Ζ―è–Β–≤. –™–Μ–Α–≤–Α ―¹–Β–Φ―¨–Η –±―΄–Μ –Ϋ–Α –Ω–Β–Ϋ―¹–Η–Η –Ω–Ψ –Η–Ϋ–≤–Α–Μ–Η–¥–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η –Ω–Ψ ―¹―²–Α―Ä–Ψ―¹―²–Η. –£ –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ―É―é –≤–Ψ–Ι–Ϋ―É –Ψ–Ϋ ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ –Ϋ–Α –ü–¦ –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α. –û–Ϋ –Φ–Ϋ–Β –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ –Ψ ―²–Β―Ö –≥–Ψ–¥–Α―Ö –Η ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è―Ö, –≥–¥–Β –±―΄–Μ –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ. –£ ―΅–Α―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–¥―Ä–Ψ–±–Ϋ–Ψ –Η–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―é ―¹ –Λ.–®–Α–Μ―è–Ω–Η–Ϋ―΄–Φ. –û–Ϋ –¥–≤–Α–Ε–¥―΄ –±―΄–Μ –≤ –≥―Ä―É–Ω–Ω–Β –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Β–Ζ–¥–Η–Μ–Η –Ϋ–Α –Κ–≤–Α―Ä―²–Η―Ä―É –Κ –Λ.–®–Α–Μ―è–Ω–Η–Ϋ―É –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―¹–Η―²―¨ –Β–≥–Ψ –≤―΄―¹―²―É–Ω–Η―²―¨ ―¹ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β―Ä―²–Ψ–Φ –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α–Φ–Η –Η –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Α–Φ–Η –≤ –Ζ–Α–Μ–Β –†–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Η –Ϋ–Α –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤―¹–Κ–Ψ–Φ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Β. –Λ.–®–Α–Μ―è–Ω–Η–Ϋ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ –¥–Β–Μ–Β–≥–Α―Ü–Η―é –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –≤―΄―à–Β–Μ –Κ –Ϋ–Η–Φ –≤ –¥–Μ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―Ö–Α–Μ–Α―²–Β –Ω–Ψ-–¥–Ψ–Φ–Α―à–Ϋ–Β–Φ―É. –£―΄―¹–Μ―É―à–Α–≤ –Ω―Ä–Ψ―¹―¨–±―É, –Ψ–Ϋ ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ζ–Α–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –Ω–Μ–Α―²―É –≤ –≤–Η–¥–Β "–Φ–Β―à–Κ–Α –Κ―Ä―É–Ω―΅–Α―²–Κ–Η" –Η ―¹–≤–Η–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–Κ–Ψ―Ä–Ψ–Κ. –ö―Ä―É–Ω―΅–Α―²–Κ–Α - ―ç―²–Ψ –Ω―à–Β–Ϋ–Η―΅–Ϋ–Α―è –Φ―É–Κ–Α –Φ–Β–Μ―¨―΅–Α–Ι―à–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ψ–Μ–Α. –£―Ä–Β–Φ―è –±―΄–Μ–Ψ –≥–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Β, –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²–Ψ―¹―²–Β–Ι ―²–Η–Ω–Α –Λ.–®–Α–Μ―è–Ω–Η–Ϋ–Α ―²–Ψ–Ε–Β –Κ–Ψ―¹–Ϋ―É–Μ–Ψ―¹―¨ –≤ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ –Φ–Β―Ä–Β. –€–Α―²―Ä–Ψ―¹―΄ –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Η ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è –Λ.–®–Α–Μ―è–Ω–Η–Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤―É, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –Ω–Ψ―¹―΄–Μ–Α–Μ–Ψ –Η―Ö –Κ –Α―Ä―²–Η―¹―²―É. –ù–Α―΅–Α–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η–Μ–Ψ―¹―¨, –Η –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹―΄ –Ω―Ä–Η–≤–Β–Ζ–Μ–Η –Λ.–®–Α–Μ―è–Ω–Η–Ϋ–Α –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β―Ä―². –£―¹–Β –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η –Ε–Β―¹―²–Κ–Η–Β ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Α―Ä―²–Η―¹―²–Α –Ω–Ψ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹―É –Ψ–Ω–Μ–Α―²―΄, –Ζ–Α–Κ–Α–Ζ―΅–Η–Κ –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²―¨ –Β–≥–Ψ ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ε–Β. –ù–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ ―Ä–Β―à–Η–Μ–Ψ –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –Φ―É–Κ―É –Η –Ψ–Κ–Ψ―Ä–Ψ–Κ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ 2-3 ―΅–Α―¹–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β―Ä―²–Α. –Θ―Ö–Ψ–¥―è ―¹–Ψ ―¹―Ü–Β–Ϋ―΄ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η―è –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η―è, –Λ. –®–Α–Μ―è–Ω–Η–Ϋ –Ϋ–Β ―É–≤–Η–¥–Β–Μ –Ψ–±–Β―â–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―Ä–Α―¹―¹–≤–Η―Ä–Β–Ω–Β–Μ –Η ―΅―É―²―¨ –Ϋ–Β –≤―΄–Ϋ–Β―¹ –Ω–Ψ –Ω―É―²–Η –¥–≤–Β―Ä―¨. –€–Α―²―Ä–Ψ―¹―΄ –Β–Φ―É –≤―¹–Β –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Η –Ω–Ψ–Ζ–Ε–Β, –Ϋ–Ψ –Ψ–Ϋ –¥–Ψ–Φ–Α –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ ―Ä―É–≥–Α―²―¨ –Η―Ö –Ζ–Α –Ϋ–Α―Ä―É―à–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ–±–Β―â–Α–Ϋ–Η–Ι –Η ―΅―²–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Κ –Ϋ–Η–Φ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Β–¥–Β―². 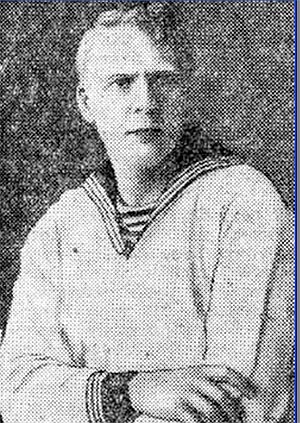 –ö–Ψ–≥–¥–Α ―²–Β –Ε–Β –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹―΄ –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Φ–Β―¹―è―Ü, ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –Ω―Ä–Η–Β―Ö–Α–Μ–Η –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―à–Α―²―¨ –Λ.–®–Α–Μ―è–Ω–Η–Ϋ–Α –≤―΄―¹―²―É–Ω–Η―²―¨, –Ψ–Ϋ –Κ–Α―²–Β–≥–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Ψ―²–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è. –€–Α―²―Ä–Ψ―¹―΄ ―Ä–Α―¹―Ö―Ä–Α–±―Ä–Η–Μ–Η―¹―¨ –Η –¥–Α–Μ–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É –Β–Φ―É –Ψ–¥–Β–≤–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Β–Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ. –ü–Ψ –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Β –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ –Ω–Β―²―¨ –Ϋ–Β –±―É–¥–Β―². –€–Α―²―Ä–Ψ―¹―΄ –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Η ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η–Β: –Β―¹–Μ–Η –Ψ―²–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―à―¨―¹―è –Ω–Β―²―¨, ―²–Ψ –≤–Β–Ζ–Β–Φ –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥ –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α ―Ä–Α―¹―¹―²―Ä–Β–Μ–Η–≤–Α―²―¨. –ü―Ä–Η–≤–Β–Ζ–Μ–Η –Β–≥–Ψ –Κ –Φ–Β―¹―²―É ―Ä–Α―¹―¹―²―Ä–Β–Μ–Α, –Η ―²―É―² –Ψ–Ϋ –¥―Ä–Ψ–≥–Ϋ―É–Μ –Η ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η–Μ―¹―è –≤―΄―¹―²―É–Ω–Η―²―¨. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¹―è –Ϋ–Β–Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Ϋ–Ψ, –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É ―²–Α–Κ–Α―è –≤–Β–Μ–Η―΅–Η–Ϋ–Α –Κ–Α–Κ –Λ.–®–Α–Μ―è–Ω–Η–Ϋ ―ç–Φ–Η–≥―Ä–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ –Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Β –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α–Μ―¹―è –≤ –†–Ψ―¹―¹–Η―é, ―Ö–Ψ―²―è –Β–≥–Ψ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Β –¥―Ä―É–Ζ―¨―è –Ψ―¹―²–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α ―Ä–Ψ–¥–Η–Ϋ–Β. –û―΅–Β–≤–Η–¥–Ϋ–Ψ, –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Β–≥–Ψ ―²–Α–Μ–Α–Ϋ―²―É –Η ―¹–Μ–Α–≤–Β –≤ –Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö –≥―Ä–Ψ–Ζ–Η―² –Ε–Β―¹―²–Ψ–Κ–Ψ―¹―²―¨ –Η –Ω―Ä–Β–Ϋ–Β–±―Ä–Β–Ε–Β–Ϋ–Η–Β. –£ –Ϋ–Ψ―è–±―Ä–Β 1954 –≥–Ψ–¥–Α ―è –Ε–Β–Ϋ–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Ψ–Ι –€–Ψ―²―É–Ζ –‰―Ä–Η–Ϋ–Β –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Ϋ–Β. –û–Ϋ–Α ―É–Ε–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Α –≥–Ψ–¥ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―²–Α –Κ–Η–Ϋ–Ψ–Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Ψ–≤. –Γ–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β –¦–Ψ–Φ–Ψ–Ϋ–Ψ―¹–Ψ–≤ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β–Ε–Ϋ―É―é ―¹–≤–Α–¥―¨–±―É –Η –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ –≤ –Γ–Η–±–Η―Ä―¨, –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ –ù–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β–≤―¹–Κ –û–Φ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±–Μ–Α―¹―²–Η, –≥–¥–Β –Ω―Ä–Ψ–Ε–Η–≤–Α–Μ–Α –Φ–Ψ―è –Φ–Α―²―¨ ―¹ ―¹–Β–Φ―¨–Β–Ι, –Ζ–Α―²–Β–Φ –Ω–Ψ–Β―Ö–Α–Μ–Η –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ –û―Ä–Β–Μ –Κ ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―è–Φ –Ε–Β–Ϋ―΄. –û―²–Ω―É―¹–Κ –Ω―Ä–Ψ―à–Β–Μ –≤ –Ζ–Α―¹―²–Ψ–Μ―¨―è―Ö –Η –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è―Ö –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ψ–≤. –‰–Ζ –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Α –Φ―΄ –Ζ–Α–Β―Ö–Α–Μ–Η –Κ –Ε–Β–Ϋ–Β –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ –¦–Ψ–Φ–Ψ–Ϋ–Ψ―¹–Ψ–≤, –≥–¥–Β –Ψ–Ϋ–Α ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Α. –ü–Ψ―¹–Μ–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―è –Ψ–¥–Η–Ϋ –Ω–Ψ–Β―Ö–Α–Μ –Ζ–Α –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Β–Φ. –ü―Ä–Η–±―΄–Μ ―è –≤ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Κ–Α–¥―Ä–Ψ–≤ ―³–Μ–Ψ―²–Α, –Α –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η –Φ–Β–Ϋ―è –Κ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ―É ―Ä–Α–¥–Η–Ψ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²–¥–Β–Μ–Α –ü–Α–≤–Μ―É –·–Κ–Ψ–≤–Μ–Β–≤–Η―΅―É –™–Ψ–Ϋ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ―É, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Φ–Β–Ϋ―è ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Μ ―Ä–Α–Ϋ–Β–Β –Ω–Ψ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Β. –û–Ϋ ―É–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ –Ψ―¹―²–Α―²―¨―¹―è ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ ―¹–Μ―É–Ε–Η―²―¨ –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Η–Ζ –Ψ―²–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι –Ω–Ψ –Φ–Ψ–Β–Φ―É –≤―΄–±–Ψ―Ä―É. –· –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Ψ―²–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ψ ―¹ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ–Η. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –≤―¹–Β ―É―΅–Β–Ϋ–Η―è –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η ―¹ –Ϋ–Α―à–Η–Φ ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β–Φ. –Ξ–Ψ–¥–Η–Μ ―è –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Ϋ–Α –≤―¹–Β―Ö –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι, –≤–Κ–Μ―é―΅–Α―è –±―΄―¹―²―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄–Β –Κ–Α―²–Β―Ä–Α. –Γ –Ε–Η–Μ―¨–Β–Φ –±―΄–Μ–Α –±–Ψ–Μ―¨―à–Α―è –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ–Α. –ù–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ―¹―è ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι, –¥―Ä―É–≥ ―É–Β–Ζ–Ε–Α–Μ –Ϋ–Α –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Ϋ–Α –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ―É, –Α –Κ–Μ―é―΅–Η –Ψ―² ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Κ–Ψ–Φ–Ϋ–Α―²―΄ –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–Μ –Φ–Ϋ–Β. –ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –Ψ―²–¥–Β–Μ–Α –ü.–™–Ψ–Ϋ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥ ―ç―²―É –Κ–Ψ–Φ–Ϋ–Α―²―É –Ψ―³–Ψ―Ä–Φ–Η―²―¨ –Ϋ–Α –Φ–Β–Ϋ―è. –£ –Ψ–±―â–Β–Φ, ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Φ–Β―¹―è―Ü ―è –Ω–Β―Ä–Β–≤–Β–Ζ –Ε–Β–Ϋ―É –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ. –ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –Ψ―²–¥–Β–Μ–Α –≤–Ζ―è–Μ –Β–Β –Ϋ–Α ―Ä–Α–±–Ψ―²―É –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Ψ–Φ. –£ –≥–Α―Ä–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–Ϋ–Α―Ö –≤–Β–¥―¨ –¥–Μ―è –Ε–Β–Ϋ ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –Ϋ–Β –Ϋ–Α–Ι―²–Η, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ–Η, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ, –Ω–Β–¥–Α–≥–Ψ–≥–Η –Η–Μ–Η –≤―Ä–Α―΅–Η. –ù–Α–Φ –Ω–Ψ–≤–Β–Ζ–Μ–Ψ –≤ ―ç―²–Η―Ö ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ―΄―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö. –ü–Β―΅–Κ―É ―²–Ψ–Ω–Η–Μ–Η ―É–≥–Μ–Β–Φ –Η –¥―Ä–Ψ–≤–Α–Φ–Η. –½–Α–Ε–Η–Μ–Η –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β–Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ –Ω–Ψ ―²–Β–Φ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α–Φ, –Ϋ–Α –Ψ–±–Β–¥ ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι. –ï―¹–Μ–Η –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¨ –Φ―É–Κ–Η, ―²–Ψ –¥–Β–Μ–Α–Β―²―¹―è ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Φ–Β―Ä–Κ–Α–Φ. –ê ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Α―è –Φ–Α―¹―¹–Α ―²–Α–Κ –Ε–Η–Μ–Α, –Ϋ–Β ―¹―²–Ψ–Ϋ–Α–Μ–Η –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Ψ, –Α –≤–Β―Ä–Η–Μ–Η –≤ ―¹–≤–Β―²–Μ–Ψ–Β –±―É–¥―É―â–Β–Β –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η–Ζ–Φ–Α. –ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Η ―²–Ψ–Ε–Β ―΅–Α―¹―²–Ψ –Ε–Η–Μ–Η –≤ –Ψ–±―â–Η―Ö –Κ–≤–Α―Ä―²–Η―Ä–Α―Ö. –£ 1955 –≥–Ψ–¥―É 5 –Ψ–Κ―²―è–±―Ä―è ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ –¥–Ψ―΅―¨. –†–Ψ–¥―΄ –±―΄–Μ–Η –≤ –û―Ä–Μ–Β ―É ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö. –ü–Ψ―²–Ψ–Φ –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Ϋ–Α―²–Β –Ε–Η–Μ–Η –Φ―΄ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Ϋ―è–Ϋ–Β–Ι. –£―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –Ω–Β―Ä–Β–Β―Ö–Α–Μ–Η –≤ –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ–Ψ–Φ–Ϋ–Α―²–Ϋ―É―é –Κ–≤–Α―Ä―²–Η―Ä―É ―¹ –Ω–Β―΅–Ϋ―΄–Φ –Ψ―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ, ―¹―²–Α–Μ–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Β–≥―΅–Β.  –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ. –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Α―è –±–Α–Ζ–Α –ö–ë–Λ. 1955 –≥. –€–Ψ–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ–Ι ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä –†–Δ–Γ –ö–ë–Λ (–Ψ―²–¥–Β–Μ ―à―²–Α–±–Α ―³–Μ–Ψ―²–Α). –· –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ ―¹–Β–±–Β ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ―É―é –Ζ–Α–¥–Α―΅―É - –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Η―²―¨ –≤ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ―É―é –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η―é –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η―è –Η –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Η–Φ. –ê.–ù.–ö―Ä―΄–Μ–Ψ–≤–Α. –Γ 1954-–≥–Ψ –Ω–Ψ 1957 –≥–Ψ–¥ ―è –Ω―Ä–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ –≤ –Ψ―²–¥–Β–Μ–Β. –†–Α–±–Ψ―²–Α –Κ–Μ–Β–Η–Μ–Α―¹―¨, –Ϋ–Ψ ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Ψ―¹―¨ –¥–≤–Η–≥–Α―²―¨―¹―è –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥ –Ω–Ψ ―¹–Μ―É–Ε–±–Β –Η ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ―é –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è. –£ 1957 –≥–Ψ–¥―É –Φ–Β–Ϋ―è ―É―²–≤–Β―Ä–¥–Η–Μ–Η –Κ–Α–Ϋ–¥–Η–¥–Α―²–Ψ–Φ –¥–Μ―è –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è –≤ –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η―é –Ϋ–Α ―Ä–Α–¥–Η–Ψ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι ―³–Α–Κ―É–Μ―¨―²–Β―². –ü―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ ―¹–¥–Α―²―¨ ―à–Β―¹―²―¨ –≤―¹―²―É–Ω–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―ç–Κ–Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ψ–≤ –Ω–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―É―Ä―¹―É: –≤―΄―¹―à―É―é –Φ–Α―²–Β–Φ–Α―²–Η–Κ―É, ―²–Β–Ψ―Ä–Β―²–Η―΅–Β―¹–Κ―É―é –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ―É, –Η–Ϋ–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―è–Ζ―΄–Κ, –Η–Φ–Ω―É–Μ―¨―¹–Ϋ―É―é ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ―É, –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤―΄ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Η –Η –±–Ψ–Β–≤―΄–Β ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι. –™–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ―¹―è –Κ ―ç–Κ–Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ–Α–Φ –Ψ―² ―²–Β–Φ–Ϋ–Α –¥–Ψ ―²–Β–Φ–Ϋ–Α, –Ϋ–Β ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ–Ω–Ψ–Ζ–Ψ―Ä–Η―²―¨―¹―è –Ω–Β―Ä–Β–¥ ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Α–Φ–Η –Η –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Η–Φ–Η. –û –≤―¹―²―É–Ω–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―ç–Κ–Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ–Α―Ö –Ϋ–Α–¥–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Ψ―¹–Ψ–±–Ψ. –£–Ψ-–Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ –≤–Ψ―¹―¨–Φ–Η –Μ–Β―². –½–Α ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è ―²–Β–Ψ―Ä–Β―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –¥–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ―΄ –Ω–Ψ–¥–Ζ–Α–±―΄–Μ–Η―¹―¨, –Α –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―²–Β–Ψ―Ä–Β―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ–Α –Η ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –Ζ–Α–¥–Α―΅ –Ω–Ψ ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Β–¥–Φ–Β―²―É, –≤―΄―¹―à–Α―è –Φ–Α―²–Β–Φ–Α―²–Η–Κ–Α, –Η–Ϋ–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―è–Ζ―΄–Κ. –ö–Α–Ϋ–¥–Η–¥–Α―²―΄ –≤ ―¹–Μ―É―à–Α―²–Β–Μ–Η –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –¥–Ψ–Φ–Α –Φ–Β―¹―è―Ü–Α ―²―Ä–Η-―΅–Β―²―΄―Ä–Β. –û–¥–Η–Ϋ –Φ–Β―¹―è―Ü –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η –Ψ―²–≤–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –Ω―Ä–Η –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η, –≥–¥–Β –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Κ–Ψ–Ϋ―¹―É–Μ―¨―²–Α―Ü–Η―é, ―΅–Η―²–Α–Μ–Η –Ψ–±–Ζ–Ψ―Ä–Ϋ―΄–Β –Μ–Β–Κ―Ü–Η–Η. –£―Ä–Β–Φ―è ―è –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é, –±–Β–Ζ ―Ä–Α―¹–Κ–Α―΅–Κ–Η ―¹ 6.00 –¥–Ψ 23.00 –Β–Ε–Β–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ–Ψ. –£–Η―¹–Β–Μ ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ―΄–Ι –≥―Ä―É–Ζ ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―é–±–Η―è, –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Κ–Η ―²―Ä―É–¥–Α ―¹–Ψ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ ―¹–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η–≤―Ü–Β–≤ –Ϋ–Α ―³–Μ–Ψ―²–Β. –ö–Ψ–Ϋ–Κ―É―Ä―¹ –±―΄–Μ –¥–Ψ 3-5 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Ϋ–Α –Φ–Β―¹―²–Ψ. –ü–Ψ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –Ψ―¹–Ψ–±–Ψ ―²―Ä―É–¥–Ϋ―΄–Φ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Α–Φ ―è –Ψ–±―Ä–Α―â–Α–Μ―¹―è –Κ ―¹–Ψ―¹–Β–¥―É –Ω–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Ϋ–Α―²–Β –≤ –Ψ–±―â–Β–Ι –Κ–≤–Α―Ä―²–Η―Ä–Β, –≥–¥–Β ―è –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α –≤―Ä–Β–Φ―è ―ç–Κ–Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ψ–≤. –û–Ϋ –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –¥–Ψ―Ü–Β–Ϋ―²–Α –Ω–Ψ –Κ–Α―³–Β–¥―Ä–Β "–Λ–Η–Ζ–Η–Κ–Α" –≤ –™–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―²–Β. –ü–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Η –≤–¥–≤–Ψ–Β–Φ ―¹ ―²―Ä―É–¥–Ψ–Φ –Φ–Ψ–≥–Μ–Η ―Ä–Α–Ζ–Ψ–±―Ä–Α―²―¨―¹―è –Ω–Ψ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Α–Φ –≤―΄―¹―à–Β–Ι –Φ–Α―²–Β–Φ–Α―²–Η–Κ–Η. –ü–Β―Ä–Β–Ε–Η–≤–Α–Ϋ–Η–Ι –±―΄–Μ–Ψ –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ. –•–Β–Ϋ–Α –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤ ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –≤ –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Β –Η –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ–Α ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨. –ü–Ψ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―è –Ϋ–Α―΅–Α–Μ ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –Ϋ–Ψ –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥–Η –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―É―Ä―¹–Ϋ―΄–Β ―ç–Κ–Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ―΄. –ü–Ψ–Κ―Ä–Ψ–≤–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –Η–Ζ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨―¹―²–≤–Α –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ. –ù–Α–¥–Β–Ε–¥–Α –±―΄–Μ–Α ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α ―¹–Β–±―è. –Θ―¹–Η–¥―΅–Η–≤–Ψ―¹―²―¨ –Η ―²―Ä―É–¥–Ψ–Μ―é–±–Η–Β –≤―΄―Ä―É―΅–Α–Μ–Η. –£―΄―¹―à―É―é –Φ–Α―²–Β–Φ–Α―²–Η–Κ―É ―¹–¥–Α–≤–Α–Μ ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ―É ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ―é. –ü–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ –Ψ–Ϋ –Φ–Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Κ―É. –Γ―΄–Ω–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤―¹–Β –Ϋ–Α –≤―΄―¹―à–Β–Ι –Φ–Α―²–Β–Φ–Α―²–Η–Κ–Β, ―²–Β–Ψ―Ä–Β―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ–Β –Η –Ω–Ψ –Η–Ϋ–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É ―è–Ζ―΄–Κ―É. –ö―¹―²–Α―²–Η, –Φ–Ψ–Ι ―ç–Κ–Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä –Ω–Ψ –≤―΄―¹―à–Β–Ι –Φ–Α―²–Β–Φ–Α―²–Η–Κ–Β ―É–Β–Ζ–¥–Η–Μ –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Β ―ç–Κ–Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η–Η –≤–Ψ –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ. –ü–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―²–Α–Κ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ –≤―΄―¹―à–Β–Ι –Φ–Α―²–Β–Φ–Α―²–Η–Κ–Β –≤―¹–Β―Ö –Ζ–Α–≤–Α–Μ–Η–Μ, –Η –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η―è –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–≤–Β–Ζ–Μ–Α ―É―΅–Η―²―¨―¹―è –≤ –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η―é. –ë–Ψ–Μ―¨―à–Β –Β–≥–Ψ ―²―É–¥–Α –Ϋ–Β –Ω–Ψ―¹―΄–Μ–Α–Μ–Η. –ù–Α –Ϋ–Α―à–Η―Ö ―ç–Κ–Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ–Α―Ö, –Β―¹–Μ–Η –Ψ–Ϋ ―¹―²–Α–≤–Η–Μ –¥–≤–Ψ–Ι–Κ―É –Η –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ―É ―³–Α–Κ―É–Μ―¨―²–Β―²–Α, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ―² ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ ―É―΅–Η―²―¨―¹―è ―¹–Φ–Ψ–Ε–Β―², –Κ–Α–Ϋ–¥–Η–¥–Α―²–Α –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η, –Η –Ψ–Ϋ, –Κ–Α–Κ –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Ψ–Β –¥–Η―²–Β, ―Ä–Α–¥–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è –Η –Ω―Ä―΄–≥–Α–Μ –≤―΄―à–Β "–≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―΄". –≠–Κ–Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ―΄ ―è –Ψ–¥–Ψ–Μ–Β–Μ.  –Γ–±–Ψ―Ä―΄ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Ψ–≤ –†–Δ–Γ –ö–ë–Λ. –ù–Α―΅–Α–Μ–Α―¹―¨ ―É―΅–Β–±–Α –≤ –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η: –Μ–Β–Κ―Ü–Η–Η, –Ζ–Α―΅–Β―²―΄, ―¹–Β–Φ–Η–Ϋ–Α―Ä―΄, ―ç–Κ–Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ―΄ –Ζ–Α –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι ―¹–Β–Φ–Β―¹―²―Ä, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Κ–Α–Ϋ–Η–Κ―É–Μ―΄, –Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η―è –Κ―É―Ä―¹–Α –Ζ–Α―¹–Μ―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ. –£ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β –Ε–Η–Μ–Η –Ϋ–Α ―΅–Α―¹―²–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–≤–Α―Ä―²–Η―Ä–Β, –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι–Κ–Ψ–Ι, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ ―¹―ä–Β―Ö–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –¥―Ä―É–≥―É―é –Κ–≤–Α―Ä―²–Η―Ä―É, –±―΄–Μ–Α ―¹–≤–Ψ―è –Κ–Ψ–Φ–Ϋ–Α―²–Α. –ü―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ–Α –±―΄–Μ–Α –Ϋ–Α –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Α―Ö, –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―²–Α―Ö –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö. –£ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β –Ε–Η–Μ–Η –±–Β–Ζ ―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Κ–Α. –î–Ψ―΅―¨ –±―΄–Μ–Α ―É –±–Α–±―É―à–Κ–Η –≤ –û―Ä–Μ–Β, –Ψ–Ϋ–Η ―΅–Α―¹―²–Β–Ϋ―¨–Κ–Ψ –Ω―Ä–Η–Β–Ζ–Ε–Α–Μ–Η –Κ –Ϋ–Α–Φ. –•–Β–Ϋ–Α ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Α –≤ –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―²–Β. –€–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –±–Β–¥―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η, –Ϋ–Ψ –¥–Β–Ϋ–Β–≥ –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ϋ–Β ―Ö–≤–Α―²–Α–Β―², –Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―Ä–Α―¹―²―É―² –±―΄―¹―²―Ä–Β–Β, ―΅–Β–Φ ―Ä–Α―¹―²–Β―² –Ζ–Α―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Α―è –Ω–Μ–Α―²–Α, ―²–Α–Κ–Ψ–≤–Α –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨. –ù–Β –Φ–Ψ–≥―É –Ϋ–Β –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¨ –¥–Ψ–±―Ä―΄–Φ ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ–Φ ―É―΅–Β–±―É –≤ –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η. –û–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Α –±―΄–Μ–Α ―¹–Α–Φ–Α―è –¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η―΅–Ϋ–Α―è. –ù–Α ―³–Α–Κ―É–Μ―¨―²–Β―²–Β ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Κ–Η ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄–Β –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ ―¹–Μ―É―à–Α―²–Β–Μ–Β–Ι –±―΄–Μ–Η –Ω–Ψ 5-10 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ. –ë―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Ψ –Ψ–±―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Β –Φ–Β–Ε–¥―É –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ―è–Φ–Η –Η ―¹–Μ―É―à–Α―²–Β–Μ―è–Φ–Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ –Η–Φ–Β–Ϋ–Η –Η –Ψ―²―΅–Β―¹―²–≤―É. –û –¥–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ–Β –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ –Ϋ–Β ―¹―²–Ψ―è–Μ. –€–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö –Φ–Β―²–Ψ–¥–Ψ–≤ –Ψ–±―É―΅–Β–Ϋ–Η―è, ―¹–Α–Φ―΄―Ö –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Β―¹―¹–Η–≤–Ϋ―΄―Ö, –±―΄–Μ–Ψ –≤–Ϋ–Β–¥―Ä–Β–Ϋ–Ψ –¥–Ψ –Ϋ–Α―¹. –ß–Α―¹―²–Ψ –±―΄–Μ–Α –Ζ–Α―â–Η―²–Α ―Ä–Β―³–Β―Ä–Α―²–Ψ–≤, –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Ψ–≤, ―¹–Β–Φ–Η–Ϋ–Α―Ä–Ψ–≤, ―ç–Κ―¹–Ω–Β―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Η –Μ–Α–±–Ψ―Ä–Α―²–Ψ―Ä–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α–±–Ψ―² –Ω–Ψ –≤–Α―Ä–Η–Α–Ϋ―²–Α–Φ. –ö–Α–Ε–¥―΄–Ι –Ζ–Α―â–Η―â–Α–Μ ―¹–≤–Ψ―é ―Ä–Α–±–Ψ―²―É. –™–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Η –Ϋ–Α―¹ –Κ ―²–≤–Ψ―Ä―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ―É ―²―Ä―É–¥―É: ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ –≤ –ù–‰–‰, –£–£–Θ–½–Α―Ö, –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ω―Ä–Β–¥–Α–Φ–Η –Ϋ–Α –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Α―Ö, –Ϋ–Α –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ-–Η―¹–Ω―΄―²–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–Μ–Η–≥–Ψ–Ϋ–Α―Ö. –£–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è ―É―΅–Β–±―΄ –Φ―΄ –¥–Α–Ε–Β ―¹–¥–Α–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Κ–Α–Ϋ–¥–Η–¥–Α―²―¹–Κ–Η–Β ―ç–Κ–Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ―΄. –ù–Α―à–Α ―É―΅–Β–±–Α ―¹–Ψ–≤–Ω–Α–Μ–Α ―¹ "―Ü–Α―Ä―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ" –ù.–Ξ―Ä―É―â–Β–≤–Α. –£–Β–Μ–Η–Κ–Η–Ι "―Ä–Β―³–Ψ―Ä–Φ–Α―²–Ψ―Ä" –¥–Ψ–±―Ä–Α–Μ―¹―è –Η –¥–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Β―³–Ψ―Ä–Φ―΄. –Θ –Ϋ–Α―¹ ―²–Α–Κ –Ω–Ψ–≤–Β–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η–Κ –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ζ–Ϋ–Α–Β―² –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –≤―¹–Β―Ö –≤ –Μ―é–±–Ψ–Ι –Ψ–±–Μ–Α―¹―²–Η, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Η –≤ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –¥–Β–Μ–Β. –Δ–Α–Κ–Ψ–Β ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ ―¹–Β–±–Β –±―΄–Μ–Ψ –Η ―É ―΅–Α―¹―²–Η –Ω–Ψ–Μ–Η―²―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Α―Ä–Φ–Η–Η –Η ―³–Μ–Ψ―²–Α. –ù–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –¥–Β–Μ–Β –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Β –≤–Ϋ–Η–Κ–Α–Μ–Η –≤ ―¹―É―²―¨ –Φ–Β―²–Ψ–¥–Ψ–≤ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ψ―Ä―É–Ε–Η―è –Η ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤. –ü–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Α ―É –Ϋ–Η―Ö –±―΄–Μ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Ϋ―è―è, –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –≤ –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β―¹―¹–Β –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ ―¹―Ä–Β–¥–Η –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Α―é―² ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ―΄. –ù–Ψ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―è―â–Α―è ―Ä–Ψ–Μ―¨ –Ω–Α―Ä―²–Η–Η –Η―Ö –≤―΄―Ä―É―΅–Α–Μ–Α, –Η –Ψ–Ϋ–Η ―¹―²–Α―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤–Μ–Η―è―²―¨ –Ϋ–Α –Μ―é–¥–Β–Ι, –Ω―Ä–Β–¥―ä―è–≤–Μ―è―è –Ω–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ϋ–Β―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Ϋ―΄–Β ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è.  –£–Ψ―² –Ϋ–Α–¥–≤–Η–≥–Α–Μ―¹―è ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ―΄–Ι –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ –¥–Μ―è –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö, –≤–Κ–Μ―é―΅–Α―é―â–Η–Ι 1958-1960 –≥–Ψ–¥―΄. –Γ–Ψ–Κ―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Β –Α―Ä–Φ–Η–Η –Η―¹―΅–Η―¹–Μ―è–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹–Ψ―²–Ϋ―è–Φ–Η ―²―΄―¹―è―΅ ―Ä―è–¥–Ψ–≤―΄―Ö –Η –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤. –£ ―É―²–Η–Μ―¨ ―¹–¥–Α–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Η―¹–Ω―Ä–Α–≤–Ϋ―΄–Β ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²―΄, ―Ä–Β–Ζ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Φ–Β―²–Α–Μ–Μ–Ψ–Μ–Ψ–Φ –±–Ψ–Β–≤―΄–Β –Η–Μ–Η –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η. –ù–Β ―Ö–≤–Α―²–Α–Μ–Ψ ―²–Ψ–Ω–Μ–Η–≤–Α –¥–Μ―è –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Ι. –Γ―²–Α–Μ–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Α–≤–Α―Ä–Η–Ι –Η–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―à–Β―¹―²–≤–Η–Ι. –£ 1957 –≥–Ψ–¥―É –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Β –Ω–Ψ–≥–Η–±–Μ–Η –¥–≤–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Φ –Ϋ–Α –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Β –¥–Ψ 50 –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤. –ö ―ç―²–Ψ–Φ―É –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ω–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Φ –Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä–Α –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –™.–ö.–•―É–Κ–Ψ–≤–Α –±―΄–Μ–Η ―É–≤–Ψ–Μ–Β–Ϋ―΄ –Μ―É―΅―à–Η–Β ―¹–≤–Β―Ä―Ö―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ–Η –Η–Ζ ―΅–Α―¹―²–Β–Ι, ―¹ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η ―¹–Ω–Α―¹–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―¹–Μ―É–Ε–±. –ü―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Α - ―Ä–Β–Ζ–Κ–Ψ ―¹–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η–Μ–Η –Η–Φ –¥–Β–Ϋ–Β–Ε–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Η–Β. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Κ–Ψ–Μ―Ö–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Η –Φ–Ψ–≥–Μ–Η ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ –Ζ–Α –Ω–Α–Μ–Ψ―΅–Κ–Η –Η –Ε–Η–Μ–Η –Ζ–Α ―¹―΅–Β―² ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι―¹―²–≤–Α, –Ζ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ ―É―Ö–Α–Ε–Η–≤–Α–Μ–Η –≤ –Ϋ–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è. –£–Ψ–Ψ–±―â–Β ―Ä―É–±–Η–Μ–Η ―¹–Ω–Μ–Β―΅–Α –Ω–Ψ –Ε–Η–≤–Ψ–Φ―É ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ―É, –Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Ω―Ä–Η –Α–≤–Α―Ä–Η―è―Ö –ü–¦ –Η―¹–Κ–Α–Μ–Η –Μ―É―΅―à–Η―Ö –≤–Ψ–¥–Ψ–Μ–Α–Ζ–Ψ–≤ –≤ –†–Η–≥–Β, –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Ϋ–Β –Η –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α―Ö –Γ–Γ–Γ–†. –≠–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Η ―ç―²–Η, –Ω–Ψ–≥–Η–±–Α―è, –Ϋ–Β –¥–Ψ–±―Ä―΄–Φ ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ–Φ –¥–Α–≤–Α–Μ–Η –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Κ―É –Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―é, –Η ―¹–Ω–Α―¹–Α―²–Β–Μ―è–Φ. –ê –Μ―é–¥–Η –Ω–Ψ–≥–Η–±–Α–Μ–Η –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η―Ö –¥–Ϋ–Β–Ι. –£―¹–Ω–Μ―΄―²―¨ –Η–Ζ –ü–¦ –Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥ –Ω–Ψ –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Β –Ω–Β―Ä–Β–Κ–Ψ―¹–Ψ–≤ ―¹–Ω–Α―¹–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤ –Η ―É―¹―²―Ä–Ψ–Ι―¹―²–≤ –Ψ―² ―É–¥–Α―Ä–Α –Ψ–± –≥―Ä―É–Ϋ―² –Η–Μ–Η –Ω―Ä–Η ―¹―²–Ψ–Μ–Κ–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η–Η ―¹ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Φ. –Θ–≤–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄ –≤ 1958-1960 –≥–Ψ–¥–Α―Ö ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η ―¹–Β–Φ―¨―è–Φ–Η –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η, –Κ―É–¥–Α –Β―Ö–Α―²―¨ –Η–Ζ –≥–Α―Ä–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–Ϋ–Ψ–≤, –≥–¥–Β –Ψ―¹―²–Α–≤–Α―²―¨―¹―è –Ζ–Α–Ω―Ä–Β―â–Α–Μ–Ψ―¹―¨. –€–Ψ–Ι ―Ä–Ψ–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Μ–Β―²―΅–Η–Κ –≤ 33 –≥–Ψ–¥–Α ―É―à–Β–Μ ―¹ –Ω–Β–Ϋ―¹–Η–Β–Ι 30%. –≠―²–Ψ –Κ–Ψ–Ω–Β–Ι–Κ–Η –¥–Μ―è –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α, –Α ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―²―Ä–Ψ–Β –¥–Β―²–Β–Ι. –£–Ψ―² –Η –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ι ―ç―²–Η "―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Β –¥–Ψ–±―Ä―΄–Β –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α". –≠―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –¥―É―à–Η –Ϋ–Α –¥–Ψ–Μ–≥–Η–Β –≥–Ψ–¥―΄. –· –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Μ –Μ―é–¥–Β–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ–Η –≤ ―²–Ψ ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω–Ψ–¥ ―¹–Ψ–Κ―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Β. –£–Ψ―² –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä ―ç―²–Ψ–Φ―É. –½–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –£–Θ–½, –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η –Α–≥–Η―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤ –Κ–Α–¥―Ä―΄. –û–Ϋ –±–Η–Μ―¹―è –Κ–Α–Κ –Φ–Ψ–≥, –Ϋ–Ψ –Β–≥–Ψ ―¹–Μ–Ψ–Φ–Α–Μ–Η –Η–Φ–Β–Ϋ–Β–Φ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Α, –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ ―É–Β–Ζ–Ε–Α―²―¨ –Η–Ζ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Α, –±―Ä–Ψ―¹–Η―²―¨ –Μ―é–±–Η–Φ―É―é ―Ä–Α–±–Ψ―²―É –Η –Κ–≤–Α―Ä―²–Η―Ä―É. –‰... ―¹–Ψ–Κ―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Β –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹–Η–Μ. –£ ―²–Α–Κ–Η―Ö ―¹–Μ―É―΅–Α―è―Ö –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Η –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η―²―¨―¹―è –±–Β―Ä–Β–Ε–Ϋ–Ψ ―¹ –Κ–Α–¥―Ä–Ψ–≤―΄–Φ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Ψ–Φ. –£–Β–¥―¨ –Ψ–Ϋ–Η –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ ―¹–Μ―É–Ε–Η―²―¨ –Ψ–Ω–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η –Μ―é–±―΄―Ö –Κ―Ä–Η–Ζ–Η―¹–Ϋ―΄―Ö ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η―è―Ö –≤ –Φ–Η―Ä–Β –Η –Ϋ–Α –Ϋ–Α―à–Η―Ö –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü–Α―Ö. –€–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄–Β –Μ―é–¥–Η –Φ–Β―΅―²–Α–Μ–Η –Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Α―Ä―¨–Β―Ä–Β, –Ζ–Α–≤–Β–¥–Ψ–Φ–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―è, ―΅―²–Ψ –≤ –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹–Η–Μ–Α―Ö ―Ö–Μ–Β–± –Η –±–Μ–Α–≥–Α –Ϋ–Β –¥–Α―é―²―¹―è –Μ–Β–≥–Κ–Ψ. –Δ–Α–Κ–Ψ–≤–Α ―¹–Μ―É–Ε–±–Α –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è―Ö –Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö, –≤ ―Ä–Β–Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Η –Η –≤ ―΅–Α―¹―²―è―Ö –Ϋ–Α ―É–¥–Α–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―²–Ψ―΅–Κ–Α―Ö ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄. –ö–≤–Α―Ä―²–Η―Ä–Ϋ―΄–Β ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è –Η –±―΄―² ―¹–Β–Φ―¨–Η –Ϋ–Β –≤―¹–Β–≥–¥–Α ―¹–Ϋ–Ψ―¹–Β–Ϋ. –•–Β–Ϋ―΄ ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –Ϋ–Β –Η–Φ–Β―é―², –Α –¥–Β―²–Η ―΅–Α―¹―²–Ψ –±–Ψ–Μ–Β―é―² –Η –Φ–Β–Ϋ―è―é―² ―à–Κ–Ψ–Μ―΄. 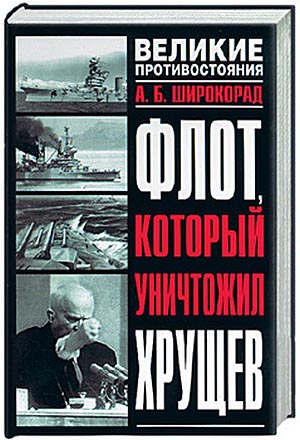 –ï―â–Β ―Ä–Α–Ζ ―Ö–Ψ―΅―É ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Β –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β - –≥―É–Φ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–Ψ―Ä–Η―²–Β―²–Ϋ―΄–Φ, –Α –≥–Ψ–Μ―΄–Β –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ―΄, –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–Κ―Ä–Β–Ω–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η –±–Μ–Α–≥–Α–Φ–Η, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―É–¥–Α―Ä―è―² –Ω–Ψ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Α–Φ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄. –£–Ψ-–Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö, ―ç―²–Η –Μ―é–¥–Η –Ϋ–Α –≤―¹―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Ψ–Κ–Α–Ε―É―²―¹―è –Ψ–±–Η–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ –Η―Ö –Ψ–±–Φ–Α–Ϋ―É–Μ–Η –Η –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Η –≤ –Ζ–Α―²―Ä―É–¥–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β, –¥–Ψ–Μ–≥–Η–Β –≥–Ψ–¥―΄ –Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Η―è –Ε–Η–Μ―¨―è, –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ―΄ –Ω–Β―Ä–Β―É―΅–Η–≤–Α–Ϋ–Η―è –Η ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄. –£–Ψ-–≤―²–Ψ―Ä―΄―Ö, –Ϋ–Α–±–Ψ―Ä –≤ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –±―É–¥–Β―² –Ζ–Α―²―Ä―É–¥–Ϋ―è―²―¨―¹―è, –Η –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―²–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –Ϋ–Β –Μ―É―΅―à–Η–Φ–Η –Κ–Α–Ϋ–¥–Η–¥–Α―²–Α–Φ–Η. –€–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α―²―¨ –Β―â–Β –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β–≥–Α―²–Η–≤–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ. –ù–Α–¥–Ψ –Ψ―²–Φ–Β―²–Η―²―¨ –Η ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–Β, –Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α –Ε–Η–Μ―¨―è ―É–Ω―Ä–Ψ―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²–Η–Ω–Α. –ü–Ψ―²–Ψ–Φ ―ç―²–Η –Κ–≤–Α―Ä―²–Η―Ä―΄ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η –Η ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ ―²–Ψ–Ε–Β –≤–Β–Μ–Η―΅–Α―é―² "―Ö―Ä―É―â–Β–≤–Κ–Α–Φ–Η". –€―΄ –±―΄–Μ–Η ―Ä–Α–¥―΄ –Η ―ç―²–Ψ–Φ―É. –£ ―²–Ψ –Ε–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―ç–Μ–Η―²–Ϋ–Ψ–Β –Ε–Η–Μ―¨–Β –¥–Μ―è –Ψ–±–Κ–Ψ–Φ–Ψ–≤ –Η –≥–Ψ―Ä–Κ–Ψ–Φ–Ψ–≤ –Ω–Α―Ä―²–Η–Η –Η –¥―Ä―É–≥–Ψ–≥–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨―¹―²–≤–Α. –ü–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Η–¥–Β–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η–Η –±―΄–Μ–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ, –Α –Ϋ–Α –¥–Β–Μ–Β –≤―¹–Β –±―΄–Μ–Ψ –Η–Ϋ–Α―΅–Β. –ù―É–Ε–¥―΄ ―Ä―è–¥–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ ―²―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Κ–Α –Ϋ–Β ―É―΅–Η―²―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Β―Ä–Β. –ü–Μ–Ψ―Ö–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―¹ –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―²–Α–Φ–Η –Η ―¹ ―ç–Μ–Β–Φ–Β–Ϋ―²–Α―Ä–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω―Ä–Ψ–Φ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Α–Φ–Η. –ö―²–Ψ –Ε–Η–Μ –Ω–Ψ–±–Μ–Η–Ε–Β –Κ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β, ―²–Β–Φ ―É–¥–Α–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ "–¥–Ψ―¹―²–Α―²―¨" –Φ―è―¹–Α –Η –Κ–Ψ–Μ–±–Α―¹―΄ ―¹ "–±–Α―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹―²–Ψ–Μ–Α". –ö 1990-–Φ –≥–Ψ–¥–Α–Φ –Η –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β ―¹―²–Α–Μ–Ψ –Ω―É―¹―²–Ψ, –Φ–Α–≥–Α–Ζ–Η–Ϋ―΄ –Ζ–Α–Κ―Ä―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―². –£–Ψ―² ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―² –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ –ù.–‰.–†―΄–Ε–Κ–Ψ–≤. –£ ―ç―²–Ψ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –≤ 1960 –≥–Ψ–¥―É –Φ―΄ –Ζ–Α–Κ–Α–Ϋ―΅–Η–≤–Α–Μ–Η –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η―é. –‰–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –Φ–Β–Μ―¨–Κ–Α–Μ–Α –Φ―΄―¹–Μ―¨ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É―Ö–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α "–≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ–Κ―É". –ü–Ψ―¹–Μ–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Η―è –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –≤―΄―¹―à–Β–≥–Ψ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è ―ç―²–Α –Ω–Β―Ä―¹–Ω–Β–Κ―²–Η–≤–Α –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Β –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―É–≥–Α–Μ–Α. –Δ―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –±―΄–Μ–Η ―¹ –Ε–Η–Μ―¨–Β–Φ. –£―¹–Β –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Η –Ϋ–Α―à–Η –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Η –Ϋ–Β–Ω–Μ–Ψ―Ö–Η–Β –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η―è. –ü―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –≤―¹―è –Ϋ–Α―à–Α –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α –±―΄–Μ–Α –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Α –≤ –ù–‰–‰ –€–û. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –Ζ–Α―â–Η―²―΄ –¥–Η–Ω–Μ–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Κ–Α–¥―Ä–Ψ–≤ –£–€–Λ –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –Φ–Ϋ–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ―è –≤ –£–£–€–Θ –≤ –≥. –ë–Α–Κ―É. –£ –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η –Ω―Ä–Ψ―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α–Μ―¹―è –≤–Α―Ä–Η–Α–Ϋ―² –Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Μ–Α–±–Ψ―Ä–Α―²–Ψ―Ä–Η–Η –Ϋ–Α –Κ–Α―³–Β–¥―Ä–Β, –Ϋ–Ψ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―¹ –Ε–Η–Μ―¨–Β–Φ –Ψ―²–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Η ―ç―²–Ψ―² –≤–Α―Ä–Η–Α–Ϋ―² –Ϋ–Α –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ω–Μ–Α–Ϋ. –· ―¹–≤―è–Ζ–Α–Μ―¹―è ―¹ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ –•–Β–Ϋ–Β–Ι –ê–Ϋ–¥―Ä–Η―è―à–Η–Ϋ―΄–Φ –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β –ë–Α–Κ―É, –Η –Ψ–Ϋ –Φ–Ϋ–Β –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―²–Ψ–≤–Α–Μ –¥–Α―²―¨ ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η–Β –Ϋ–Α –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ―É―é ―Ä–Α–±–Ψ―²―É, –Α –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ –Ε–Η–Μ―¨―è –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö –Ω–Ψ―Ä–Α―Ö –Ψ–±–Β―â–Α–Μ –≤–Ζ―è―²―¨ –Ϋ–Α ―¹–Β–±―è. –£―Ä–Ψ–¥–Β –≤―¹–Β ―¹–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω–Ψ–Μ―É―΅–Ϋ–Ψ. –ù–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Α –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ―¹―è –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ –Ψ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Η, ―¹–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η–Μ–Η –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â –£–€–Λ. –û–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –Ω–Β―Ä–Β–±–Ψ―Ä –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ–Β–Ι, ―¹ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ–Η –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Μ–Α –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ–Α ―²―Ä―É–¥–Ψ―É―¹―²―Ä–Ψ–Ι―¹―²–≤–Α. –£–Β–¥―¨ ―ç―²–Α –Κ–Α―²–Β–≥–Ψ―Ä–Η―è ―É–Ε–Β ―É―²–Β―Ä―è–Μ–Α ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –¥–Μ―è –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι, ―΅–Α―¹―²–Β–Ι –Η ―à―²–Α–±–Ψ–≤. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η –Η–Φ–Η ―É–Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―²–Ψ–≤―΄–≤–Α―²―¨ –≤–Α–Κ–Α–Ϋ―¹–Η–Η –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―É―΅–Η–Μ–Η―â. –‰–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―² ―²–Α–Κ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Η –¥–Β–Μ–Α–Β―²―¹―è, –≤―¹–Β –Κ –Μ―É―΅―à–Β–Φ―É. –· ―¹―΅–Η―²–Α―é, –¥–Μ―è –Φ–Β–Ϋ―è ―¹–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―²–Α–Κ. –£ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Β –Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä–Α –£–€–Λ ―è –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –≤ –Β–≥–Ψ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Η–Η. –ù–Ψ –Β―â–Β –¥–Ψ –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Β―΅–Β―Ä–Α –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ–Η –Κ –Ϋ–Α–Φ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄ –Ψ―² –ù–‰–‰-2 –ü–£–û (–≥. –ö–Α–Μ–Η–Ϋ–Η–Ϋ) –Ω–Ψ ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―é –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Κ–Α–¥―Ä–Ψ–≤ –€–û –¥–Μ―è –Ϋ–Α–±–Ψ―Ä–Α ―¹–Ψ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ϋ–Α –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ―É―é ―Ä–Α–±–Ψ―²―É. –î–Β–Μ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Ϋ–Ψ–Β –¥–Μ―è –Φ–Β–Ϋ―è, –Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è ―²–Β–Φ–Α―²–Η–Κ–Α –Ζ–Α–Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ψ–≤–Α–Μ–Α. –· –Ω–Ψ―¹–Ψ–≤–Β―²–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è ―¹ ―¹–Β–Φ―¨–Β–Ι, ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Φ–Η ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Α–Φ–Η, –¥―Ä―É–Ζ―¨―è–Φ–Η –Η –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –¥–Α―²―¨ ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η–Β. –£–Ψ―² ―²–Α–Κ ―è ―Ä–Α―¹–Ω―Ä–Ψ―â–Α–Μ―¹―è ―¹ ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ –¥–Ψ ―¹–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ. –û–Ϋ –¥–Α–Μ –Φ–Ϋ–Β –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η ―ç–Μ–Η―²–Ϋ–Ψ–Β –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Η ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Ι –Ψ–Ω―΄―² ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è―Ö –Η ―à―²–Α–±–Α―Ö –≤―΄―¹―à–Β–≥–Ψ –Ζ–≤–Β–Ϋ–Α ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è.  –ö–Ψ–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η–Ϋ –‰–≤–Α–Ϋ –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅. –Δ–≤–Β―Ä―¨, 1977 –≥. –î–Α–Μ–Β–Β –≤ –≤–Η–¥–Β –≥–Η–Ω–Β―Ä―¹―¹―΄–Μ–Ψ–Κ –Ϋ–Α –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―¹–Α–Ι―² :
20.12.201400:2520.12.2014 00:25:59
0
19.12.201400:1919.12.2014 00:19:43
–½–Α–≤–Β―Ä―à–Α–Μ–Η –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥–Κ―É –≤ –Ω–Ψ―¹–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Β, –≥–¥–Β –Ϋ–Α―¹ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Ψ―Ä–Φ–Η–Μ–Η –Η ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –≤ –Ω―É―²―¨. –£–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –≤–Β―΅–Β―Ä–Ψ–Φ, –Α –≤―΄–Β–Ζ–Ε–Α–Μ–Η –≤ –¦–Ψ–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ ―Ä–Α–Ϋ–Ψ ―É―²―Ä–Ψ–Φ. –£―¹–Β –±―΄–Μ–Ψ ―΅–Β―²–Κ–Ψ, –±–Β–Ζ –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―à–Β―¹―²–≤–Η–Ι. –ü–Ψ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Α―Ä―è–¥–Κ–Β ―è –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―΄–Μ –Β―Ö–Α―²―¨ –≤ –¦–Ψ–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ –Ζ–Α 2-3 –¥–Ϋ―è –¥–Ψ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―¹–Φ–Β–Ϋ―΄ ―¹ –¥–Β–Ε―É―Ä―¹―²–≤–Α –Ω–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―é. –€–Β–Ϋ―è –≤―΄–Ζ–≤–Α–Μ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –™.–Γ―²–Β–Ω–Α–Ϋ–Ψ–≤ –Η –Ψ–±―ä―è–≤–Η–Μ, ―΅―²–Ψ ―è –Ζ–Α–≤―²―Ä–Α –≤ –¦–Ψ–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ –Ϋ–Β –Β–¥―É, ―²–Α–Κ ―Ä–Β―à–Η–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä. –€–Β–Ϋ―è ―΅―É―²―¨ ―¹–Μ–Β–Ζ–Α –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―à–Η–±–Μ–Α –Ψ―² –Ψ–≥–Ψ―Ä―΅–Β–Ϋ–Η―è. –£ –¦–Ψ–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ ―²―΄ –Ω–Ψ–Ω–Α–¥–Β―à―¨, –Ϋ–Ψ ―É –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α ―¹–≤–Ψ–Η –Ω–Μ–Α–Ϋ―΄. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Φ–Ϋ–Β –≤―¹–Β ―΅–Β―²–Κ–Ψ –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –Φ–Ψ―è ―³–Α–Φ–Η–Μ–Η―è –≤ –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―¹–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –±–Η–Μ–Β―²–Β –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Ψ–Μ–Β–≤―¹–Κ–Η–Ι –±–Α–Μ –≤–Ψ –≥–Μ–Α–≤–Β ―¹ –Ϋ–Η–Φ. –≠―²–Ψ –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―à–Β–Ϋ–Η–Β ―è –¥–Ψ ―¹–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä ―Ö―Ä–Α–Ϋ―é. –û–Ϋ –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ψ–±―Ä–Α–Μ 12 –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ –≤–Ψ –≥–Μ–Α–≤–Β ―¹ –Ϋ–Η–Φ, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Η –Φ–Β–Ϋ―è. 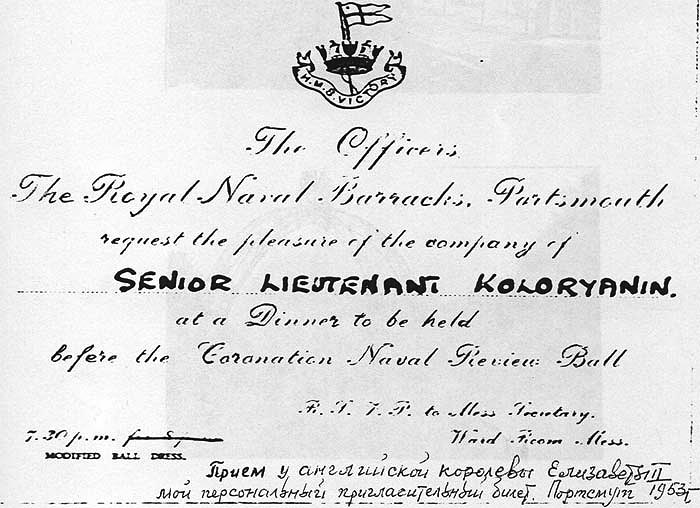 –ö–Α–Κ–Η–Β –Κ―Ä–Η―²–Β―Ä–Η–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –≤–Ζ―è–Μ –Ζ–Α –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤―É βÄ™ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Β–Φ―É –Η –≤ ―²–Α–Κ–Η―Ö ―¹–Μ―É―΅–Α―è―Ö –±―΄–Μ–Ψ –±―΄ –≥–Μ―É–Ω–Ψ –Ζ–Α–¥–Α–≤–Α―²―¨ –Κ–Α–Κ–Η–Β-–Μ–Η–±–Ψ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹―΄. –£–Ψ―² ―²―É―² ―è ―΅―É―²―¨ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹–Μ–Β–Ζ–Η–Μ―¹―è –Ψ―² ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Η. –£–Β–¥―¨ –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β –±―΄–Μ–Ψ –±–Ψ–Μ–Β–Β 120 –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ –Η –Β―â–Β –Ω―Ä–Η–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄. –ù–Α–¥–Ψ –Ψ–Ω―Ä–Α–≤–¥–Α―²―¨ –¥–Ψ–≤–Β―Ä–Η–Β. –‰–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―Ü–Η–Ι –Ψ―¹–Ψ–±―΄―Ö –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β –¥–Α–≤–Α–Μ, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Φ―΄ –±―É–¥–Β–Φ –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Α –Ψ–Ϋ –≥–¥–Β –≤―¹–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –¥―Ä―É–≥–Η―Ö ―¹―²―Ä–Α–Ϋ. –‰―Ö –±―΄–Μ–Ψ 16, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Ψ―² –Γ–®–ê. –Λ―Ä–Α–Ϋ―Ü–Η–Η, –‰―²–Α–Μ–Η–Η –Η –¥―Ä. –ö–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –±―΄–Μ–Η –≤―΄―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ―΄ –≤ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Μ–Η–Ϋ–Η–Ι, –Φ–Β―¹―²–Ψ –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –±―΄–Μ–Ψ ―³–Η–Κ―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ψ –Ζ–Α―Ä–Α–Ϋ–Β–Β, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Η –Κ―Ä–Μ "–Γ–≤–Β―Ä–¥–Μ–Ψ–≤". –£ ―ç―²–Η―Ö ―²–Ψ―΅–Κ–Α―Ö –±―΄–Μ–Η ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ―΄ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –±–Ψ―΅–Κ–Η –Ϋ–Α ―è–Κ–Ψ―Ä―è―Ö. –≠―²–Ψ –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ―É–Β―²―¹―è ―É –≤―¹–Β―Ö –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤. –ï―¹―²―¨ –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Η–Β, –Κ–Α–Κ ―à–≤–Α―Ä―²–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –±–Ψ―΅–Κ―É. –£ ―²–Α–Κ–Η―Ö ―¹–Μ―É―΅–Α―è―Ö ―¹–≤–Ψ–Ι ―è–Κ–Ψ―Ä―¨ –Ϋ–Β –±―Ä–Ψ―¹–Α–Β―²―¹―è –Ϋ–Α –≥―Ä―É–Ϋ―².  –ü―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η―΅–Ϋ–Α―è –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Κ–Α ―²–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η... (–Η–Ζ –Α―Ä―Ö–Η–≤–Α –î–Φ–Η―²―Ä–Η―è –ö―É–Ζ–Ϋ–Β―Ü–Ψ–≤–Α, ―Ä–Α–¥–Η―¹―²–Α –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Α). –ü–Ψ–Ζ–Ε–Β –Α–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Α―è –Κ–Ψ―Ä–Ψ–Μ–Β–≤–Α –ï–Μ–Η–Ζ–Α–≤–Β―²–Α II ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Φ―É–Ε–Β–Φ –≥–Β―Ä―Ü–Ψ–≥–Ψ–Φ –≠–¥–Η–Ϋ–±―É―Ä–≥―¹–Κ–Η–Φ –Λ–Η–Μ–Η–Ω–Ω–Ψ–Φ –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―è―Ö―²–Β –±―É–¥―É―² –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –Φ–Β–Ε–¥―É –Μ–Η–Ϋ–Η―è–Φ–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ ―¹–Α–Μ―é―²–Ψ–≤–Α―²―¨ –Η–Ζ –Ψ―Ä―É–¥–Η–Ι. –ü–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ψ –≤ ―²–Α–Κ–Η―Ö ―¹–Μ―É―΅–Α―è―Ö 21 –Ζ–Α–Μ–Ω. –≠―²–Ψ―² ―Ä–Η―²―É–Α–Μ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è ―¹–Α–Μ―é―²–Ψ–Φ –Ϋ–Α―Ü–Η–Ι. –ù–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤ –Ψ –Κ–Ψ―Ä–Ψ–Μ–Β–≤–Β. –û–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Α –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Α―è, 1926 –≥–Ψ–¥–Α ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è, –Ϋ–Ψ –Κ ―²–Ψ–Φ―É –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η ―É–Ε–Β –Η–Φ–Β–Μ–Α ―²―Ä–Ψ–Η―Ö –¥–Β―²–Β–Ι, –±―΄–Μ–Α ―É –Ϋ–Β–Β ―¹–Β―¹―²―Ä–Α –€–Α―Ä–≥–Α―Ä–Β―² –Φ–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β –Β–Β. –™–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Α –≤–Β–¥–Β―² –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –Ψ–±―Ä–Α–Ζ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η, ―΅–Α―¹―²–Ψ –±―΄–≤–Α–Β―² –≤ ―Ä–Β―¹―²–Ψ―Ä–Α–Ϋ–Α―Ö –≤ –Κ―Ä―É–≥―É –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄―Ö –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤, –Ϋ–Ψ –Ω–Ψ –Ϋ–Ψ―΅–Α–Φ –Ζ–Α–Φ–Α–Μ–Η–≤–Α–Β―² –≥―Ä–Β―Ö–Η. –≠―²–Ψ –≤–Β―Ä―¹–Η―è ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η―²–Β–Μ–Β–Ι, –Α ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Α–Φ ―¹–Ψ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –Ω–Ψ―¹–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Α. –ï–Μ–Η–Ζ–Α–≤–Β―²―É II ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Η –Ϋ–Α –Ω―Ä–Β―¹―²–Ψ–Μ, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ–Α –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α―¹―¨ –Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Β–Β–Φ–Ϋ–Η―Ü–Β–Ι ―²–Η―²―É–Μ–Α –Κ–Ψ―Ä–Ψ–Μ–Β–≤―΄. –ë―Ä–Α―² –Κ–Ψ―Ä–Ψ–Μ―è –±―΄–Μ –Ε–Β–Ϋ–Α―² –Ϋ–Α –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Α–Κ―²―Ä–Η―¹–Β, –Α ―ç―²–Ψ –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Α–Μ–Ψ –Β–Φ―É –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ζ–Α–Ϋ―è―²―¨ –Ω―Ä–Β―¹―²–Ψ–Μ. –Δ–Α–Κ–Η–Β ―É –Ϋ–Η―Ö –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΄. –Γ –Φ―É–Ε–Β–Φ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Κ–Ψ―Ä–Ψ–Μ–Β–≤–Α –±―΄–Μ–Α –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Α –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ, –Ψ–Ϋ –≤ –≤–Ψ–Ι–Ϋ―É –±―΄–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –±–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è –≤ –‰―²–Α–Μ–Η–Η. –û–Ϋ–Α ―΅–Α―¹―²–Ψ –Ϋ–Α–≤–Β―â–Α–Μ–Α –Β–≥–Ψ, –Η ―É –Ϋ–Η―Ö ―¹–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Η―¹―¨ ―¹–Α–Φ―΄–Β ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ―΄–Β –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä―¹–Ω–Β–Κ―²–Η–≤―É. –£ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―¹―²–Η –Φ―É–Ε –±―΄–Μ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―à―É―¹―²―Ä―΄–Φ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄–Φ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Φ –Η –Φ–Ψ–≥ –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ–Η―²―¨ ―¹–Β–±–Β –≤―¹―è–Κ–Ψ–Β. –ù–Ψ ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Α ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Β ―¹–Μ―É―Ö–Ψ–≤, –Ψ ―΅–Β–Φ –Ϋ–Α–Φ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η –≤ –Ω–Ψ―¹–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Β –Η –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Η―¹―²―΄. –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ω–Ψ―Ä–Α ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Ψ ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Η–Β–Φ–Β –Η–Μ–Η –±–Α–Μ–Β –≤ ―΅–Β―¹―²―¨ –Κ–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Α―Ü–Η–Η –ï–Μ–Η–Ζ–Α–≤–Β―²―΄ II. –≠―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ –≤ ―à–Η–Κ–Α―Ä–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α–Μ–Α―Ö –ü–Ψ―Ä―²―¹–Φ―É―²–Α, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α ―é–≥–Β –ê–Ϋ–≥–Μ–Η–Η. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Μ –Ϋ–Α―¹ –≤―¹–Β―Ö ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –±–Α–Μ–Α –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Κ–Α―é―²–Β: "–ù―É, ―¹–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Η–Κ–Η, –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Β–¥–Η―²–Β –Φ–Β–Ϋ―è, –≤–Β–¥–Η―²–Β ―Ä–Α―¹–Κ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Ψ –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ. –£–Β―¹–Β–Μ–Η―²–Β―¹―¨ –Κ–Α–Κ –≤―¹–Β, –Ϋ–Η–Κ―É–¥–Α –Ϋ–Β ―É–Β–¥–Η–Ϋ―è–Ι―²–Β―¹―¨ –≤–Ψ –Η–Ζ–±–Β–Ε–Α–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Κ–Α―Ü–Η–Ι". –ë―΄–Μ–Η –Φ―΄ –≤―¹–Β –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄–Β, –Ϋ–Ψ ―è ―É–Ε–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Η ―¹–Μ―É–Ε–Β–±–Ϋ―΄–Ι –Ψ–Ω―΄―². –€–Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ 26 –Μ–Β―², ―¹–Μ―É–Ε–±–Α –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è―Ö βÄ™ 4 –≥–Ψ–¥–Α.  –ù–Α ―¹–≤–Ψ–Β–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Α―²–Β―Ä–Β –Ϋ–Α―¹ –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Η –Κ –Ω–Η―Ä―¹―É –ü–Ψ―Ä―²―¹–Φ―É―²–Α. –Δ–Α–Φ –Ε–Β ―¹–Κ–Ψ–Ω–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Η―¹―²–Ψ–≤ –Η ―Ä–Β–Ω–Ψ―Ä―²–Β―Ä–Ψ–≤. –£―Ä–Β–Φ―è –¥–Μ―è –Ψ–±―¹―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –±―΄–Μ–Ψ –Φ–Α–Μ–Ψ, –≤―¹–Β ―Ä–Α―¹–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ –Φ–Η–Ϋ―É―²–Α–Φ. –ù–Α –Ω–Η―Ä―¹–Β –Ϋ–Α―¹ –Ε–¥–Α–Μ –Α–≤―²–Ψ–±―É―¹. –ü―Ä–Η–Β–Φ –±―΄–Μ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ ―¹–≤–Ψ–Β–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ, –≤ –¥–≤–Α ―ç―²–Α–Ω–Α –≤ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö –Φ–Β―¹―²–Α―Ö –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α. –Γ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Η–Ϋ–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―Ü―΄ –Η –Α–Ϋ–≥–Μ–Η―΅–Α–Ϋ–Β ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Ζ–Α–Μ–Α―Ö –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –Ω–Ψ 200-250 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –≥–¥–Β –±―΄–Μ–Α –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ –¥–≤―É―Ö―΅–Α―¹–Ψ–≤–Α―è ―Ä–Α–Ζ–Φ–Η–Ϋ–Κ–Α, –Α –Ζ–Α―¹―²–Ψ–Μ―¨–Β - –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–Β. –Γ―²–Ψ–Μ―΄ –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Α–Κ―Ä―΄―²―΄ –Ω–Ψ –≤―¹–Β–Φ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Α–Φ, –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Η–Ϋ–Α, –≤–Η―¹–Κ–Η, –Ζ–Α–Κ―É―¹–Κ–Α, ―¹–Α–Μ–Α―²―΄, ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Β ―³―Ä―É–Κ―²―΄. –£–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β ―è ―É–≤–Η–¥–Β–Μ –Α–Ϋ–Α–Ϋ–Α―¹. –Γ –Ϋ–Α–Φ–Η –±―΄–Μ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä ―¹–≤―è–Ζ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ω–Ψ-―Ä―É―¹―¹–Κ–Η. –ù–Β ―É―¹–Ω–Β–Μ–Η –Φ―΄ –Ζ–Α–Ι―²–Η –≤ –≥–Ψ―¹―²–Η–Ϋ–Η―Ü―É, –Κ–Α–Κ –Κ –Ϋ–Α–Φ –Ω–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ―΅–Η–Μ –Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Ϋ―² ―¹ –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Ψ―¹–Ψ–Φ, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ ―¹―²–Ψ―è–Μ–Η ―Ä―é–Φ–Κ–Η –≤–Η―¹–Κ–Η –Η –Ζ–Α–Κ―É―¹–Κ–Α, –Φ―΄ –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ –Ψ―²–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η―¹―¨. –û―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ–Η ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β –Η ―É–Ε–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ–Η –¥–Ψ–Ζ―É, ―à–Μ–Α –Ψ–Ε–Η–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –±–Β―¹–Β–¥–Α. –€―΄ –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ–Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Β, –Ϋ–Α–Φ –≤―¹–Β –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β, ―É–Μ―΄–±–Κ–Η –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ –Η –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ. –û–Ϋ–Η –≤–Β–Μ–Η ―¹–Β–±―è ―Ä–Α―¹–Κ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ. –€―΄ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–≤―΄–Κ–Μ–Η –Κ ―ç―²–Ψ–Φ―É –≤ –≥–Ψ―¹―²―è―Ö, –Ϋ–Ψ ―¹―²–Α―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²―¨ –≤–Η–¥―É, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Φ―É―â–Β–Ϋ―΄. –û―³–Η―Ü–Β―Ä ―¹–≤―è–Ζ–Η –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ–Η–Μ –Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Ϋ―²―É, ―΅―²–Ψ –Φ―΄ –Ω–Ψ–Κ―É―Ä–Η–Φ, –Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –≤―΄–Ω―¨–Β–Φ –≤–Η―¹–Κ–Η. –û–Ϋ ―¹–Μ–Β–¥–Η–Μ –Ζ–Α –Ϋ–Α–Φ–Η, –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ―² –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Β –Ψ―²–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―²―¨―¹―è, –Η –Φ―΄ –≤―΄–Ω–Η–Μ–Η –≥―Ä–Α–Φ–Φ –Ω–Ψ 50 –≤–Η―¹–Κ–Η –Η –Ζ–Α–Κ―É―¹–Η–Μ–Η –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Η–Φ–Η –Ω–Η―Ä–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Φ–Η. –î–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –≤–Η―¹–Κ–Η ―ç―²–Ψ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Η–Ι ―¹―É―Ä―Ä–Ψ–≥–Α―², –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α―à–Α –Ϋ–Β–Ψ―΅–Η―â–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ–Ϋ–Κ–Α. –ë–Ψ–Μ―¨―à–Β ―è –Κ –Ϋ–Β–Ι –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―²―Ä–Α–≥–Η–≤–Α–Μ―¹―è –Ζ–Α –≤–Β―¹―¨ –≤–Β―΅–Β―Ä.  –£―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –Ϋ–Α―¹ –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―¹–Η–Μ–Η –≤ –Ζ–Α–Μ, –≥–¥–Β –±―΄–Μ–Η ―Ä–Ψ―¹–Κ–Ψ―à–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Κ―Ä―΄―²―΄ ―¹―²–Ψ–Μ―΄. –ß–Β―Ä–Β–Ζ –Ω―è―²―¨ –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤ ―¹―²–Ψ―è–Μ–Α –Ψ–±―¹–Μ―É–≥–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ–Α ―³―É–Ε–Β―Ä―΄. –≠―²–Ψ –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η–Β –Ω–Α―Ä–Ϋ–Η, –Ϋ–Β ―¹―²–Α―Ä―à–Β 25 –Μ–Β―². –½–Α ―¹―²–Ψ–Μ–Α–Φ–Η –Φ―΄ –±―΄–Μ–Η ―Ä–Α―¹–Ω–Η―¹–Α–Ϋ―΄ ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―¹–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –±–Η–Μ–Β―²–Α–Φ. –Γ–±–Ψ–Κ―É –Ψ–±―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–Η–¥–Β–Μ–Α –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Α―è –Α–Ϋ–≥–Μ–Η―΅–Α–Ϋ–Κ–Α –≤ –±–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Μ–Α―²―¨–Β. –ü―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η―¹―¨ ―²–Ψ―¹―²―΄, –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Β–≤–Α―²―¨―¹―è, –Ϋ–Α―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η–Β ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–Β. –ï―¹–Μ–Η ―Ä―é–Φ–Κ―É –≤―΄–Ω–Η–Μ –≤―¹―é –Ω–Ψ-―Ä―É―¹―¹–Κ–Η, ―²–Ψ ―²–Β–±–Β ―²―É―² –Ε–Β –Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Ϋ―², ―¹―²–Ψ―è―â–Η–Ι –Ζ–Α ―¹–Ω–Η–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Α–Μ―¨–Β―² ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Ι ―³―É–Ε–Β―Ä. –€―΄ ―ç―²–Ψ ―¹―Ä–Α–Ζ―É ―É―΅–Μ–Η. –û―³–Η―Ü–Β―Ä ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹–Η–¥–Β–Μ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ –Η –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ω–Ψ ―²–≤–Ψ–Β–Ι –Ω―Ä–Ψ―¹―¨–±–Β –Φ–Ψ–≥ –Ω–Β―Ä–Β–≤–Β―¹―²–Η ―²–Ψ―¹―² –Η–Μ–Η ―Ä–Β–Ω–Μ–Η–Κ―É –Ω―Ä–Η –Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η–Η ―¹ ―¹–Ψ―¹–Β–¥–Κ–Ψ–Ι. –ü–Ψ–Μ―É―΅–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –≤―¹–Β ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ. –€―΄ –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Α–≤–Β―¹–Β–Μ–Β, –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Ϋ–Β ―É–Ω–Η–Μ―¹―è –Η–Ζ –≥–Ψ―¹―²–Β–Ι, –Η –Ϋ–Α―¹ –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―¹–Η–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ–Ι―²–Η –Ω–Β―à–Κ–Ψ–Φ –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤ 300-400 –Ω–Ψ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―É, –≥–¥–Β ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ―¹―è –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η–Β–Φ ―¹ –Ϋ–Α–Κ―Ä―΄―²―΄–Φ–Η ―¹―²–Ψ–Μ–Α–Φ–Η –Ϋ–Α 4 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α. –ë―΄–Μ–Ψ –Ψ–±–Η–Μ–Η–Β ―à–Α–Φ–Ω–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ –Μ―¨–¥–Ψ–Φ. –†–Α―¹―¹–Β–Μ–Η―¹―¨ –Φ―΄ –Ω–Ψ –¥–≤–Α –Ϋ–Α―à–Η―Ö –Η –Ω–Ψ –¥–≤–Β –Α–Ϋ–≥–Μ–Η―΅–Α–Ϋ–Κ–Η, ―¹ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ–Η ―¹–Η–¥–Β–Μ–Η ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β. –ë―΄―¹―²―Ä–Ψ –Ψ―¹–≤–Ψ–Η–Μ–Η―¹―¨, –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥ –Κ–Ψ–Ϋ―²–Α–Κ―²–Ϋ―΄–Ι –Η ―Ä–Α―¹–Κ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι. –‰–≥―Ä–Α–Μ–Α –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α, –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η―¹―¨ ―²–Α–Ϋ―Ü―΄: ―²–Α–Ϋ–≥–Ψ, ―³–Ψ–Κ―¹―²―Ä–Ψ―², –≤–Α–Μ―¨―¹ –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β. –ü–Ψ―¹–Μ–Β ―Ä–Α–Ζ–Ψ–≥―Ä–Β–≤–Α ―²–Α–Ϋ―Ü–Β–≤–Α–Μ–Η ―¹ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ –Α–Ζ–Α―Ä―²–Ψ–Φ. –ü–Ψ―²–Ψ–Φ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η, –Κ–Α–Κ ―É –Ϋ–Α―¹ –≤ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η, ―¹–¥–≤–Η–≥–Α―²―¨ 2-3 ―¹―²–Ψ–Μ–Α. –· ―¹–Β–Μ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―²–Α–Κ, ―΅―²–Ψ–± –±―΄–Μ –±–Μ–Η–Ε–Β –Κ ―É–≥–Μ―É. –ß–Β―Ä–Β–Ζ –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–¥―΅–Η–Κ–Α ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –¥–Α–Φ–Α–Φ, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ –Ϋ–Α―à–Β–Φ―É –Ψ–±―΄―΅–Α―é, ―²–Ψ―², –Κ―²–Ψ ―¹–Η–¥–Η―² –Ϋ–Α ―É–≥–Μ―É ―¹―²–Ψ–Μ–Α, –Β―â–Β 7 –Μ–Β―² –Ϋ–Β –Ε–Β–Ϋ–Η―²―¹―è. –ß―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ. –Γ–Φ–Β―Ö –¥–Ψ –Κ–Ψ–Μ–Η–Κ–Ψ–≤ –≤ –Ε–Η–≤–Ψ―²–Β –Η –Α–Ϋ–≥–Μ–Η―΅–Α–Ϋ–Κ–Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η –¥–≤–Η–≥–Α―²―¨ –Φ–Β–Ϋ―è –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹–Ψ ―¹―²―É–Μ–Ψ–Φ ―¹ ―É–≥–Μ–Α ―¹―²–Ψ–Μ–Α. –ë―΄–Μ–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Φ–Β―Ö–Α –Ψ―² –¥―É―à–Η. –£–Ψ–Ψ–±―â–Β –Φ―΄ –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Α ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Β. –ü–Β―Ä–Β–¥ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ―΄–Φ ―²–Α–Ϋ―Ü–Β–Φ –Κ–Ψ –Φ–Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–Ψ―à–Β–Μ –Φ–Ψ–Ι –¥―Ä―É–≥ –‰–≤–Α–Ϋ –ü–Α–Ϋ–Ψ–≤ –Η ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥―Ä―É–≥–Α –Ω–Ψ ―¹―²–Ψ–Μ―É –Ω―Ä–Ψ―¹–Η―² –Φ–Β–Ϋ―è ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Β–≤–Α―²―¨ ―¹ –Ϋ–Β–Ι. –û–Ϋ–Α –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α―¹―¨ –Η–Ζ –ù–Ψ–≤–Ψ–Ι –½–Β–Μ–Α–Ϋ–¥–Η–Η, –Ε–Β–Ϋ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α. –· –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥ –Ψ―²–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –≤ –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η–Η –¥―Ä―É–≥–Α. –•–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α –Ψ―¹―²–Α–Μ–Α―¹―¨ –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Α. –£–Ψ―² ―²–Α–Κ ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―à–Β–Μ –≥―Ä–Α–Ϋ–¥–Η–Ψ–Ζ–Ϋ―΄–Ι –±–Α–Μ. –£ –Ζ–Α–Μ–Β –Ζ–¥–Β―¹―¨ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β 1500 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ. –£―Ä–Β–Φ―è –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ –Κ –Ϋ–Α―à–Β–Φ―É ―É–±―΄―²–Η―é –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨.  –†–Α―¹―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤―¹–Β –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –±―΄–Μ –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ–Β–Ϋ –Ϋ–Α–Φ–Η, –Η –Φ―΄ –±―΄–Μ–Η –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η–Β–Φ. –ù–Α ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ ―è ―É–Β―Ö–Α–Μ ―Ä–Α–Ϋ–Ψ ―É―²―Ä–Ψ–Φ –Ϋ–Α ―ç–Κ―¹–Κ―É―Ä―¹–Η―é –≤ –¦–Ψ–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ. –ù–Β–Μ―¨–Ζ―è –Ψ–Ω―É―¹―²–Η―²―¨ –Η ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –≤–Α–Ε–Ϋ―΄–Ι –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―². –½–Α –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥ –≤ –ê–Ϋ–≥–Μ–Η–Η –Ϋ–Α–Φ –≤―΄–¥–Α–Μ–Η –Ζ–Α–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Ϋ―É―é –≤–Α–Μ―é―²―É –≤ ―³―É–Ϋ―²–Α―Ö ―¹―²–Β―Ä–Μ–Η–Ϋ–≥–Ψ–≤. –û―³–Η―Ü–Β―Ä–Α–Φ –¥–Α–Μ–Η –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ 10 ―³―É–Ϋ―²–Ψ–≤. –€–Α―²―Ä–Ψ―¹–Α–Φ –Ω–Ψ 3-4 ―³―É–Ϋ―²–Α. –ù–Β ―É–¥–Η–≤–Μ―è–Ι―²–Β―¹―¨, –Ω–Ψ ―²–Β–Φ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α–Φ ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Η –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η. –î–Β―¹―è―²―¨ ―³―É–Ϋ―²–Ψ–≤ ―Ä–Α–≤–Ϋ―è–Μ–Η―¹―¨ –Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Α 120 ―Ä―É–±–Μ–Β–Ι. –ù–Α ―ç―²–Η –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Κ–Ψ–Β-―΅―²–Ψ –Κ―É–Ω–Η―²―¨. –ù–Ψ –Κ–Α–Κ ―²―Ä–Α―²–Η―²―¨ –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η, –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Φ–Α–Μ–Ψ –Ϋ–Α―à–Β –Ω–Ψ―¹–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ. –ß–Α―¹―²–Ϋ―΄–Ι –Φ–Α–≥–Α–Ζ–Η–Ϋ –Ω―Ä–Η–≤–Β–Ζ –≤―¹–Β –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨. –ü–Ψ–≥–Ψ–¥–Α ―¹―²–Ψ―è–Μ–Α ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Α―è, –≤―΄–Ϋ–Β―¹–Μ–Η ―¹―²–Ψ–Μ―΄ –Ϋ–Α –≤–Β―Ä―Ö–Ϋ―é―é –Ω–Α–Μ―É–±―É, –Ω–Ψ–Κ―É–Ω–Α–Μ–Η, –Κ―²–Ψ ―΅―²–Ψ ―Ö–Ψ―²–Β–Μ. –î–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ ―¹―²–Ψ–Η–Μ–Η –Η–Ζ–¥–Β–Μ–Η―è –Η–Ζ –Φ–Β―²–Α–Μ–Μ–Α, –≥–Ψ―²–Ψ–≤―΄–Β –Ω–Ψ―à–Η―²―΄–Β –≤–Β―â–Η. –Δ–Α–Φ –Ω–Ψ―à–Η–≤ –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ–Ι –Η ―Ä–Α–≤–Β–Ϋ ―¹―²–Ψ–Η–Φ–Ψ―¹―²–Η ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ–Α. –ù–Α ―ç―²–Η 10 ―³―É–Ϋ―²–Ψ–≤ ―è –Κ―É–Ω–Η–Μ –Ψ―²―Ä–Β–Ζ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–Ι ―à–Β―Ä―¹―²–Η –Ϋ–Α –±―Ä―é–Κ–Η, ―²–Β–Φ–Ϋ–Ψ-–Κ―Ä–Β–Φ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ ―Ü–≤–Β―²–Α. –ï―â–Β –Κ―É–Ω–Η–Μ –±–Β–Μ―É―é ―à–Β–Μ–Κ–Ψ–≤―É―é ―Ä―É–±–Α―Ö―É, –±–Ψ―¹―²–Ψ–Ϋ –Ϋ–Α –Ω–Η–¥–Ε–Α–Κ –Η –Β―â–Β –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ –Φ–Β–Μ–Ψ―΅–Η. –ù–Α –Ϋ–Α―à–Η –Φ–Β―Ä–Κ–Η ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Α 200 ―Ä―É–±–Μ–Β–Ι. –ù–Α―¹―²–Α–Μ–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α―²―¨―¹―è –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι. –ù–Α―¹―²―Ä–Ψ–Ι –±―΄–Μ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι, ―¹ ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–Φ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ–Μ–≥–Α. –ü―Ä–Η –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Β –Γ–Κ–Α–Ϋ–¥–Η–Ϋ–Α–≤―¹–Κ–Η―Ö –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤–Ψ–≤ –Φ―΄ ―à–Μ–Η –Ω–Ψ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―²―Ä–Β–≤–Ψ–≥–Β. –û–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è, –≤ –ë–Β―Ä–Μ–Η–Ϋ–Β –±―΄–Μ –Ω―É―²―΅, –Ϋ–Ψ –Β–≥–Ψ –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –Ϋ–Β–Ι―²―Ä–Α–Μ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ–Η ―¹–Η–Μ–Ψ–≤―΄–Φ–Η –Ω―Ä–Η–Β–Φ–Α–Φ–Η, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β ―¹ –Ω―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―²–Α–Ϋ–Κ–Ψ–≤. –Γ –Ω―Ä–Η–±–Μ–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Κ –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ―É –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Η―Ö –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤ –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨ –±―΄–Μ–Α –Ϋ―É–Μ–Β–≤–Α―è, –≥―É―¹―²–Ψ–Ι ―²―É–Φ–Α–Ϋ, –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä―΄–±–Ψ–Μ–Ψ–≤–Β―Ü–Κ–Η―Ö ―¹―É–¥–Ψ–≤. –ë–Ψ–Μ―¨―à–Α―è ―²―è–Ε–Β―¹―²―¨ –Μ–Β–≥–Μ–Α –Ϋ–Α –Ω–Μ–Β―΅–Η –Φ–Ψ–Β–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄. –†–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Η ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Α―²–Ψ―Ä―΄ –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η―è –±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è. –ö–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –Φ–Α–Ϋ–Β–≤―Ä–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ –Ϋ–Α –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Α―à–Β–Ι –Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η–Η, ―΅―²–Ψ–± –Η–Ζ–±–Β–Ε–Α―²―¨ ―¹―²–Ψ–Μ–Κ–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η―è ―¹ ―Ä―΄–±–Α–Κ–Α–Φ–Η. –ù–Α―à –≤–Β–Μ–Η–Κ–Α–Ϋ –Η―Ö –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ω–Ψ–¥–Φ―è–Μ –±―΄ –Ω–Ψ–¥ ―¹–Β–±―è, –Ϋ–Β –Ψ―¹―²–Α–≤–Η–≤ ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤. –î–Μ–Η–Ϋ–Α –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Α 210 –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤, ―à–Η―Ä–Η–Ϋ–Α 30 –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤ –Η –Ψ―¹–Α–¥–Κ–Α 7 –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤, –Φ–Α–Κ―¹–Η–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²―¨ 33 ―É–Ζ–Μ–Α, ―΅―²–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―² –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Α 60 –Κ–Φ/―΅–Α―¹.  –£ –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Β –Ϋ–Α―¹ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Μ–Η –≤―¹–Β –Ε–Η―²–Β–Μ–Η, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –™–Ψ–Μ–Ψ–≤–Κ–Ψ –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―΄–Β –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Η, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä–Ψ–Ι –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –ê–±–Α―à–≤–Η–Μ–Η. –ù–Α―΅–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Φ–Α―¹―¹–Ψ–≤–Ψ–Β –Ω–Ψ―¹–Β―â–Β–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è ―¹–Ψ―¹–Β–¥―è–Φ–Η ―¹ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι, –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η ―¹–Β–Φ―¨–Η –Η –Ε–Η―²–Β–Μ–Η –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α. –€–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ–Ψ –Α―Ä―²–Η―¹―²–Ψ–≤ –Η–Ζ –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄. –Δ–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Α –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Ϋ–Β–Ι. –ù–Α―¹―²―É–Ω–Α–Μ–Η –±–Ψ–Β–≤―΄–Β –±―É–¥–Ϋ–Η, ―¹–¥–Α―΅–Α –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Ζ–Α–¥–Α―΅ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ–Η–≥–Ψ–Ϋ–Α―Ö. –ù–Ψ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ 15-20 –¥–Ϋ–Β–Ι –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Α ―²―Ä–Α–≥–Β–¥–Η―è –Η–Ζ-–Ζ–Α –Ϋ–Β–±―Ä–Β–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Α―à–Η―Ö –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η―¹―²–Ψ–≤ ―É–Ϋ–Η–≤–Β―Ä―¹–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α–Μ–Η–±―Ä–Α. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α –±―΄–Μ –£.–ö―É–Μ―¨–Κ–Ψ–≤ (–Μ–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β―Ü). –€―΄ –±―΄–Μ–Η –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β, –Ω–Ψ–≥–Ψ–¥–Α –±―΄–Μ–Α ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Α―è, –¥–≤–Α –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Α –Ψ―²―Ä–Α–±–Α―²―΄–≤–Α–Μ–Η –±―É–Κ―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Κ―É –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –≤ –Α–≤–Α―Ä–Η–Ι–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Β. –Δ―Ä–Α–≥–Β–¥–Η―è ―É–Ϋ–Β―¹–Μ–Α –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η ―¹–Β–Φ–Η ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ –Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α βÄ™ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α ―É–Ϋ–Η–≤–Β―Ä―¹–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α–Μ–Η–±―Ä–Α –£–Ψ–Μ–Ψ–¥–Η –ö―É–Μ―¨–Κ–Ψ–≤–Α. –ü–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―²–Α–Κ, ―΅―²–Ψ –¥–Μ―è ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–± ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Η ―¹―²–≤–Ψ–Μ–Η–Κ–Η 45 –Φ–Φ –Ω―É―à–Κ–Η, ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Α 100 –Φ–Φ –Ω―É―à–Κ―É –¥–Μ―è ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄―Ö ―Ü–Β–Μ–Β–Ι. –≠–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η–Μ–Η –±–Ψ–Β–Ζ–Α–Ω–Α―¹ 100 –Φ–Φ –Ω―É―à–Β–Κ. –£―¹–Β–≥–¥–Α ―ç―²–Ψ –Μ–Β–≥–Κ–Ψ ―É–¥–Α–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Α –Ω―É―à–Κ–Α―Ö –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α–Μ–Η–±―Ä–Α (152 –Φ–Φ). –ù–Ψ –Ζ–¥–Β―¹―¨ ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Η –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²―¨ –Ζ–Α–¥–Α―΅―É ―²–Α–Κ–Η–Φ –Φ–Β―²–Ψ–¥–Ψ–Φ –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β. –€–Α―²―Ä–Ψ―¹ –Η–Ζ-–Ζ–Α –Μ―é–±–Ψ–Ω―΄―²―¹―²–≤–Α –Ζ–Α–Μ–Β–Ζ –Ϋ–Α –±–Α―à–Ϋ―é –Η –Ϋ–Β―΅–Α―è–Ϋ–Ϋ–Ψ ―Ä―É–±–Α―Ö–Ψ–Ι –Ζ–Α–¥–Β–Μ ―¹–Ω―É―¹–Κ–Ψ–≤–Ψ–Ι ―Ä―΄―΅–Α–≥, ―¹―²–≤–Ψ–Μ–Η–Κ –≤―΄―¹―²―Ä–Β–Μ–Η–Μ –≤ –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥–Η ―¹―²–Ψ―è―â―É―é –±–Α―à–Ϋ―é, –≥–¥–Β –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ ―²–Β ―¹–Β–Φ―¨ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ. –Γ–Ϋ–Α―Ä―è–¥ –Ω―Ä–Ψ–±–Η–Μ –±―Ä–Ψ–Ϋ–Β–≤–Ψ–Ι ―â–Η―² –Η –Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ–Κ–Α–Φ–Η –Ω–Ψ―Ä–Α–Ζ–Η–Μ ―ç―²–Η―Ö ―Ä–Β–±―è―². –ü–Ψ–Μ–Β―²–Β–Μ–Η –Κ―É―¹–Κ–Η ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―²–Β–Μ–Α –Ω–Ψ –≤―¹–Β–Φ―É –Ω―Ä–Α–≤–Ψ–Φ―É –±–Ψ―Ä―²―É. –ö–Ψ–Φ―É ―Ä–Α–Ζ–≤–Ψ―Ä–Ψ―²–Η–Μ–Ψ –≥―Ä―É–¥―¨, –Κ–Ψ–Φ―É –Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ–Κ–Η –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ–Η –≤ –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ―΄. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Κ–Ψ–Φ–¥–Η–≤ –Ω―Ä–Ψ–Ε–Η–Μ –¥–Β―¹―è―²―¨ –¥–Ϋ–Β–Ι, –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥―è –≤ ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Β. –Γ―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ―΄ –Η –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä –±―΄–Μ–Η –Μ–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―Ü–Α–Φ–Η, ―Ö–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Μ–Η –Η―Ö ―²–Α–Φ. –ü–Ψ―΅―²–Η –≤―¹–Β ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ―΄ –Ψ―²―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ–Η –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β 5 –Μ–Β―² –Η –Ε–¥–Α–Μ–Η ―¹–Ψ –¥–Ϋ―è –Ϋ–Α –¥–Β–Ϋ―¨ –¥–Β–Φ–Ψ–±–Η–Μ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η. –‰ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―²―¨ ―ç―²–Ψ ―΅―Ä–Β–Ζ–≤―΄―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―à–Β―¹―²–≤–Η–Β. –≠―²–Ψ –ß–ü ―É–¥–Α―Ä–Η–Μ–Ψ –Ω–Ψ –Ϋ–Α–Φ –≤―¹–Β–Φ. –£ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β ―Ä–Β―à–Α–Μ―¹―è –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ –Ψ –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Α―¹ –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Α–Φ–Η –Η –Φ–Β–¥–Α–Μ―è–Φ–Η –Ζ–Α ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ–Β –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–¥–Α–Ϋ–Η―è, –Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ε–¥–Α–Μ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Β –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Η –Ω–Ψ–≤―΄―à–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ ―¹–Μ―É–Ε–±–Β. –†―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ –Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≤―Ä―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ϋ–Α–Φ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ε–Β―²–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ " " –Η –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―΅–Α―¹–Ψ–≤ –Ψ―² –Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä–Α. –£–Ψ―² ―²–Α–Κ–Η–Β –±―΄–≤–Α―é―² ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Ϋ―΄–Β –Η –≥–Ψ―Ä―¨–Κ–Η–Β, ―²―Ä–Α–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η –Ω–Ψ―΅―²–Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ.  –≠―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Η―é–Ϋ―è 1953 –≥–Ψ–¥–Α. –Δ–Α–Κ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―è–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ ―¹―É–¥―¨–±–Α. –û–±―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Β ―¹ –Ψ―Ä―É–Ε–Η–Β–Φ –¥–Β–Μ–Ψ ―²–Ψ–Ϋ–Κ–Ψ–Β, ―²–Β–Φ –±–Ψ–Μ–Β–Β ―É –Ϋ–Α―¹ ―²–Α–Κ–Ψ–Β –≥―Ä–Ψ–Ζ–Ϋ–Ψ–Β –Ψ―Ä―É–Ε–Η–Β, –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Β –Η –Φ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ-―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ–Ψ–Β. –ï–≥–Ψ –Ψ–±―¹–Μ―É–Ε–Η–≤–Α–Μ–Α –¥–Ψ–±―Ä–Α―è –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Α ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Η –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η―è. –£ 1953 –≥–Ψ–¥―É –≤―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –≤–Η–Ζ–Η―²–Α –≤ –ê–Ϋ–≥–Μ–Η―é –Ω–Ψ–¥ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Η–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –™–Ψ–Μ–Ψ–≤–Κ–Ψ –Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä–Ψ–Ι –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –ê–±–Α―à–≤–Η–Μ–Η ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ―¹―¨ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Β –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ-―²–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β ―¹ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Ψ–≤, ―ç―¹–Φ–Η–Ϋ―Ü–Β–≤, ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β–≤―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι ―¹ ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β–Φ –Η―¹―²―Ä–Β–±–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–Ι –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Η –Η –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄. –Δ–Α–Κ–Η–Β ―É―΅–Β–Ϋ–Η―è ―²―â–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≥–Ψ―²–Ψ–≤―è―²―¹―è ―à―²–Α–±–Α–Φ–Η –Η ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ, –Ψ―²―Ä–Α–±–Α―²―΄–≤–Α―é―²―¹―è ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Η–Β–Φ―΄ –Η –Φ–Β―²–Ψ–¥―΄ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ψ―Ä―É–Ε–Η―è –Η ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Η. –≠―²–Ψ ―¹―΅–Η―²–Α–Β―²―¹―è –Ζ–Α–≤–Β―Ä―à–Α―é―â–Η–Φ ―ç―²–Α–Ω–Ψ–Φ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η. –ê―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Η–Β ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–±―΄ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥―è―²―¹―è –Ω–Ψ ―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―Ü–Β–Μ–Η (–†–Θ–ö "–Π–Β–Μ―¨";) –Η–Μ–Η –±―É–Κ―¹–Η―Ä―É–Β–Φ–Ψ–Φ―É ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É ―â–Η―²―É –Ϋ–Α –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –¥–Η―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―è―Ö. –ü―É―à–Κ–Η –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α–Μ–Η–±―Ä–Α –Ω–Ψ―Ä–Α–Ε–Α–Μ–Η ―Ü–Β–Μ–Η –Ϋ–Α ―Ä–Α―¹―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Η –≤ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Β―¹―è―²–Κ–Ψ–≤ –Κ–Η–Μ–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤. –Θ―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹―É―²–Ψ–Κ ―¹ –Ζ–Α―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ –Ϋ–Α ―Ä–Β–Ι–¥ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Ϋ–Α. –ù–Α –±–Β―Ä–Β–≥ ―¹–Ψ–Ι―²–Η –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Ϋ–Β ―É―¹–Ω–Β–Μ, –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Α ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –≤–Β―Ä–Ϋ―É―²―¨―¹―è –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ. –ù–Α –Φ–Α–Κ―¹–Η–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Ω–Ψ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―²―Ä–Β–≤–Ψ–≥–Β, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤–Β―¹―¨ –Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Φ–Β―¹―²–Α―Ö –Η –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―΄―²―¨ –≥–Ψ―²–Ψ–≤ –≤ –Μ―é–±―É―é –Φ–Η–Ϋ―É―²―É –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²―¨ –Ψ–≥–Ψ–Ϋ―¨ –Ϋ–Α –Ω–Ψ―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β. –ù–Ψ―΅–Η –±―΄–Μ–Η –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―²–Β–Φ–Ϋ―΄–Β, –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ϋ–Α–≥―Ä―É–Ζ–Κ–Α –±–Ψ–Μ―¨―à–Α―è –Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α –Φ–Ψ―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η―è –±–Β–Ζ–Α–≤–Α―Ä–Η–Ι–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è –Η –≤―΄–¥–Α―΅–Η –Η―¹―Ö–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤ –Ω―Ä–Η–±–Ψ―Ä―΄ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ψ–≥–Ϋ–Β–Φ (–ü–Θ–Γ). –û―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –±–Ψ–Μ―¨―à–Α―è –Η –¥–Μ―è ―Ä–Α―¹―¹–Μ–Α–±–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Β―² ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η–Ι. –£–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ψ–±―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―É―²–Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ ―²―Ä–Β–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Η –Ω–Ψ ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Φ ―Ü–Β–Μ―è–Φ –Ϋ–Α –Φ–Ψ―Ä–Β –Η –≤ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Β. –ù–Α –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Η–Ζ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Ω–Ψ–≥–Η–± –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹ –Φ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ-―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄. –û–Ϋ, –Ψ―΅–Β–≤–Η–¥–Ϋ–Ψ, –Ζ–Α–¥―Ä–Β–Φ–Α–Μ –Ϋ–Α ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Α–Ω–Ω–Α―Ä–Α―²–Β –Η –Ω–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Β "–û―²–±–Ψ–Ι" ―¹–Ω―Ä―΄–≥–Ϋ―É–Μ ―¹ –Δ–ê, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É-―²–Ψ –±―΄–Μ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β―Ä–Ϋ―É―² –Η –Ϋ–Α–≤–Η―¹–Α–Μ –Ϋ–Α–¥ –Φ–Ψ―Ä–Β–Φ. –î–Β–Μ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―²–Β–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Ψ―΅―¨―é, –Η –Ψ–Ϋ ―Ä―É―Ö–Ϋ―É–Μ –≤ .  –ü–Ψ–Ω―΄―²–Κ–Η –Ϋ–Α–Ι―²–Η –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Α ―É―¹–Ω–Β―Ö–Α –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Μ–Η. –ü–Ψ –Ω―Ä–Η–±―΄―²–Η–Η –Κ –Φ–Β―¹―²―É –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Φ―΄ –≤ –Ψ–±―â–Η―Ö ―΅–Β―Ä―²–Α―Ö ―É–Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ―É –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η―è. –£ ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –±―É–Ϋ―²–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Ω–Ψ–Μ―è–Κ–Η, –¥–Β–Μ–Ψ ―à–Μ–Ψ –Κ ―¹–Φ–Β–Ϋ–Β ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Α –≤ –Ω–Α―Ä―²–Η–Η –Η –≤ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β. –ö –≤–Μ–Α―¹―²–Η ―Ä–≤–Α–Μ―¹―è –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―΄–Ι –Ψ–Ω–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨ –™–Ψ–Φ―É–Μ–Κ–Α. –ö –Γ–Γ–Γ–† –Ψ–Ϋ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ―¹―è –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ε–Β–Μ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Α –Η–Ϋ–Α―΅–Β –Ψ–Ϋ –Η –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ –Φ―΄ –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Α–Κ―Ü–Η―é –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö –Ω–Ψ―Ä–Α―Ö –¥–Β–Φ–Ψ–Ϋ―¹―²―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ―É―é. –ö –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü–Α–Φ –ü–Ψ–Μ―¨―à–Η –≤―΄–¥–≤–Η–Ϋ―É–Μ–Η ―²–Α–Ϋ–Κ–Η, –Α –Ϋ–Α―à–Η –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Α ―¹―²–Ψ―è–Μ–Η –Ϋ–Α ―Ä–Β–Ι–¥–Β –Ω–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Η―Ö –Ω―Ä–Η–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–≤ –≤ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Ι –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ω―É―à–Κ–Η –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ―΄ –Ϋ–Α –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥. –ë–Β–Ζ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄ –Ψ―Ä―É–Ε–Η―è –Ω―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ―è―²―¨ –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è. –ü–Ψ–Μ―è–Κ–Η –≤ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ –Φ–Η―²–Η–Ϋ–≥–Ψ–≤–Α–Μ–Η, ―Ä―É–≥–Α–Μ–Η –Γ–Γ–Γ–† –Ζ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Φ―΄, –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄–≤–Α―è―¹―¨ –Ω–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Η–Φ ―³–Μ–Α–≥–Ψ–Φ, –Ω―Ä–Ψ–¥–Α–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –ï–≥–Η–Ω―²―É –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Φ –Α―³―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Α–Φ. –ù–Α―à–Η―Ö –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤ –Ω–Β―Ä–Β–Ψ–¥–Β–≤–Α–Μ–Η –≤ –Ω–Ψ–Μ―¨―¹–Κ―É―é ―³–Ψ―Ä–Φ―É. –≠―²–Ψ, –Ψ―΅–Β–≤–Η–¥–Ϋ–Ψ, –±―΄–Μ–Η –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –Ω–Ψ–Ω―΄―²–Κ–Η ―¹–Κ―Ä―΄―²–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–¥–Α–Ε–Η –Ψ―Ä―É–Ε–Η―è. –ù–Α―à–Η ―¹–Ψ–≤–Β―²–Ϋ–Η–Κ–Η –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Β―¹―è―Ü–Β–≤ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ ―ç―²–Η―Ö ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Α―Ö –Η ―É―΅–Η–Μ–Η –Α―Ä–Α–±–Ψ–≤ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―é –Ω―Ä–Ψ–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―Ä―É–Ε–Η―è. –û–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Α ―¹ –ü–Ψ–Μ―¨―à–Β–Ι –Ϋ–Α–Κ–Α–Μ–Η–Μ–Α―¹―¨, –Ϋ–Α―à–Η―Ö –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹–Ψ–≤–Β―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η –Ψ―²–Ζ―΄–≤–Α―²―¨, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Φ–Α―Ä―à–Α–Μ–Α –†–Ψ–Κ–Ψ―¹―¹–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –±―΄–Μ ―É –Ϋ–Η―Ö –Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä–Ψ–Φ –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄. –™–Ψ–Φ―É–Μ–Κ–Α ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –≤―΄–≤–Ψ–¥―΄ –Η –Ζ–Α–≤–Β―Ä–Η–Μ –Ϋ–Α―à–Η –Ω―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –¥–Β–Μ–Β–≥–Α―Ü–Η–Η –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –±―É–¥–Β―² –≤―¹–Β –Ϋ–Ψ―Ä–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Ψ–Ϋ ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Η―²―¹―è ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹–Η–Μ–Α–Φ–Η. –Γ–Μ–Ψ–≤–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β –™–Ψ–Φ―É–Μ–Κ–Α ―¹–¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ, –Η –Κ―Ä–Ψ–≤―¨ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–Μ–Α―¹―¨. –ï―¹–Μ–Η –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―²―¨ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―é ―²–Β―Ö –Μ–Β―², ―²–Ψ –≤ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Α―Ö –¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η–Η –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω―É―²―΅–Β–Ι, –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β –ë–Ψ–Μ–≥–Α―Ä–Η–Η –Η –†―É–Φ―΄–Ϋ–Η–Η. –°–≥–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Η―è –Η –ê–Μ–±–Α–Ϋ–Η―è –Ψ―² –Ϋ–Α―¹ –Ψ―²–≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Η―¹―¨ –Η–Ζ-–Ζ–Α ―¹―¹–Ψ―Ä –Φ–Β–Ε–¥―É –Ϋ–Α―à–Η–Φ –Η –Η―Ö –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ. –£–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹–Η–Μ―΄ –Η –£–€–Λ –≤ ―²–Α–Κ–Η―Ö ―¹–Μ―É―΅–Α―è―Ö –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –±―΄―²―¨ –≥–Ψ―²–Ψ–≤―΄ –Κ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Ζ–Α–¥–Α―΅ ―¹ –Ω―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―¹–Η–Μ–Ψ–≤―΄―Ö –Ω―Ä–Η–Β–Φ–Ψ–≤. –Δ–Α–Κ –±―΄–Μ–Ψ –≤ –£–Β–Ϋ–≥―Ä–Η–Η, –ß–Β―Ö–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Α–Κ–Η–Η –Η –£–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –™–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ–Η–Η. –Γ―É–¥―è –Ω–Ψ –≤―¹–Β–Φ―É, ―ç―²–Η–Φ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Α–Φ –Ϋ–Β –Ϋ―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α―à–Η –Φ–Β―²–Ψ–¥―΄ ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –≤ –Ω―Ä–Ψ–Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η ―¹–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Φ ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι―¹―²–≤–Β. –û–Ϋ–Η –±–Μ–Η–Ε–Β –±―΄–Μ–Η –Κ –Ζ–Α–Ω–Α–¥―É –Η –≤–Η–¥–Β–Μ–Η ―²–Α–Φ –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ―É ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η –≥–Μ–Α–Ζ–Α–Φ–Η. –‰–Φ –Ϋ–Β –Ϋ―Ä–Α–≤–Η–Μ―¹―è –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ω–Α―Ä―²–Η–Ι–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι ―Ä–Β–Ε–Η–Φ, –Ε–Β―¹―²–Κ–Η–Β –Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Β–Ϋ–Η―è –≤ –Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η–Η ―¹ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Α–Φ–Η ―¹–Ψ―¹–Β–¥–Ϋ–Η―Ö ―¹―²―Ä–Α–Ϋ. –•–Η―²―¨ –Ω–Ψ –Ϋ–Α―à–Η–Φ –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Η–≤–Α–Φ –Ϋ–Β ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Η –¥–Α–Ε–Β –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Μ–Η–¥–Β―Ä―΄ –¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―²–Ψ–Μ–Κ–Α ―²–Η–Ω–Α –î―É–±―΅–Β–Κ–Α –≤ –ß–Β―Ö–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Α–Κ–Η–Η –Η –¥―Ä. –· –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Ψ–Μ–Ψ–≥ –Η –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―é –Μ–Η―à―¨ ―¹–≤–Ψ–Β –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η –≤–Ω–Β―΅–Α―²–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ψ―¹―²–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ω―Ä–Β–±―΄–≤–Α–Ϋ–Η―è –≤ –·–Ω–Ψ–Ϋ–Η–Η, –ö–Ψ―Ä–Β–Η, –ü–Ψ–Μ―¨―à–Β, –ê–Ϋ–≥–Μ–Η–Η –Η ―¹―Ä–Α–≤–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è ―¹ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –≤ –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β. –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―²
19.12.201400:1919.12.2014 00:19:43
–Γ―²―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü―΄:
–ü―Ä–Β–¥.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
–Γ–Μ–Β–¥.
|
|
–™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β –Ζ–Α –Ϋ–Β–¥–Β–Μ―é
|












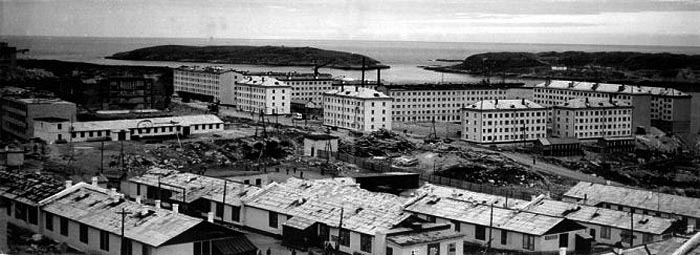
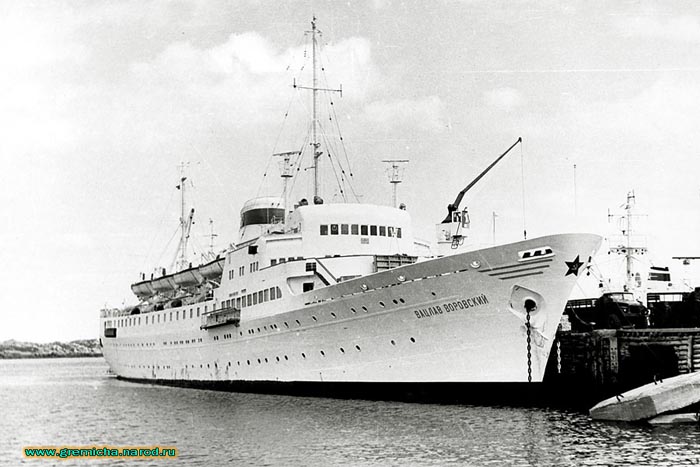


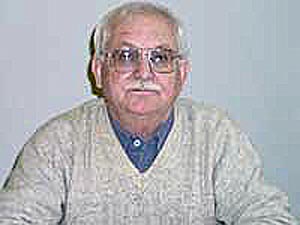

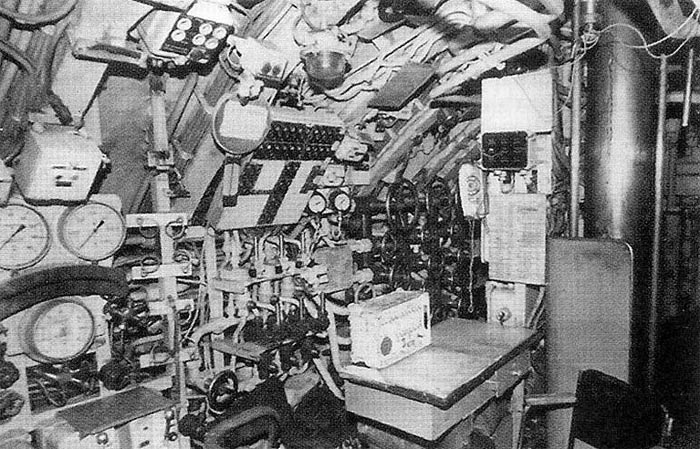
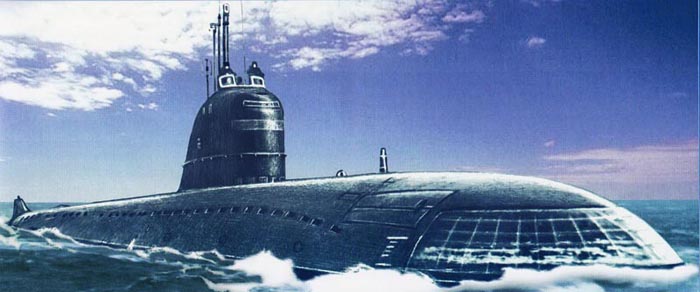



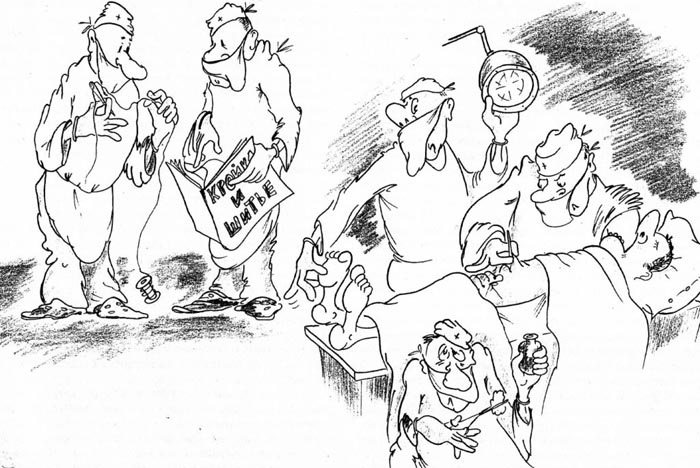







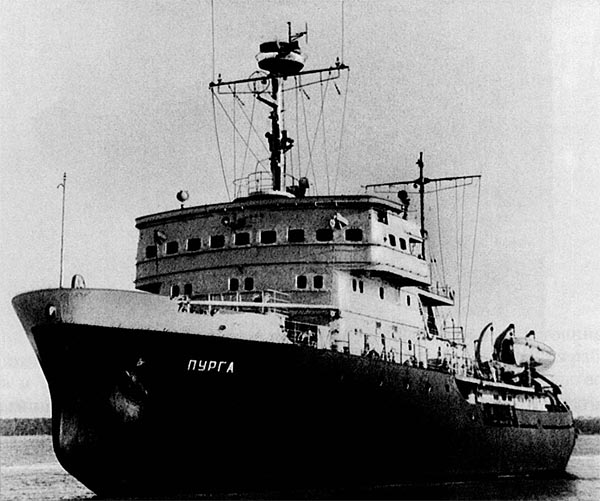


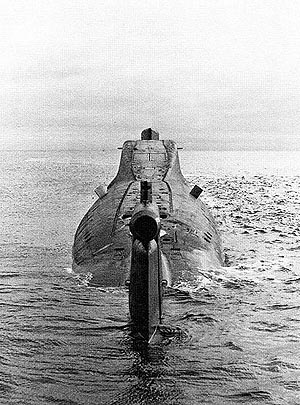


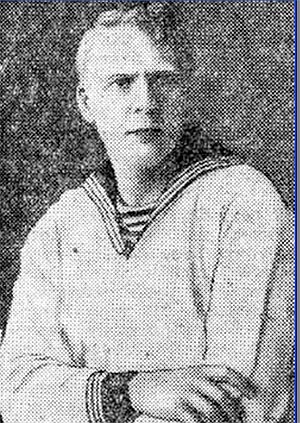



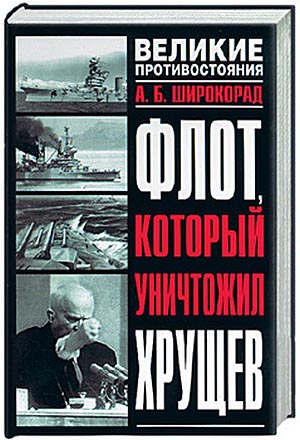

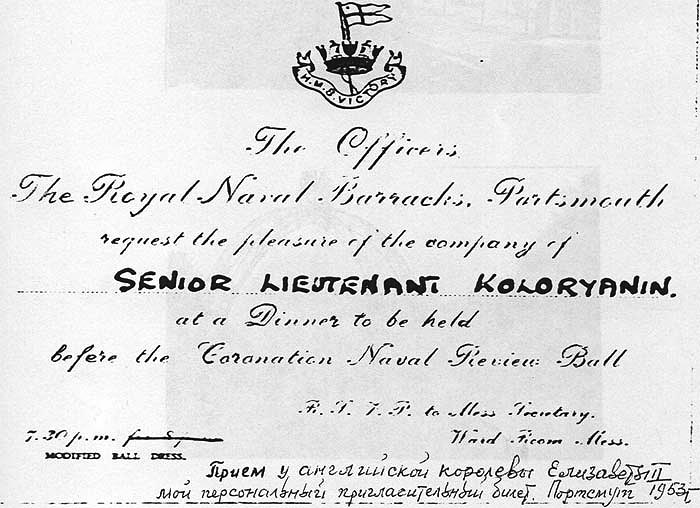







.jpg)


