–ë–Α–Ϋ–Ϋ–Β―Ä

–ù–Ψ–≤―΄–Ι ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ-―²―Ä–Β–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―², –Ω–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Η–Ι –Ϋ–Α –·–Κ-3
|
–£―¹–Κ–Ψ―Ä–Φ–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹ –Κ–Ψ–Ω―¨―è - –Γ–Ψ–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Α –Φ–Α―Ä―² 2014 –≥–Ψ–¥–Α
0
18.03.201400:4818.03.2014 00:48:42
–ö–Ψ―¹–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Β –Ψ–Ζ–Β―Ä–Α βÄ™ –Ε–Β–Φ―΅―É–Ε–Η–Ϋ―΄ –Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–¥―΄ –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―è―²―¹―è –Ω–Ψ–¥ –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―é–Ϋ―΄―Ö –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ–Β–Ι –≠–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α, ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α –±–Α–Ζ–Β –ö–Ψ―¹–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –¥–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Μ―É–±–Α. –ö―Ä–Ψ–Ω–Ψ―²–Μ–Η–≤–Α―è –Η ―¹–Η―¹―²–Β–Φ–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α –Ω–Ψ ―¹–±–Ψ―Ä―É –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Η –Ψ–Ζ–Β―Ä, –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–≤―à–Α―è―¹―è –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Η –≤―¹–Β–≥–Ψ –Μ–Β―²–Α –Ω–Ψ–¥ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ –Ψ–Ω―΄―²–Ϋ―΄―Ö –Ω–Β–¥–Α–≥–Ψ–≥–Ψ–≤, –Ϋ–Β–Ζ–Α–Φ–Β–¥–Μ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Μ–Α ―¹–≤–Ψ–Η ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²―΄. –ù–Α ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–≤―à–Β–Φ―¹―è 12 ―³–Β–≤―Ä–Α–Μ―è 2014 –≥–Ψ–¥–Α –€–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ ―é–Ϋ–Η–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ –≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―É―Ä―¹–Β ―¹―²–Α―Ä―à–Β–Κ–Μ–Α―¹―¹–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ω–Ψ–±–Β–¥–Η―²–Β–Μ―è–Φ–Η –≤―΄―à–Μ–Η –Κ–Ψ―¹–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Β –Η―¹–Ω―΄―²–Α―²–Β–Μ–Η –Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–¥―΄. –ö―Ä–Ψ–Ω–Ψ―²–Μ–Η–≤–Α―è –Η ―¹–Η―¹―²–Β–Φ–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α –Ω–Ψ ―¹–±–Ψ―Ä―É –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Η –Ψ–Ζ–Β―Ä, –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–≤―à–Α―è―¹―è –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Η –≤―¹–Β–≥–Ψ –Μ–Β―²–Α –Ω–Ψ–¥ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ –Ψ–Ω―΄―²–Ϋ―΄―Ö –Ω–Β–¥–Α–≥–Ψ–≥–Ψ–≤, –Ϋ–Β–Ζ–Α–Φ–Β–¥–Μ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Μ–Α ―¹–≤–Ψ–Η ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²―΄. –ù–Α ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–≤―à–Β–Φ―¹―è 12 ―³–Β–≤―Ä–Α–Μ―è 2014 –≥–Ψ–¥–Α –€–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ ―é–Ϋ–Η–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ –≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―É―Ä―¹–Β ―¹―²–Α―Ä―à–Β–Κ–Μ–Α―¹―¹–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ω–Ψ–±–Β–¥–Η―²–Β–Μ―è–Φ–Η –≤―΄―à–Μ–Η –Κ–Ψ―¹–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Β –Η―¹–Ω―΄―²–Α―²–Β–Μ–Η –Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–¥―΄. –ü―Ä–Ψ–Β–Κ―² –Ξ–Α―Ä―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ –ï–Κ–Α―²–Β―Ä–Η–Ϋ―΄ βÄ™ ―΅–Μ–Β–Ϋ–Α –ö–Ψ―¹–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Μ―É–±–Α –Η ―É―΅–Β–Ϋ–Η―Ü―΄ –™–ë–û–Θ –Γ–û–® ⳕ 2035 ¬Ϊ–û―Ü–Β–Ϋ–Κ–Α ―Ä–Β―¹―É―Ä―¹–Ψ–≤ –Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ-–Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Α―Ä–Κ–Α ¬Ϊ–ö–Ψ―¹–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι¬Μ –¥–Μ―è –Ω―Ä–Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Κ–Η ―ç–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö ―²―Ä–Ψ–Ω¬Μ –Ω–Ψ–¥ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ –™–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Β–≤–Α –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ–Η―è –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅–Α ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ. –£ –±–Ψ―Ä―¨–±–Β –Ζ–Α –Ω–Β―Ä–≤–Β–Ϋ―¹―²–≤–Ψ ―à–Μ–Α ―¹―Ä–Β–¥–Η 20 –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Ψ–≤ –Μ―É―΅―à–Η―Ö ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Η―Ö –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―à–Κ–Ψ–Μ –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄. –Δ–Β–Φ –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β, –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―² –ï–Κ–Α―²–Β―Ä–Η–Ϋ―΄ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –≤―΄―¹–Ψ–Κ―É―é –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Κ―É –Ε―é―Ä–Η –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ζ–Α –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―É –Η –Ω―Ä–Ψ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ–Α, –Ϋ–Ψ –Η –Ζ–Α –Β–≥–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –£ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β ¬Ϊ–ö–Ψ―¹–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Θ―Ö―²–Ψ–Φ―¹–Κ–Η–Ι¬Μ –Ω–Ψ –Η–Ϋ–Η―Ü–Η–Α―²–Η–≤–Β –ö–Ψ―¹–Η―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Μ―É–±–Α ―É–Ε–Β –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –≤–Β–¥–Β―²―¹―è ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α –Ω–Ψ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Α–±–Ψ―²–Κ–Β ―ç–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Η –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Κ–Ψ-–Ω―Ä–Ψ―¹–≤–Β―²–Η―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι ―²―Ä–Ψ–Ω―΄ –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥ –Ψ–Ζ–Β―Ä–Α –ë–Β–Μ–Ψ–Β. –£ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Α–±–Ψ―²–Κ–Β ―²―Ä–Ψ–Ω―΄ ―É―΅–Α―¹―²–≤―É―é―² –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ–Η –±–Η–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η–Η ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―à–Κ–Ψ–Μ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α, ―΅–Μ–Β–Ϋ―΄ –≠–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α, ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²―΄ –Ω–Ψ –Ψ―¹–Ψ–±–Ψ –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―è–Β–Φ―΄–Φ ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η―è–Φ –£–ê–û –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄. –™–Ψ―²–Ψ–≤―΄ –Ω–Ψ–¥–Κ–Μ―é―΅–Η―²―¨―¹―è ―É―΅–Η―²–Β–Μ―è –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η –Η –Κ―Ä–Α–Β–≤–Β–¥―΄-–Μ―é–±–Η―²–Β–Μ–Η βÄ™ –Ε–Η―²–Β–Μ–Η ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α. –£ ―Ü–Β–Μ–Ψ–Φ, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Β―²―¹―è –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Η–Ι –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―². –ü―Ä–Ψ–Β–Κ―² –Ξ–Α―Ä―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ –ï–Κ–Α―²–Β―Ä–Η–Ϋ―΄ βÄ™ ―΅–Μ–Β–Ϋ–Α –ö–Ψ―¹–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Μ―É–±–Α –Η ―É―΅–Β–Ϋ–Η―Ü―΄ –™–ë–û–Θ –Γ–û–® ⳕ 2035 ¬Ϊ–û―Ü–Β–Ϋ–Κ–Α ―Ä–Β―¹―É―Ä―¹–Ψ–≤ –Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ-–Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Α―Ä–Κ–Α ¬Ϊ–ö–Ψ―¹–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι¬Μ –¥–Μ―è –Ω―Ä–Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Κ–Η ―ç–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö ―²―Ä–Ψ–Ω¬Μ –Ω–Ψ–¥ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ –™–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Β–≤–Α –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ–Η―è –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅–Α ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ. –£ –±–Ψ―Ä―¨–±–Β –Ζ–Α –Ω–Β―Ä–≤–Β–Ϋ―¹―²–≤–Ψ ―à–Μ–Α ―¹―Ä–Β–¥–Η 20 –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Ψ–≤ –Μ―É―΅―à–Η―Ö ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Η―Ö –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―à–Κ–Ψ–Μ –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄. –Δ–Β–Φ –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β, –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―² –ï–Κ–Α―²–Β―Ä–Η–Ϋ―΄ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –≤―΄―¹–Ψ–Κ―É―é –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Κ―É –Ε―é―Ä–Η –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ζ–Α –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―É –Η –Ω―Ä–Ψ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ–Α, –Ϋ–Ψ –Η –Ζ–Α –Β–≥–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –£ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β ¬Ϊ–ö–Ψ―¹–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Θ―Ö―²–Ψ–Φ―¹–Κ–Η–Ι¬Μ –Ω–Ψ –Η–Ϋ–Η―Ü–Η–Α―²–Η–≤–Β –ö–Ψ―¹–Η―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Μ―É–±–Α ―É–Ε–Β –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –≤–Β–¥–Β―²―¹―è ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α –Ω–Ψ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Α–±–Ψ―²–Κ–Β ―ç–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Η –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Κ–Ψ-–Ω―Ä–Ψ―¹–≤–Β―²–Η―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι ―²―Ä–Ψ–Ω―΄ –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥ –Ψ–Ζ–Β―Ä–Α –ë–Β–Μ–Ψ–Β. –£ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Α–±–Ψ―²–Κ–Β ―²―Ä–Ψ–Ω―΄ ―É―΅–Α―¹―²–≤―É―é―² –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ–Η –±–Η–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η–Η ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―à–Κ–Ψ–Μ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α, ―΅–Μ–Β–Ϋ―΄ –≠–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α, ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²―΄ –Ω–Ψ –Ψ―¹–Ψ–±–Ψ –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―è–Β–Φ―΄–Φ ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η―è–Φ –£–ê–û –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄. –™–Ψ―²–Ψ–≤―΄ –Ω–Ψ–¥–Κ–Μ―é―΅–Η―²―¨―¹―è ―É―΅–Η―²–Β–Μ―è –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η –Η –Κ―Ä–Α–Β–≤–Β–¥―΄-–Μ―é–±–Η―²–Β–Μ–Η βÄ™ –Ε–Η―²–Β–Μ–Η ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α. –£ ―Ü–Β–Μ–Ψ–Φ, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Β―²―¹―è –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Η–Ι –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―². –ö–Ψ–Ψ―Ä–¥–Η–Ϋ–Η―Ä―É–Β―² ―ç―²―É ―Ä–Α–±–Ψ―²―É ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―¨ –ö–Ψ―¹–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―ç–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α –™–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Β–≤ –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ–Η–Ι –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅. –½–Α –Β–≥–Ψ –Ω–Μ–Β―΅–Α–Φ–Η –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Ι –Ψ–Ω―΄―² –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ-–Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –≤ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö ―É–≥–Ψ–Μ–Κ–Α―Ö –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄ –Η –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Η–Ι –Ψ–Ω―΄―² –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ϋ–Β ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –≤―¹–Β –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²―΄ –Ω–Ψ–¥ –Β–≥–Ψ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ –≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Β –≥–Ψ–¥―΄ –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η –Ω―Ä–Η–Ζ–Ψ–≤―΄–Β –Φ–Β―¹―²–Α –Ϋ–Α ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö –Η –Φ–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―É―Ä―¹–Α―Ö. –£ –Ζ–Ϋ–Α–Κ –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Η–Ε–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ–Η―è –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅–Α –Ω–Ψ ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é –Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–¥―΄ –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄ –Η –ü–Ψ–¥–Φ–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤―¨―è, –Ψ–Ϋ –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ –Φ–Β–¥–Α–Μ―¨―é –ù–Β–Ω―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―ç–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Ψ–Ϋ–¥–Α –Η–Φ–Β–Ϋ–Η –£. –‰. –£–Β―Ä–Ϋ–Α–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ. –ö–Ψ–Ψ―Ä–¥–Η–Ϋ–Η―Ä―É–Β―² ―ç―²―É ―Ä–Α–±–Ψ―²―É ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―¨ –ö–Ψ―¹–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―ç–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α –™–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Β–≤ –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ–Η–Ι –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅. –½–Α –Β–≥–Ψ –Ω–Μ–Β―΅–Α–Φ–Η –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Ι –Ψ–Ω―΄―² –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ-–Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –≤ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö ―É–≥–Ψ–Μ–Κ–Α―Ö –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄ –Η –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Η–Ι –Ψ–Ω―΄―² –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ϋ–Β ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –≤―¹–Β –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²―΄ –Ω–Ψ–¥ –Β–≥–Ψ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ –≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Β –≥–Ψ–¥―΄ –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η –Ω―Ä–Η–Ζ–Ψ–≤―΄–Β –Φ–Β―¹―²–Α –Ϋ–Α ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö –Η –Φ–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―É―Ä―¹–Α―Ö. –£ –Ζ–Ϋ–Α–Κ –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Η–Ε–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ–Η―è –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅–Α –Ω–Ψ ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é –Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–¥―΄ –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄ –Η –ü–Ψ–¥–Φ–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤―¨―è, –Ψ–Ϋ –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ –Φ–Β–¥–Α–Μ―¨―é –ù–Β–Ω―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―ç–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Ψ–Ϋ–¥–Α –Η–Φ–Β–Ϋ–Η –£. –‰. –£–Β―Ä–Ϋ–Α–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ. –ù–Ψ –Ϋ–Β –≤ ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Β –Κ–Ψ―¹–Η–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö ―é–Ϋ―΄―Ö –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ–Β–Ι –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Α–≤–Μ–Η–≤–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –¥–Ψ―¹―²–Η–≥–Ϋ―É―²―΄―Ö ―Ä―É–±–Β–Ε–Α―Ö. –‰–Φ –¥–Α–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Α–≤–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è―²―¨ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹―΄ –≤―¹–Β–Ι ―¹―²–Ψ–Μ–Η―Ü―΄ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è―â–Β–Φ –£―¹–Β―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ ―é–Ϋ–Η–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―É―Ä―¹–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―¹–Ψ―¹―²–Ψ–Η―²―¹―è –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Α–Ω―Ä–Β–Μ―è. –ö–Ψ―¹–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Β ―ç–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η –≤―΄–Ι–¥―É―² –Ϋ–Α –Ϋ–Β–≥–Ψ ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –¥–Ψ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Ψ–Ι ¬Ϊ–ü―Ä–Ψ–Β–Κ―² ―É–Μ―É―΅―à–Β–Ϋ–Η―è ―ç–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η―è –ö–Ψ―¹–Η–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Ψ–Ζ–Β―Ä¬Μ. –ü–Ψ–±–Β–¥–Η―²–Β–Μ–Η ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―É―Ä―¹–Α –±―É–¥―É―² –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Η –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²―΄ –≤ ―¹―²–Ψ–Μ–Η―Ü–Β –®–≤–Β―Ü–Η–Η, –≤ –Γ―²–Ψ–Κ–≥–Ψ–Μ―¨–Φ–Β –≤ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä―è ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α –€–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ ―é–Ϋ–Η–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―É―Ä―¹–Β. –ù–Ψ –Ϋ–Β –≤ ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Β –Κ–Ψ―¹–Η–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö ―é–Ϋ―΄―Ö –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ–Β–Ι –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Α–≤–Μ–Η–≤–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –¥–Ψ―¹―²–Η–≥–Ϋ―É―²―΄―Ö ―Ä―É–±–Β–Ε–Α―Ö. –‰–Φ –¥–Α–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Α–≤–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è―²―¨ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹―΄ –≤―¹–Β–Ι ―¹―²–Ψ–Μ–Η―Ü―΄ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è―â–Β–Φ –£―¹–Β―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ ―é–Ϋ–Η–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―É―Ä―¹–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―¹–Ψ―¹―²–Ψ–Η―²―¹―è –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Α–Ω―Ä–Β–Μ―è. –ö–Ψ―¹–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Β ―ç–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η –≤―΄–Ι–¥―É―² –Ϋ–Α –Ϋ–Β–≥–Ψ ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –¥–Ψ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Ψ–Ι ¬Ϊ–ü―Ä–Ψ–Β–Κ―² ―É–Μ―É―΅―à–Β–Ϋ–Η―è ―ç–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η―è –ö–Ψ―¹–Η–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Ψ–Ζ–Β―Ä¬Μ. –ü–Ψ–±–Β–¥–Η―²–Β–Μ–Η ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―É―Ä―¹–Α –±―É–¥―É―² –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Η –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²―΄ –≤ ―¹―²–Ψ–Μ–Η―Ü–Β –®–≤–Β―Ü–Η–Η, –≤ –Γ―²–Ψ–Κ–≥–Ψ–Μ―¨–Φ–Β –≤ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä―è ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α –€–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ ―é–Ϋ–Η–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―É―Ä―¹–Β.
18.03.201400:4818.03.2014 00:48:42
0
18.03.201400:3618.03.2014 00:36:19
–™–Μ–Α–≤–Α ―²―Ä–Β―²―¨―è
–Θ–†–û–ö–‰ –ü–ï–†–£–Ϊ–Ξ –ê–Δ–ê–ö
–û–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Α –¦–Η–±–Α–≤―΄ –Γ–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Μ–Β―² –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ, –Α –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―à―¨ –Η―é–Ϋ―¨ ―¹–Ψ―Ä–Ψ–Κ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –Η –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ –¥―É–Φ–Α–Β―²―¹―è –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ψ –¦–Η–±–Α–≤–Β. –î–Μ―è –≤―¹–Β―Ö –±―΄–Μ–Ψ ―²―Ä―É–¥–Ϋ―΄–Φ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄, –≤―Ä–Ψ–¥–Β –±―΄ –Ψ–Ε–Η–¥–Α–≤―à–Β–Ι―¹―è, –Ϋ–Α–≤–Η―¹–Α–≤―à–Β–Ι –Ϋ–Α–¥ –Ϋ–Α–Φ–Η, –Η –≤―¹―ë-―²–Α–Κ–Η –Ϋ–Α–≥―Ä―è–Ϋ―É–≤―à–Β–Ι –Ϋ–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ. –ù–Ψ –¥–Μ―è –≥–Α―Ä–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–Ϋ–Α –¦–Η–±–Α–≤―΄ βÄî –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―²―è–Ε―ë–Μ―΄–Φ.
–ë–Ψ–Μ―¨―à–Η–Ϋ―¹―²–≤–Ψ –±–Α–Μ―²–Η–Ι―Ü–Β–≤ ―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ―â―É―²–Η–Μ–Ψ –≤–Ψ–Ι–Ϋ―É –Β―â―ë –Ϋ–Β ―¹ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –¥–Ϋ―è, –Α –Μ–Η–±–Α–≤―Ü–Α–Φ –Ϋ–Α–¥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―¹―Ä–Α–Ε–Α―²―¨―¹―è ―¹ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –Β―ë ―΅–Α―¹–Α. –‰ –≤―¹―ë –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Β ―¹ ―É–¥–Α―Ä–Α ―¹ –Φ–Ψ―Ä―è, –Ϋ–Β ―¹ –¥–Β―¹–Α–Ϋ―²–Α, –Κ –Ψ―²―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η―é –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ ―²―É―² –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Η―¹―¨, –Α ―¹ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α –≤―Ä–Α–≥–Α –Ω–Ψ ―¹―É―à–Β. –û―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¨ –Β–≥–Ψ –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ϋ–Β ―¹–Φ–Ψ–≥–Μ–Α ―Ä–Α–Ζ–≤―ë―Ä–Ϋ―É―²–Α―è ―É –Ω―Ä–Η–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Α―¹―²–Κ–Α –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü―΄ 67-―è ―¹―²―Ä–Β–Μ–Κ–Ψ–≤–Α―è –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η―è. –£–Ψ―Ä–≤–Α―²―¨―¹―è –≤ –¦–Η–±–Α–≤―É ―¹ ―Ö–Ψ–¥―É –≥–Η―²–Μ–Β―Ä–Ψ–≤―Ü–Α–Φ –Ϋ–Β –¥–Α–Μ–Η, –Ψ–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Ζ–Α–¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨ –Η―Ö ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α –±–Μ–Η–Ε–Ϋ–Η―Ö –Ω–Ψ–¥―¹―²―É–Ω–Α―Ö –Κ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―É.
–½–Α ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è–Φ–Η –Ω–Ψ–¥ –¦–Η–±–Α–≤–Ψ–Ι, –Ω–Β―Ä–Β–¥–Ψ–≤–Ψ–Ι –±–Α–Ζ–Ψ–Ι ―³–Μ–Ψ―²–Α, –≤–Ζ–≤–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹–Μ–Β–¥–Η–Μ–Α –≤―¹―è –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Α. –ê –¥–Μ―è –Ϋ–Α―à–Β–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Α –Β―ë –±–Α–Ζ–Α. –Δ–Α–Φ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –¥–≤–Α –Ϋ–Α―à–Η―Ö –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α –Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, ―¹―²–Ψ―è–≤―à–Η–Β –≤ ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Β, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹–Μ―É–Ε–±―΄.
–û ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η―² –≤ –¦–Η–±–Α–≤–Β, –Φ―΄ ―É–Ζ–Ϋ–Α–≤–Α–Μ–Η –Η–Ζ –Κ―Ä–Α―²–Κ–Η―Ö ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–¥–Ψ–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η–Ι, –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–≤–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è ―¹ –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ ―É–Ζ–Μ–Α ―¹–≤―è–Ζ–Η –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Ϋ–Α ¬Ϊ–‰―Ä―²―΄―à¬Μ. –ö–Μ–Β–≤–Β–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ ―¹–≤―è–Ζ―¨ ―¹–Ψ ―à―²–Α–±–Ψ–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Α, –Η –Β–Φ―É –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β –¥–Ψ ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Ψ―¹―΄–Μ–Α―²―¨ –Ψ–Ω–Β―Ä―¹–≤–Ψ–¥–Κ–Η –Η –≤ –Θ―¹―²―¨-–î–≤–Η–Ϋ―¹–Κ. –€–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Β –¥–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ –¥–Ψ –Ϋ–Α―¹ ―¹ –Ψ–Ω–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Β–Φ, –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Α―è –Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ–Α ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Ι –≤―΄―Ä–Η―¹–Ψ–≤―΄–≤–Α–Μ–Α―¹―¨, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ, –Ζ–Α–¥–Ϋ–Η–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Ψ–Φ.
–ù–Ψ ―¹―Ä–Α–Ζ―É ―¹―²–Α–Μ–Ψ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Η ―¹―Ä–Α–Ε–Α―é―²―¹―è –Ϋ–Α ―¹―É―à–Β –Ω–Μ–Β―΅–Ψ–Φ –Κ –Ω–Μ–Β―΅―É ―¹ –Α―Ä–Φ–Β–Ι―Ü–Α–Φ–Η, ―΅―²–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä 67-–Ι –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–Φ–Α–Ι–Ψ―Ä –ù.–ê.–î–Β–¥–Α–Β–≤ –Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –±–Α–Ζ―΄ –¥–Β–Ι―¹―²–≤―É―é―² –≤ ―²–Β―¹–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Ϋ―²–Α–Κ―²–Β. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä 67-–Ι ―¹―²―Ä–Β–Μ–Κ–Ψ–≤–Ψ–Ι –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–Φ–Α–Ι–Ψ―Ä –ù.–ê.–î–Β–¥–Α–Β–≤. –¦–Η–±–Α–≤–Α, 1941 –≥–Ψ–¥–ù–Α –Ω–Ψ–¥―¹―²―É–Ω–Α―Ö –Κ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―É –Ψ–Ϋ–Η ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Μ–Η –Η –Ζ–Α–Ϋ―è–Μ–Η –Ϋ–Α–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹–Η–Μ–Α–Φ–Η ―²―Ä–Η ―É―΅–Α―¹―²–Κ–Α –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄. –°–Ε–Ϋ―΄–Ι ―É―΅–Α―¹―²–Ψ–Κ –Φ–Β–Ε–¥―É –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Φ –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨–Β–Φ –Η –¦–Η–±–Α–≤―¹–Κ–Η–Φ –Ψ–Ζ–Β―Ä–Ψ–Φ –±―΄–Μ –≤–≤–Β―Ä–Β–Ϋ ―¹–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ψ―²―Ä―è–¥―É –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, ―¹―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Η–Ζ –Ω–Ψ–¥―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι –Ϋ–Α―à–Β–Ι –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ–Ι –±–Α–Ζ―΄ –Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥ ―²–Β―Ö ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Η―Ä―É―é―â–Η―Ö―¹―è –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –≤―΄–≤–Β―¹―²–Η –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Ψ―¹―¨ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Φ. –£–Ψ―à–Μ–Η –≤ –Ϋ–Β–≥–Ψ ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥―è―â–Η–Β –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ―É –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²―΄-–≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Η, –±―É–¥―É―â–Η–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä 67-–Ι ―¹―²―Ä–Β–Μ–Κ–Ψ–≤–Ψ–Ι –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–Φ–Α–Ι–Ψ―Ä –ù.–ê.–î–Β–¥–Α–Β–≤. –¦–Η–±–Α–≤–Α, 1941 –≥–Ψ–¥–ù–Α –Ω–Ψ–¥―¹―²―É–Ω–Α―Ö –Κ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―É –Ψ–Ϋ–Η ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Μ–Η –Η –Ζ–Α–Ϋ―è–Μ–Η –Ϋ–Α–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹–Η–Μ–Α–Φ–Η ―²―Ä–Η ―É―΅–Α―¹―²–Κ–Α –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄. –°–Ε–Ϋ―΄–Ι ―É―΅–Α―¹―²–Ψ–Κ –Φ–Β–Ε–¥―É –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Φ –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨–Β–Φ –Η –¦–Η–±–Α–≤―¹–Κ–Η–Φ –Ψ–Ζ–Β―Ä–Ψ–Φ –±―΄–Μ –≤–≤–Β―Ä–Β–Ϋ ―¹–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ψ―²―Ä―è–¥―É –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, ―¹―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Η–Ζ –Ω–Ψ–¥―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι –Ϋ–Α―à–Β–Ι –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ–Ι –±–Α–Ζ―΄ –Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥ ―²–Β―Ö ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Η―Ä―É―é―â–Η―Ö―¹―è –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –≤―΄–≤–Β―¹―²–Η –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Ψ―¹―¨ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Φ. –£–Ψ―à–Μ–Η –≤ –Ϋ–Β–≥–Ψ ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥―è―â–Η–Β –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ―É –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²―΄-–≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Η, –±―É–¥―É―â–Η–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η.
–û―²―Ä―è–¥, –Ϋ–Α―¹―΅–Η―²―΄–≤–Α―é―â–Η–Ι –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ ―΅–Β―²―΄―Ä―ë―Ö―¹–Ψ―² –±–Ψ–Ι―Ü–Ψ–≤, –≤–Ψ–Ζ–≥–Μ–Α–≤–Η–Μ–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ–Ι –±–Α–Ζ―΄ –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ-–Η–Ϋ―²–Β–Ϋ–¥–Α–Ϋ―² 1-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ö.–ü.–ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤ –Η –Β–≥–Ψ –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―¨ –Ω–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Η―²―΅–Α―¹―²–Η ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Ω–Ψ–Μ–Η―²―Ä―É–Κ –Γ.–¦.–Γ–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≤. –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤ –±―΄–Μ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Φ ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ, –Α ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Η–Μ ―¹–Β–±―è –Η –Κ–Α–Κ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä.
–‰–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α ―é–Ε–Ϋ–Ψ–Φ ―É―΅–Α―¹―²–Κ–Β –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Ϋ–Β–Φ―Ü―΄ –Ω–Ψ–Ω―΄―²–Α–Μ–Η―¹―¨ 23 –Η―é–Ϋ―è –≤–Ψ―Ä–≤–Α―²―¨―¹―è –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥, –Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Η –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ―΄ –Η –Ψ―²―²–Β―¹–Ϋ–Β–Ϋ―΄. –€–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤ –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Μ–Α 27-―è –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Α―è –±–Α―²–Α―Ä–Β―è, –Ϋ–Β–¥–Α–≤–Ϋ–Ψ ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –¥–Μ―è –Ζ–Α―â–Η―²―΄ –¦–Η–±–Α–≤―΄ ―¹–Ψ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Φ–Ψ―Ä―è. –ê―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η―¹―²―΄ ―É―¹–Ω–Β–Μ–Η –Ω―Ä–Η―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Η―²―¨ ―¹–≤–Ψ―é ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ―É –¥–Μ―è –Κ―Ä―É–≥–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±―¹―²―Ä–Β–Μ–Α –Η ―¹–Φ–Ψ–≥–Μ–Η –≤–Β―¹―²–Η –Ψ–≥–Ψ–Ϋ―¨ –Ω–Ψ ―¹―É―à–Β.
–Γo ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –¥–Ϋ―è –¦–Η–±–Α–≤–Α –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ω–Ψ–¥ –Ψ–±―¹―²―Ä–Β–Μ–Ψ–Φ –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Ψ–Ι ―²―è–Ε―ë–Μ–Ψ–Ι –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Η, –±–Η–≤―à–Β–Ι ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ω–Ψ –Ω–Ψ―Ä―²―É, –Ω–Ψ –≥–Α–≤–Α–Ϋ―è–Φ. 25 –Η―é–Ϋ―è –±―΄–Μ ―É–±–Η―² –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ –ù.–ê.–î–Β–¥–Α–Β–≤, ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ–Φ ―É―΅–Α―¹―²–Κ–Β ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Α ―¹―É―Ö–Ψ–Ω―É―²–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ―É –≤ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Η –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι –Ϋ–Α ―¹―É―à–Β –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ―è–Μ–Α―¹―¨ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Α―è –±–Α–Ζ–Α.
–ï–≥–Ψ –Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η–Μ –Ϋ–Α―΅―à―²–Α–±–Α –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η, –Α –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Α –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –Η –Ω–Ψ―Ä―²–Α –≤―¹―ë –≤ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β–Ι –Φ–Β―Ä–Β ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Μ–Α―¹―¨ ―¹ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―É–Ϋ–Κ―²–Α –±–Α–Ζ―΄, ―É–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–≤―è–Ζ―¨―é. –≠―²–Ψ –Ζ–Α―¹–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Ψ―¹―²–Α–≤―à–Η–Β―¹―è –≤ –Ε–Η–≤―΄―Ö ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Η –±–Ψ―ë–≤ –Η –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–¥–Η–Μ–Η –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Κ–Η.
Ha K–ü ―É –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è ―¹–Β–Κ―Ä–Β―²–Α―Ä―¨ –¦–Η–Β–Ω–Α–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É–Κ–Ψ–Φ–Α –Ω–Α―Ä―²–Η–Η –¦.–·.–£―Ä―É–±–Μ–Β–≤―¹–Κ–Η–Ι. –½–¥–Β―¹―¨ –Η–Ζ―΄―¹–Κ–Η–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ―Ä―É–Ε–Η–Β –¥–Μ―è ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η―Ö –Ψ―²―Ä―è–¥–Ψ–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η –≥–Ψ―Ä–Κ–Ψ–Φ –Η ―É–Κ–Ψ–Φ. –≠―²–Η –Ψ―²―Ä―è–¥―΄ ―Ä–Α―¹–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―è–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ ―É―΅–Α―¹―²–Κ–Α–Φ –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄, –Κ―É–¥–Α ―É―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Η –≤―¹–Β –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Η, –Β―â―ë –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–≤―à–Η–Β―¹―è –≤ –Ω–Ψ―Ä―²―É.
–ö–Μ–Β–≤–Β–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –±―΄–Μ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–Φ –¥–Ψ –Φ–Ψ–Ζ–≥–Α –Κ–Ψ―¹―²–Β–Ι. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Ψ–Ϋ –Η –Ϋ–Α ―¹―É―à–Β –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ ―¹–Φ–Β–Μ–Ψ, –Η–Ϋ–Η―Ü–Η–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Α–Ω–Ψ―Ä–Η―¹―²–Ψ. –£ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―é –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Ψ–Ι, –Ϋ–Ψ –≥–Β―Ä–Ψ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –¦–Η–±–Α–≤―΄, –≤–Ψ―à–Μ–Α –Μ–Η―¹―²–Ψ–≤–Κ–Α ―¹ ―²–Β–Φ–Ω–Β―Ä–Α–Φ–Β–Ϋ―²–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Η–Φ –Ψ–±―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Κ –Ζ–Α―â–Η―²–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α. –û–±―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Β –Ζ–Α–Κ–Α–Ϋ―΅–Η–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ, –≥–¥–Β ―¹ ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ –¥–Μ―è –€–Η―Ö–Α–Η–Μ–Α –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Η―΅–Α –Μ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Η–Ζ–Φ–Ψ–Φ –±―΄–Μ–Η ―¹―³–Ψ―Ä–Φ―É–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ―΄ –≤ –Ω―è―²–Η –Ω―É–Ϋ–Κ―²–Α―Ö –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Β ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Κ ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄:1. –½–Α―Ä―΄―²―¨―¹―è –≤ –Ζ–Β–Φ–Μ―é. –û–Κ–Ψ–Ω―΄ –≤–Ψ –≤–Β―¹―¨ –Ω―Ä–Ψ―³–Η–Μ―¨.
2. –ë–Β―Ä–Β―΅―¨ –Ω–Α―²―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Η ―¹―²―Ä–Β–Μ―è―²―¨ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Β–Ϋ-
–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Η―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η.
3. –î–Β―Ä–Ε–Α―²―¨ ―¹–≤―è–Ζ―¨ ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η ―¹–Ψ―¹–Β–¥―è–Φ–Η –Η –Ζ–Ϋ–Α―²―¨
–Η―Ö –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ.
4. –ê―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Η –¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨ ―¹–≤―è–Ζ―¨ ―¹ –Ω–Β―Ö–Ψ―²–Ψ–Ι. –Γ–≤―è–Ζ―¨
–Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Μ―è―²―¨ –Ω–Β―Ö–Ψ―²–Β.
5. –î–Β―Ä–Ε–Α―²―¨―¹―è –Φ―É–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ!–ù–Α―Ä―è–¥―É ―¹ –€–Η―Ö–Α–Η–Μ–Ψ–Φ –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Η―΅–Β–Φ –ö–Μ–Β–≤–Β–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ, –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ –Η–Ζ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―²–Ψ―Ä–Ψ–≤ –¦–Η–±–Α–≤―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ ―¹―²–Α–Μ –Β–≥–Ψ –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―¨ –Ω–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Η―²―΅–Α―¹―²–Η –ü–Α–≤–Β–Μ –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –ü–Ψ―Ä―É―΅–Η–Κ–Ψ–≤. –û–Ϋ –Ϋ–Β –¥–Ψ–Ε–Η–Μ –¥–Ψ –¥–Ϋ―è, –Κ–Ψ–≥–¥–Α, –Ψ―¹―²–Α–≤–Α―è―¹―¨ –Ϋ–Α ―²–Ψ–Φ –Ε–Β –Ω–Ψ―¹―²―É, ―¹―²–Α–Μ –±―΄ –Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Α–Φ–Ω–Ψ–Μ–Η―²–Ψ–Φ, –Α –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Α―Ä–Ψ–Φ. –ù–Ψ –Ϋ–Α –¥–Β–Μ–Β –±―΄–Μ –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Α―Ä–Ψ–Φ, ―É–Φ–Β–≤―à–Η–Φ ―¹–Ω–Μ–Ψ―²–Η―²―¨, –≤–Ψ–Ψ–¥―É―à–Β–≤–Η―²―¨ ―¹―Ä–Α–Ε–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è –±–Ψ–Ι―Ü–Ψ–≤ –≥–Ψ―Ä―è―΅–Η–Φ ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ–Φ –Η –Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Φ –±–Β―¹―¹―²―Ä–Α―à–Η–Β–Φ. –½–Ϋ–Α―é, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤ –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Α―²–Α–Κ–Η ―É –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Α ¬Ϊ–Δ–Ψ―¹–Φ–Α―Ä–Β¬Μ, –±―΄–Μ ―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ, –Ϋ–Ψ –Ψ―¹―²–Α–Μ―¹―è –≤ ―¹―²―Ä–Ψ―é, –Ω–Ψ–≤―ë–Μ –Μ―é–¥–Β–Ι –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤ –Η–Ζ –Ζ–Α–Φ―΄–Κ–Α–≤―à–Β–≥–Ψ―¹―è –≤―Ä–Α–Ε–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Μ―¨―Ü–Α –Ϋ–Α ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –Η –Ω–Ψ–≥–Η–± ―²–Α–Φ –≤ –±–Ψ―é.
–ü–Ψ–≥–Η–± –≤ –±–Ψ―è―Ö –Ζ–Α –¦–Η–±–Α–≤―É –Η –Ω–Ψ–Μ–Η―²―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ ―¹–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²―Ä―è–¥–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, ―²–Ψ–Ε–Β ―³–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Β–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Α―Ä, ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Ω–Ψ–Μ–Η―²―Ä―É–Κ –Γ–Β―Ä–Α―³–Η–Φ –¦–Β–Ψ–Ϋ–Η–¥–Ψ–≤–Η―΅ –Γ–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≤. –Γ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ ―²–Α–Φ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―É –Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ψ―²―Ä―è–¥–Α –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤–Η―΅ –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤. –Θ –Ϋ–Α―¹ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Β –Ω–Ψ―²–Β―Ä–Η –ü–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –¦–Η–±–Α–≤―΄ –±―΄―¹―²―Ä–Ψ ―É―Ö―É–¥―à–Α–Μ–Ψ―¹―¨. –‰ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è –±―΄–Μ–Ψ –≤―΄–Ω―Ä–Α–≤–Η―²―¨ –±–Β–Ζ –Ω–Β―Ä–Β–±―Ä–Ψ―¹–Κ–Η ―¹―é–¥–Α –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―΄―Ö ―¹–Η–Μ, ―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥ ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ψ-–½–Α–Ω–Α–¥–Ϋ―΄–Ι ―³―Ä–Ψ–Ϋ―², –Α ―²–Β–Φ –±–Ψ–Μ–Β–Β ―³–Μ–Ψ―². –£–Ψ–Ι―¹–Κ –Ϋ–Β ―Ö–≤–Α―²–Α–Μ–Ψ –Η –Ϋ–Α –¥―Ä―É–≥–Η―Ö ―É―΅–Α―¹―²–Κ–Α―Ö.
–†–Α―¹―΅―ë―²–Μ–Η–≤–Ψ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É―è –Η–Φ–Β–≤―à–Η–Β―¹―è –±–Ψ–Β–≤―΄–Β ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α –Η –Μ―é–¥―¹–Κ–Η–Β ―Ä–Β―¹―É―Ä―¹―΄, –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ö–Μ–Β–≤–Β–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι ―²―Ä–Β–Ζ–≤–Ψ –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Η–≤–Α–Μ –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ―É. –û–Ϋ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥ –Ϋ–Β –Ψ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–≤–Α―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ζ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Η –Ψ–¥–Η–Ϋ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨, –Ω―É―¹―²―¨ –Ϋ–Β―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ―΄–Ι ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –Ω–Μ–Α–≤–Α―²―¨ –Η–Μ–Η –¥–Α–Ε–Β –Ω–Ψ–Μ―É―Ä–Α–Ζ–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι, ―¹―²–Ψ―è―â–Η–Ι –Ϋ–Α ―¹―²–Β–Ϋ–Κ–Β, –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ –≤ ―Ä―É–Κ–Η –≤―Ä–Α–≥–Α.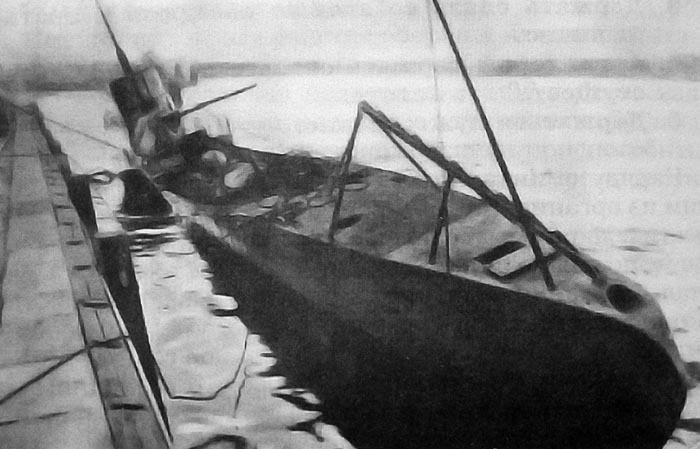 –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Γ-1 –≤–Ζ–Ψ―Ä–≤–Α–Ϋ–Α ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Φ –≤ –¦–Η–±–Α–≤–Β ―É ―¹―²–Β–Ϋ–Κ–Η –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Α ¬Ϊ–Δ–Ψ―¹–Φ–Α―Ä–Β¬Μ–‰ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É, ―¹–Κ―Ä–Β–Ω―è ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Β, –Ψ―²–¥–Α–Μ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―ç―²–Ψ―² –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ –Β―â―ë –Φ–Ψ–≥ –±―΄―²―¨ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ, –≤–Ζ–Ψ―Ä–≤–Α―²―¨ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è –≤―΄–≤–Β―¹―²–Η. –≠―²–Ψ –Κ–Α―¹–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹―²–Α―Ä–Ψ–≥–Ψ ―ç―¹–Φ–Η–Ϋ―Ü–Α –Η –Ω―è―²–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ: –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Φ―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Γ-1, –¥–≤―É―Ö ¬Ϊ–€–Α–Μ―é―²–Ψ–Κ¬Μ –Η –¥–≤―É―Ö –±―΄–≤―à–Η―Ö –Μ–Α―²–≤–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, ―¹―²–Ψ―è–≤―à–Η―Ö –≤ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Β. –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Γ-1 –≤–Ζ–Ψ―Ä–≤–Α–Ϋ–Α ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Φ –≤ –¦–Η–±–Α–≤–Β ―É ―¹―²–Β–Ϋ–Κ–Η –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Α ¬Ϊ–Δ–Ψ―¹–Φ–Α―Ä–Β¬Μ–‰ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É, ―¹–Κ―Ä–Β–Ω―è ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Β, –Ψ―²–¥–Α–Μ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―ç―²–Ψ―² –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ –Β―â―ë –Φ–Ψ–≥ –±―΄―²―¨ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ, –≤–Ζ–Ψ―Ä–≤–Α―²―¨ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è –≤―΄–≤–Β―¹―²–Η. –≠―²–Ψ –Κ–Α―¹–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹―²–Α―Ä–Ψ–≥–Ψ ―ç―¹–Φ–Η–Ϋ―Ü–Α –Η –Ω―è―²–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ: –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Φ―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Γ-1, –¥–≤―É―Ö ¬Ϊ–€–Α–Μ―é―²–Ψ–Κ¬Μ –Η –¥–≤―É―Ö –±―΄–≤―à–Η―Ö –Μ–Α―²–≤–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, ―¹―²–Ψ―è–≤―à–Η―Ö –≤ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Β.
–Δ–Α–Κ –Ϋ–Α―à–Α –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Α, –Ϋ–Β –Ϋ–Α―΅–Α–≤ –Β―â―ë –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β, –Ω–Ψ–Ϋ–Β―¹–Μ–Α –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –Ω–Ψ―²–Β―Ä–Η –≤ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è―Ö. –ê –Ζ–Α –Ϋ–Η–Φ–Η ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β.
–Δ―Ä―ë–Φ ¬Ϊ–€–Α–Μ―é―²–Κ–Α–Φ¬Μ, ―Ä–Α–Ζ–≤―ë―Ä–Ϋ―É―²―΄–Φ –≤–±–Μ–Η–Ζ–Η –¦–Η–±–Α–≤―΄, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Ω–Ψ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Μ ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤ –Θ―¹―²―¨-–î–≤–Η–Ϋ―¹–Κ. –î–Β―Ä–Ε–Α―²―¨ ―ç―²–Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –≤ –¥–Ψ–Ζ–Ψ―Ä–Β –Ω–Β―Ä–Β–¥ –±–Α–Ζ–Ψ–Ι ―¹―²–Α–Μ–Ψ –±–Β―¹–Ω–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ―΄–Φ. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ ¬Ϊ–€–Α–Μ―é―²–Ψ–Κ¬Μ –Ω―Ä–Β–¥―É–Ω―Ä–Β–Ε–¥–Α–Μ–Η―¹―¨: ¬Ϊ–£ –¦–Η–±–Α–≤―É –Ϋ–Β –Ζ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨¬Μ.
–î–≤–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η βÄî –€-79 –Η –€-81 –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω–Ψ–Μ―É―΅–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ–Η –≤ –Θ―¹―²―¨-–î–≤–Η–Ϋ―¹–Κ. –Δ―Ä–Β―²―¨―è βÄî –€-83, –Η–¥―²–Η ―²―É–¥–Α –Ϋ–Β ―¹–Φ–Ψ–≥–Μ–Α, βÄî –Ψ―²–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –¥–Η–Ζ–Β–Μ―¨, ―²―Ä–Β―¹–Ϋ―É–Μ–Α –Κ―Ä―΄―à–Κ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ ―Ü–Η–Μ–Η–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤, –Α –Ζ–Α―Ä―è–¥–Α –Α–Κ–Κ―É–Φ―É–Μ―è―²–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –±–Α―²–Α―Ä–Β–Η –Ϋ–Β ―Ö–≤–Α―²–Α–Μ–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –¥–Ψ―²―è–Ϋ―É―²―¨ –Ϋ–Α ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ–Φ–Ψ―²–Ψ―Ä–Β ―Ö–Ψ―²―è –±―΄ –¥–Ψ –£–Η–Ϋ–¥–Α–≤―΄.
–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –ü.–€.–®–Α–Μ–Α–Β–≤ ―Ä–Β―à–Η–Μ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α―²―¨―¹―è –≤ –¦–Η–±–Α–≤―É, –Ϋ–Α–¥–Β―è―¹―¨, –Ψ―΅–Β–≤–Η–¥–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Η ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Α ―²–Α–Φ –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Α, –Ϋ–Α –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Β ¬Ϊ–Δ–Ψ―¹–Φ–Α―Ä–Β¬Μ –Β―â―ë ―¹–Φ–Ψ–≥―É―² –Ψ―²―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –¥–Η–Ζ–Β–Μ―¨. –£ –Ψ―²–≤–Β―² –Ϋ–Α –Β–≥–Ψ –¥–Ψ–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ: ¬Ϊ–£ –¦–Η–±–Α–≤―É –Ϋ–Β –Ζ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨¬Μ, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Α ¬Ϊ–€–Α–Μ―é―²–Κ–Β¬Μ ―É–Ε–Β –Ζ–Α–Κ―Ä―΄–Μ–Η ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–≤–Α―Ö―²―É, –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –Ψ–Ϋ–Α –≤―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α –Ϋ–Α ―Ä–Β–Ι–¥ –Α–≤–Α–Ϋ–Ω–Ψ―Ä―²–Α.
–¦–Η–±–Α–≤–Α –±―΄–Μ–Α –Ω–Ψ–¥ –Ψ–≥–Ϋ―ë–Φ, –Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Α, –Ϋ–Β –¥–Ψ–Ι–¥―è –¥–Ψ –≥–Α–≤–Α–Ϋ–Η, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Α –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è. –ù–Η –Ψ –Κ–Α–Κ–Ψ–Φ ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Β ―É–Ε–Β –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Ψ –±―΄―²―¨ ―Ä–Β―΅–Η. –€-83 –Ψ―à–≤–Α―Ä―²–Ψ–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ ―É ―¹―²–Β–Ϋ–Κ–Η –Κ–Α–Ϋ–Α–Μ–Α, –±–Μ–Η–Ζ –Φ–Ψ―¹―²–Α, –Η ―ç―²–Ψ –Φ–Β―¹―²–Ψ ―¹―²–Α–Μ–Ψ –Β―ë –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Ι –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Β–Ι.
–Θ –ö–Μ–Β–≤–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–Ω–Α–¥–Α–Μ–Α –¥–Α―Ä–Ψ–Φ –Ϋ–Η –Ψ–¥–Ϋ–Α –Ψ–≥–Ϋ–Β–≤–Α―è ―²–Ψ―΅–Κ–Α. –Γ–Κ―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Β –Ψ―Ä―É–¥–Η–Β ¬Ϊ–€–Α–Μ―é―²–Κ–Η¬Μ ―²–Α–Κ–Ε–Β –±―΄–Μ–Ψ –≤–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Ψ –≤ –Ψ–±―â―É―é ―¹–Η―¹―²–Β–Φ―É –Ψ–≥–Ϋ―è –Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α―²―¨ ―Ü–Β–Μ–Β―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―è. –ù–Α –Α–≤―²–Ψ–Φ–Α―à–Η–Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Β–Ζ–Μ–Η ―¹–Ψ ―¹–Κ–Μ–Α–¥–Α –±–Ψ–Β–Ζ–Α–Ω–Α―¹. –†–Α―¹―΅―ë―² –Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ 45-–Φ–Η–Μ–Μ–Η–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ψ―Ä―É–¥–Η―è –≤―΄–Ω―É―¹―²–Η–Μ –Ω–Ψ –≤―Ä–Α–≥―É –≤―¹–Β ―¹–Ϋ–Α―Ä―è–¥―΄. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Ω―Ä–Η–±–Μ–Η–Ε–Α–≤―à–Η–Β―¹―è –≥–Η―²–Μ–Β―Ä–Ψ–≤―Ü―΄ ―¹―²–Α–Μ–Η –≤–Η–¥–Ϋ―΄ –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –≥–Μ–Α–Ζ–Ψ–Φ, ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε –≤–Ζ–Ψ―Ä–≤–Α–Μ ―¹–≤–Ψ–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –Η –Ω―Ä–Η―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Η–Μ―¹―è –Κ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Α–Φ, ―¹―Ä–Α–Ε–Α–≤―à–Η–Φ―¹―è –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥―É.
–‰–Ζ –¥–Β–≤―è―²–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²–Η ―΅–Μ–Β–Ϋ–Ψ–≤ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α –€-83 –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Η―¹―¨ –≤ –±―Ä–Η–≥–Α–¥―É ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―²―Ä–Ψ–Β: ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ―΄–Ι ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –ï.–ê–Ϋ―²–Η–Ω–Ψ–≤, ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ–Α –ü.–Δ–Α―Ä–Α―²–Α–Ϋ–Ψ–≤ –Η –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ―³–Μ–Ψ―²–Β―Ü –ê–Μ–Β–Ι–Ϋ–Η–Κ. –£―¹–Β –Ψ–Ϋ–Η –Ω–Μ–Α–≤–Α–Μ–Η –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Ϋ–Α –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ¬Ϊ–€–Α–Μ―é―²–Κ–Η¬Μ –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η―¹―² –ü–Α–≤–Β–Μ –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Η―΅ –®–Α–Μ–Α–Β–≤ –Ω–Ψ–≥–Η–± –≤ ―¹―É―Ö–Ψ–Ω―É―²–Ϋ–Ψ–Φ –±–Ψ―é –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η.
–ë―΄–≤–Α–Μ―΄–Ι –Φ–Ψ―Ä―è–Κ-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ, –Ψ–Ϋ –Β―â―ë –¥–Ψ –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è –≤ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Ω―Ä–Ψ–Ω–Μ–Α–≤–Α–Μ –≤–Ψ―¹–Β–Φ―¨ –Μ–Β―² –Ϋ–Α ¬Ϊ–ë–Α―Ä―¹–Α―Ö¬Μ –Η –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö ¬Ϊ–¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ―Ü–Α―Ö¬Μ –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ―³–Μ–Ψ―²―Ü–Β–Φ-―Ä―É–Μ–Β–≤―΄–Φ, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –Ψ―²–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è, –±–Ψ―Ü–Φ–Α–Ϋ–Ψ–Φ.
–ï―â―ë –±–Ψ–Μ–Β–Β ―²―Ä–Α–≥–Η―΅–Ϋ–Ψ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Α―¹―¨ ―¹―É–¥―¨–±–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Γ-3 –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ù.–ê.–ö–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Φ–Η―΅―ë–≤–Α. –û–Ϋ–Α –Ϋ–Β –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ–Α –Ζ–Α–≤–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Α, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ –Ϋ–Β –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Α―¹―¨ –Κ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –≤ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Η–≤―à–Β–Ι―¹―è –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Β –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –Κ―Ä–Β―¹―². –ù–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Β ―É―¹–Ω–Β–Μ–Η ―¹–Ψ–±―Ä–Α―²―¨ –¥–Η–Ζ–Β–Μ―è, –Η –Ψ–Ϋ–Α, ―Ö–Ψ―²―¨ –Η –Ϋ–Β―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ–Α―è –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Α―²―¨―¹―è, –Φ–Ψ–≥–Μ–Α ―Ä–Α–Ζ–≤–Η–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι ―Ö–Ψ–¥ –¥–Ψ 18 ―É–Ζ–Μ–Ψ–≤. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –±–Α–Ζ―΄ –ö–Μ–Β–≤–Β–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Β―ë –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤ –£–Η–Ϋ–¥–Α–≤―É.
–û–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η―²―¨ –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²–Η–Β –±–Α–Ζ–Α –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Α, –Ϋ–Β ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Μ –ö–Μ–Β–≤–Β–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ–Η –¥–Μ―è –Β―ë –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è. –ù–Α–¥–Β―è–Μ–Η―¹―¨, ―΅―²–Ψ ―¹–Α–Φ―΄–Ι –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ―΄–Ι ―É―΅–Α―¹―²–Ψ–Κ –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―²–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Ω―Ä–Ψ–Ι–¥―ë―² –Ζ–Α –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―²―ë–Φ–Ϋ―΄–Β ―΅–Α―¹―΄. –î–Α –Η –Ϋ–Β ―¹―΅–Η―²–Α–Μ–Η –Β―ë –±–Β–Ζ–Ζ–Α―â–Η―²–Ϋ–Ψ–Ι: –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Β ―²–Η–Ω–Α ¬Ϊ–Γ¬Μ –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η―è.
–ù–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Ζ―Ä–Α―΅–Ϋ–Α―è, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α–Ζ–Μ–Ψ, –±–Β―¹―²―É–Φ–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è –Η―é–Ϋ―¨―¹–Κ–Α―è –Ϋ–Ψ―΅―¨ –Ϋ–Β ―É–Κ―Ä―΄–Μ–Α –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―É―é –Μ–Ψ–¥–Κ―É –Ψ―² –Ω―Ä–Ψ―Ä–≤–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è –≤ ―ç―²–Ψ―² ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η―Ö ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ–Α―²–Β―Ä–Ψ–≤. –û–Ϋ–Η –Α―²–Α–Κ–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Γ-3 –≤–±–Μ–Η–Ζ–Η –Φ–Α―è–Κ–Α –Θ–Ε–Α–≤–Α. –ë–Ψ–Ι –≤–Η–¥–Β–Μ–Η ―¹ –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―¹―²–Α ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η―è –Η ―¹–≤―è–Ζ–Η (–Γ–ù–Η–Γ). –û―²―²―É–¥–Α –Φ―΄ –Η –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Η –Ω–Ψ ―²–Β–Μ–Β―³–Ψ–Ϋ―É –¥–Ψ–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η–Β, –±–Β–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –±―΄ –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Ψ ―¹ –Μ–Ψ–¥–Κ–Ψ–Ι. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –€-83 –ü–Α–≤–Β–Μ –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Η―΅ –®–Α–Μ–Α–Β–≤–ü–Ψ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η―è–Φ ―¹–≤―è–Ζ–Η―¹―²–Ψ–≤, ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ–Α―²–Β―Ä–Ψ–≤ –±―΄–Μ–Ψ ―²―Ä–Η. –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –Ψ―²–±–Η–≤–Α–Μ–Η –Η―Ö –Α―²–Α–Κ–Η –≤―¹–Β–Φ–Η –Ψ–≥–Ϋ–Β–≤―΄–Φ–Η ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α–Φ–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è, –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―É–Κ–Μ–Ψ–Ϋ―è―è―¹―¨ –Ψ―² –≤―Ä–Α–Ε–Β―¹–Κ–Η―Ö ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥ –Φ–Α–Ϋ–Β–≤―Ä–Ψ–Φ. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –€-83 –ü–Α–≤–Β–Μ –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Η―΅ –®–Α–Μ–Α–Β–≤–ü–Ψ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η―è–Φ ―¹–≤―è–Ζ–Η―¹―²–Ψ–≤, ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ–Α―²–Β―Ä–Ψ–≤ –±―΄–Μ–Ψ ―²―Ä–Η. –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –Ψ―²–±–Η–≤–Α–Μ–Η –Η―Ö –Α―²–Α–Κ–Η –≤―¹–Β–Φ–Η –Ψ–≥–Ϋ–Β–≤―΄–Φ–Η ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α–Φ–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è, –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―É–Κ–Μ–Ψ–Ϋ―è―è―¹―¨ –Ψ―² –≤―Ä–Α–Ε–Β―¹–Κ–Η―Ö ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥ –Φ–Α–Ϋ–Β–≤―Ä–Ψ–Φ.
–ù–Ψ –Ψ–≥–Ψ–Ϋ―¨ –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ―¹–Μ–Α–±–Β–Μ, –Β―ë –Ψ―Ä―É–¥–Η–Ι–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α―¹―΅―ë―²―΄ –Ω–Ψ–Ω–Α–¥–Α–Μ–Η –Ω–Ψ–¥ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Η –Κ–Α―²–Β―Ä–Ϋ―΄―Ö –Α–≤―²–Ψ–Φ–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ω―É―à–Β–Κ. –ü–Ψ-–≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ–Φ―É, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ―Ä–Β―à–Η–Μ –≤―΄–±―Ä–Ψ―¹–Η―²―¨ –Μ–Ψ–¥–Κ―É –Ϋ–Α –Ψ―²–Φ–Β–Μ―¨, –Ψ–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Β–Φ―É –Ϋ–Β ―Ö–≤–Α―²–Η–Μ–Ψ –Κ–Α–Κ–Η―Ö-―²–Ψ –Φ–Η–Ϋ―É―²: –≤ –±–Ψ―Ä―² –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ–Η ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥―΄ –Η ―Ä–Α–Ζ–Μ–Ψ–Φ–Η–Μ–Η –Μ–Ψ–¥–Κ―É.
–ö–Ψ―Ä–Φ–Ψ–≤–Α―è ―΅–Α―¹―²―¨ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α –≤–Ψ–¥–Β, –Η –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η―Ö –Κ–Α―²–Β―Ä–Ψ–≤ –Ω―΄―²–Α–Μ―¹―è –≤–Ζ―è―²―¨ ―ç―²–Ψ―² –Ψ―²―¹–Β–Κ –Ϋ–Α –±―É–Κ―¹–Η―Ä. –î―Ä―É–≥–Η–Β –Κ–Α―²–Β―Ä–Α ―Ä–Α―¹―¹―²―Ä–Β–Μ–Η–≤–Α–Μ–Η –Η–Ζ –Ω―É–Μ–Β–Φ―ë―²–Ψ–≤ –Ω–Μ–Α–≤–Α–≤―à–Η―Ö –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥ –Μ―é–¥–Β–Ι...
–Γ –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ϋ–Β ―¹–Ω–Α―¹―¹―è –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ. –‰ –Ω–Ψ–≥–Η–±–Μ–Η –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Ι –Ϋ–Β –Ψ–¥–Η–Ϋ, –Α –¥–≤–Α ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α. –Θ―Ö–Ψ–¥―è –Η–Ζ –¦–Η–±–Α–≤―΄, –Γ-3 –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ–Α –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―² –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É –≤–Ζ–Ψ―Ä–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Φ –Ϋ–Α –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Γ-1 –≤–Ψ –≥–Μ–Α–≤–Β ―¹ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ψ–Φ 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –‰.T.–€–Ψp―¹–Κ–Η–Φ. –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –≤–Β–¥―ë―² –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι –±–Ψ–Ι ―¹ –Κ–Α―²–Β―Ä–Α–Φ–Η –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α–ù–Β –¥–Ψ―à–Μ–Α –¥–Ψ –Θ―¹―²―¨-–î–≤–Η–Ϋ―¹–Κ–Α ―²–Α–Κ–Ε–Β ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–≤―à–Α―è –Η–Ζ –¦–Η–±–Α–≤―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –€-78, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α ¬Ϊ–€–Α–Μ―é―²–Ψ–Κ¬Μ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –Γ.–‰.–€–Α―²–≤–Β–Β–≤. –Δ–Ψ–≥–¥–Α –Φ―΄ –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–Ψ―Ä–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Ψ–Ι –Φ–Η–Ϋ–Β. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Ψ ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ ―²―Ä–Ψ―³–Β–Ι–Ϋ―΄–Φ –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Α–Φ, ―΅―²–Ψ –Β―ë –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Η–Μ–Α ―³–Α―à–Η―¹―²―¹–Κ–Α―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α U-144. –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –≤–Β–¥―ë―² –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι –±–Ψ–Ι ―¹ –Κ–Α―²–Β―Ä–Α–Φ–Η –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α–ù–Β –¥–Ψ―à–Μ–Α –¥–Ψ –Θ―¹―²―¨-–î–≤–Η–Ϋ―¹–Κ–Α ―²–Α–Κ–Ε–Β ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–≤―à–Α―è –Η–Ζ –¦–Η–±–Α–≤―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –€-78, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α ¬Ϊ–€–Α–Μ―é―²–Ψ–Κ¬Μ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –Γ.–‰.–€–Α―²–≤–Β–Β–≤. –Δ–Ψ–≥–¥–Α –Φ―΄ –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–Ψ―Ä–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Ψ–Ι –Φ–Η–Ϋ–Β. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Ψ ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ ―²―Ä–Ψ―³–Β–Ι–Ϋ―΄–Φ –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Α–Φ, ―΅―²–Ψ –Β―ë –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Η–Μ–Α ―³–Α―à–Η―¹―²―¹–Κ–Α―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α U-144. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Γ-3 –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –ö–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Φ–Η―΅―ë–≤–Γ-3 –Η –€-78 ―¹―²–Α–Μ–Η –Ω–Β―Ä–≤―΄–Φ–Η –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–Φ–Η, –Ω–Ψ–Ϋ–Β―¹―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Ψ–Ι –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β. –· –Ϋ–Β ―É―¹–Ω–Β–Μ –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Η―²―¨―¹―è –Ϋ–Η ―¹ –ö–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Φ–Η―΅―ë–≤―΄–Φ, –Ϋ–Η ―¹ –€–Α―²–≤–Β–Β–≤―΄–Φ, –Ϋ–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―é, ―΅―²–Ψ –Ψ–±–Α –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ―É–≤–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―¹–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η–≤―Ü–Β–≤, –±―΄–Μ–Η –Ψ–Ω―΄―²–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Γ-3 –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –ö–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Φ–Η―΅―ë–≤–Γ-3 –Η –€-78 ―¹―²–Α–Μ–Η –Ω–Β―Ä–≤―΄–Φ–Η –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–Φ–Η, –Ω–Ψ–Ϋ–Β―¹―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Ψ–Ι –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β. –· –Ϋ–Β ―É―¹–Ω–Β–Μ –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Η―²―¨―¹―è –Ϋ–Η ―¹ –ö–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Φ–Η―΅―ë–≤―΄–Φ, –Ϋ–Η ―¹ –€–Α―²–≤–Β–Β–≤―΄–Φ, –Ϋ–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―é, ―΅―²–Ψ –Ψ–±–Α –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ―É–≤–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―¹–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η–≤―Ü–Β–≤, –±―΄–Μ–Η –Ψ–Ω―΄―²–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η.
–ù–Α –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Β –±–Β–Ζ –Ω–Ψ―²–Β―Ä―¨ –Ϋ–Β –Ψ–±–Ψ–Ι―²–Η―¹―¨, –Ϋ–Ψ –Κ–Α–Κ ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ ―²–Β―Ä―è―²―¨ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η! –ê –≤ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –¥–Ϋ–Η –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Β –Ω–Ψ–Ϋ–Β―¹–Μ–Α –Ω–Ψ―²–Β―Ä–Η –≤ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è―Ö –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α―à–Α –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Α. –ü–Ψ–≥–Η–±, –Ω–Ψ–¥–Ψ―Ä–≤–Α–≤―à–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η―Ö –Φ–Η–Ϋ–Α―Ö, ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Φ–Η–Ϋ–Ψ–Ϋ–Ψ―¹–Β―Ü ¬Ϊ–™–Ϋ–Β–≤–Ϋ―΄–Ι¬Μ. –ù–Ψ–≤―΄–Ι –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä ¬Ϊ–€–Α–Κ―¹–Η–Φ –™–Ψ―Ä―¨–Κ–Η–Ι¬Μ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ, ―²–Ψ–Ε–Β –≤ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Β –Ω–Ψ–¥―Ä―΄–≤–Α –Ϋ–Α –Φ–Η–Ϋ–Β, –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Β –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Η –Ϋ–Α–¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –≤―΄―à–Β–Μ –Η–Ζ ―¹―²―Ä–Ψ―è. –Δ―è–Ε–Β–Μ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–≤–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –Κ–Ψ–≤–Α―Ä–Ϋ―΄–Ι –≤―Ä–Α–≥ ―¹―É–Φ–Β–Μ –≤ ―΅―ë–Φ-―²–Ψ –Ϋ–Α―¹ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―¹―²–Η. –ù–Β –¥–Ψ–≥–Μ―è–¥–Β–Μ–Η –≤–Ψ–≤―Ä–Β–Φ―è, –Ϋ–Β ―Ä–Α―¹–Κ―Ä―΄–Μ–Η –Β–≥–Ψ –Φ–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Η, –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥–Η–≤―à–Η–Β―¹―è –Β―â―ë –¥–Ψ 22 –Η―é–Ϋ―è...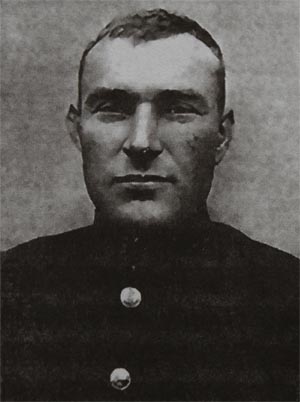 –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –€-78 –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Ι –¦–Β–Ψ–Ϋ―²―¨–Β–≤–Η―΅ –®–Β–≤―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ–£ –Φ–Ψ―Ä–Β ―É–Ε–Β –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Α―à–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η. –¦-3 –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ü.–î.–™―Ä–Η―â–Β–Ϋ–Κ–Ψ, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Α―è―¹―è ―¹–Ω–Β―Ä–≤–Α –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ ¬Ϊ–€–Α–Μ―é―²–Κ–Α–Φ–Η¬Μ –Ϋ–Α –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Η –Ω–Ψ–¥ –¦–Η–±–Α–≤–Ψ–Ι (–Ϋ–Α ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι ―¹ –¥–Β―¹–Α–Ϋ―²–Ψ–Φ), –±―΄–Μ–Α –Ω―Ä―è–Φ–Ψ –Ψ―²―²―É–¥–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Α–Ϋ–Α ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –Φ–Η–Ϋ―΄ ―É –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α. –û –Ϋ–Β–Ι –Η –Ψ –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö, –≤―΄―à–Β–¥―à–Η―Ö –≤ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –±–Ψ–Β–≤―΄–Β –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥―΄, –Ω–Ψ–Ι–¥―ë―² ―Ä–Β―΅―¨ –¥–Α–Μ―¨―à–Β. –ê ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ ―è –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η―²―¨ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ –Ψ –¦–Η–±–Α–≤–Β. –½–Α―â–Η―²–Ϋ–Η–Κ–Η –¦–Η–±–Α–≤―΄ –¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ–Η―¹―¨ –Φ―É–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Γ―É–¥―¨–±–Α –Β―ë ―Ä–Β―à–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥―¹―²―É–Ω–Α―Ö –Κ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―É, –≥–¥–Β ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≤―¹―ë ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Β–Β –Ψ―²–±–Η–≤–Α―²―¨ –Α―²–Α–Κ–Η –≤―Ä–Α–≥–Α. –‰―¹―Ö–Ψ–¥ –±–Ψ―Ä―¨–±―΄ –Ϋ–Α –Μ–Η–±–Α–≤―¹–Κ–Η―Ö ―Ä―É–±–Β–Ε–Α―Ö –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ζ–Α–≤–Η―¹–Β–Μ –Ψ―² –Ψ–±―â–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Α, ―¹–¥–≤–Η–≥–Α–≤―à–Β–≥–Ψ―¹―è –Ϋ–Α –≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ, –Κ –†–Η–≥–Β. –Θ–Ε–Β –≤ –Ϋ–Ψ―΅―¨ –Ϋ–Α 25 –Η―é–Ϋ―è ―³–Α―à–Η―¹―²―¹–Κ–Η–Β –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α, –Ψ–±–Ψ–Ι–¥―è –¦–Η–±–Α–≤―É, –≤―΄―à–Μ–Η –Ϋ–Α –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨–Β ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Β–Β –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α, –Η –Ψ–Ϋ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –Ψ―²―Ä–Β–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―¹ ―¹―É―à–Η. –ë–Μ–Ψ–Κ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Η –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Β –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥―΄ –Κ –Ω–Ψ―Ä―²―É. –ù–Β ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―ç–≤–Α–Κ―É–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –Φ–Ψ―Ä–Β–Φ –¥–Α–Ε–Β ―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ―΄―Ö: –≤―΄–≤–Ψ–Ζ–Η–≤―à–Η–Ι –Η―Ö ―¹–Α–Ϋ–Η―²–Α―Ä–Ϋ―΄–Ι ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―² –±―΄–Μ –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ ―³–Α―à–Η―¹―²―¹–Κ–Η–Φ–Η ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―²–Α–Φ–Η, –Ϋ–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α –Η–Φ–Β–≤―à–Η–Β―¹―è –Ϋ–Α –Ϋ―ë–Φ –Ψ–Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Η. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –€-78 –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Ι –¦–Β–Ψ–Ϋ―²―¨–Β–≤–Η―΅ –®–Β–≤―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ–£ –Φ–Ψ―Ä–Β ―É–Ε–Β –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Α―à–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η. –¦-3 –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ü.–î.–™―Ä–Η―â–Β–Ϋ–Κ–Ψ, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Α―è―¹―è ―¹–Ω–Β―Ä–≤–Α –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ ¬Ϊ–€–Α–Μ―é―²–Κ–Α–Φ–Η¬Μ –Ϋ–Α –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Η –Ω–Ψ–¥ –¦–Η–±–Α–≤–Ψ–Ι (–Ϋ–Α ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι ―¹ –¥–Β―¹–Α–Ϋ―²–Ψ–Φ), –±―΄–Μ–Α –Ω―Ä―è–Φ–Ψ –Ψ―²―²―É–¥–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Α–Ϋ–Α ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –Φ–Η–Ϋ―΄ ―É –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α. –û –Ϋ–Β–Ι –Η –Ψ –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö, –≤―΄―à–Β–¥―à–Η―Ö –≤ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –±–Ψ–Β–≤―΄–Β –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥―΄, –Ω–Ψ–Ι–¥―ë―² ―Ä–Β―΅―¨ –¥–Α–Μ―¨―à–Β. –ê ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ ―è –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η―²―¨ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ –Ψ –¦–Η–±–Α–≤–Β. –½–Α―â–Η―²–Ϋ–Η–Κ–Η –¦–Η–±–Α–≤―΄ –¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ–Η―¹―¨ –Φ―É–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Γ―É–¥―¨–±–Α –Β―ë ―Ä–Β―à–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥―¹―²―É–Ω–Α―Ö –Κ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―É, –≥–¥–Β ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≤―¹―ë ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Β–Β –Ψ―²–±–Η–≤–Α―²―¨ –Α―²–Α–Κ–Η –≤―Ä–Α–≥–Α. –‰―¹―Ö–Ψ–¥ –±–Ψ―Ä―¨–±―΄ –Ϋ–Α –Μ–Η–±–Α–≤―¹–Κ–Η―Ö ―Ä―É–±–Β–Ε–Α―Ö –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ζ–Α–≤–Η―¹–Β–Μ –Ψ―² –Ψ–±―â–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Α, ―¹–¥–≤–Η–≥–Α–≤―à–Β–≥–Ψ―¹―è –Ϋ–Α –≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ, –Κ –†–Η–≥–Β. –Θ–Ε–Β –≤ –Ϋ–Ψ―΅―¨ –Ϋ–Α 25 –Η―é–Ϋ―è ―³–Α―à–Η―¹―²―¹–Κ–Η–Β –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α, –Ψ–±–Ψ–Ι–¥―è –¦–Η–±–Α–≤―É, –≤―΄―à–Μ–Η –Ϋ–Α –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨–Β ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Β–Β –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α, –Η –Ψ–Ϋ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –Ψ―²―Ä–Β–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―¹ ―¹―É―à–Η. –ë–Μ–Ψ–Κ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Η –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Β –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥―΄ –Κ –Ω–Ψ―Ä―²―É. –ù–Β ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―ç–≤–Α–Κ―É–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –Φ–Ψ―Ä–Β–Φ –¥–Α–Ε–Β ―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ―΄―Ö: –≤―΄–≤–Ψ–Ζ–Η–≤―à–Η–Ι –Η―Ö ―¹–Α–Ϋ–Η―²–Α―Ä–Ϋ―΄–Ι ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―² –±―΄–Μ –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ ―³–Α―à–Η―¹―²―¹–Κ–Η–Φ–Η ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―²–Α–Φ–Η, –Ϋ–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α –Η–Φ–Β–≤―à–Η–Β―¹―è –Ϋ–Α –Ϋ―ë–Φ –Ψ–Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Η.
–£–Β―΅–Β―Ä–Ψ–Φ 26 –Η―é–Ϋ―è –Ω–Ψ―Ä–Β–¥–Β–≤―à–Η–Β ―΅–Α―¹―²–Η 67-–Ι –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Η –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Α –Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –¦–Η–±–Α–≤―É –Η –Ω―Ä–Ψ–±–Η–≤–Α―²―¨―¹―è –≤ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Η–Μ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι 8-–Ι –Α―Ä–Φ–Η–Η. –ö–Μ–Β–≤–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –Ω–Ψ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨ ―¹–Ψ–≤–Φ–Β―¹―²–Ϋ―΄–Ι ―¹ –Α―Ä–Φ–Β–Ι―Ü–Α–Φ–Η –≤―΄―Ö–Ψ–¥ –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –±–Α–Ζ―΄ –Η–Ζ –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―΅–Β–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Η–Φ –Ω–Ψ–¥―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è–Φ ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤ –£–Η–Ϋ–¥–Α–≤―É.
–û–± ―ç―²–Ψ–Φ –Φ―΄ –Β―â―ë –Ϋ–Β ―É―¹–Ω–Β–Μ–Η ―É–Ζ–Ϋ–Α―²―¨, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –¥–Ϋ―ë–Φ 27-–≥–Ψ –Ϋ–Α ¬Ϊ–‰―Ä―²―΄―à–Β¬Μ –±―΄–Μ–Α –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Α ―¹ –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Ϋ–Ψ–Ι –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ–Ι ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η –≤ –¦–Η–±–Α–≤–Β ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Α –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²―΄–Φ ―²–Β–Κ―¹―²–Ψ–Φ, ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è ―¹–Α–Φ–Η–Φ –≤–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―Ä–Α–¥–Η―¹―²–Ψ–Φ:
βÄî –£–Η–Ε―É –Ϋ–Β–Φ―Ü–Β–≤. –£–Α―Ö―²―É –Ζ–Α–Κ―Ä―΄–≤–Α―é. –ü―Ä–Ψ―â–Α–Ι―²–Β, ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Η!..
–ü–Ψ―²–Ψ–Φ ―¹―²–Α–Μ–Ψ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ψ―¹―²–Α―²–Κ–Η –Ψ―²―Ä―è–¥–Α –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄–≤–Α–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤ –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Ω–Ψ–¥―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι. –¦–Η―à―¨ –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –±–Ψ–Ι―Ü―΄ –Ψ―²―Ä―è–¥–Α –≤―΄―à–Μ–Η –Η–Ζ –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è.
–‰–Ζ ―¹―Ä–Α–Ε–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è –≤ –Β–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Β ―¹–Ψ―Ä–Ψ–Κ–Α –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²–Ψ–≤-―³―Ä―É–Ϋ–Ζ–Β–Ϋ―Ü–Β–≤ –Ψ―¹―²–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Ε–Η–≤―΄―Ö ―²―Ä–Ψ–Β.
–î–Ϋ―ë–Φ 28 –Η―é–Ϋ―è –Κ –±–Ψ―Ä―²―É ¬Ϊ–‰―Ä―²―΄―à–Α¬Μ, ―¹―²–Ψ―è–≤―à–Β–≥–Ψ ―É–Ε–Β –Ϋ–Β –≤ –≥–Α–≤–Α–Ϋ–Η –Θ―¹―²―¨-–î–≤–Η–Ϋ―¹–Κ–Α, –Α –Ϋ–Α ―Ä–Β–Ι–¥–Β (–Φ―΄ –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Κ –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥―É –≤ –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Ζ–Α–Μ–Η–≤), ―¹―²―Ä–Β–Φ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ψ―à―ë–Μ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄–Ι –Κ–Α―²–Β―Ä. –£―΄–Ι–¥―è –Ϋ–Α –Ω–Α–Μ―É–±―É, ―è ―É–Ζ–Ϋ–Α–Μ ―¹―Ä–Β–¥–Η –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Η―Ö―¹―è –Ϋ–Α –Ϋ―ë–Φ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 1-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ö–Μ–Β–≤–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ. –ü–Ψ―΅–Β–Φ―É-―²–Ψ –Ζ–Α–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ–Α―¹―¨ –Β–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Κ―Ä–Α―à–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –≤ ―΅―ë―Ä–Ϋ―΄–Ι ―Ü–≤–Β―² –Μ–Β―²–Ϋ―è―è ―³―É―Ä–Α–Ε–Κ–Α (―¹ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ–Φ –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Η –Ω–Β―Ä–Β―à–Μ–Η –Ϋ–Α ―²―ë–Φ–Ϋ―΄–Β –±–Β―¹–Κ–Ψ–Ζ―΄―Ä–Κ–Η –Η ―³―É―Ä–Α–Ε–Κ–Η, –Α ―É –Κ–Ψ–≥–Ψ –Η―Ö –Ϋ–Β –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ–¥ ―Ä―É–Κ–Ψ–Ι, –Ω–Β―Ä–Β–Κ―Ä–Α―à–Η–≤–Α–Μ–Η –±–Β–Μ―΄–Β).
βÄî –™–¥–Β ¬Ϊ–£–Η―Ä–Ψ–Ϋ–Η―è¬Μ? βÄî –Κ―Ä–Η–Κ–Ϋ―É–Μ –ö–Μ–Β–≤–Β–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι, –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α–≤―à–Η―¹―¨, ―΅―²–Ψ, –Κ–Α–Κ –Η –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹ –€–Η―Ö–Α–Η–Μ–Α –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Η―΅–Α, ―¹–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Ψ –Β–≥–Ψ –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Β–Ι –≤–Ψ–Ζ–±―É–Ε–¥―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η.
–û–Ϋ ―Ö–Ψ―²–Β–Μ ―É–≤–Η–¥–Β―²―¨―¹―è ―¹ –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Ψ–Φ –Δ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Η–Ϋ―΄–Φ, –¥–Μ―è ―ç―²–Ψ–≥–Ψ, –Ψ―΅–Β–≤–Η–¥–Ϋ–Ψ, –Η –Ζ–Α―¹–Κ–Ψ―΅–Η–Μ –Η–Ζ –£–Η–Ϋ–¥–Α–≤―΄ –≤ –†–Η–Ε―¹–Κ–Η–Ι –Ζ–Α–Μ–Η–≤. –ù–Ψ ¬Ϊ–£–Η―Ä–Ψ–Ϋ–Η―è¬Μ ―¹–Ψ ―à―²–Α–±–Ψ–Φ –ü―Ä–Η–±–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –±–Α–Ζ―΄ ―É–Ε–Β ―É―à–Μ–Α –Η–Ζ –Θ―¹―²―¨-–î–≤–Η–Ϋ―¹–Κ–Α.
–ù–Α –±–Ψ―Ä―² ¬Ϊ–‰―Ä―²―΄―à–Α¬Μ –ö–Μ–Β–≤–Β–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ―¹―è, ―¹–Ω–Β―à–Η–Μ –≤ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α―²―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―é ―³–Μ–Ψ―²–Α –Ψ ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è―Ö –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η―Ö –¥–Ϋ–Β–Ι –Η ―É–Ζ–Ϋ–Α–≤–Α―²―¨ ―¹–≤–Ψ―é ―¹―É–¥―¨–±―É. –ß―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ, –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α–¥ –Ϋ–Η–Φ ―¹–≥―É―â–Α―é―²―¹―è ―²―É―΅–Η, ―Ö–Ψ―²―è –Ω―Ä–Η ―¹–Μ–Ψ–Ε–Η–≤―à–Η―Ö―¹―è ―²―è–Ε―ë–Μ―΄―Ö –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α―Ö, –¥―É–Φ–Α–Β―²―¹―è, –Ψ–Ϋ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ –≤―¹―ë, ―΅―²–Ψ –Φ–Ψ–≥.
–‰–Ζ –¦–Η–±–Α–≤―΄ –ö–Μ–Β–≤–Β–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –≤―΄―à–Β–Μ –≤ ―΅–Β―²–≤―ë―Ä―²–Ψ–Φ ―΅–Α―¹―É ―É―²―Ä–Α 27 –Η―é–Ϋ―è. –†–Ψ–≤–Ϋ–Ψ –Ω―è―²―¨ ―¹―É―²–Ψ–Κ –¥–Μ–Η–Μ–Α―¹―¨ –¥–Μ―è –Ϋ–Β–≥–Ψ ―¹―²―Ä–Α–¥–Α –Ϋ–Β―Ä–Α–≤–Ϋ―΄―Ö –±–Ψ―ë–≤ –Ζ–Α –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ –Η –±–Α–Ζ―É. –ê –Ψ―²―Ä―è–¥―΄ –Μ–Η–±–Α–≤―¹–Κ–Η―Ö ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η―Ö –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Ψ―²―¹―²–Α–≤―à–Η–Φ–Η –Ψ―² ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―΅–Α―¹―²–Β–Ι –±–Ψ–Ι―Ü–Α–Φ–Η –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ–Η –±–Ψ―Ä―¨–±―É –Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ. –Θ―à―ë–Μ –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β –Ω–Ψ ―¹―É―à–Β ―¹ –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α–Φ–Η, –Α –Φ–Ψ―Ä–Β–Φ, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –Η–Φ–Β–Μ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η–Β –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –Δ―Ä–Η–±―É―Ü–Α –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Ι―²–Η ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ ―à―²–Α–±–Ψ–Φ –≤ –£–Η–Ϋ–¥–Α–≤―É, ―Ä–Α–Ζ–≤–Β―Ä–Ϋ―É―²―¨ ―²–Α–Φ –ö–ü –Η ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¨ –Κ–Ψ–Ϋ―²–Α–Κ―² ―¹ ―¹―É―Ö–Ψ–Ω―É―²–Ϋ―΄–Φ–Η ―΅–Α―¹―²―è–Φ–Η.
–®―²–Α–±–Ϋ–Α―è –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α ―à–Μ–Α –Ϋ–Α –¥–≤―É―Ö ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ–Α―²–Β―Ä–Α―Ö. –£ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –Φ–Α―è–Κ–Α –Θ–Ε–Α–≤–Α –Η–Φ –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²―¨ –±–Ψ–Ι ―¹ –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η–Φ–Η –Κ–Α―²–Β―Ä–Α–Φ–Η, βÄî ―²–Α–Φ –Ε–Β, –≥–¥–Β –±―΄–Μ–Α –Ω–Β―Ä–Β―Ö–≤–Α―΅–Β–Ϋ–Α –Γ-3. –û–¥–Η–Ϋ –Ϋ–Α―à –Κ–Α―²–Β―Ä –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –±–Ψ―é –Ω–Ψ–≥–Η–±, –Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―΅―²–Η –≤―¹–Β –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Η–Β―¹―è –Ϋ–Α –Ϋ―ë–Φ –¥–Ψ–±―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –¥–Ψ –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Ψ–≥–Ψ –±–Β―Ä–Β–≥–Α. –ê –≤ –£–Η–Ϋ–¥–Α–≤–Β –ö–Μ–Β–≤–Β–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Ϋ–Β –Ζ–Α―¹―²–Α–Μ –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Η―Ö –Ϋ–Α―à–Η―Ö ―΅–Α―¹―²–Β–Ι. –£ ―²–Ψ―² –Ε–Β –¥–Β–Ϋ―¨ ―ç―²–Ψ―² –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ –Ζ–Α–Ϋ―è–Μ–Η –Ϋ–Β–Φ―Ü―΄. –†–Β―à–Η–≤, ―΅―²–Ψ ―²–Α–Φ –Β–Φ―É –¥–Β–Μ–Α―²―¨ –Ϋ–Β―΅–Β–≥–Ψ, –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ―à―ë–Μ –Ϋ–Α ―²–Ψ–Φ –Ε–Β ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Α―²–Β―Ä–Β –¥–Α–Μ―¨―à–Β. –ö–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –€–Η―Ö–Α–Η–Μ –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Η―΅ –ö–Μ–Β–≤–Β–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι. 1904βÄ™1954–î–Ψ –Ϋ–Α―¹ –¥–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –±―΄–≤―à–Β–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –¦–Η–Β–Ω–Α–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –±–Α–Ζ―΄ –Ψ―²–¥–Α―é―² –Ω–Ψ–¥ ―²―Ä–Η–±―É–Ϋ–Α–Μ. –£―Ä–Β–Φ―è –±―΄–Μ–Ψ ―²―è–Ε―ë–Μ–Ψ–Β, –Ϋ–Β―Ä–≤–Ϋ–Ψ–Β, –Η –Ω–Ψ–¥―΅–Α―¹ ―¹–Μ–Η―à–Κ–Ψ–Φ ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ω–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ψ–±―ä―è–≤–Η―²―¨ –Κ–Ψ–≥–Ψ-―²–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―Ä–Β―²–Ϋ―΄–Φ –≤–Η–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Β―É–¥–Α―΅, –Η–Φ–Β–≤―à–Η―Ö –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ. –ù–Ψ ―É –ö–Μ–Β–≤–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤―¹―ë –Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Β –Ϋ–Α–Η―Ö―É–¥―à–Η–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ. –ü–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é ―Ä–Β–Α–±–Η–Μ–Η―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Η –≤–Ψ―¹―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤ –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 1-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β–Ϋ–Α–¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –±―΄–Μ –Μ–Η―à―ë–Ϋ, –Ψ–Ϋ –≤ ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä–Β ―¹―²–Α–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Ϋ–Α ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Ψ–≤–Ψ–Ι –¦–Α–¥–Ψ–≥–Β. –£ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Β–Φ –≤–Ψ–Β–≤–Α–Μ –≤ –½–Α–Ω–Ψ–Μ―è―Ä―¨–Β, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Ψ–Ι. –£ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –Β–≥–Ψ –Η–Φ―è –¥–≤–Α–Ε–¥―΄ –Ω―Ä–Ψ–Ζ–≤―É―΅–Α–Μ–Ψ –≤ –Ω–Ψ–±–Β–¥–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α―Ö –£–Β―Ä―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ. –ö–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –€–Η―Ö–Α–Η–Μ –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Η―΅ –ö–Μ–Β–≤–Β–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι. 1904βÄ™1954–î–Ψ –Ϋ–Α―¹ –¥–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –±―΄–≤―à–Β–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –¦–Η–Β–Ω–Α–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –±–Α–Ζ―΄ –Ψ―²–¥–Α―é―² –Ω–Ψ–¥ ―²―Ä–Η–±―É–Ϋ–Α–Μ. –£―Ä–Β–Φ―è –±―΄–Μ–Ψ ―²―è–Ε―ë–Μ–Ψ–Β, –Ϋ–Β―Ä–≤–Ϋ–Ψ–Β, –Η –Ω–Ψ–¥―΅–Α―¹ ―¹–Μ–Η―à–Κ–Ψ–Φ ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ω–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ψ–±―ä―è–≤–Η―²―¨ –Κ–Ψ–≥–Ψ-―²–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―Ä–Β―²–Ϋ―΄–Φ –≤–Η–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Β―É–¥–Α―΅, –Η–Φ–Β–≤―à–Η―Ö –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ. –ù–Ψ ―É –ö–Μ–Β–≤–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤―¹―ë –Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Β –Ϋ–Α–Η―Ö―É–¥―à–Η–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ. –ü–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é ―Ä–Β–Α–±–Η–Μ–Η―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Η –≤–Ψ―¹―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤ –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 1-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β–Ϋ–Α–¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –±―΄–Μ –Μ–Η―à―ë–Ϋ, –Ψ–Ϋ –≤ ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä–Β ―¹―²–Α–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Ϋ–Α ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Ψ–≤–Ψ–Ι –¦–Α–¥–Ψ–≥–Β. –£ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Β–Φ –≤–Ψ–Β–≤–Α–Μ –≤ –½–Α–Ω–Ψ–Μ―è―Ä―¨–Β, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Ψ–Ι. –£ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –Β–≥–Ψ –Η–Φ―è –¥–≤–Α–Ε–¥―΄ –Ω―Ä–Ψ–Ζ–≤―É―΅–Α–Μ–Ψ –≤ –Ω–Ψ–±–Β–¥–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α―Ö –£–Β―Ä―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ.
–ö–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Α –Ω–Ψ―â–Α–¥–Η–Μ–Α –Β–≥–Ψ. –ù–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Ε–Η―²–Ψ–Β –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ –±–Β―¹―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Ψ –¥–Μ―è ―ç–Φ–Ψ―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –€–Η―Ö–Α–Η–Μ–Α –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Η―΅–Α. –£ 1954 –≥–Ψ–¥―É, –≤ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²–Β, –¥–Α–Μ―ë–Κ–Ψ–Φ –Ψ―² ―¹―²–Α―Ä–Ψ―¹―²–Η, –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –ö–Μ–Β–≤–Β–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ–Ω–Ψ―¹―²–Η–Ε–Ϋ–Ψ ―¹–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Μ―¹―è –≤ ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Β –Ϋ–Α –Δ–Η―Ö–Ψ–Φ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Β, –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–≤ ―¹–Μ―É–Ε–±―É ―²–Α–Φ, –≥–¥–Β ―²–Α–Κ –±–Μ–Η―¹―²–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Β―ë –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ.
–ù–Β–¥–Α–≤–Ϋ–Ψ ―è –Ω―Ä–Ψ―΅―ë–Μ –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–±–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Κ–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―²–Ψ―΅–Ϋ―É―é ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Η―¹―²–Η–Κ―É –€.–Γ.–ö–Μ–Β–≤–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, –¥–Α–Ϋ–Ϋ―É―é –Β–Φ―É ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Φ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –≤ ―¹–Μ―É–Ε–Β–±–Ϋ–Ψ–Ι –Α―²―²–Β―¹―²–Α―Ü–Η–Η –Ζ–Α –≥–Ψ–¥ –¥–Ψ –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄:
¬Ϊ–≠–Ϋ–Β―Ä–≥–Η―è –≤―΄–¥–Α―é―â–Α―è―¹―è. –†–Β―à–Α–Β―² –±―΄―¹―²―Ä–Ψ, –±–Β–Ζ –Κ–Ψ–Μ–Β–±–Α–Ϋ–Η–Ι. –†–Β―à–Β–Ϋ–Η―è ―¹–Φ–Β–Μ―΄–Β, –Ϋ–Β–Ζ–Α―É―Ä―è–¥–Ϋ―΄–Β. –Θ–Φ –Ε–Η–≤–Ψ–Ι. –£ –Μ―é–±–Ψ–Ι –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Β –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –Η ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ―Ä–Η–Β–Ϋ―²–Η―Ä―É–Β―²―¹―è. –ü―Ä―è–Φ–Ψ–Ι –Η –Ω―Ä–Α–≤–¥–Η–≤―΄–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ¬Μ.
–£―¹–Β ―ç―²–Η –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Α ―è―Ä–Κ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Β–≥–Ψ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è―Ö –≤ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –¥–Ϋ–Η –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄.
–ù–Β–Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è –¦–Η–±–Α–≤―¹–Κ–Α―è –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Α –Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Α –≤ –Ϋ–Α―¹ –Η –±–Ψ–Μ―¨, –Η –≥–Ψ―Ä–¥–Ψ―¹―²―¨. –Γ–Ω–Β―Ä–≤–Α –±–Ψ–Μ―¨, –≥–Ψ―Ä–Β―΅―¨ –Ζ–Α–≥–Μ―É―à–Α–Μ–Η –≤―¹―ë –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β, βÄî ―²–Α–Κ –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–Μ–Η –Ω–Β―Ä–Β–¥–Ψ–≤―É―é –±–Α–Ζ―É, –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ―Ä―² –Η –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–¥–Α–≤–Α–≤―à–Η–Β―¹―è –≤―΄–≤–Ψ–¥―É –Ψ―²―²―É–¥–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η... –ù–Ψ –±–Ψ–Μ―¨ –Ω―Ä–Η―²―É–Ω–Μ―è–Μ–Α―¹―¨, –Η ―Ä–Ψ―¹–Μ–Α –≥–Ψ―Ä–¥–Ψ―¹―²―¨ –Ζ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Ψ―²–≤–Β―Ä–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Η –Φ―É–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ –Ζ–Α―â–Η―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –¦–Η–±–Α–≤―΄.
–ü–Β―Ä–≤―΄–Φ–Η –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Β –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–≤―à–Η―¹―¨ ―¹ –≤―Ä–Α–≥–Ψ–Φ, –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Β –¥–Α–Μ–Η –Β–Φ―É –Ζ–Α―¹―²–Η–≥–Ϋ―É―²―¨ ―¹–Β–±―è –≤―Ä–Α―¹–Ω–Μ–Ψ―Ö, –Η ―¹―Ä–Α–Ε–Α–Μ–Η―¹―¨ ―²–Α–Κ, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ –Ϋ–Η–Φ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―Ä–Α–≤–Ϋ―è―²―¨―¹―è. –‰–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹ –¦–Η–±–Α–≤―΄ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η―¹―¨ ―²–Β –Φ–Α―¹―¹–Ψ–≤―΄–Β –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –≥–Β―Ä–Ψ–Η–Ζ–Φ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Μ–Η –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –±–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Η–Φ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Α–Φ –Η –Ω–Ψ–±–Β–¥―΄ –Ϋ–Α–¥ –≥―Ä–Ψ–Ζ–Ϋ―΄–Φ –≤―Ä–Α–≥–Ψ–Φ, –Η –Ϋ–Β–Φ–Β―Ä–Κ–Ϋ―É―â―É―é ―¹–Μ–Α–≤―É.
–Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ω–Ψ―Ä–Α –≤–Β―Ä–Ϋ―É―²―¨―¹―è –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Ψ –¥―Ä―É–≥–Η―Ö ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è―Ö, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ–Η –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ―΄ ―²–Β –¥–Ϋ–Η. –ë–Ψ–Β–≤―΄–Β –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –¦-3 –Η –Γ-7 –£–Ψ–Ι–Ϋ–Α –≥–Η–≥–Α–Ϋ―²―¹–Κ–Η–Φ –Ω–Ψ–Ε–Α―Ä–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ―Ä–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α ―¹―É―à–Β, –Ψ―Ö–≤–Α―²―΄–≤–Α―è –≤―¹―ë –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―¹―²–≤–Α. –ê –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β ―Ä―΄―¹–Κ–Α–Μ–Η, –¥–Ψ―¹―²–Η–≥–Α―è –Ϋ–Α―à–Η―Ö –Ω―Ä–Η–±―Ä–Β–Ε–Ϋ―΄―Ö –≤–Ψ–¥, –≤―Ä–Α–Ε–Β―¹–Κ–Η–Β ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄–Β –Κ–Α―²–Β―Ä–Α, –Ω―Ä–Η–±–Μ–Η–Ε–Α–Μ–Η―¹―¨ –Κ –Ϋ–Α―à–Η–Φ –±–Β―Ä–Β–≥–Α–Φ –Η –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η (–¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –Ϋ–Β –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–≤–Α–Β–Φ―΄–Β), –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Α –Ϋ–Α–¥ –Φ–Ψ―Ä–Β–Φ ―³–Α―à–Η―¹―²―¹–Κ–Α―è –Α–≤–Η–Α―Ü–Η―è. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Β –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨. –‰―¹―΅–Β–Ζ–Μ–Η –Η ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²―΄ ―¹ ―²–Β―Ö –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η–Κ–Α―Ü–Η–Ι, –≥–¥–Β –Ψ―²–Φ–Β―΅–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Η–Ϋ―²–Β–Ϋ―¹–Η–≤–Ϋ–Ψ–Β –Η―Ö –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –¥–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–≥–Ψ –Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Ϋ―è.
–£―Ä–Α–≥ –Ω–Β―Ä–Β–Κ–Μ―é―΅–Α–Μ ―¹–≤–Ψ–Η –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Β –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–Ζ–Κ–Η –Ϋ–Α –Ω―Ä–Η–±―Ä–Β–Ε–Ϋ―΄–Β ―³–Α―Ä–≤–Α―²–Β―Ä―΄, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –≤ –≤–Ψ–¥–Α―Ö –Ϋ–Β–Ι―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –®–≤–Β―Ü–Η–Η, –≤ ―à―Ö–Β―Ä–Α―Ö –Λ–Η–Ϋ–Μ―è–Ϋ–¥–Η–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Ω―Ä–Η―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Η–Μ–Α―¹―¨ –Κ –≥–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Α–≥―Ä–Β―¹―¹–Η–Η –Ϋ–Β ―¹―Ä–Α–Ζ―É, –Α –Ϋ–Α ―²―Ä–Β―²–Η–Ι –¥–Β–Ϋ―¨. –£ ―é–≥–Ψ-–≤–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –Φ–Ψ―Ä―è, –Κ―É–¥–Α –±―΄–Μ–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Α–Ϋ–Α –Γ-4, –Α –≤―¹–Μ–Β–¥ –Ζ–Α –Ϋ–Β―é –Γ-10, –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Α―Ö –Κ –‰―Ä–±–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤―É, –Κ―É–¥–Α –Ω–Ψ―à–Μ–Η –Γ-101 –Η –Γ-102 (―¹–Α–Φ―΄–Β –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅―²–Ψ –≤―¹―²―É–Ω–Η–≤―à–Η–Β –≤ ―¹―²―Ä–Ψ–Ι), ―Ü–Β–Μ–Β–Ι –¥–Μ―è –Α―²–Α–Κ –Ϋ–Β –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨. –î–Α–Μ―ë–Κ–Η―Ö –Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Η –Ϋ–Α―à–Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –≤ –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α―Ö –Ϋ–Β –¥–Ψ―¹―²–Η–≥–Α–Μ–Η. –ö ―²–Ψ–Φ―É –Ε–Β –≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Α –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Μ–Α –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤–Ψ–Ζ–¥―É―à–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Η. –Λ–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Α―è –Α–≤–Η–Α―Ü–Η―è –±―΄–Μ–Α –Ϋ–Α―Ü–Β–Μ–Β–Ϋ–Α –≤ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ –Ϋ–Α ―¹–Ψ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Β ―¹―É―Ö–Ψ–Ω―É―²–Ϋ―΄–Φ –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α–Φ. –ö ―¹–Μ–Ψ–≤―É ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, –≤–Ζ–Α–Η–Φ–Ψ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Β ―¹ –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Β–Ι ―è–≤–Μ―è–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹–Μ–Α–±―΄–Φ –Φ–Β―¹―²–Ψ–Φ –≤ –¥–Ψ–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Β –±–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤. –≠―²–Ψ–Φ―É ―É–¥–Β–Μ―è–Μ–Ψ―¹―¨ –Φ–Α–Μ–Ψ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η―è.
–ü–Β―Ä–≤―΄–Ι –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥ –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–Μ –¥–Μ―è –Ω―Ä–Η–≤―΄–Κ–Α–Ϋ–Η―è –Μ―é–¥–Β–Ι –Κ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Φ–Ψ―Ä―é, ―²–Α–Η–≤―à–Β–Φ―É –≤ ―¹–Β–±–Β –±–Β―¹―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–≤―à–Β–Φ―É –≤ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Η, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥ –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι, –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –±–Β–Ζ―É–Ω―Ä–Β―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι. –€–Ψ―Ä–Β –Ζ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ–Ψ―¹―¨ –Φ–Η–Ϋ–Α–Φ–Η, –Η –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η–Φ–Η, ―¹―²–Α–≤–Η–Μ –Ζ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Η –Ϋ–Α―à ―³–Μ–Ψ―². –™–Η–¥―Ä–Ψ–≥―Ä–Α―³―΄ ―¹–Ϋ–Α–±–¥–Η–Μ–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Μ–Ψ―Ü–Η–Β–Ι –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Η –Ω―É―²–Β–≤―΄–Φ–Η –Κ–Α―Ä―²–Α–Φ–Η ―¹ –Ϋ–Α–Ϋ–Β―¹―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ϋ–Α –Ϋ–Η―Ö –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ―³–Α―Ä–≤–Α―²–Β―Ä–Α–Φ–Η. –ù–Β ―¹–±–Η―²―¨―¹―è ―¹ ―ç―²–Η―Ö ―³–Α―Ä–≤–Α―²–Β―Ä–Ψ–≤ ―¹―²–Α–Μ–Ψ –≤ ―Ä―è–¥–Β ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Φ ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η–Β–Φ –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω–Ψ–Μ―É―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è.
–ü―Ä–Η–≤―΄–Κ–Α―²―¨ –Ϋ–Α–¥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Η –Κ –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –±–Ψ–Φ–±–Α–Φ: –Ϋ–Β –Ω–Ψ–±―΄–≤–Α―²―¨ –≤ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Β –Ω–Ψ–¥ –Η―Ö ―Ä–Α–Ζ―Ä―΄–≤–Α–Φ–Η ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―Ä–Β–¥–Κ–Ψ–Ι ―É–¥–Α―΅–Β–Ι. –≠–Κ–Η–Ω–Α–Ε –¦-3, –Κ–Α–Κ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ–Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–Ψ―à–Μ–Α –Κ –€–Β–Φ–Β–Μ―é, ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Μ ―²–Α–Φ –Ω–Β―Ä–≤―É―é –±–Ψ–Φ–±―ë–Ε–Κ―É. –Ξ–Ψ―²―è, ―¹―É–¥―è –Ω–Ψ –≤―¹–Β–Φ―É, –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Ψ―¹―²–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Β–Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι, –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η–Β –Κ–Α―²–Β―Ä–Α –±–Ψ–Φ–±–Η–Μ–Η –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―³–Α―Ä–≤–Α―²–Β―Ä –Ω–Ψ―Ä―²–Α, ―²–Α–Κ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, –Ω―Ä–Ψ―³–Η–Μ–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η. –ù–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –±–Ψ–Φ–±―΄ ―Ä–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Ψ, –Ψ–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ ―É ¬Ϊ–¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ―Ü–Β–≤¬Μ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹ –Ϋ–Α–¥―ë–Ε–Ϋ―΄–Ι. –ù–Β –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Β–Ϋ–Ψ –Η –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Ι –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ–Ψ–≤. –ê –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹–Ω―É―¹―²―è, –≤–¥―Ä―É–≥ –Ψ―²–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ―Ä–Φ–Ψ–≤―΄–Φ–Η –≥–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ψ–Ϋ―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η ―Ä―É–Μ―è–Φ–Η, –±–Β–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è ―É–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α―²―¨ –Μ–Ψ–¥–Κ―É –Ϋ–Α –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Β.
–£―΄―è―¹–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ –¥–Β–Μ–Ψ –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ ―¹―²―è–Ε–Ϋ–Ψ–Φ –±–Ψ–Μ―²–Β –Ϋ–Α ―Ä―É–Μ–Β–≤–Ψ–Φ –Ω―Ä–Η–≤–Ψ–¥–Β. –ü―Ä–Η ―Ä–Α–Ζ―Ä―΄–≤–Β –±–Ψ–Φ–±―΄ –Ζ–Α –±–Ψ―Ä―²–Ψ–Φ –±–Ψ–Μ―² –Φ–Ψ–≥ ―²―Ä–Β―¹–Ϋ―É―²―¨, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ, –Ϋ–Β –≤―΄–¥–Β―Ä–Ε–Α–≤ ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Β–Ι –Ϋ–Α–≥―Ä―É–Ζ–Κ–Η, ―¹–Μ–Ψ–Φ–Α–Μ―¹―è. –Θ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Η―²―¨ ―²–Α–Κ–Ψ–Β –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Β ―²–Α–Κ ―É–Ε ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Ψ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –≤–Ϋ―É―²―Ä–Η –±–Α–Μ–Μ–Α―¹―²–Ϋ–Ψ–Ι ―Ü–Η―¹―²–Β―Ä–Ϋ―΄, ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η―² –Ω―Ä–Η–≤–Ψ–¥, –Η –Ψ–±―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è –≤ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η. –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ –Ϋ–Β ―²―Ä–Β–±―É–Β―²―¹―è –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ―è―²―¨, ―΅―²–Ψ –≤ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β –≤–Ϋ–Β–Ζ–Α–Ω–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ω―Ä–Ψ–Φ–Β–¥–Μ–Η―²―¨ ―¹–Ψ ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ―΄–Φ –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ...
–ù–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥–Η―²―¨ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Α–≤–Α―Ä–Η–Ι–Ϋ–Ψ-―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄, ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹ ―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Β–±―΄–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ ―΅–Μ–Β–Ϋ–Ψ–≤ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α –≤ –±–Α–Μ–Μ–Α―¹―²–Ϋ―΄―Ö ―Ü–Η―¹―²–Β―Ä–Ϋ–Α―Ö, –Ψ―²–Κ―É–¥–Α –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –Ϋ–Β –≤―΄–±–Β―Ä–Β―à―¨―¹―è, –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Α–Μ–Α –≤–Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Η –Ϋ–Α –Ϋ–Α―à–Η―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ. –‰ –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ϋ–Α –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ–Β –¥–Β–Μ–Ψ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―Ü–Β–≤, ―΅–Β–Φ ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨. –Δ–Α–Κ –±―΄–Μ–Ψ –Η ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α –¦-3. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –ü―ë―²―Ä –î–Β–Ϋ–Η―¹–Ψ–≤–Η―΅ –™―Ä–Η―â–Β–Ϋ–Κ–Ψ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ, ―΅―²–Ψ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ –≤ ―Ü–Η―¹―²–Β―Ä–Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ―¹―è –¥–Α–Ε–Β –Μ–Β–Κ–Ω–Ψ–Φ. –ê –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä-–Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ –€.–ê.–ö―Ä–Α―¹―²–Β–Μ―ë–≤ (–±―É–¥―É―â–Η–Ι –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö ―É―΅–Η–Μ–Η―â) –Ζ–Α―è–≤–Η–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β–¥―ë―² ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―² ―¹–Α–Φ –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ ―¹ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨―é –¥–≤―É―Ö ―É–Φ–Β–Μ―΄―Ö ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ. –‰ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ―¹ ―ç―²–Η–Φ ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η–Μ―¹―è. –‰–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä-–Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –¦-3 –€–Η―Ö–Α–Η–Μ –ê–Ϋ–¥―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤–Η―΅ –ö―Ä–Α―¹―²–Β–Μ―ë–≤–†–Α–±–Ψ―²–Α –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ –¥–≤―É―Ö ―΅–Α―¹–Ψ–≤. –û―Ä―É–¥–Η–Ι–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α―¹―΅―ë―²―΄ –Η –Ω―É–Μ–Β–Φ―ë―²―΅–Η–Κ–Η ―¹―²–Ψ―è–Μ–Η –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Ω–Ψ―¹―²–Α―Ö, –≤–Β–Μ–Ψ―¹―¨ ―É―¹–Η–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Ζ–Α –Φ–Ψ―Ä–Β–Φ –Η –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Ψ–Φ. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ –Μ–Ψ–¥–Κ―É ―²–Α–Κ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤–Ψ–Μ–Ϋ―΄ –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β –Ζ–Α―Ö–Μ―ë―¹―²―΄–≤–Α–Μ–Η –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²―É―é –≥–Ψ―Ä–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ―É ―Ü–Η―¹―²–Β―Ä–Ϋ―΄, –Ϋ–Ψ –≤―¹―ë ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ –Μ―é–¥–Η, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Η–Β―¹―è ―²–Α–Φ, –±―΄–Μ–Η –Ω–Ψ –Ω–Ψ―è―¹ –≤ –≤–Ψ–¥–Β. –ê –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ–Η ―É–Ε–Β ―É―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Η–Μ–Η –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β, ―¹–Μ―É―΅–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Ψ–≤–Α―è –±–Β–¥–Α. –‰–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä-–Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –¦-3 –€–Η―Ö–Α–Η–Μ –ê–Ϋ–¥―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤–Η―΅ –ö―Ä–Α―¹―²–Β–Μ―ë–≤–†–Α–±–Ψ―²–Α –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ –¥–≤―É―Ö ―΅–Α―¹–Ψ–≤. –û―Ä―É–¥–Η–Ι–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α―¹―΅―ë―²―΄ –Η –Ω―É–Μ–Β–Φ―ë―²―΅–Η–Κ–Η ―¹―²–Ψ―è–Μ–Η –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Ω–Ψ―¹―²–Α―Ö, –≤–Β–Μ–Ψ―¹―¨ ―É―¹–Η–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Ζ–Α –Φ–Ψ―Ä–Β–Φ –Η –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Ψ–Φ. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ –Μ–Ψ–¥–Κ―É ―²–Α–Κ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤–Ψ–Μ–Ϋ―΄ –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β –Ζ–Α―Ö–Μ―ë―¹―²―΄–≤–Α–Μ–Η –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²―É―é –≥–Ψ―Ä–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ―É ―Ü–Η―¹―²–Β―Ä–Ϋ―΄, –Ϋ–Ψ –≤―¹―ë ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ –Μ―é–¥–Η, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Η–Β―¹―è ―²–Α–Φ, –±―΄–Μ–Η –Ω–Ψ –Ω–Ψ―è―¹ –≤ –≤–Ψ–¥–Β. –ê –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ–Η ―É–Ε–Β ―É―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Η–Μ–Η –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β, ―¹–Μ―É―΅–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Ψ–≤–Α―è –±–Β–¥–Α.
–û –Ϋ–Β–Ι ―É–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―é ―Ä–Α–¥–Η ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, –Ψ―² –Κ–Α–Κ–Η―Ö –Φ–Β–Μ–Ψ―΅–Β–Ι –Φ–Ψ–≥―É―² –Ζ–Α–≤–Η―¹–Β―²―¨ –±–Ψ–Β―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Η ―¹–Α–Φ–Ψ ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η.
–ü–Β―Ä–Β–¥ ―²–Β–Φ –Κ–Α–Κ –≤―΄–Μ–Β–Ζ―²–Η –Η–Ζ ―Ü–Η―¹―²–Β―Ä–Ϋ―΄, –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Α–≤–Β―Ä―Ö –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Φ–Β–Ϋ―²―΄. –¦–Ψ–¥–Κ―É –Ω–Ψ–Κ–Α―΅–Η–≤–Α–Μ–Ψ, –Η –≤―΄―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ϋ―É–≤―à–Η–Ι –Η–Ζ ―΅―¨–Η―Ö-―²–Ψ ―Ä―É–Κ –Μ–Ψ–Φ–Η–Κ –Ω―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η–Μ―¹―è ―¹–Κ–≤–Ψ–Ζ―¨ ―Ä–Β―à–Β―²―΅–Α―²―É―é –Ω–Α–Μ―É–±–Ϋ―É―é –Ϋ–Α–¥―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ―É, –Ω―Ä–Η―΅―ë–Φ ―É–Ω–Α–Μ ―²–Α–Κ –Ϋ–Β―É–¥–Α―΅–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ζ–Α–Κ–Μ–Η–Ϋ–Η–Μ ―Ä―É–Μ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η–≤–Ψ–¥ –≤ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ –Φ–Β―¹―²–Β.
–ù–Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ―É –Η–Ζ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–≤―à–Η―Ö –Ϋ–Α–≤–Β―Ä―Ö―É –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤ –Ϋ–Β ―É–¥–Α–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –¥–Ψ―²―è–Ϋ―É―²―¨―¹―è ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ―É–Ζ–Κ–Ψ–Β –Ψ―²–≤–Β―Ä―¹―²–Η–Β –≤ –Ϋ–Α–¥―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ–Β –¥–Ψ –Ζ–Α―¹―²―Ä―è–≤―à–Β–≥–Ψ –Μ–Ψ–Φ–Α. –Δ–Ψ–≥–¥–Α –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ–Η, ―΅―²–Ψ ―¹–Α–Φ―΄–Ι ¬Ϊ―²–Ψ–Ϋ–Κ–Η–Ι¬Μ –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ βÄî –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –£.–ö.–ö–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ–≤. –ï–Φ―É –Η –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Α―²―¨ –Ζ–Μ–Ψ–Ω–Ψ–Μ―É―΅–Ϋ―΄–Ι –Μ–Ψ–Φ, –Α ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –ö–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ–≤–Α –≤―΄―²–Α―¹–Κ–Η–≤–Α–Μ–Η –Η–Ζ –Ϋ–Α–¥―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ–Η –Ζ–Α –Ϋ–Ψ–≥–Η. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–≥―Ä–Α–¥–Η―²–Β–Μ―è –¦-3 –ü―ë―²―Ä –î–Β–Ϋ–Η―¹–Ψ–≤–Η―΅ –™―Ä–Η―â–Β–Ϋ–Κ–Ψ–û–± ―ç―²–Η―Ö –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―à–Β―¹―²–≤–Η―è―Ö, –Κ–Α–Κ –Η –Ψ –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α―Ö –±–Ψ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α, –≤ ―à―²–Α–±–Β ―¹―²–Α–Μ–Ψ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Μ–Η―à―¨ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Α–Κ –Μ–Ψ–¥–Κ–Α ―É–Ε–Β –≤ –Η―é–Μ–Β –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Α―¹―¨ –≤ –±–Α–Ζ―É. –Γ –Φ–Ψ―Ä―è –¥–Ψ–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η –Μ–Η―à―¨ –Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ–Φ. –ö–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –™―Ä–Η―â–Β–Ϋ–Κ–Ψ ―²–Ψ–≥–¥–Α –¥–Ψ–Ϋ―ë―¹, ―΅―²–Ψ –Φ–Η–Ϋ―΄ –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ―΄ ―²–Α–Φ, –≥–¥–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ψ. –‰ –Ϋ–Α –Κ–Α―Ä―²–Α―Ö, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ–Η –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è ―³–Μ–Ψ―², –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤―É―é―â–Α―è –Ψ―²–Φ–Β―²–Κ–Α. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–≥―Ä–Α–¥–Η―²–Β–Μ―è –¦-3 –ü―ë―²―Ä –î–Β–Ϋ–Η―¹–Ψ–≤–Η―΅ –™―Ä–Η―â–Β–Ϋ–Κ–Ψ–û–± ―ç―²–Η―Ö –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―à–Β―¹―²–≤–Η―è―Ö, –Κ–Α–Κ –Η –Ψ –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α―Ö –±–Ψ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α, –≤ ―à―²–Α–±–Β ―¹―²–Α–Μ–Ψ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Μ–Η―à―¨ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Α–Κ –Μ–Ψ–¥–Κ–Α ―É–Ε–Β –≤ –Η―é–Μ–Β –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Α―¹―¨ –≤ –±–Α–Ζ―É. –Γ –Φ–Ψ―Ä―è –¥–Ψ–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η –Μ–Η―à―¨ –Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ–Φ. –ö–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –™―Ä–Η―â–Β–Ϋ–Κ–Ψ ―²–Ψ–≥–¥–Α –¥–Ψ–Ϋ―ë―¹, ―΅―²–Ψ –Φ–Η–Ϋ―΄ –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ―΄ ―²–Α–Φ, –≥–¥–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ψ. –‰ –Ϋ–Α –Κ–Α―Ä―²–Α―Ö, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ–Η –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è ―³–Μ–Ψ―², –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤―É―é―â–Α―è –Ψ―²–Φ–Β―²–Κ–Α.
–ü–Ψ―¹–Μ–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α –¦-3 –Φ―΄ –Ψ―²―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Η –Ψ―² –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Α, –Ω–Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ―É ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ –Φ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Η –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―è–Μ–Ψ―¹―¨ –Β―â―ë –¥–Ψ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β.
–™―Ä–Η―â–Β–Ϋ–Κ–Ψ –¥–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, –Ψ–Ω–Η―Ä–Α―è―¹―¨ –Ϋ–Α –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η―è, –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β–¥―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –€–Β–Φ–Β–Μ―è, ―΅―²–Ψ ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –Φ–Η–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Ψ –≤―΄–≥–Ψ–¥–Ϋ–Β–Β –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β –Ψ―² –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Β–Φ―É –Φ–Β―¹―²–Α. –‰ –≤ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Β–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α–Φ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Φ–Η–Ϋ–Ζ–Α–≥–Ψ–≤ –Ω―Ä–Β–¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Ψ―¹―¨ –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Β ―¹–Α–Φ–Ψ―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η.
–Γ–≤–Ψ–Η ―É―Ä–Ψ–Κ–Η –Η–Ζ–≤–Μ–Β–Κ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Η –Η–Ζ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α –Γ-7, –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α –Γ.–ü.–¦–Η―¹–Η–Ϋ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –≤―΄―à–Μ–Α –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Β―â―ë –≤ –Ω―Ä–Β–¥–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –¥–Ϋ–Η, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―É―¹–Η–Μ–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –¥–Ψ–Ζ–Ψ―Ä―΄ –Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ ―¹―²–Α–Μ–Α –Ϋ–Β―¹―²–Η –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Α―Ö –Κ –‰―Ä–±–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤―É –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –¥–Ψ–Ζ–Ψ―Ä.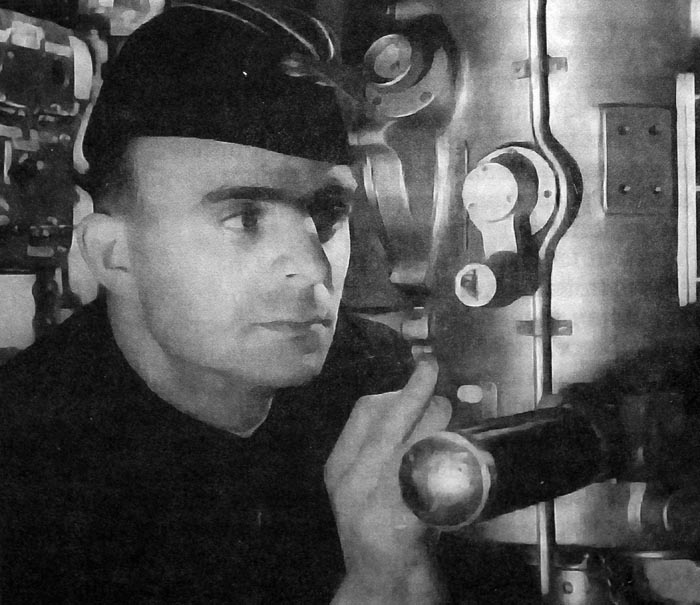 –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Γ-7 –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –ü―Ä–Ψ–Κ–Ψ―³―¨–Β–≤–Η―΅ –¦–Η―¹–Η–Ϋ–ù–Α ―²―Ä–Β―²―¨–Η ―¹―É―²–Κ–Η –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄, –Ϋ–Ψ―΅―¨―é, ―É –Ϋ–Β―ë –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Ψ ―¹–Ψ–Ω―Ä–Η–Κ–Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η–Β ―¹ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ, –Β–¥–≤–Α –Ϋ–Β –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–≤―à–Β–Β―¹―è –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ. –ë―΄–Μ–Η –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Β–Ϋ―΄ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄–Β –Κ–Α―²–Β―Ä–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –¦–Η―¹–Η–Ϋ ―¹–Ω–Β―Ä–≤–Α –Ω–Ψ―¹―΅–Η―²–Α–Μ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―è―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η–Β –≤ ―ç―²–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –Β―â―ë –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Γ-7 –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –ü―Ä–Ψ–Κ–Ψ―³―¨–Β–≤–Η―΅ –¦–Η―¹–Η–Ϋ–ù–Α ―²―Ä–Β―²―¨–Η ―¹―É―²–Κ–Η –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄, –Ϋ–Ψ―΅―¨―é, ―É –Ϋ–Β―ë –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Ψ ―¹–Ψ–Ω―Ä–Η–Κ–Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η–Β ―¹ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ, –Β–¥–≤–Α –Ϋ–Β –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–≤―à–Β–Β―¹―è –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ. –ë―΄–Μ–Η –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Β–Ϋ―΄ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄–Β –Κ–Α―²–Β―Ä–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –¦–Η―¹–Η–Ϋ ―¹–Ω–Β―Ä–≤–Α –Ω–Ψ―¹―΅–Η―²–Α–Μ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―è―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η–Β –≤ ―ç―²–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –Β―â―ë –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨.
–Γ–Η–≥–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ ―³–Ψ–Ϋ–Α―Ä―ë–Φ –Ζ–Α–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Η –Ψ–Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β, –Η ―¹ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α―²–Β―Ä–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ψ―²–≤–Β―². –≠―²–Ψ –Φ–Ψ–≥–Μ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ–Ι―²–Η –≤ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Β –Ζ–Α―Ö–≤–Α―²–Α –≥–Η―²–Μ–Β―Ä–Ψ–≤―Ü–Α–Φ–Η ―¹–Η–≥–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―²–Α–±–Μ–Η―Ü –Ϋ–Α –Κ–Α–Κ–Ψ–Φ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ–Φ –Ω–Ψ―¹―²―É –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –¦–Η–±–Α–≤―΄, –Ψ ―΅―ë–Φ, –Ψ–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ, –Ψ–Ω–Ψ–≤–Β―â–Β–Ϋ–Η–Ι –Ϋ–Β –¥–Α–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨. –‰ –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―É―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Η–Μ–Η―¹―¨: ¬Ϊ–Γ–≤–Ψ–Η!¬Μ
–€–Β–Ε–¥―É ―²–Β–Φ –Ω―Ä–Η–±–Μ–Η–Ε–Α–≤―à–Η–Ι―¹―è –Κ–Α―²–Β―Ä –≤―΄–Ω―É―¹―²–Η–Μ –Ω–Ψ –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –¥–≤–Β ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥―΄, –Ψ―² –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –¦–Η―¹–Η–Ϋ ―É―¹–Ω–Β–Μ ―É–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Η―²―¨―¹―è, –Η –Ψ–Ϋ–Η –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Η –≤–¥–Ψ–Μ―¨ –±–Ψ―Ä―²–Ψ–≤: –Ψ–¥–Ϋ–Α ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Α, –¥―Ä―É–≥–Α―è ―¹–Μ–Β–≤–Α. –Γ–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²―¨ ―É ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ–Α―²–Β―Ä–Ψ–≤ –±–Ψ–Μ―¨―à–Α―è, –Η –Ω–Ψ –Μ–Ψ–¥–Κ–Β, –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β ―΅–Β–Φ –Ψ–Ϋ–Α ―É―¹–Ω–Β–Μ–Α –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ζ–Η―²―¨―¹―è, –Ω–Ψ–Μ–Ψ―¹–Ϋ―É–Μ–Η –Α–≤―²–Ψ–Φ–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Ω―É―à–Κ–Η –Η –Ω―É–Μ–Β–Φ―ë―²―΄.
–ü–Ψ–¥ –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι –¥–Α–Μ–Η –Ζ–Ϋ–Α―²―¨ –Ψ ―¹–Β–±–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è, –Κ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –Ω―Ä–Η–±–Α–≤–Μ―è–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β –Ψ―² ―Ä–Α–Ζ―Ä―΄–≤–Ψ–≤ –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –±–Ψ–Φ–±. –ù–Α ―¹―΅–Α―¹―²―¨–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –≤ ―²–Ψ–Φ –Φ–Β―¹―²–Β –±―΄–Μ–Α –Ϋ–Β –Ψ–±–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ϋ–Α –Κ–Α―Ä―²–Α―Ö –≤―΄–Β–Φ–Κ–Α –¥–Ϋ–Α. –ù–Β –Ζ–Ϋ–Α–≤―à–Η–Β –Ψ –Ϋ–Β–Ι ―³–Α―à–Η―¹―²―¹–Κ–Η–Β –Κ–Α―²–Β―Ä–Ϋ–Η–Κ–Η –Ζ–Α–¥–Α–≤–Α–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –±–Ψ–Φ–±–Α–Φ ―Ä–Α–Ζ―Ä―΄–≤ –Ϋ–Α –≥–Ψ―Ä–Α–Ζ–¥–Ψ –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β–Ι –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Β, ―΅–Β–Φ ―²–Α, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Μ–Β–≥–Μ–Α –Ϋ–Α –≥―Ä―É–Ϋ―².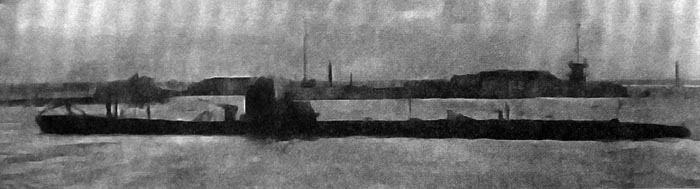 –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Γ-7 –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Α―¹―¨ –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―² –Η–Ζ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α–¦–Η―¹–Η–Ϋ ―Ä–Β―à–Η–Μ –≤―΄–Μ–Β–Ε–Α―²―¨ ―²–Α–Φ –Ω–Ψ–¥–Ψ–Μ―¨―à–Β, βÄî –Ω―É―¹―²―¨ –≥–Η―²–Μ–Β―Ä–Ψ–≤―Ü―΄ –¥―É–Φ–Α―é―², ―΅―²–Ψ –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Α. –Γ–Ψ–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Η ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –≤ ―ç―²–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –Ϋ–Β–Φ―Ü―΄ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Α–Φ–Β–¥–Μ–Η–Μ–Η –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α―²―¨, –Η –Ψ–Ϋ–Ψ –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –¥–Ψ―à–Μ–Ψ –¥–Ψ –Ϋ–Α―¹ –≤ ―¹–≤–Ψ–¥–Κ–Β ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–Ω–Β―Ä–Β―Ö–≤–Α―²–Α. –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Γ-7 –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Α―¹―¨ –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―² –Η–Ζ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α–¦–Η―¹–Η–Ϋ ―Ä–Β―à–Η–Μ –≤―΄–Μ–Β–Ε–Α―²―¨ ―²–Α–Φ –Ω–Ψ–¥–Ψ–Μ―¨―à–Β, βÄî –Ω―É―¹―²―¨ –≥–Η―²–Μ–Β―Ä–Ψ–≤―Ü―΄ –¥―É–Φ–Α―é―², ―΅―²–Ψ –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Α. –Γ–Ψ–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Η ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –≤ ―ç―²–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –Ϋ–Β–Φ―Ü―΄ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Α–Φ–Β–¥–Μ–Η–Μ–Η –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α―²―¨, –Η –Ψ–Ϋ–Ψ –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –¥–Ψ―à–Μ–Ψ –¥–Ψ –Ϋ–Α―¹ –≤ ―¹–≤–Ψ–¥–Κ–Β ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–Ω–Β―Ä–Β―Ö–≤–Α―²–Α.
–ù–Α –Γ-7 –±―΄–Μ–Η –≤―΄–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ―΄ –≤―¹–Β –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ―΄, –≤–Ω–Μ–Ψ―²―¨ –¥–Ψ –≥–Η―Ä–Ψ–Κ–Ψ–Φ–Ω–Α―¹–Α, –Ω–Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α–Φ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Ψ–≤ ―Ä–Α―¹–Κ–Η–Ϋ―É–Μ–Η –±―É―à–Μ–Α―²―΄, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Ψ–≥–Μ–Ψ―â–Α―²―¨ –Ζ–≤―É–Κ–Η ―à–Α–≥–Ψ–≤. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Ε–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Μ―¹―è –≤―¹–Ω–Μ―΄–≤–Α―²―¨, ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ ―ç―²–Ψ –Ψ–±―΄―΅–Ϋ―΄–Φ ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–Φ –Ϋ–Β ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨. –Γ–Ω–Β―Ä–≤–Α –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ω–Ψ–Ϋ―è―²―¨, –≤ ―΅―ë–Φ –¥–Β–Μ–Ψ, –Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –≤―΄―è―¹–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η –Ψ–±―¹―²―Ä–Β–Μ–Β –Ω―Ä–Ψ–±–Η―²―΄ –≤ –Ϋ–Α–¥―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ–Β ―²―Ä―É–±―΄ –≤–Β–Ϋ―²–Η–Μ―è―Ü–Η–Η –Ϋ–Ψ―¹–Ψ–≤―΄―Ö –±–Α–Μ–Μ–Α―¹―²–Ϋ―΄―Ö ―Ü–Η―¹―²–Β―Ä–Ϋ. –¦–Ψ–¥–Κ―É –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ–Η –Ϋ–Α –Ω–Ψ–≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Α–≤–Α―Ä–Η–Ι–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Ψ–¥―É–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±–Α–Μ–Μ–Α―¹―²–Α, –Η–Ζ―Ä–Α―¹―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤–Α–≤ –≤–Β―¹―¨ –Ζ–Α–Ω–Α―¹ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Α –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–≥–Ψ –¥–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è.
–ï―â―ë –Ω–Ψ–¥ –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι –Ψ–±―ä―è–≤–Η–Μ–Η –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Ι―¹–Κ―É―é ―²―Ä–Β–≤–Ψ–≥―É, –Η –Ω–Β―Ä–≤―΄–Φ–Η, –≤―¹–Μ–Β–¥ –Ζ–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ, –Ϋ–Α–≤–Β―Ä―Ö –≤―΄―¹–Κ–Ψ―΅–Η–Μ–Η ―Ä–Α―¹―΅―ë―²―΄ –Ψ―Ä―É–¥–Η–Ι –Η –Ω―É–Μ–Β–Φ―ë―²―΅–Η–Κ–Η, –Α –Ζ–Α –Ϋ–Η–Φ–Η –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ―³–Μ–Ψ―²―Ü–Β–≤, –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε―ë–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―Ä―É―΅–Ϋ―΄–Φ–Η –≥―Ä–Α–Ϋ–Α―²–Α–Φ–Η. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –≤–Β―¹―²–Η –Ψ–≥–Ϋ–Β–≤–Ψ–Ι –±–Ψ–Ι –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ϋ–Α–¥–Ψ–±–Η–Μ–Ψ―¹―¨: –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η–Β –Κ–Α―²–Β―Ä–Α ―É–Ε–Β ―¹–Κ―Ä―΄–Μ–Η―¹―¨.
–Γ―É–¥–Ψ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Ϋ–Η–Κ–Η –Β―â―ë –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Β–Ι―¹―è ―²–Ψ–≥–¥–Α –≤ –Ϋ–Α―à–Η―Ö ―Ä―É–Κ–Α―Ö –£–Η–Ϋ–¥–Α–≤―΄, –Κ―É–¥–Α –Ζ–Α―à–Μ–Α –Γ-7, –Ψ―²–Ψ–Ζ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è –Η–Ζ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ–Ζ–Ψ―Ä–Α, ―É―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Η–Μ–Η –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –Ϋ–Α–Η–±–Ψ–Μ–Β–Β –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è.
–ê –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―² –±–Ψ–Μ–Β–Β –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι. –≠–≤–Α–Κ―É–Α―Ü–Η―è –Η–Ζ –†–Η–≥–Η –ï―â―ë –¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ–Α―¹―¨ –¦–Η–±–Α–≤–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤ –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α―¹―¨ –†–Η–≥–Α. –Γ–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Β–¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ―΅―²–Η –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Φ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤―Ä–Α–≥ –¥–Ψ―à―ë–Μ –¥–Ψ –†–Η–≥–Η –Ω–Ψ ―¹―É―à–Β –Ψ―² –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü―΄. –ê ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ―΅–Β–≤–Η–¥–Ϋ―΄–Φ, ―΅―²–Ψ –Β―¹–Μ–Η –Ϋ–Α ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Β –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ–Ι–¥―ë―² –±―΄―¹―²―Ä–Ψ–≥–Ψ –Η ―Ä–Β―à–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Μ–Ψ–Φ–Α –≤ –Ϋ–Α―à―É –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É (–Ϋ–Α ―΅―²–Ψ –≤―¹―ë –Β―â―ë ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Α–¥–Β―è―²―¨―¹―è), ―²–Ψ –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –±–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –Θ―¹―²―¨-–î–≤–Η–Ϋ―¹–Κ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–¥―ë―²―¹―è.
–ï–Ε–Β–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–¥ –†–Η–≥–Ψ–Ι –Η –Ϋ–Α―à–Β–Ι –±–Α–Ζ–Ψ–Ι –Ω–Ψ―è–≤–Μ―è–Μ–Η―¹―¨ ―³–Α―à–Η―¹―²―¹–Κ–Η–Β ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―²―΄, –Ω―Ä–Α–≤–¥–Α, –Ϋ–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ–Η –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α–Φ–Η. –ë–Ψ–Φ–±–Η–Μ–Η –Ψ–Ϋ–Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –†–Η–≥―É, –Α―ç―Ä–Ψ–¥―Ä–Ψ–Φ, –Α –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Α―Ö –Κ –Θ―¹―²―¨-–î–≤–Η–Ϋ―¹–Κ―É –Ω–Ψ –Ϋ–Ψ―΅–Α–Φ ―¹–±―Ä–Α―¹―΄–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –Ω–Α―Ä–Α―à―é―²–Α―Ö –Φ–Η–Ϋ―΄. –ù–Ψ―΅–Η ―¹―²–Ψ―è–Μ–Η ―¹–≤–Β―²–Μ―΄–Β, –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Ζ–Α –Ω–Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Ψ–Ι –Φ–Η–Ϋ –±―΄–Μ–Ψ ―É–Ε–Β –Ϋ–Α–Μ–Α–Ε–Β–Ϋ–Ψ, –Η –Φ–Β―¹―²–Α –Η―Ö –Ω―Ä–Η–≤–Ψ–¥–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è ―³–Η–Κ―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨. –ù–Η –Ψ–¥–Η–Ϋ –Ϋ–Α―à –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –Ϋ–Α ―ç―²–Η―Ö –Φ–Η–Ϋ–Α―Ö –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–Ψ―Ä–≤–Α–Μ―¹―è.
–£ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ –Ω―Ä–Η–±–Μ–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Α, –≤―¹―²–Α–Μ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ –Ψ–± ―ç–≤–Α–Κ―É–Α―Ü–Η–Η –Ϋ–Α―à–Η―Ö ―¹–Β–Φ–Β–Ι, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Β–¥–Α–≤–Ϋ–Ψ ―¹―é–¥–Α –Ω―Ä–Η–Β―Ö–Α–≤―à–Η―Ö. –‰–Ζ –¦–Η–±–Α–≤―΄ ―¹–Β–Φ―¨–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –Η ―¹–≤–Β―Ä―Ö―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –±―΄–Μ–Η ―ç–≤–Α–Κ―É–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ―΄ 23 –Η―é–Ϋ―è.
–· –Ω–Ψ―¹–Α–¥–Η–Μ –Ε–Β–Ϋ―É –Η –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹―΄–Ϋ–Η―à–Κ―É –≤ –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥―ë–Ϋ–Ϋ―É―é, –Κ–Α–Κ –≤–Η–¥–Ϋ–Ψ, ―É–Ε–Β –Ω–Ψ–Ω–Α–¥–Α–≤―à―É―é –≥–¥–Β-―²–Ψ –Ω–Ψ–¥ –±–Ψ–Φ–±―ë–Ε–Κ―É, ―²–Β–Ω–Μ―É―à–Κ―É. –ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ ―ç―à–Β–Μ–Ψ–Ϋ–Α –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–Μ–Η –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―²–Η–≤―à–Β–≥–Ψ―¹―è –Η–Ζ –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Α –Μ–Β–Κ–Ω–Ψ–Φ–Α ―¹ –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –‰.–Δ.–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ (–Ψ–Ϋ –Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―É―Ü–Β–Μ–Β–Μ –Η–Ζ –Β―ë ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α).
–≠―²–Ψ―² –Φ–Β–¥–Η–Κ, –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –¥–Ψ –Ϋ–Α―¹ –¥–Ψ―à–Μ–Ψ, –Ω―Ä–Η–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –Ϋ–Β–Φ–Α–Μ–Ψ ―É―¹–Η–Μ–Η–Ι, ―΅―²–Ψ–±―΄ –¥–Ψ–±–Η―²―¨―¹―è –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―²–Α –Η –¥–Ψ–±―΄―²―¨ –Ω–Α―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ζ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ ―΅―É―²―¨ –Ϋ–Β –Ζ–Α―¹―²―Ä―è–Μ –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Ζ–Α―Ö–≤–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ϋ–Β–Φ―Ü–Α–Φ–Η –îay–≥–Α–≤–Ω–Η–Μ―¹–Ψ–Φ. –ü―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Φ–Β―¹―è―Ü ―¹―²–Α–Μ–Ψ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α―à–Η ―¹–Β–Φ―¨–Η –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω–Ψ–Μ―É―΅–Ϋ–Ψ –¥–Ψ–±―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –¥–Ψ –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄.
26 –Η―é–Ϋ―è –≤ –Θ―¹―²―¨-–î–≤–Η–Ϋ―¹–Κ–Β –Ϋ–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ –¥–Μ―è –Ϋ–Α―¹ –Ω–Ψ–±―΄–≤–Α–Μ –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –£.–Λ.–Δ―Ä–Η–±―É―Ü, –Ω―Ä–Η–±―΄–≤―à–Η–Ι –Η–Ζ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α –Ϋ–Α –Α–≤―²–Ψ–Φ–Α―à–Η–Ϋ–Β. –Γ–Ω–Β―Ä–≤–Α –Ψ–Ϋ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä ¬Ϊ–ö–Η―Ä–Ψ–≤¬Μ, βÄî ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –û―²―Ä―è–¥–Α –Μ―ë–≥–Κ–Η―Ö ―¹–Η–Μ, –Α –Ψ―²―²―É–¥–Α βÄî –Κ –Ϋ–Α–Φ –Ϋ–Α ¬Ϊ–‰―Ä―²―΄―à¬Μ.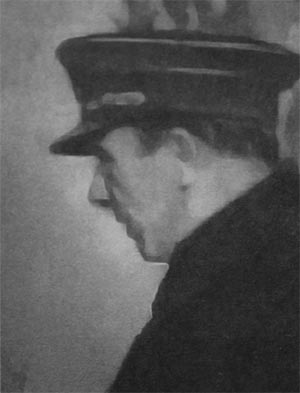 –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Η–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –£.–Λ.–Δ―Ä–Η–±―É―Ü–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –±―΄–Μ –≤ –Κ–Ψ–Φ–±–Η–Ϋ–Β–Ζ–Ψ–Ϋ–Β –±–Β–Ζ –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–≤ ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Η―è. –£―΄–≥–Μ―è–¥–Β–Μ –Ψ–Ϋ ―Ö–Φ―É―Ä―΄–Φ, ―É―²–Ψ–Φ–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Φ, –Ϋ–Ψ –¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ―¹―è ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ. –£―΄―¹–Μ―É―à–Α–≤ –≤ –Φ–Ψ―ë–Φ –Ω―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Η –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥ –ï–≥–Η–Ω–Κ–Ψ –Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Η –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Η –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –≤–Κ―Ä–Α―²―Ü–Β –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Η–Μ –Ϋ–Α―¹ ―¹ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ϋ–Α –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ψ-–½–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Ψ–Φ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Β (–≤–Β―¹―¨–Φ–Α –Ϋ–Β―É―²–Β―à–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ) –Η –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –¥–≤―É―Ö ―¹―É―²–Ψ–Κ –Η–Ζ–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²―¨―¹―è –Κ –Ω–Β―Ä–Β–±–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―é. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Η–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –£.–Λ.–Δ―Ä–Η–±―É―Ü–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –±―΄–Μ –≤ –Κ–Ψ–Φ–±–Η–Ϋ–Β–Ζ–Ψ–Ϋ–Β –±–Β–Ζ –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–≤ ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Η―è. –£―΄–≥–Μ―è–¥–Β–Μ –Ψ–Ϋ ―Ö–Φ―É―Ä―΄–Φ, ―É―²–Ψ–Φ–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Φ, –Ϋ–Ψ –¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ―¹―è ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ. –£―΄―¹–Μ―É―à–Α–≤ –≤ –Φ–Ψ―ë–Φ –Ω―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Η –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥ –ï–≥–Η–Ω–Κ–Ψ –Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Η –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Η –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –≤–Κ―Ä–Α―²―Ü–Β –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Η–Μ –Ϋ–Α―¹ ―¹ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ϋ–Α –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ψ-–½–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Ψ–Φ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Β (–≤–Β―¹―¨–Φ–Α –Ϋ–Β―É―²–Β―à–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ) –Η –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –¥–≤―É―Ö ―¹―É―²–Ψ–Κ –Η–Ζ–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²―¨―¹―è –Κ –Ω–Β―Ä–Β–±–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―é.
βÄî –ü–Ψ–Ι–¥―ë―²–Β –≤ –ü–Α–Μ–¥–Η―¹–Κ–Η –Η–Μ–Η –≤ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ, βÄî ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι, –Η –Φ―΄ –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ –±–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Β―â―ë –Ϋ–Β –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ψ.
–‰–Ζ –Θ―¹―²―¨-–î–≤–Η–Ϋ―¹–Κ–Α –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Η ―É–Ι―²–Η –Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –û―²―Ä―è–¥–Α –Μ―ë–≥–Κ–Η―Ö ―¹–Η–Μ.
–û–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η―²―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–Φ―É ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä ―¹ –¦–Η–±–Α–≤–Ψ–Ι (―ç―²–Ψ –±―΄–Μ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Β―ë –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄) –Ϋ–Α―à–Η–Φ ―¹–≤―è–Ζ–Η―¹―²–Α–Φ –Ϋ–Β ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨: ―²–Α–Φ –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Ϋ–Β –Ψ―²–Ζ―΄–≤–Α–Μ―¹―è. –Δ–Β–Μ–Β―³–Ψ–Ϋ–Ϋ–Α―è ―¹–≤―è–Ζ―¨ ―¹ –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ–Ι –±–Α―²–Α―Ä–Β–Β–Ι –Ϋ–Α ―é–Ε–Ϋ–Ψ–Ι, –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Κ–Ψ–≤–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β –‰―Ä–±–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤–Α –Η–Φ–Β–Μ–Α―¹―¨, –Η –Δ―Ä–Η–±―É―Ü –Η–Ζ –Κ–Α―é―²―΄ –ï–≥–Η–Ω–Κ–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Β―ë –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É:
βÄî –ë–Α―²–Α―Ä–Β―é –≤–Ζ–Ψ―Ä–≤–Α―²―¨. –¦–Η―΅–Ϋ–Ψ–Φ―É ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤―É –Ω–Β―Ä–Β–Ι―²–Η –Ϋ–Α –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤.
–‰–Φ–Β–Μ―¹―è –≤ –≤–Η–¥―É –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤ –Γ–Α–Α―Ä–Β–Φ–Α–Α, –±―΄–≤―à–Η–Ι –≠–Ζ–Β–Μ―¨, –≥–¥–Β ―¹―²–Ψ―è–Μ ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Η–Ι –≥–Α―Ä–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–Ϋ.
–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –Ω―Ä–Ψ–±―΄–Μ ―É –Ϋ–Α―¹ –Φ–Η–Ϋ―É―² ―¹–Ψ―Ä–Ψ–Κ. –û–Ϋ ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ω–Η–Μ―¹―è –≤ ―à―²–Α–± ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Β–Φ―É –Β―â―ë –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ –Η―¹–Κ–Α―²―¨: –≤ ―²–Ψ―² –¥–Β–Ϋ―¨ ―à―²–Α–± –Ψ―²–±―΄–Μ –Η–Ζ –†–Η–≥–Η, –Α –Κ―É–¥–Α, ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ.
–Γ–Ψ ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Φ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –¥–Ϋ―ë–Φ (―²–Β–Φ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –±―΄–Μ–Α –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ―è―è ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Α –Η–Ζ –¦–Η–±–Α–≤―΄) ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ψ –Β―â―ë –Ψ–¥–Ϋ–Ψ –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Β, –Ϋ–Β –Η–Φ–Β―é―â–Β–Β, –Ω―Ä–Α–≤–¥–Α, –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è –Κ –¥–Β–Μ–Α–Φ –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄.
–ù–Α –Ω–Α–Μ―É–±―É –Ϋ–Α―à–Β–Ι –Ω–Μ–Α–≤–±–Α–Ζ―΄ –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ―¹―è –Κ–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Α―¹―²―΄–Ι –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ–Α –Μ–Β―² ―¹–Ψ―Ä–Ψ–Κ–Α –≤ –Κ–Ψ–Ε–Α–Ϋ–Ψ–Ι –Κ―É―Ä―²–Κ–Β –Η –Κ–Ψ–Ε–Α–Ϋ–Ψ–Ι ―³―É―Ä–Α–Ε–Κ–Β, ―¹ –Φ–Α―É–Ζ–Β―Ä–Ψ–Φ –Ϋ–Α –±–Ψ–Κ―É. –ù–Α ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–Φ ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–Φ ―è–Ζ―΄–Κ–Β, –Ϋ–Ψ ―¹ –Μ–Α―²―΄―à―¹–Κ–Η–Φ –Α–Κ―Ü–Β–Ϋ―²–Ψ–Φ –Ψ–Ϋ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ:
βÄî –· –Ω―Ä–Η–≤―ë–Μ ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η–Ι –±–Α―²–Α–Μ―¨–Ψ–Ϋ –Η–Ζ-–Ω–Ψ–¥ –¦–Η–Β–Ω–Α–Η. –£ –†–Η–≥–Β –Φ―΄ –Ϋ–Β –Ϋ–Α―à–Μ–Η –Κ –Κ–Ψ–Φ―É –Ψ–±―Ä–Α―²–Η―²―¨―¹―è. –ù–Α–Φ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –Ψ―Ä―É–Ε–Η–Β. –‰ –Ϋ―É–Ε–Β–Ϋ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ, ―΅―²–Ψ –¥–Β–Μ–Α―²―¨, –Κ―É–¥–Α –Η–¥―²–Η.
–î–Β–Ϋ―¨ –±―΄–Μ ―²―Ä–Β–≤–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Ι. –ü–Ψ–¥―¹―²―É–Ω–Α–Μ–Η –≤―Ä–Α–Ε–Β―¹–Κ–Η–Β –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α. –‰ –±―΄–Μ–Η –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è ―¹―΅–Η―²–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β, ―É –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Φ―΄ –Ω–Ψ–Κ–Α ―¹―²–Ψ―è–Μ–Η, –Ω―Ä–Η―²–Α–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤―Ä–Α–≥–Η, –≤―Ä–Ψ–¥–Β –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΅–Η–Κ–Ψ–≤ –Η–Ζ –Α–Ι–Ζ―¹–Α―Ä–≥–Ψ–≤ βÄî –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-―³–Α―à–Η―¹―²―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η, ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–≤―à–Β–Ι –≤ –±―É―Ä–Ε―É–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–Ι –¦–Α―²–≤–Η–Η. –î–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄―²―¨, ―ç―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η ―¹―²―Ä–Β–Μ―è―²―¨ ―¹ ―΅–Β―Ä–¥–Α–Κ–Ψ–≤, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―²―Ä–Ψ–≥–Α–Μ―¹―è ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ ―¹ –Ϋ–Α―à–Η–Φ–Η ―¹–Β–Φ―¨―è–Φ–Η.
–ù–Ψ –≤–Ψ―² –Ω―Ä–Η―à―ë–Μ ―ç―²–Ψ―² –Ψ–¥–Β―²―΄–Ι –≤ –Κ–Ψ–Ε―É –Κ―Ä–Β–Ω―΄―à, –Η―â―É―â–Η–Ι –Ψ―Ä―É–Ε–Η―è –Η –Φ–Β―¹―²–Α –≤ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Φ ―¹―²―Ä–Ψ―é –¥–Μ―è ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Β–≥–Ψ –±–Α―²–Α–Μ―¨–Ψ–Ϋ–Α, –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ ―¹―Ä–Α–Ε–Α―²―¨―¹―è –Ζ–Α –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ―É―é –≤–Μ–Α―¹―²―¨, βÄî –Η –Μ–Β–≥―΅–Β ―¹―²–Α–Μ–Ψ –Ϋ–Α –¥―É―à–Β. –£―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ–Η―¹―¨ –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Β –Μ–Α―²―΄―à―¹–Κ–Η–Β ―¹―²―Ä–Β–Μ–Κ–Η –™―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄, –¥–Ψ–±–Μ–Β―¹―²–Ϋ―΄–Β ―¹–Ψ–Μ–¥–Α―²―΄ ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Η. –•–Η–Ζ–Ϋ―¨ ―¹–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Α: –Β―¹―²―¨ ―É –Ϋ–Η―Ö –Ϋ–Α―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Κ–Η!
–€―΄ –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ–Η–Μ–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Β–≥–Ψ –±–Α―²–Α–Μ―¨–Ψ–Ϋ–Α, ―΅―²–Ψ ―¹―²―Ä–Β–Μ–Κ–Ψ–≤―΄–Φ –Ψ―Ä―É–Ε–Η–Β–Φ, –Κ ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Ϋ–Η―é, –Ϋ–Β ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Β–Φ. –‰ –Ω–Ψ―¹–Ψ–≤–Β―²–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Α–≤―΄–Ι –±–Β―Ä–Β–≥ –î–Α―É–≥–Α–≤―΄, –≥–¥–Β ―¹–Ψ―¹―Ä–Β–¥–Ψ―²–Ψ―΅–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α―à–Η –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α.
–£ ―²–Ψ―² –Ε–Β –¥–Β–Ϋ―¨ –Κ –Ϋ–Α–Φ –Ϋ–Α ¬Ϊ–‰―Ä―²―΄―à¬Μ ―è–≤–Η–Μ―¹―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä 180-–Φ–Η–Μ–Μ–Η–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–¥–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Ι –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –±–Α―²–Α―Ä–Β–Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –£.–ü.–¦–Η―¹–Β―Ü–Κ–Η–Ι –Η –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –ù.–ü.–ï–≥–Η–Ω–Κ–Ψ, –Κ–Α–Κ ―¹―²–Α―Ä―à–Β–Φ―É –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ―É, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Ψ―Ä–≤–Α–Μ―¹―è ―¹ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²―¨―é –Η –Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Φ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Ψ–Φ –Η–Ζ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α –¦–Η–±–Α–≤―΄. –ö–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η–Ι –Ψ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Η―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è―Ö.
–‰―¹―Ö–Ψ–¥―è –Η–Ζ –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Η, –Κ–Ψ–Φ–±―Ä–Η–≥ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Β–Φ―É –Ϋ–Β–Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ω–Ψ–Κ–Α –Ϋ–Β –Ω–Β―Ä–Β―Ä–Β–Ζ–Α–Ϋ–Α –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Α―è –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Α –Η ―Ü–Β–Μ –Φ–Ψ―¹―², ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤ –Δ –Α–Μ–Μ–Η–Ϋ. –ü―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –±―΄–Μ–Ψ ―É–Ζ–Ϋ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –±–Α―²–Α―Ä–Β―è –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α –¦–Η―¹–Β―Ü–Κ–Ψ–≥–Ψ, –Ψ–¥–Ϋ–Α –Η–Ζ –Ϋ–Ψ–≤–Β–Ι―à–Η―Ö –≤ –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β ―³–Μ–Ψ―²–Α, –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ ―¹–Β–±―è –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α –Ω―Ä–Η –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α.
–£–Β―΅–Β―Ä–Ψ–Φ 28 –Η―é–Ϋ―è ―è –Ω–Ψ –Ω–Ψ―Ä―É―΅–Β–Ϋ–Η―é –Κ–Ψ–Φ–±―Ä–Η–≥–Α –Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –Ϋ–Α –Κ–Α―²–Β―Ä–Β ―Ä–Α―¹―¹―Ä–Β–¥–Ψ―²–Ψ―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ –î–Α―É–≥–Α–≤–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄, ―É–¥–Ψ―¹―²–Ψ–≤–Β―Ä―è―è―¹―¨ –≤ –Η―Ö –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Κ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ϋ–Α –Ϋ–Ψ―΅―¨ –≤―΄―Ö–Ψ–¥―É, –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ―è–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α–Φ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Ψ–Κ –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è. –†–Η–≥–Α, ―²–Α–Κ–Α―è –Ψ–Ε–Η–≤–Μ―ë–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ϋ–Β–¥–Β–Μ―é –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥, –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Α –Φ―Ä–Α―΅–Ϋ―É―é –Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ―É –¥–Α–Ε–Β ―¹ ―Ä–Β–Κ–Η. –ù–Α –Ϋ–Α–±–Β―Ä–Β–Ε–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Η –¥―É―à–Η. –ù–Α–¥ –Α―ç―Ä–Ψ–¥―Ä–Ψ–Φ–Ψ–Φ –±–Α–≥―Ä–Ψ–≤–Β–Μ–Ψ –Ζ–Α―Ä–Β–≤–Ψ, –≥–Ψ―Ä–Β–Μ–Η –Η ―¹–Κ–Μ–Α–¥―΄ –≤ –Ω–Ψ―Ä―²―É, –≤―Ä–Β–Φ―è –Ψ―² –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η ―¹–Μ―΄―à–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤–Ζ―Ä―΄–≤―΄. –ß―²–Ψ-―²–Ψ ―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β –¥–Ψ―¹―²–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –≤―Ä–Α–≥―É...
–ü–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥ –Ϋ–Α–Φ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è–Μ –Ϋ–Β –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Ι, –Ϋ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–¥–Η―¹–Μ–Ψ–Κ–Α―Ü–Η―é –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è (–Α –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Η –Η–¥―²–Η –Η ¬Ϊ–ö–Η―Ä–Ψ–≤¬Μ ―¹ ―ç―¹–Φ–Η–Ϋ―Ü–Α–Φ–Η) –≤ –Ζ–Ψ–Ϋ–Β –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Η ―¹–Κ―Ä―΄―²–Ϋ–Ψ, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―²–Α–Κ ―¹–≤–Β―²–Μ―΄ –Ϋ–Ψ―΅–Η. –ê –¥–Α―²―¨ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―à–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²–Η–Β ―à―²–Α–± ―³–Μ–Ψ―²–Α –Ϋ–Β ―¹–Φ–Ψ–≥, βÄî –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―²–Ψ–≤ –Ϋ–Β ―Ö–≤–Α―²–Α–Μ–Ψ.
–£–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –¥–≤―É–Φ―è –Ω–Μ–Α–≤–±–Α–Ζ–Α–Φ–Η –Η–Ζ –Θ―¹―²―¨-–î–≤–Η–Ϋ―¹–Κ–Α ―É―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η ―¹–Β–Φ―¨ –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ. –ù–Α―à–Η –Φ–Η–Ϋ–Ζ–Α–≥–Η –Η–Ζ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α –ê–≤–Β―Ä–Ψ―΅–Κ–Η–Ϋ–Α, –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β –¦-–½, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Β–Ι―¹―è –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Η, –±―΄–Μ–Η –Β―â―ë ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ―΄ –≤ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ –Ζ–Α –±–Ψ–Β–Ζ–Α–Ω–Α―¹–Ψ–Φ –±–Β–Ζ –Ζ–Α―Ö–Ψ–¥–Α –≤ –†–Η–Ε―¹–Κ–Η–Ι –Ζ–Α–Μ–Η–≤.
–ü–Ψ―à–Μ–Η –¥–≤―É–Φ―è –Κ–Ψ–Μ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Α–Φ–Η. –£–Ω–Β―Ä–Β–¥–Η ―²―Ä–Η –Ω―Ä–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Β –Φ–Α–Μ―΄―Ö ―²―Ä–Α–Μ―¨―â–Η–Κ–Α –Η–Ζ –±―΄–≤―à–Β–≥–Ψ –Μ–Α―²–≤–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α ―¹ –Ϋ–Α―à–Η–Φ ―³–Μ–Α–≥–Φ–Η–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ψ–Φ 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –Γ.–‰.–‰–Ψ–¥–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Φ –Ϋ–Α –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ. –≠―²–Η ―²―Ä–Α–Μ―¨―â–Η–Κ–Η –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Η –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ –Ψ―¹–Ϋ–Α―â–Β–Ϋ―΄ –Η –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ–Η ―¹–≤–Ψ―é ―Ä–Ψ–Μ―¨ –Ω–Ψ ―¹―É―â–Β―¹―²–≤―É ―¹–Η–Φ–≤–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η. –®–Μ–Η –Κ–Α–Κ –Ζ–Α―¹–Μ–Ψ–Ϋ, –≥–Ψ―²–Ψ–≤―΄–Ι –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²―¨ –Ϋ–Α ―¹–Β–±―è –≤–Ϋ–Β–Ζ–Α–Ω–Ϋ―΄–Ι ―É–¥–Α―Ä –Η–Ζ-–Ω–Ψ–¥ –≤–Ψ–¥―΄.
–½–Α–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ–Α―¹―¨ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α –Ϋ–Α ―Ä–Β–Ι–¥–Β –ö―É–Ι–≤–Α―¹―²―É –Ω–Ψ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Β –Η–Ζ –†–Η–Ε―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α, –≥–¥–Β ―¹–Ψ―¹―Ä–Β–¥–Ψ―²–Ψ―΅–Η–Μ–Α―¹―¨ –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–≤, –Ω–Β―Ä–Β–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―ç–≤–Α–Κ―É–Η―Ä―É–Β–Φ―΄–Φ–Η –Ε–Η―²–Β–Μ―è–Φ–Η –Ω―Ä–Η–±–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤. –ö–Α–Ε–Β―²―¹―è, –Ψ–Ϋ–Η –Ε–¥–Α–Μ–Η ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η–Ι, –Κ―É–¥–Α ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ –¥–Α–Μ―¨―à–Β. –£―΄―è―¹–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ ―É –Ϋ–Η―Ö –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ ―¹ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η–Β–Φ: –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –≤ ―¹–Ω–Β―à–Κ–Β –Η –Ϋ–Β ―É―¹–Ω–Β–Μ–Η –Η–Φ –Ζ–Α–Ω–Α―¹―²–Η―¹―¨. –ö–Ψ–Φ–±―Ä–Η–≥ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α―²―¨ –Ϋ–Α ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²―΄ ―¹ –Ϋ–Α―à–Η―Ö –Ω–Μ–Α–≤–±–Α–Ζ –≤―¹―ë, ―΅–Β–Φ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ–¥–Β–Μ–Η―²―¨―¹―è.
–Δ―É―² –Ε–Β ―¹ ¬Ϊ–‰―Ä―²―΄―à–Α¬Μ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–≥―Ä―É–Ζ–Η–Μ–Η –Ϋ–Α –±–Α―Ä–Ε–Η ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–Β ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β –Η–Φ―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―É–Φ–Β–Ϋ―¨―à–Η―²―¨ –Ψ―¹–Α–¥–Κ―É –Ω–Μ–Α–≤–±–Α–Ζ―΄ –Ω–Β―Ä–Β–¥ ―³–Ψ―Ä―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –€–Ψ–Ψ–Ϋ–Ζ―É–Ϋ–¥–Α, –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤–Α –Φ–Β–Ε–¥―É –Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ―΄–Φ –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨–Β–Φ –≠―¹―²–Ψ–Ϋ–Η–Η –Η –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α–Φ–Η, ―¹ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ–Η ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Ι –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η.
–û―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι, –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι ―³–Α―Ä–≤–Α―²–Β―Ä –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤–Α –±―΄–Μ ―É–Ε–Β –Ω–Β―Ä–Β–Κ―Ä―΄―² –Ϋ–Α―à–Η–Φ –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Φ–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ζ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β–Φ, –Α –Ω–Ψ –Φ–Β–Μ–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ζ–Α–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ–Φ―É –Φ–Ψ–≥–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Ι―²–Η –Μ–Η―à―¨ ¬Ϊ–Γ–Φ–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι¬Μ –Η –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Η. ¬Ϊ–‰―Ä―²―΄―à¬Μ, –¥–Α–Ε–Β –Ψ–±–Μ–Β–≥―΅―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Ι, –Ω―Ä–Ψ―à―ë–Μ ―¹ ―²―Ä―É–¥–Ψ–Φ, –Ω―Ä–Ψ―¹–Κ―Ä–Β–Ε–Β―²–Α–≤ –Κ–Ψ–Β-–≥–¥–Β –Ω–Ψ –Κ–Α–Φ–Ϋ―è–Φ. –€―΄ ―¹ –Κ–Ψ–Φ–±―Ä–Η–≥–Ψ–Φ –Ϋ–Β ―¹―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η ―¹ –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Α, –Ζ–Ϋ–Α―è, ―΅―²–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ¬Ϊ–‰―Ä―²―΄―à–Α¬Μ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –î–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Ϋ, –±―É–¥―É―΅–Η –Ϋ–Β–Ω–Μ–Ψ―Ö–Η–Φ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –±–Α–Ζ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±―¹–Μ―É–Ε–Η–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –≤ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–≤–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Ψ–Ω―΄―²–Β–Ϋ. –ê –Ζ–Α―¹―²―Ä―è―²―¨ –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ϋ–Α –Φ–Β–Μ–Η –±―΄–Μ–Ψ –±―΄ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –±–Β–¥–Ψ–Ι.
–£ ―É―¹―²―¨–Β –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α –Ϋ–Α―¹ –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ–Η –≤―΄―¹–Μ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Η–Ζ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄–Β –Κ–Α―²–Β―Ä–Α. –ü―Ä–Β–¥–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―Ä–Α–¥–Η, –Ψ–Ϋ–Η ―¹–±―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Η –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥–Η –Ω–Ψ –Ϋ–Α―à–Β–Φ―É –Κ―É―Ä―¹―É –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –±–Ψ–Φ–±. –Δ―É―² –±―΄–Μ–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Η–Ζ ―²–Α–Κ–Η―Ö –Φ–Β―¹―², –≥–¥–Β –Ϋ–Α―¹ –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ω–Ψ–¥–Κ–Α―Ä–Α―É–Μ–Η–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η. –ù–Ψ –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ω–Ψ–¥―¹―²–Β―Ä–Β–≥–Α–Μ–Α –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Α–Μ―¨―à–Β, –Η –Ϋ–Β –Ψ―² –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –Α –Ψ―² –Φ–Η–Ϋ―΄, –Ψ―΅–Β–≤–Η–¥–Ϋ–Ψ, –¥–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι, –Ϋ–Β–Κ–Ψ–Ϋ―²–Α–Κ―²–Ϋ–Ψ–Ι –Η –Ω―Ä–Η―²–Ψ–Φ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è ―¹―Ä–Α–±–Α―²―΄–≤–Α–Β―² –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Φ, –Ω―Ä–Ψ―à–Β–¥―à–Η–Φ –Ϋ–Α–¥ –Ϋ–Β–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―ë–Φ, –Α –Κ–Α–Κ–Η–Φ-―²–Ψ ¬Ϊ―ç–Ϋ–Ϋ―΄–Φ¬Μ –Ω–Ψ ―¹―΅―ë―²―É, –Κ–Α–Κ –Β―ë –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ―É –Ζ–Α–¥–Α–Ϋ–Ψ.
–ö–Ψ–≥–¥–Α –Ψ―²―Ä―è–¥ –Φ–Η–Ϋ–Ψ–≤–Α–Μ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤ –£–Ψ―Ä–Φ―¹–Η, –Ζ–Α –Κ–Ψ―Ä–Φ–Ψ–Ι ¬Ϊ–‰―Ä―²―΄―à–Α¬Μ ―Ä–Α–Ζ–¥–Α–Μ―¹―è –≤–Ζ―Ä―΄–≤, –Η –≤–Ζ–Φ–Β―²–Ϋ―É–≤―à–Η–Ι―¹―è ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Η–Ι ―¹―²–Ψ–Μ–± –≤–Ψ–¥―΄ –Ζ–Α―¹–Μ–Ψ–Ϋ–Η–Μ ―à–Β–¥―à–Η–Ι –Ζ–Α –Ϋ–Α–Φ–Η ¬Ϊ–Γ–Φ–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι¬Μ. –£ ―²–Ψ –Φ–≥–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ψ―Ä–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―ç―²–Α –Ω–Μ–Α–≤–±–Α–Ζ–Α, –Ϋ–Ψ –≤–Ψ―² –≤–Ψ–¥―è–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ–Μ–± –Ψ―¹–Β–Μ, –Η –Φ―΄ ―É–≤–Η–¥–Β–Μ–Η: ¬Ϊ–Γ–Φ–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι¬Μ ―Ü–Β–Μ, –Α –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―ë―² –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ¬Ϊ–€–Α–Μ―é―²–Κ–Η¬Μ. –Δ–Α–Φ, –≥–¥–Β –Ψ–Ϋ–Α ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨, –Κ–Μ–Ψ–Κ–Ψ―²–Α–Μ –≤―΄―Ä―΄–≤–Α―é―â–Η–Ι―¹―è –Ϋ–Α –Ω–Ψ–≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö. –ü–Ψ–≥–Η–±–Μ–Α –€-81, βÄî –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α –Λ.–ê.–½―É–±–Κ–Ψ–≤–Α, –Ψ–¥–Ϋ–Α –Η–Ζ ―²–Β―Ö, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η –≤–Ψ–Ι–Ϋ―É –±–Ψ–Β–≤―΄–Φ –¥–Ψ–Ζ–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Ω–Ψ–¥ –¦–Η–±–Α–≤–Ψ–Ι.
–Γ―Ö–≤–Α―²–Η–≤ –Φ–Β–≥–Α―³–Ψ–Ϋ, ―è –Κ―Ä–Η–Κ–Ϋ―É–Μ ―¹ –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Α:
βÄî –ù–Α –Κ–Ψ―Ä–Φ–Β! –†―É–±–Η―²–Β –±―É–Κ―¹–Η―Ä!
–ù–Α –±―É–Κ―¹–Η―Ä–Β ―à―ë–Μ –Ζ–Α –Ω–Μ–Α–≤–±–Α–Ζ–Ψ–Ι –Ω–Ψ―¹―΄–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Κ–Α―²–Β―Ä ―¹ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–Ι –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―²―É. –û–Ϋ –Φ–≥–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è ―²–Α–Φ, –≥–¥–Β –Η―¹―΅–Β–Ζ–Μ–Α –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Α. –ß–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Η–Ϋ―É―² –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Η: –Η–Ζ –≤–Ψ–¥―΄ –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è―²―΄ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –±–Β–Ζ –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–≤ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Η ―²―Ä–Ψ–Β –Ε–Η–≤―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –€-81 –Λ―ë–¥–Ψ―Ä –ê–Ϋ―²–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –½―É–±–Κ–Ψ–≤–Γ–Ω–Α―¹–Μ–Η―¹―¨ –Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –ë.–£.–†–Α–Κ–Η―²–Η–Ϋ, ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ–Α –Φ–Ψ―²–Ψ―Ä–Η―¹―²–Ψ–≤ –Γ–Ψ–Φ–Ψ–≤ –Η ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Η–Κ –ü―Ä–Β–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι. –£―¹–Β –Η–Φ–Β–Μ–Η ―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è, –†–Α–Κ–Η―²–Η–Ϋ βÄî –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―²―è–Ε―ë–Μ–Ψ–Β. –Δ –Β―Ö –Κ―²–Ψ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –Ϋ―ë―¹ ―¹–Μ―É–Ε–±―É –Ϋ–Α –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Β, –Ϋ–Β –Ψ―¹―²–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –≤ –Ε–Η–≤―΄―Ö –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ, –Α –Ω–Ψ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―²―Ä―ë–Φ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Α–Φ, –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–≤―à–Η–Φ―¹―è –Ϋ–Α–≤–Β―Ä―Ö―É ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ, βÄî –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –≤―΄―à–Β–¥―à–Η–Φ –Ω–Ψ–Κ―É―Ä–Η―²―¨. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –€-81 –Λ―ë–¥–Ψ―Ä –ê–Ϋ―²–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –½―É–±–Κ–Ψ–≤–Γ–Ω–Α―¹–Μ–Η―¹―¨ –Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –ë.–£.–†–Α–Κ–Η―²–Η–Ϋ, ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ–Α –Φ–Ψ―²–Ψ―Ä–Η―¹―²–Ψ–≤ –Γ–Ψ–Φ–Ψ–≤ –Η ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Η–Κ –ü―Ä–Β–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι. –£―¹–Β –Η–Φ–Β–Μ–Η ―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è, –†–Α–Κ–Η―²–Η–Ϋ βÄî –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―²―è–Ε―ë–Μ–Ψ–Β. –Δ –Β―Ö –Κ―²–Ψ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –Ϋ―ë―¹ ―¹–Μ―É–Ε–±―É –Ϋ–Α –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Β, –Ϋ–Β –Ψ―¹―²–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –≤ –Ε–Η–≤―΄―Ö –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ, –Α –Ω–Ψ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―²―Ä―ë–Φ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Α–Φ, –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–≤―à–Η–Φ―¹―è –Ϋ–Α–≤–Β―Ä―Ö―É ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ, βÄî –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –≤―΄―à–Β–¥―à–Η–Φ –Ω–Ψ–Κ―É―Ä–Η―²―¨.
–Γ–Κ–Α–Ε―É ―²―É―² –Ε–Β, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Η ―²―Ä–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –≥–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ―è –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ–Η ―¹–Μ―É–Ε–±―É. –ù–Ψ –†–Α–Κ–Η―²–Η–Ϋ―É, –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ –¥–Μ―è –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Ι, –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ–Ι―²–Η –Ϋ–Α –Ζ–Α–≤–Ψ–¥ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ω―Ä–Β–¥–Ψ–Φ. –Γ–Ψ–Φ–Ψ–≤ –Η –ü―Ä–Β–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –±―΄–Μ–Η –≤ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, ―É―à–Β–¥―à–Η―Ö –≤ ―¹–Α–Φ–Ψ–Β ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ–Β –¥–Μ―è –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Α –≤―Ä–Β–Φ―è –≤ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ―É―é –Ω–Β―Ö–Ψ―²―É. –ü–Ψ –Ϋ–Α–≤–Β–¥―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Κ–Α–Φ, –Γ–Ψ–Φ–Ψ–≤ –Ω–Ψ–≥–Η–± –Ϋ–Α –£–Ψ–Μ―Ö–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Β, –Α –ü―Ä–Β–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ –≤–Ψ–Ι–Ϋ―É –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ–Β–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Ω–Ψ–Μ–Κ–Α –Ω–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –≤ –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Η –Ω–Ψ–¥–Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ–Α.
–£ 60-–Β –≥–Ψ–¥―΄ –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Α –€-81, ―Ä–Α–Ζ–Μ–Ψ–Φ–Η–≤―à–Α―è―¹―è –Ω―Ä–Η –≤–Ζ―Ä―΄–≤–Β –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–Β, –±―΄–Μ–Α –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è―²–Α, –Η –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Κ–Η –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤ –Β―ë ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α ―¹ –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ–Η –Ω–Ψ―΅–Β―¹―²―è–Φ–Η –Ω―Ä–Β–¥–Α–Ϋ―΄ –Ζ–Β–Φ–Μ–Β –≤ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Β. –£ ―²―É –Ε–Β –±―Ä–Α―²―¹–Κ―É―é –Φ–Ψ–≥–Η–Μ―É –Ω–Β―Ä–Β–Ϋ–Β―¹–Μ–Η ―²–Ψ–≥–¥–Α ―¹ ―²–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Μ–Α–¥–±–Η―â–Α –Η –Ω―Ä–Α―Ö –Β―ë –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α –Λ.–ê.–½―É–±–Κ–Ψ–≤–Α.
–ü–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ―¹―è. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Η ―É–Ε–Β –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤ –û―¹–Φ―É―¹―¹–Α–Α―Ä, ―ç―²–Ψ―² ―¹―²―Ä–Α–Ε –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α, ―¹―²–Ψ―è―â–Η–Ι –Ω–Ψ―΅―²–Η –Ϋ–Α –Ψ–¥–Η–Ϋ–Α–Κ–Ψ–≤–Ψ–Φ ―Ä–Α―¹―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Η –Ψ―² –Β–≥–Ψ –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤, –≤–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Η–≥–Ϋ–Α–Μ―¨―â–Η–Κ ¬Ϊ–‰―Ä―²―΄―à–Α¬Μ, –Ϋ–Β –Ψ―²―Ä―΄–≤–Α―è―¹―¨ –Ψ―² ―¹―²–Β―Ä–Β–Ψ―²―Ä―É–±―΄, –Κ―Ä–Η–Κ–Ϋ―É–Μ:
βÄî –Γ–Μ–Β–≤–Α –Ω–Ψ –±–Ψ―Ä―²―É ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄–Β –Κ–Α―²–Β―Ä–Α!..
–‰―Ö –±―΄–Μ–Ψ –¥–Β–≤―è―²―¨. –ü–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ–Α―è –±–Β–Μ–Ψ–Ω–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –±―É―Ä―É–Ϋ―΅–Η–Κ–Η, –Ϋ–Β―¹–Μ–Η―¹―¨ –Ω―Ä―è–Φ–Ψ –Ϋ–Α –Ϋ–Α―¹ ―¹–Ψ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Λ–Η–Ϋ–Μ―è–Ϋ–¥–Η–Η. –ß―¨–Η –Ψ–Ϋ–Η? –†–Α–Ζ–≤–Β ―Ä–Α–Ζ–±–Β―Ä―ë―à―¨ ―ç―²–Ψ –Η–Ζ–¥–Α–Μ–Η! –Γ―΄–≥―Ä–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –≤―¹–Β–Ι –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä–Β –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Ι―¹–Κ―É―é ―²―Ä–Β–≤–Ψ–≥―É. –ù–Α–Η–±–Ψ–Μ–Β–Β –±–Β–Ζ–Ζ–Α―â–Η―²–Ϋ―΄–Φ –≤ –¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β –±―΄–Μ ¬Ϊ–‰―Ä―²―΄―à¬Μ: –Ψ―²–±–Η–≤–Α―²―¨―¹―è –Ψ―² –Α―²–Α–Κ–Η –Κ–Α―²–Β―Ä–Ψ–≤ –Ϋ–Β―΅–Β–Φ... –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ ―¹–±–Μ–Η–Ζ–Η–≤―à–Η―¹―¨ –¥–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É―¹–Ψ―²–Ϋ–Η –Κ–Α–±–Β–Μ―¨―²–Ψ–≤―΄―Ö, –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Α―²–Β―Ä –≤ –Ψ―²–≤–Β―² –Ϋ–Α –Ϋ–Α―à–Η ―¹–≤–Β―²–Ψ–≤―΄–Β –Ζ–Α–Ω―Ä–Ψ―¹―΄ –¥–Α–Μ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ψ–Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ–Η –Κ–Α―²–Β―Ä–Α, –±–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–≤―à–Η–Β―¹―è –Ϋ–Α –Ξ–Α–Ϋ–Κ–Ψ. –ù–Β –Ζ–Ϋ–Α―é, –±―΄–Μ–Ψ –Μ–Η –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ –Η―Ö –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―é –Ψ –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Β –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Η –Ω–Μ–Α–≤–±–Α–Ζ, –Ϋ–Ψ –Φ―΄ –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Η―Ö –Ω―Ä–Β–¥―É–Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Ι –Ψ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –≤ ―ç―²–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η―Ö ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ–Α―²–Β―Ä–Ψ–≤ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Μ–Η. –£–Ψ–Ι–Ϋ–Α ―É–Ε–Β –Η–¥―ë―² –≤―²–Ψ―Ä―É―é –Ϋ–Β–¥–Β–Μ―é, –Ψ–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Ψ–Ω–Ψ–≤–Β―â–Β–Ϋ–Η–Β ―³–Μ–Ψ―²–Α –Ψ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è―Ö –Β–≥–Ψ –Ε–Β ―¹–Η–Μ –Β―â―ë –Ϋ–Β –Ϋ–Α–Μ–Α–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨, –Η –Ω–Ψ–¥―΅–Α―¹ ―ç―²–Ψ ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –≤ ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β.
–£ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Κ–Β –ü–Α–Μ–¥–Η―¹–Κ–Η, ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―É –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤―΅–Η–Κ–Α –Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Β–Β –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α, –Φ―΄ –Ϋ–Α―à–Μ–Η –Ϋ–Β–¥–Ψ–Ψ–±–Ψ―Ä―É–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι, –Ϋ–Β–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―è–Β–Φ―΄–Ι –Η ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―É―¹―²–Ψ–Ι –Ω–Ψ―Ä―². –Γ–Μ―É―΅–Η―¹―¨ –Ϋ–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ–Α―²–Β―Ä–Ψ–≤, –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –Φ–Ψ–≥–Μ–Α –Ζ–Α―â–Η―²–Η―²―¨ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β ―΅―²–Ψ ―¹―²–Β–Ϋ–Κ–Α –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ω–Η―Ä―¹–Α, –Ζ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Φ–Β–Ε–¥―É –Ϋ–Η–Φ –Η –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–Φ –Η –±―΄–Μ–Η –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ―΄ –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Η –Ω–Μ–Α–≤–±–Α–Ζ―΄. –£ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Κ–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Φ―΄ –Ψ–±–Ψ―à–Μ–Η ―¹ ―³–Μ–Α–≥―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Ψ–Φ –ê.–ù.–Δ―é―Ä–Β–Ϋ–Κ–Ψ–≤―΄–Φ, –Ω–Α―Ö–Μ–Ψ –≥–Α―Ä―¨―é. –Δ―É―² ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ω–Η–Μ–Η―¹―¨ ―΅―²–Ψ-―²–Ψ ―¹–Ε–Η–≥–Α―²―¨. –ù–Η–Κ–Α–Κ–Η―Ö –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤–Μ–Α―¹―²–Β–Ι ―Ä–Α–Ζ―΄―¹–Κ–Α―²―¨ –Ϋ–Β ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –Φ–Ψ–Β–≥–Ψ –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Α –Ψ–± –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Β, –Κ–Ψ–Φ–±―Ä–Η–≥ ―Ä–Α–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–Φ―É ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Β–±―΄–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –≤ –ü–Α–Μ–¥–Η―¹–Κ–Η –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Ϋ–Β–±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ―΄–Φ.–ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―²
18.03.201400:3618.03.2014 00:36:19
0
18.03.201400:2718.03.2014 00:27:09
2 –Α–≤–≥―É―¹―²–Α –≤ 6.00 –Ω–Ψ ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Μ―è―Ü–Η–Η –Ω―Ä–Ψ–Ζ–≤―É―΅–Α–Μ–Ψ: ¬Ϊ–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Β –≤―¹―²–Α–≤–Α―²―¨, –Κ–Ψ–Ι–Κ–Η –≤―è–Ζ–Α―²―¨!¬Μ. –ë―΄―¹―²―Ä–Ψ ¬Ϊ―¹–≤―è–Ζ–Α–Μ–Η¬Μ –Ω–Ψ–¥–≤–Β―¹–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ–Ι–Κ–Η –≤ –Α–Κ–Κ―É―Ä–Α―²–Ϋ―΄–Β ―Ü–Η–Μ–Η–Ϋ–¥―Ä―΄ –≤―΄―¹–Ψ―²–Ψ–Ι 1 –Φ 15 ―¹–Φ –Η –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Η –Η―Ö –≤ –Ψ―²–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≥–Ϋ–Β–Ζ–¥–Α. –Δ―â–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Β–Β ―΅–Β–Φ –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ ―¹–Κ–Α―²–Η–Μ–Η –Η –Ω―Ä–Ψ–Μ–Ψ–Ω–Α―²–Η–Μ–Η –≤–Β―Ä―Ö–Ϋ―é―é –Ω–Α–Μ―É–±―É. –ü―Ä–Ψ–≥–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η –Ζ–Α–≤―²―Ä–Α–Κ –Η –≤ 7.50 –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ –Ψ–±–Ψ–Η–Φ –±–Ψ―Ä―²–Α–Φ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥―ä–Β–Φ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Α–≥–Α. –Γ―Ä–Α–Ζ―É –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ω–Ψ–¥―ä–Β–Φ–Α ―³–Μ–Α–≥–Α –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ –Κ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–¥–Α–Ϋ―² –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ―Ä–Β–Ω–Ψ―¹―²–Η –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –‰.–‰.–ë–Α–Ι–Κ–Ψ–≤. –û–Ϋ –Ψ–±–Ψ―à–Β–Μ ―¹―²―Ä–Ψ–Ι –Η ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ―É―é ―Ä–Β―΅―¨ ―¹ –Ω–Ψ–Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η–Β–Φ ―¹ ―΅–Β―¹―²―¨―é –Ω―Ä–Ψ–Ϋ–Β―¹―²–Η –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―³–Μ–Α–≥ –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –Ω–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è–Φ –Η –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―É.
–î–≤–Α ―Ä–Β–Ι–¥–Ψ–≤―΄―Ö –±―É–Κ―¹–Η―Ä–Α –Ϋ–Β―²–Β―Ä–Ω–Β–Μ–Η–≤–Ψ –Ω―΄―Ö―²–Β–Μ–Η ―É –±–Ψ―Ä―²–Α. –ö–Α–Κ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–Β –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Η–Ϋ―É–Μ–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨, –ù–Α―΅–Α–Μ–Α―¹―¨ ―¹―ä–Β–Φ–Κ–Α ―¹ ―è–Κ–Ψ―Ä―è –Η ―à–≤–Α―Ä―²–Ψ–≤―΄―Ö. –ö―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²―΄ –≤ ―ç―²–Η―Ö –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η―è―Ö –Ϋ–Β ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η, ―¹―²–Ψ―è–Μ–Η –≤ ―¹―²―Ä–Ψ―é –Η ―¹ ―É–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η–Β–Φ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α–Μ–Η, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α ―¹―²–Ψ―è―â–Η―Ö –≤ –≥–Α–≤–Α–Ϋ–Η –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è―Ö –≤–Ζ–Μ–Β―²–Α―é―² –≤–≤–Β―Ä―Ö –Η ―²―Ä–Β–Ω–Β―â―É―² –Ϋ–Α –≤–Β―²―Ä―É ―³–Μ–Α–Ε–Ϋ―΄–Β ―¹–Η–≥–Ϋ–Α–Μ―΄ ―¹ –Ω–Ψ–Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η–Β–Φ: ¬Ϊ–Γ―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è!¬Μ. –ù–Α―à –Ψ―Ä–Κ–Β―¹―²―Ä, –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Α ―é―²–Β, –Ζ–Α–Η–≥―Ä–Α–Μ –Φ–Α―Ä―à ¬Ϊ–ü―Ä–Ψ―â–Α–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Α–≤―è–Ϋ–Κ–Η¬Μ.
–ü–Β―Ä–Β–¥ –Ϋ–Α–Φ–Η –Ψ―²–Κ―Ä―΄–Μ–Α―¹―¨ –Ω–Α–Ϋ–Ψ―Ä–Α–Φ–Α –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Β–Ι–¥–Α. –ü–Ψ –±–Ψ―Ä―²–Α–Φ –Κ–Α–Κ –±―΄ –Ω―Ä–Ψ–Ω–Μ―΄–≤–Α–Μ–Η –Μ–Β–≥–Β–Ϋ–¥–Α―Ä–Ϋ―΄–Β ―³–Ψ―Ä―²―΄ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Α. –£―΄―²–Α―â–Η–≤ –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Α ―Ä–Β–Ι–¥, –±―É–Κ―¹–Η―Ä―΄ –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Ψ ―¹–≤–Η―¹―²–Ϋ―É–Μ–Η –Η –Ω–Ψ–±–Β–Ε–Α–Μ–Η –≤ –ö―É–Ω–Β―΅–Β―¹–Κ―É―é –≥–Α–≤–Α–Ϋ―¨.  ¬Ϊ–Γ–Β–¥–Ψ–≤¬Μ –Ψ―²–¥–Α–Μ ―è–Κ–Ψ―Ä―¨ –Η –Ζ–Α–Φ–Β―Ä –Ϋ–Α –Ζ–Β―Ä–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≥–Μ–Α–¥–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≤–Ψ–¥―΄. –£ ―ç―²–Η―Ö –Η–¥–Β–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Ψ –¥–≤–Α ―É―΅–Β–Ϋ–Η―è. –ü–Β―Ä–≤–Ψ–Β βÄ™ –Ω–Ψ–¥―ä–Β–Φ –Ω–Ψ –≤–Α–Ϋ―²–Α–Φ –¥–Ψ ¬Ϊ–€–Α―Ä―¹–Α¬Μ –Η ¬Ϊ–Γ–Α–Μ–Η–Ϋ–≥–Α¬Μ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –≥―Ä–Ψ―²–Α –Η ―¹–Ω―É―¹–Κ ―¹ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±–Ψ―Ä―²–Α. –ü–Ψ―¹–Μ–Β ―Ä–Α―¹–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ –Φ–Α―΅―²–Α–Φ –Η ―Ä–Β―è–Φ, –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―²–Α–Ε–Α –Ω–Ψ –Φ–Β―Ä–Α–Φ –±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η ―Ä–Α–Ζ–¥–Α―΅–Η ―¹―²―Ä–Α―Ö–Ψ–≤–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ―è―¹–Ψ–≤ βÄ™ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Β ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β, –Ω–Ψ–¥ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –Φ–Α―΅―²: –Ω–Ψ–¥―ä–Β–Φ –Ω–Ψ –≤–Α–Ϋ―²–Α–Φ –¥–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ ―Ä–Β―è, ―Ä–Α―¹―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ –Ω–Β―Ä―²–Α–Φ –¥–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Φ–Β―¹―²–Α –Ϋ–Α ―Ä–Β–Β –Η ―¹–Ω―É―¹–Κ –≤ –Ψ–±―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Β. –Δ–Α–Κ–Η–Β ―É―΅–Β–Ϋ–Η―è, –Ϋ–Ψ ―É–Ε–Β ―¹ ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Ψ–Ι –Η ―É–±–Ψ―Ä–Κ–Ψ–Ι –Ω–Α―Ä―É―¹–Ψ–≤ –Ϋ–Β–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä―è–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α ―Ö–Ψ–¥―É. –ü–Ψ–≥–Ψ–¥–Α ―ç―²–Ψ–Φ―É –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Α βÄ™ –±―΄–Μ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Ι ―à―²–Η–Μ―¨. –®–Μ–Η, –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É―è –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –¥–≤–Η–≥–Α―²–Β–Μ―¨. –€–Α―à–Η–Ϋ–Α –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–≤–Α–Μ–Α ―Ö–Ψ–¥ βÄ™ 5 ―É–Ζ–Μ–Ψ–≤. ¬Ϊ–Γ–Β–¥–Ψ–≤¬Μ –Ψ―²–¥–Α–Μ ―è–Κ–Ψ―Ä―¨ –Η –Ζ–Α–Φ–Β―Ä –Ϋ–Α –Ζ–Β―Ä–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≥–Μ–Α–¥–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≤–Ψ–¥―΄. –£ ―ç―²–Η―Ö –Η–¥–Β–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Ψ –¥–≤–Α ―É―΅–Β–Ϋ–Η―è. –ü–Β―Ä–≤–Ψ–Β βÄ™ –Ω–Ψ–¥―ä–Β–Φ –Ω–Ψ –≤–Α–Ϋ―²–Α–Φ –¥–Ψ ¬Ϊ–€–Α―Ä―¹–Α¬Μ –Η ¬Ϊ–Γ–Α–Μ–Η–Ϋ–≥–Α¬Μ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –≥―Ä–Ψ―²–Α –Η ―¹–Ω―É―¹–Κ ―¹ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±–Ψ―Ä―²–Α. –ü–Ψ―¹–Μ–Β ―Ä–Α―¹–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ –Φ–Α―΅―²–Α–Φ –Η ―Ä–Β―è–Φ, –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―²–Α–Ε–Α –Ω–Ψ –Φ–Β―Ä–Α–Φ –±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η ―Ä–Α–Ζ–¥–Α―΅–Η ―¹―²―Ä–Α―Ö–Ψ–≤–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ―è―¹–Ψ–≤ βÄ™ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Β ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β, –Ω–Ψ–¥ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –Φ–Α―΅―²: –Ω–Ψ–¥―ä–Β–Φ –Ω–Ψ –≤–Α–Ϋ―²–Α–Φ –¥–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ ―Ä–Β―è, ―Ä–Α―¹―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ –Ω–Β―Ä―²–Α–Φ –¥–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Φ–Β―¹―²–Α –Ϋ–Α ―Ä–Β–Β –Η ―¹–Ω―É―¹–Κ –≤ –Ψ–±―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Β. –Δ–Α–Κ–Η–Β ―É―΅–Β–Ϋ–Η―è, –Ϋ–Ψ ―É–Ε–Β ―¹ ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Ψ–Ι –Η ―É–±–Ψ―Ä–Κ–Ψ–Ι –Ω–Α―Ä―É―¹–Ψ–≤ –Ϋ–Β–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä―è–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α ―Ö–Ψ–¥―É. –ü–Ψ–≥–Ψ–¥–Α ―ç―²–Ψ–Φ―É –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Α βÄ™ –±―΄–Μ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Ι ―à―²–Η–Μ―¨. –®–Μ–Η, –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É―è –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –¥–≤–Η–≥–Α―²–Β–Μ―¨. –€–Α―à–Η–Ϋ–Α –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–≤–Α–Μ–Α ―Ö–Ψ–¥ βÄ™ 5 ―É–Ζ–Μ–Ψ–≤.
–≠–Κ–Η–Ω–Α–Ε ¬Ϊ–Γ–Β–¥–Ψ–≤–Α¬Μ –Η –Ϋ–Α―à–Η ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ–Η ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ–Η –≤―¹–Β –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Β, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²―΄ –Ϋ–Β ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η ―¹–Β–±―è ¬Ϊ―ç–Κ―¹–Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²–Α–Φ–Η¬Μ. –ù–Β―¹–Β–Ϋ–Η–Β –≤–Α―Ö―²―΄, ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η―è, –Ω―Ä–Η–±–Ψ―Ä–Κ–Η –Ω–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ―É ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ―É –Ϋ–Β –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η, –Ζ–Α –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ¬Ϊ–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―΅–Α―¹–Α¬Μ. –ü–Β―Ä–Β―Ä―΄–≤ –Ϋ–Α –Ψ–±–Β–¥ –Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–Ψ–±–Β–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ψ―²–¥―΄―Ö βÄ™ ―¹–≤―è―²–Ψ–Β –¥–Β–Μ–Ψ, –Ϋ–Ψ –Β―¹–Μ–Η –Ϋ–Β ―¹―²–Ψ–Η―à―¨ –Ϋ–Α –≤–Α―Ö―²–Β (–Ω–Α―Ä―É―¹–Ϋ–Ψ–Ι, ―¹–Η–≥–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι, ―Ä―É–Μ–Β–≤–Ψ–Ι). –½–Α–Ϋ―è―²–Η―è –±―΄–Μ–Η ―¹–Α–Φ―΄–Β ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Β: –Ω–Ψ –Η–Ζ―É―΅–Β–Ϋ–Η―é –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è ―¹―É–¥–Ϋ–Α (―Ä–Α–Ϋ–≥–Ψ―É―²–Α, ―¹―²–Ψ―è―΅–Β–≥–Ψ –Η –±–Β–≥―É―΅–Β–≥–Ψ ―²–Α–Κ–Β–Μ–Α–Ε–Α –Η –Ω–Α―Ä―É―¹–Ψ–≤); –Ω–Ψ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ–Β (–Η–Ζ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β ―à–Μ―é–Ω–Κ–Η, ―²–Α–Κ–Β–Μ–Α–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Β–Μ–Α, –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η –Ω–Ψ–Κ―Ä–Α―¹–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α–±–Ψ―² –Η ―².–¥.). –≠―²–Η –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η―è –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ–¥ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –Φ–Α―΅―² –Η –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±–Ψ―Ü–Φ–Α–Ϋ–Α –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ–Α –ö–Α–Μ–Η–Ϋ–Η–Ϋ–Α. –ö―É―Ä―¹–Α–Ϋ―² –¦–Α–≤―Ä–Ψ–≤ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―² ―¹–Β–Φ–Α―³–Ψ―Ä, –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–≤–Α–Β–Φ―΄–Ι ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Β–Φ ―¹ –Ω–Ψ–Μ―É–±–Α–Κ–Α. ¬Ϊ–Γ–Β–¥–Ψ–≤¬Μ. 1955 –≥.–Θ―΅–Η–Μ–Η―â–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ–Η ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η –≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ϋ–Α–≤–Η–≥–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Κ–Η, –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η―è–Φ–Η –Ω–Ψ –Α―¹―²―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η–Η (–¥–Ϋ–Β–Φ –Η –Ϋ–Ψ―΅―¨―é), –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η―è–Φ–Η –Ω–Ψ –≥–Η–¥―Ä–Ψ–Φ–Β―²–Β–Ψ―Ä–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η–Η –Η ―².–Ω. –î–Μ―è –≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α–≤–Η–≥–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Κ–Η –Ϋ–Α –Μ―é–Κ–Α―Ö ―É―¹―²–Α–Ϋ–Α–≤–Μ–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ψ―Ä–Η–≥–Η–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Β ―¹―²–Ψ–Μ―΄ –≤ –≤–Η–¥–Β ―Ä–Α―¹–Κ―Ä―΄―²―΄―Ö ―΅–Β–Φ–Ψ–¥–Α–Ϋ–Ψ–≤. –£–Ϋ―É―²―Ä–Η ―Ä–Α―¹–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α–≤–Η–≥–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Α―è –Κ–Α―Ä―²–Α –Η –Ϋ–Α–≤–Η–≥–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ. –î–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –¥–Μ―è –Ω―Ä–Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Κ–Η –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²―΄ –¥–Ψ–±―΄–≤–Α–Μ–Η ―¹–Α–Φ–Η (–Κ―É―Ä―¹ ―É ―Ä―É–Μ–Β–≤―΄―Ö, –Ψ―²―¹―΅–Β―²―΄ –Μ–Α–≥–Α –Ϋ–Α ―é―²–Β, –Ω–Β–Μ–Β–Ϋ–≥–Η ―¹ ―Ä–Β–Ω–Η―²–Β―Ä–Ψ–≤, ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö –Φ–Β―¹―²–Α―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è). –Γ―Ä–Α–Ζ―É –±―΄–Μ–Ψ –Ψ–±―ä―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –¥–Μ―è –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Α―΅–Β―²–Ψ–≤ –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ–Η –Ϋ–Α–¥–Ψ –±―É–¥–Β―² –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ 100 ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α–¥–Α―΅ –Ω–Ψ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―é –Φ–Β―¹―²–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –Ω–Ψ ―¹–Ψ–Μ–Ϋ―Ü―É –Η –Ζ–≤–Β–Ζ–¥–Α–Φ. –ö―É―Ä―¹–Α–Ϋ―² –¦–Α–≤―Ä–Ψ–≤ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―² ―¹–Β–Φ–Α―³–Ψ―Ä, –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–≤–Α–Β–Φ―΄–Ι ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Β–Φ ―¹ –Ω–Ψ–Μ―É–±–Α–Κ–Α. ¬Ϊ–Γ–Β–¥–Ψ–≤¬Μ. 1955 –≥.–Θ―΅–Η–Μ–Η―â–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ–Η ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η –≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ϋ–Α–≤–Η–≥–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Κ–Η, –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η―è–Φ–Η –Ω–Ψ –Α―¹―²―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η–Η (–¥–Ϋ–Β–Φ –Η –Ϋ–Ψ―΅―¨―é), –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η―è–Φ–Η –Ω–Ψ –≥–Η–¥―Ä–Ψ–Φ–Β―²–Β–Ψ―Ä–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η–Η –Η ―².–Ω. –î–Μ―è –≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α–≤–Η–≥–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Κ–Η –Ϋ–Α –Μ―é–Κ–Α―Ö ―É―¹―²–Α–Ϋ–Α–≤–Μ–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ψ―Ä–Η–≥–Η–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Β ―¹―²–Ψ–Μ―΄ –≤ –≤–Η–¥–Β ―Ä–Α―¹–Κ―Ä―΄―²―΄―Ö ―΅–Β–Φ–Ψ–¥–Α–Ϋ–Ψ–≤. –£–Ϋ―É―²―Ä–Η ―Ä–Α―¹–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α–≤–Η–≥–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Α―è –Κ–Α―Ä―²–Α –Η –Ϋ–Α–≤–Η–≥–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ. –î–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –¥–Μ―è –Ω―Ä–Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Κ–Η –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²―΄ –¥–Ψ–±―΄–≤–Α–Μ–Η ―¹–Α–Φ–Η (–Κ―É―Ä―¹ ―É ―Ä―É–Μ–Β–≤―΄―Ö, –Ψ―²―¹―΅–Β―²―΄ –Μ–Α–≥–Α –Ϋ–Α ―é―²–Β, –Ω–Β–Μ–Β–Ϋ–≥–Η ―¹ ―Ä–Β–Ω–Η―²–Β―Ä–Ψ–≤, ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö –Φ–Β―¹―²–Α―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è). –Γ―Ä–Α–Ζ―É –±―΄–Μ–Ψ –Ψ–±―ä―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –¥–Μ―è –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Α―΅–Β―²–Ψ–≤ –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ–Η –Ϋ–Α–¥–Ψ –±―É–¥–Β―² –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ 100 ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α–¥–Α―΅ –Ω–Ψ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―é –Φ–Β―¹―²–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –Ω–Ψ ―¹–Ψ–Μ–Ϋ―Ü―É –Η –Ζ–≤–Β–Ζ–¥–Α–Φ. –ü–Α―Ä―É―¹–Ϋ–Α―è –≤–Α―Ö―²–Α ―¹―²–Α–≤–Η―² ―³–Ψ―Ä-–±–Ψ–Φ-–±―Ä–Α–Φ―¹–Β–Μ―¨. –Λ–Ψ―²–Ψ –Α–≤–≥―É―¹―² 1955 –≥.–ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä–Β –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Η –±–Β–Ζ –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α–Ϋ–Η–Ι, ―΅–Α―¹―²―¨ –Ω―É―²–Η βÄ™ –Ω–Ψ–¥ –Ω–Α―Ä―É―¹–Α–Φ–Η. –ü―Ä–Η ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–Ι –Ω–Ψ–≥–Ψ–¥–Β –Η ―É–Φ–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –≤–Β―²―Ä–Β –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²―΄ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Η –Ω–Β―Ä–≤–Η―΅–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Α–≤―΄–Κ–Η –≤ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Β ―¹ –Ω–Α―Ä―É―¹–Α–Φ–Η, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α –Ω–Α–Μ―É–±–Β, ―²–Α–Κ –Η –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α ―Ä–Β―è―Ö. –ü–Α―Ä―É―¹–Ϋ–Α―è –≤–Α―Ö―²–Α ―¹―²–Α–≤–Η―² ―³–Ψ―Ä-–±–Ψ–Φ-–±―Ä–Α–Φ―¹–Β–Μ―¨. –Λ–Ψ―²–Ψ –Α–≤–≥―É―¹―² 1955 –≥.–ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä–Β –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Η –±–Β–Ζ –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α–Ϋ–Η–Ι, ―΅–Α―¹―²―¨ –Ω―É―²–Η βÄ™ –Ω–Ψ–¥ –Ω–Α―Ä―É―¹–Α–Φ–Η. –ü―Ä–Η ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–Ι –Ω–Ψ–≥–Ψ–¥–Β –Η ―É–Φ–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –≤–Β―²―Ä–Β –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²―΄ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Η –Ω–Β―Ä–≤–Η―΅–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Α–≤―΄–Κ–Η –≤ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Β ―¹ –Ω–Α―Ä―É―¹–Α–Φ–Η, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α –Ω–Α–Μ―É–±–Β, ―²–Α–Κ –Η –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α ―Ä–Β―è―Ö.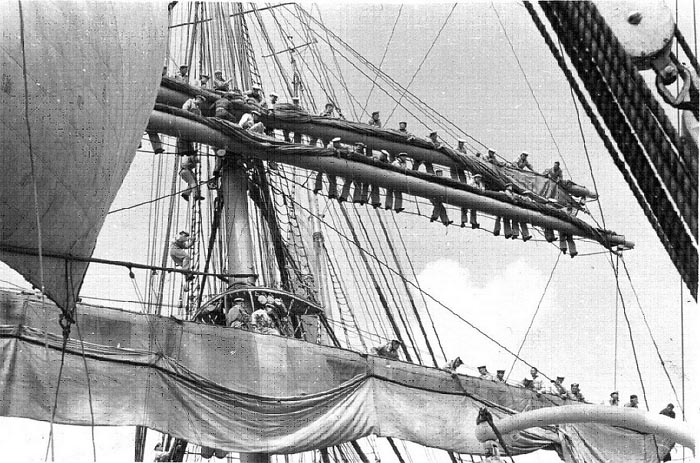 –ö―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²―΄ ―É–±–Η―Ä–Α―é―² –Ϋ–Η–Ε–Ϋ–Η–Ι –Η –≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Η–Ι –±―Ä–Α–Φ―¹–Β–Μ―¨ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –≥―Ä–Ψ―²–Α. –Λ–Ψ―²–Ψ ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä―¨ 1955 –≥.–ü–Ψ–¥–Ψ―à–Μ–Η –Κ –î–Α―²―¹–Κ–Η–Φ –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤–Α–Φ. –Θ–±―Ä–Α–Μ–Η –Ω–Α―Ä―É―¹–Α. –£ ―É–Ζ–Κ–Η―Ö –Η –Ζ–Α–Ω―É―²–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―³–Α―Ä–≤–Α―²–Β―Ä–Α―Ö –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Ζ–Ψ–Ϋ―΄ –Ω―Ä–Η –Η–Ϋ―²–Β–Ϋ―¹–Η–≤–Ϋ–Ψ–Φ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Ϋ–Ψ–Φ –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Ζ–Α―²―Ä―É–¥–Ϋ–Β–Ϋ–Ψ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ–Φ. –ü―Ä–Ψ―à–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤―΄ –½―É–Ϋ–¥ –Η –ö–Α―²―²–Β–≥–Α―². –î–Α―²―¹–Κ–Η–Β –Ω–Α―Ä–Ψ–Φ―΄ –Ω–Β―Ä–Β―¹–Β–Κ–Α―é―² –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤―΄, –Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ―É –Ϋ–Β ―É―¹―²―É–Ω–Α―è –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Η, –Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ –Ϋ–Β –Ζ–Α–±―΄–≤–Α―é―² –Ω―Ä–Η–≤–Β―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Α―à –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―³–Μ–Α–≥. –ö―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²―΄ ―É–±–Η―Ä–Α―é―² –Ϋ–Η–Ε–Ϋ–Η–Ι –Η –≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Η–Ι –±―Ä–Α–Φ―¹–Β–Μ―¨ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –≥―Ä–Ψ―²–Α. –Λ–Ψ―²–Ψ ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä―¨ 1955 –≥.–ü–Ψ–¥–Ψ―à–Μ–Η –Κ –î–Α―²―¹–Κ–Η–Φ –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤–Α–Φ. –Θ–±―Ä–Α–Μ–Η –Ω–Α―Ä―É―¹–Α. –£ ―É–Ζ–Κ–Η―Ö –Η –Ζ–Α–Ω―É―²–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―³–Α―Ä–≤–Α―²–Β―Ä–Α―Ö –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Ζ–Ψ–Ϋ―΄ –Ω―Ä–Η –Η–Ϋ―²–Β–Ϋ―¹–Η–≤–Ϋ–Ψ–Φ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Ϋ–Ψ–Φ –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Ζ–Α―²―Ä―É–¥–Ϋ–Β–Ϋ–Ψ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ–Φ. –ü―Ä–Ψ―à–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤―΄ –½―É–Ϋ–¥ –Η –ö–Α―²―²–Β–≥–Α―². –î–Α―²―¹–Κ–Η–Β –Ω–Α―Ä–Ψ–Φ―΄ –Ω–Β―Ä–Β―¹–Β–Κ–Α―é―² –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤―΄, –Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ―É –Ϋ–Β ―É―¹―²―É–Ω–Α―è –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Η, –Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ –Ϋ–Β –Ζ–Α–±―΄–≤–Α―é―² –Ω―Ä–Η–≤–Β―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Α―à –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―³–Μ–Α–≥.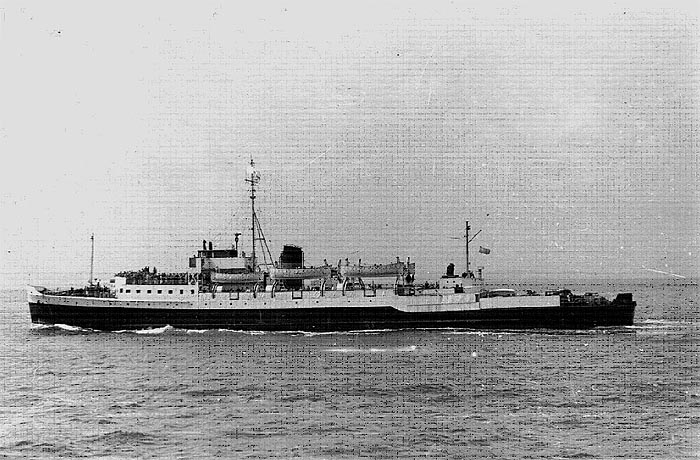 –î–Α―²―¹–Κ–Ψ–Β ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–≤–Β―²―¹―²–≤―É–Β―² –Θ–ü–Γ ¬Ϊ–Γ–Β–¥–Ψ–≤¬Μ, –Ω―Ä–Η―¹–Ω―É―¹–Κ–Α―è ―¹–≤–Ψ–Ι ―³–Μ–Α–≥. –Λ–Ψ―²–Ψ –Α–≤–≥―É―¹―² 1955 –≥. –ü―Ä–Ψ–Μ–Η–≤–Ϋ–Α―è –Ζ–Ψ–Ϋ–Α.–£ –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤–Β –Γ–Κ–Α–≥–Β―Ä―Ä–Α–Κ –≤–Β―²–Β―Ä βÄ™ –Κ–Α–Κ –≤ ―²―Ä―É–±–Β. –€–Α―è–Κ –Ϋ–Α –Φ―΄―¹–Β –Γ–Κ–Α–≥–Β–Ϋ ―à–Μ–Β―² ―¹–≤–Ψ–Η ―¹–Η–≥–Ϋ–Α–Μ―΄, –Ω―Ä–Β–¥―É–Ω―Ä–Β–Ε–¥–Α―è –Ψ–± –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. ¬Ϊ–Γ–Β–¥–Ψ–≤¬Μ –¥–Β―Ä–Ε–Η―²―¹―è –±–Μ–Η–Ε–Β –Κ –Ϋ–Ψ―Ä–≤–Β–Ε―¹–Κ–Ψ–Φ―É –±–Β―Ä–Β–≥―É. –£―΄―à–Μ–Η –≤ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä–Β. –ö―É―Ä―¹ –Ω―Ä–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Β―²―¹―è ―²–Α–Κ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Ψ–¥–Ψ–Ι―²–Η –Κ –±–Β―Ä–Β–≥–Α–Φ –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–±―Ä–Η―²–Α–Ϋ–Η–Η –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–Φ–Β―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ―΄―¹–Α –Λ–Μ–Β–Φ–±–Ψ―Ä–Ψ-–Ξ–Β―². –£―¹–Β ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ϋ–Α –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Β ―Ä―è–¥–Ψ–Φ ―¹ –≤–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–Φ –±―΄–Μ–Α –≤–Η–¥–Ϋ–Α –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Α―è ―¹―É―Ö–Ψ―â–Α–≤–Α―è ―³–Η–≥―É―Ä–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 2 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ü.–Γ.–€–Η―²―Ä–Ψ―³–Α–Ϋ–Ψ–≤–Α. –î–Α―²―¹–Κ–Ψ–Β ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–≤–Β―²―¹―²–≤―É–Β―² –Θ–ü–Γ ¬Ϊ–Γ–Β–¥–Ψ–≤¬Μ, –Ω―Ä–Η―¹–Ω―É―¹–Κ–Α―è ―¹–≤–Ψ–Ι ―³–Μ–Α–≥. –Λ–Ψ―²–Ψ –Α–≤–≥―É―¹―² 1955 –≥. –ü―Ä–Ψ–Μ–Η–≤–Ϋ–Α―è –Ζ–Ψ–Ϋ–Α.–£ –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤–Β –Γ–Κ–Α–≥–Β―Ä―Ä–Α–Κ –≤–Β―²–Β―Ä βÄ™ –Κ–Α–Κ –≤ ―²―Ä―É–±–Β. –€–Α―è–Κ –Ϋ–Α –Φ―΄―¹–Β –Γ–Κ–Α–≥–Β–Ϋ ―à–Μ–Β―² ―¹–≤–Ψ–Η ―¹–Η–≥–Ϋ–Α–Μ―΄, –Ω―Ä–Β–¥―É–Ω―Ä–Β–Ε–¥–Α―è –Ψ–± –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. ¬Ϊ–Γ–Β–¥–Ψ–≤¬Μ –¥–Β―Ä–Ε–Η―²―¹―è –±–Μ–Η–Ε–Β –Κ –Ϋ–Ψ―Ä–≤–Β–Ε―¹–Κ–Ψ–Φ―É –±–Β―Ä–Β–≥―É. –£―΄―à–Μ–Η –≤ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä–Β. –ö―É―Ä―¹ –Ω―Ä–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Β―²―¹―è ―²–Α–Κ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Ψ–¥–Ψ–Ι―²–Η –Κ –±–Β―Ä–Β–≥–Α–Φ –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–±―Ä–Η―²–Α–Ϋ–Η–Η –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–Φ–Β―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ―΄―¹–Α –Λ–Μ–Β–Φ–±–Ψ―Ä–Ψ-–Ξ–Β―². –£―¹–Β ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ϋ–Α –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Β ―Ä―è–¥–Ψ–Φ ―¹ –≤–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–Φ –±―΄–Μ–Α –≤–Η–¥–Ϋ–Α –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Α―è ―¹―É―Ö–Ψ―â–Α–≤–Α―è ―³–Η–≥―É―Ä–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 2 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ü.–Γ.–€–Η―²―Ä–Ψ―³–Α–Ϋ–Ψ–≤–Α.
–Δ―Ä–Ψ–Β ―¹―É―²–Ψ–Κ –Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω―Ä–Ψ–Ι―²–Η –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä–Β. –®–Μ–Η –Ω–Ψ–¥ –Ω–Α―Ä―É―¹–Α–Φ–Η. –ù–Α ―²―Ä–Α–≤–Β―Ä–Ζ–Β –î―É–≤―Ä–Α ―¹ –Ζ–Α―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ ―¹–Ψ–Μ–Ϋ―Ü–Α –≤–Β―²–Β―Ä ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ ―¹―²–Η―Ö. –ë―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Ψ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β ―É–±―Ä–Α―²―¨ –Ω–Α―Ä―É―¹–Α. –Γ―΄–≥―Ä–Α–Μ–Η –Α–≤―Ä–Α–Μ βÄ™ –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²―΄ –Ω–Ψ–±–Β–Ε–Α–Μ–Η –Ω–Ψ –≤–Α–Ϋ―²–Α–Φ, ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ω―è―¹―¨ ―¹–≤–Β―Ä–Ϋ―É―²―¨ –Η –Ζ–Α–Κ―Ä–Β–Ω–Η―²―¨ –Ω–Α―Ä―É―¹–Α –Ϋ–Α ―Ä–Β―è―Ö –¥–Ψ –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Β–Φ–Ϋ–Ψ―²―΄. –· –±―΄–Μ ―Ä–Α―¹–Ω–Η―¹–Α–Ϋ –Ϋ–Α –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –≥―Ä–Ψ―²–Β. –ù–Β ―É―¹–Ω–Β–≤ –¥–Ψ–±–Β–Ε–Α―²―¨ –¥–Ψ –±–Ψ–Φ-–±―Ä–Α–Φ-―Ä–Β―è, –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ―¹―è –Ω–Ψ―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι: ―¹–Ψ–Μ–Ϋ―Ü–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –Ζ–Α―à–Μ–Ψ –Φ–Η–Ϋ―É―² 15 –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥, ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Α–¥ –≥–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ψ–Ϋ―²–Ψ–Φ, –Η –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Ι ―è―Ä–Κ–Η–Ι –¥–Η―¹–Κ –Ψ―¹–≤–Β―â–Α–Μ –Ψ―¹–Μ–Β–Ω–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –±–Β–Μ―΄–Β –Ψ―²–≤–Β―¹–Ϋ―΄–Β –Φ–Β–Μ–Ψ–≤―΄–Β ―¹–Κ–Α–Μ―΄ –î―É–≤―Ä–Α, –Ϋ–Α –≤–Β―Ä―à–Η–Ϋ–Β –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ζ–Μ–Ψ–≤–Β―â–Β ―΅–Β―Ä–Ϋ–Β–Μ –¥―Ä–Β–≤–Ϋ–Η–Ι –Ζ–Α–Φ–Ψ–Κ. –ü–Ψ–Ζ–¥–Ϋ–Β–Β ―è –≥–¥–Β-―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ―΅–Η―²–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –≤ –Η–Ϋ―²–Β―Ä―¨–Β―Ä–Α―Ö ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Φ–Κ–Α –≥–Β–Ϋ–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –®–Β–Κ―¹–Ω–Η―Ä –Ω–Ψ–Φ–Β―¹―²–Η–Μ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –≥–Β―Ä–Ψ–Β–≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Ι. –ê ―²–Ψ–≥–¥–Α ―è –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ζ–Α–Φ–Β―Ä, –Ϋ–Β ―¹–Μ―΄―à–Α –Ϋ–Β ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –¥–Η–Ω–Μ–Ψ–Φ–Α―²–Η―΅–Ϋ―΄―Ö –≤―΄―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Ι ―²–Β―Ö, –Κ―²–Ψ ―¹―²–Ψ―è–Μ –Ϋ–Α –≤–Α–Ϋ―²–Α―Ö –Ϋ–Η–Ε–Β –Φ–Β–Ϋ―è. –£―¹–Β –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ―è–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ: ―É–≤–Β–Μ–Η―΅–Η–Μ–Α―¹―¨ ¬Ϊ–≤―΄―¹–Ψ―²–Α –≥–Μ–Α–Ζ–Α –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α―²–Β–Μ―è¬Μ, ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, ―É–≤–Β–Μ–Η―΅–Η–Μ–Α―¹―¨ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²–Η –≥–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ψ–Ϋ―²–Α. –£ ―ç―²–Η ―¹―É―²–Κ–Η ―è –¥–≤–Α–Ε–¥―΄ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α–Μ –Ζ–Α―Ö–Ψ–¥ ―¹–Ψ–Μ–Ϋ―Ü–Α.
–Θ–±―Ä–Α–≤ –Ω–Α―Ä―É―¹–Α, ―à–Μ–Η –Ω–Ψ–¥ –¥–≤–Η–≥–Α―²–Β–Μ―è–Φ–Η, –Ϋ–Ψ ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²―¨ –±―΄–Μ–Α –±–Ψ–Μ–Β–Β –Ω―è―²–Η ―É–Ζ–Μ–Ψ–≤. –ü–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α–Μ–Ψ ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Ψ―²–Μ–Η–≤–Ϋ–Ψ–Β ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –≤ –ê–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ –Κ–Α–Ϋ–Α–Μ–Β. –Θ–±–Β–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ ―ç―²–Ψ–Φ ―¹ –Ω–Ψ–¥―¹–Κ–Α–Ζ–Κ–Η –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ―è, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ω–Ψ―¹–Ψ–≤–Β―²–Ψ–≤–Α–Μ ―Ä–Α―¹―¹―΅–Η―²–Α―²―¨ –Η―¹―²–Η–Ϋ–Ϋ―É―é ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²―¨ –Η –Ω–Ψ–Ω―Ä–Α–≤–Κ―É –Μ–Α–≥–Α –Ω–Ψ –Ψ–±―¹–Β―Ä–≤–Α―Ü–Η―è–Φ (–Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Φ–Β―¹―²–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –Ω–Ψ –Ω–Β–Μ–Β–Ϋ–≥–Α―²–Ψ―Ä–Α–Φ). –Δ―Ä–Α–≤–Β―Ä–Ζ –Φ―΄―¹–Α –¦–Η–Ζ–Α―Ä–¥, –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Β–Ι ―é–≥–Ψ-–Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Ψ―΅–Κ–Η –ê–Ϋ–≥–Μ–Η–Η, –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Η –≤ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Β–Φ–Ϋ–Ψ―²–Β, –Ω–Β–Μ–Β–Ϋ–≥―É―è –≤―¹–Ω―΄―à–Κ–Η –Φ–Α―è–Κ–Α. –£–Ψ―¹―Ö–Ψ–¥ ―¹–Ψ–Μ–Ϋ―Ü–Α –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ–Η ―É–Ε–Β –≤ –ê―²–Μ–Α–Ϋ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Β. –ö―É―Ä―¹ βÄ™ –≤ –ë–Η―¹–Κ–Α–Ι―¹–Κ–Η–Ι –Ζ–Α–Μ–Η–≤.
–£ –ë–Η―¹–Κ–Α–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Β, ―¹–Μ–Α–≤–Η–≤―à–Β–Φ―¹―è ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η ―à―²–Ψ―Ä–Φ–Α–Φ–Η, –Ϋ–Α―¹ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Β―² ―¹–Α–Φ–Ψ–Β ―Ö―É–¥―à–Β–Β, ―΅―²–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–¥―É–Φ–Α―²―¨ –¥–Μ―è –Ω–Α―Ä―É―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹―É–¥–Ϋ–Α, βÄ™ ―ç―²–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Ι ―à―²–Η–Μ―¨ –Η –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ–Α―è –Φ–Β―Ä―²–≤–Α―è –Ζ―΄–±―¨, –Ϋ–Α–Κ–Α―²―΄–≤–Α―é―â–Α―è―¹―è ―¹ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Α. –ü–Ψ –Ζ–Β―Ä–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≥–Μ–Α–¥–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Κ–Α–Κ –±―΄ –≤―¹–Ω―É―Ö–Α―é―â–Β–≥–Ψ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Α ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―²―¹―è –Ϋ–Α –≤―΄―¹–Ψ―²―É –Ω―è―²–Η―ç―²–Α–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ–Φ–Α. –ê –Ζ–Α―²–Β–Φ ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Ζ–Η―² –≤ –Ω―Ä–Ψ–Ω–Α―¹―²―¨, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Ψ–±―Ä–Α–Ζ―É–Β―²―¹―è –Φ–Β–Ε–¥―É –¥–≤―É–Φ―è –≥–Η–≥–Α–Ϋ―²―¹–Κ–Η–Φ–Η –≤–Α–Μ–Α–Φ–Η. –‰–Ζ–Φ–Α―²―΄–≤–Α―é―â–Α―è –¥―É―à―É –±–Ψ–Μ―²–Α–Ϋ–Κ–Α –≤―΄–≤–Ψ―Ä–Α―΅–Η–≤–Α–Β―² –≤―¹–Β –≤–Ϋ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –½–Α–±–Μ–Β–≤–Α–Ϋ―΄ –≥–Α–Μ―¨―é–Ϋ―΄, ―à–Ω–Η–≥–Α―²―΄, –Ω–Α–Μ―É–±–Α. –Γ―²―Ä–Α–¥–Α―é―² –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Μ―é–¥–Η. –ù–Ψ –Η ―¹–≤–Η–Ϋ―¨–Η. –ù–Α –Ϋ–Η―Ö –±–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨. –ö–Ψ–≥–¥–Α ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ, –Ζ–Α–≤–Α–Μ–Η–≤–Α―è―¹―¨ –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―², ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Ζ–Η―² –Κ –Ω–Ψ–¥–Ψ―à–≤–Β –≤–Ψ–Μ–Ϋ―΄, ―Ö―Ä―é―à–Κ–Η, ―É–Ω–Α–≤ –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Κ–Η, ―²–Ψ–Ε–Β ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Ζ―è―² –Ω–Ψ –Ζ–Α–±–Μ–Β–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ζ–Α–≥–Ψ–Ϋ―É, ―¹–±–Η–≤–Α―é―²―¹―è –≤ –Κ―É―΅―É ―É –±–Ψ―Ä―²–Α –Η –Ψ―Ä―É―² ¬Ϊ–Ϋ–Β―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹–Ψ–Φ¬Μ. –Ξ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ ―¹―²―Ä–Α―Ö–Α –Ζ–Α–±–Η―Ä–Α–Β―²―¹―è –≤ –¥―É―à―É, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Β―à―¨, –Κ–Α–Κ–Η–Β –Ϋ–Α–≥―Ä―É–Ζ–Κ–Η –Η―¹–Ω―΄―²―΄–≤–Α–Β―² ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ. –£ –≤–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Β –Ζ–Α―³–Η–Κ―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ –Φ–Α–Κ―¹–Η–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Κ―Ä–Β–Ϋ βÄ™ 400. –ù–Ψ –≤–Β–¥―¨ –Η –Ω―Ä–Η –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Η―Ö –Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η―è―Ö –Κ―Ä–Β–Ϋ–Α –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―¹–Β–±–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –Α–Φ–Ω–Μ–Η―²―É–¥―É ―Ä–Α–Ζ–Φ–Α―Ö–Α –Φ–Α―΅―² 50-–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι –≤―΄―¹–Ψ―²―΄ –Η –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Α―é―â–Η–Β –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ ―¹–Η–Μ―΄ –Η–Ϋ–Β―Ä―Ü–Η–Η. –£ ―²–Α–Κ–Η―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Μ–Β–≥–Κ–Ψ –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è―²―¨ ―¹―²–Β–Ϋ―¨–≥–Η –Η –≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Η–Β ―Ä–Β–Η.
–ö ―¹―΅–Α―¹―²―¨―é, –Φ―΄ –Ϋ–Β –Ψ―¹―²–Α–Μ–Η―¹―¨ –±–Β–Ζ ―Ö–Ψ–¥–Α. –ù–Α―à, ―Ö–Ψ―²―¨ –Η –Φ–Α–Μ–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ―΄–Ι, –¥–≤–Η–≥–Α―²–Β–Μ―¨ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –±–Β–Ζ–Ψ―²–Κ–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ψ–Ι –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–Μ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Β–Φ–Ψ―¹―²―¨ ―¹―É–¥–Ϋ–Α. –ê –Ψ–Ω―΄―² –Μ―é–¥–Β–Ι, ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è―é―â–Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Φ, –Η, –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 2 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –€–Η―²―Ä–Ψ―³–Α–Ϋ–Ψ–≤–Α, –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ–Η–Μ –≤―΄–±―Ä–Α―²―¨ –Ψ–Ω―²–Η–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Κ―É―Ä―¹, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Η–Ζ–±–Β–Ε–Α―²―¨ –Ω–Ψ–Ω–Α–¥–Α–Ϋ–Η―è –≤ –≥–Η–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Β–Ε–Η–Φ ―Ä–Β–Ζ–Ψ–Ϋ–Α–Ϋ―¹–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Α―΅–Κ–Η. –Γ–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –Ω–Α–Φ―è―²―¨ –Ϋ–Β ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–Μ–Α. –ù–Ψ ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ϋ―é, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ―¹–Ω–Α―²―¨ –≤ ―ç―²–Η ―¹―É―²–Κ–Η –Ϋ–Β ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ―É: –Η–Ζ –Ω–Ψ–¥–≤–Β―¹–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ–Β–Κ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –≤―΄–±―Ä–Α―¹―΄–≤–Α–Μ–Ψ, –Α –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω―Ä–Η–Φ–Ψ―¹―²–Η―²―¨―¹―è –Ϋ–Α ―Ä―É–Ϋ–¥―É–Κ–Β, –Η –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨.
–ù–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü, –Ζ―΄–±―¨ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α ―¹―²–Η―Ö–Α―²―¨. –ü–Ψ–¥―É–Μ –≤–Β―²–Β―Ä –Ψ―² –Ζ―é–Ι–¥-–≤–Β―¹―²–Α –Η –Ω―Ä–Η–Ϋ–Β―¹ ―²―É–Φ–Α–Ϋ, ―¹―²–Β–Μ―è―â–Η–Ι―¹―è –Ϋ–Α–¥ –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –≤ ―Ä–Α–Ζ―Ä―΄–≤–Α―Ö –Ω–Ψ–Μ–Ψ―¹―΄ ―²―É–Φ–Α–Ϋ–Α ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―É–≤–Η–¥–Β―²―¨ –Φ–Α―è–Κ –Λ–Η–Ϋ–Η―¹―²–Β―Ä―Ä–Β, ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Α –Ψ–±―Ä―΄–≤–Η―¹―²―΄―Ö ―¹–Κ–Α–Μ–Α―Ö –Φ―΄―¹–Α ―¹ ―²–Β–Φ –Ε–Β –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ. –£―΄―à–Μ–Η –Η–Ζ –ë–Η―¹–Κ–Α–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β –Ψ–Φ–Ψ―Ä―è―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β.
–ù–Ψ―΅―¨―é –Ϋ–Α ―²―Ä–Α–≤–Β―Ä–Ζ–Β –Φ―΄―¹–Α –Γ–Α–Ϋ-–£–Η–Ϋ―¹–Β–Ϋ―², ―é–≥–Ψ-–Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –ü–Η―Ä–Β–Ϋ–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α, –Ϋ–Α–Μ–Β―²–Β–Μ ―à–Κ–≤–Α–Μ ―¹ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Φ –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤–Ϋ―΄–Φ –¥–Ψ–Ε–¥–Β–Φ. –½–Α―²–Β–Φ ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ―¹―è ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Ψ―Ä–¥-–Ψ―¹―² βÄ™ –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –¥–Μ―è –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ―΄ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α. –ü–Ψ–¥–≥–Ψ–Ϋ―è–Β–Φ―΄–Ι ―ç―²–Η–Φ –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ―΄–Φ –≤–Β―²―Ä–Ψ–Φ ¬Ϊ–Γ–Β–¥–Ψ–≤¬Μ, –Η–Φ–Β―è ―Ö–Ψ–¥ 7-8 ―É–Ζ–Μ–Ψ–≤, –Ω–Ψ–¥ –Ω–Α―Ä―É―¹–Α–Φ–Η –≤–Ψ―à–Β–Μ –≤ –Ω–Ψ–Μ–Ψ―¹―É ―¹―É–±―²―Ä–Ψ–Ω–Η–Κ–Ψ–≤. –î–Β–Ϋ―¨ βÄ™ –Ψ―¹–Μ–Β–Ω–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ–Μ–Ϋ–Β―΅–Ϋ―΄–Ι, –Ϋ–Β–±–Ψ―¹–≤–Ψ–¥ βÄ™ ―è―Ä–Κ–Ψ –≥–Ψ–Μ―É–±–Ψ–≥–Ψ ―Ü–≤–Β―²–Α, –Η –Ϋ–Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±–Μ–Α―΅–Κ–Α! –£ –Ω―Ä–Ψ–Ζ―Ä–Α―΅–Ϋ–Ψ–Ι –±–Η―Ä―é–Ζ–Ψ–≤–Ψ–Ι –≤–Ψ–¥–Β –Ζ–Α –±–Ψ―Ä―²–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α―é―²―¹―è –≥–Η–≥–Α–Ϋ―²―¹–Κ–Η–Β –Φ–Β–¥―É–Ζ―΄. –‰–Ζ –≤–Ψ–¥―΄ –≤―΄–Μ–Β―²–Α―é―² –Ϋ–Β–Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Ϋ―΄–Β ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Α –Η, –Ω–Β―Ä–Β–Μ–Β―²–Β–≤ –Ω–Ψ–Ω–Β―Ä–Β–Κ –Ω–Α–Μ―É–±―΄, –Ω–Μ―é―Ö–Α―é―²―¹―è –≤ –≤–Ψ–¥―É ―¹ –¥―Ä―É–≥–Ψ–≥–Ψ –±–Ψ―Ä―²–Α. –Δ–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–≤–Β–Ζ–Μ–Ψ, –≤―²―΄–Κ–Α―é―²―¹―è –≤ –Ω–Α―Ä―É―¹–Α –Η–Μ–Η ―Ä–Α–Ϋ–≥–Ψ―É―² –Η –Ω–Α–¥–Α―é―² –Ϋ–Α –Ω–Α–Μ―É–±―É. –‰ ―²―É―² –Φ―΄ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Β–Φ βÄ™ ―ç―²–Ψ –Μ–Β―²–Α―é―â–Η–Β ―Ä―΄–±–Κ–Η! –£―¹–Β ―ç―²–Ψ –≤–Ψ―¹–Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―²―¹―è –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥–Α –Ζ–Α –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η―è, –≤―΄–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Α–Φ–Η –≤ –ë–Η―¹–Κ–Α–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Β.
–ê –≤–Β―΅–Β―Ä–Ψ–Φ βÄ™ –Β―â–Β –Ψ–¥–Ϋ–Α –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥–Α: –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β―Ä―²-–Μ–Β–Κ―Ü–Η―è. –¦–Β–Κ―Ü–Η―é, –Ω–Ψ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ―É―é ―²–≤–Ψ―Ä―΅–Β―¹―²–≤―É –ù.–ê.–†–Η–Φ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ-–ö–Ψ―Ä―¹–Α–Κ–Ψ–≤–Α, ―΅–Η―²–Α–Μ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –ö.–ê.–ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤, –Α –Ψ―Ä–Κ–Β―¹―²―Ä –Ω–Ψ–¥ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Η―Ä–Η–Ε–Β―Ä–Α –Ω–Ψ–¥–Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –î–Ψ–Κ―à–Η―Ü–Β―Ä–Α ¬Ϊ–Η–Μ–Μ―é―¹―²―Ä–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ¬Μ –Μ–Β–Κ―Ü–Η―é –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ψ―²―Ä―΄–≤–Κ–Ψ–≤ –Η–Ζ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Ι –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Ω–Ψ–Ζ–Η―²–Ψ―Ä–Α. –ü―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤―¨―²–Β ―¹–Β–±–Β ―²–Β–Ω–Μ―É―é ―é–Ε–Ϋ―É―é –Ϋ–Ψ―΅―¨ –Ϋ–Α ―à–Η―Ä–Ψ―²–Β –™–Η–±―Ä–Α–Μ―²–Α―Ä–Α –Η–Μ–Η ―΅―É―²―¨ ―é–Ε–Ϋ–Β–Β. –û–Ω―Ä–Ψ–Κ–Η–Ϋ―É―²―΄–Ι –Κ―É–Ω–Ψ–Μ –Ϋ–Β–±–Α, ―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ –Η–Ζ ―΅–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±–Α―Ä―Ö–Α―²–Α, ―É―¹–Β―è–Ϋ ―è―Ä–Κ–Η–Φ–Η –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―΄–Φ–Η –Ζ–≤–Β–Ζ–¥–Α–Φ–Η. –‰ ―²–Η―à–Η–Ϋ–Α (–Η–¥–Β–Φ –Ω–Ψ–¥ –Ω–Α―Ä―É―¹–Α–Φ–Η), ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Μ–Β–≥–Κ–Ψ–Β –Ε―É―Ä―΅–Α–Ϋ–Η–Β –≤–¥–Ψ–Μ―¨ –±–Ψ―Ä―²–Α. –î–Α ―¹–≤–Β―²―è―â–Η–Ι―¹―è –Ω–Μ–Α–Ϋ–Κ―²–Ψ–Ϋ –≤ –Κ–Η–Μ―¨–≤–Α―²–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²―Ä―É–Β. –£―¹–Β ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Ψ―² –≤–Α―Ö―²―΄ ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α ―é―²–Β. –†–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Μ―é–Κ–Α―Ö, –Ϋ–Α ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–Ε–Κ–Α―Ö –Η –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Β―²–Ψ–Ι ―¹–Ψ–Μ–Ϋ―Ü–Β–Φ –Ω–Α–Μ―É–±–Β. –¦–Η―Ü–Α –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α–Ϋ―²–Ψ–≤ ―¹–Μ–Α–±–Ψ –Ψ―¹–≤–Β―â–Β–Ϋ―΄ –Μ–Α–Φ–Ω–Ψ―΅–Κ–Α–Φ–Η –Ϋ–Α –Ω―é–Ω–Η―²―Ä–Α―Ö. –Δ–Α–Κ–Α―è –Ε–Β –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Α―è –Μ–Α–Φ–Ω–Ψ―΅–Κ–Α –Ψ―¹–≤–Β―â–Α–Β―² ―²―Ä–Η–±―É–Ϋ–Κ―É –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α. –ö–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤ –ö.–ê. –Γ–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ―΄–Φ –≥–Μ―É―Ö–Ψ–≤–Α―²―΄–Φ –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹–Ψ–Φ –Ψ–Ϋ –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Η―² –Ϋ–Α―¹ ―¹ –±–Η–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Β–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α―è –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Β–≤–Η―΅–Α, –≤―΄–¥–Β–Μ―è―è –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η―è –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Α ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Η–Μ –Κ―Ä―É–≥–Ψ―¹–≤–Β―²–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α –Κ–Μ–Η–Ω–Β―Ä–Β ¬Ϊ–ê–Μ–Φ–Α–Ζ¬Μ. –ü–Α―É–Ζ–ΑβÄΠ –Η –≤–¥―Ä―É–≥ –Ζ–Α–Ζ–≤―É―΅–Α–Μ–Α –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α! –ß―²–Ψ –Φ―΄, –¥–Β―²–Η –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄, –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η –Ψ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Β? –£ ―ç–≤–Α–Κ―É–Α―Ü–Η–Η –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Ψ–Ι ―¹―΅–Η―²–Α–Μ–Η―¹―¨ ―Ä–Α–Ζ―É―Ö–Α–±–Η―¹―²–Α―è –≥–Α―Ä–Φ–Ψ–Ϋ―¨ –¥–Α ―΅–Α―¹―²―É―à–Κ–Η ―¹ –Φ–Α―²–Β―Ä–Κ–Ψ–Φ. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Η–Ζ ―΅–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Α―Ä–Β–Μ–Κ–Η ―Ä–Β–Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―²–Ψ―Ä–Α –Ζ–≤―É―΅–Α–Μ–Ψ ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Β, ―è –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ –Φ–Α–Φ–Β: ¬Ϊ–£―΄–Κ–Μ―é―΅–Η ―ç―²―É ―¹–Η–Φ―³–Ψ–Ϋ―¨¬Μ. –ê ―²―É―², –≤ –±–Β―¹–Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Β–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β, –Ω–Ψ–Μ–Η–Μ–Α―¹―¨ –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è ―¹―Ä–Α–Ζ―É –≤–Ζ―è–Μ–Α –Ζ–Α –¥―É―à―É. –Γ–Φ–Ψ–Μ–Κ –Ψ―Ä–Κ–Β―¹―²―Ä. –Γ–Ϋ–Ψ–≤–Α –Ζ–Α–Ζ–≤―É―΅–Α–Μ –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α: ¬Ϊ–£―΄ –Ω―Ä–Ψ―¹–Μ―É―à–Α–Μ–Η –Ψ―²―Ä―΄–≤–Ψ–Κ –Η–Ζ ―¹―é–Η―²―΄ βÄ€–€–Ψ―Ä–ΒβÄù, –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Ω–Ψ–Ζ–Η―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –≤ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ –Κ―Ä―É–≥–Ψ―¹–≤–Β―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è¬Μ. –î–Α–Μ–Β–Β –Ζ–≤―É―΅–Α–Μ–Η –Ψ―²―Ä―΄–≤–Κ–Η –Η–Ζ –Ψ–Ω–Β―Ä ¬Ϊ–Γ–Α–¥–Κ–Ψ¬Μ, ¬Ϊ–Γ–Κ–Α–Ζ–Κ–Α –Ψ ―Ü–Α―Ä–Β –Γ–Α–Μ―²–Α–Ϋ–Β¬Μ –Η –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Ι. –€–Β–Ϋ―è –Ω–Ψ―Ä–Α–Ζ–Η–Μ–Ψ, –Κ–Α–Κ –Κ–Ψ–Φ–Ω–Ψ–Ζ–Η―²–Ψ―Ä ―¹–Φ–Ψ–≥ –Ψ―Ä–Κ–Β―¹―²―Ä–Ψ–≤―΄–Φ–Η –Κ―Ä–Α―¹–Κ–Α–Φ–Η –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Η―²―¨ –Φ–Ψ―Ä–Β. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β―Ä―²–Α –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥ ―É―¹–Ϋ―É―²―¨: ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Β –Η ―¹–≤–Β―²–Μ–Ψ–Β –≤–Ψ―à–Μ–Ψ –≤ –Φ–Ψ―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨. –£ 4.00 –Ζ–Α―¹―²―É–Ω–Η–Μ –Ϋ–Α –≤–Α―Ö―²―É. –ö–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤ –ö.–ê. –Γ–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ―΄–Φ –≥–Μ―É―Ö–Ψ–≤–Α―²―΄–Φ –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹–Ψ–Φ –Ψ–Ϋ –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Η―² –Ϋ–Α―¹ ―¹ –±–Η–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Β–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α―è –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Β–≤–Η―΅–Α, –≤―΄–¥–Β–Μ―è―è –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η―è –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Α ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Η–Μ –Κ―Ä―É–≥–Ψ―¹–≤–Β―²–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α –Κ–Μ–Η–Ω–Β―Ä–Β ¬Ϊ–ê–Μ–Φ–Α–Ζ¬Μ. –ü–Α―É–Ζ–ΑβÄΠ –Η –≤–¥―Ä―É–≥ –Ζ–Α–Ζ–≤―É―΅–Α–Μ–Α –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α! –ß―²–Ψ –Φ―΄, –¥–Β―²–Η –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄, –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η –Ψ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Β? –£ ―ç–≤–Α–Κ―É–Α―Ü–Η–Η –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Ψ–Ι ―¹―΅–Η―²–Α–Μ–Η―¹―¨ ―Ä–Α–Ζ―É―Ö–Α–±–Η―¹―²–Α―è –≥–Α―Ä–Φ–Ψ–Ϋ―¨ –¥–Α ―΅–Α―¹―²―É―à–Κ–Η ―¹ –Φ–Α―²–Β―Ä–Κ–Ψ–Φ. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Η–Ζ ―΅–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Α―Ä–Β–Μ–Κ–Η ―Ä–Β–Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―²–Ψ―Ä–Α –Ζ–≤―É―΅–Α–Μ–Ψ ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Β, ―è –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ –Φ–Α–Φ–Β: ¬Ϊ–£―΄–Κ–Μ―é―΅–Η ―ç―²―É ―¹–Η–Φ―³–Ψ–Ϋ―¨¬Μ. –ê ―²―É―², –≤ –±–Β―¹–Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Β–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β, –Ω–Ψ–Μ–Η–Μ–Α―¹―¨ –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è ―¹―Ä–Α–Ζ―É –≤–Ζ―è–Μ–Α –Ζ–Α –¥―É―à―É. –Γ–Φ–Ψ–Μ–Κ –Ψ―Ä–Κ–Β―¹―²―Ä. –Γ–Ϋ–Ψ–≤–Α –Ζ–Α–Ζ–≤―É―΅–Α–Μ –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α: ¬Ϊ–£―΄ –Ω―Ä–Ψ―¹–Μ―É―à–Α–Μ–Η –Ψ―²―Ä―΄–≤–Ψ–Κ –Η–Ζ ―¹―é–Η―²―΄ βÄ€–€–Ψ―Ä–ΒβÄù, –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Ω–Ψ–Ζ–Η―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –≤ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ –Κ―Ä―É–≥–Ψ―¹–≤–Β―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è¬Μ. –î–Α–Μ–Β–Β –Ζ–≤―É―΅–Α–Μ–Η –Ψ―²―Ä―΄–≤–Κ–Η –Η–Ζ –Ψ–Ω–Β―Ä ¬Ϊ–Γ–Α–¥–Κ–Ψ¬Μ, ¬Ϊ–Γ–Κ–Α–Ζ–Κ–Α –Ψ ―Ü–Α―Ä–Β –Γ–Α–Μ―²–Α–Ϋ–Β¬Μ –Η –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Ι. –€–Β–Ϋ―è –Ω–Ψ―Ä–Α–Ζ–Η–Μ–Ψ, –Κ–Α–Κ –Κ–Ψ–Φ–Ω–Ψ–Ζ–Η―²–Ψ―Ä ―¹–Φ–Ψ–≥ –Ψ―Ä–Κ–Β―¹―²―Ä–Ψ–≤―΄–Φ–Η –Κ―Ä–Α―¹–Κ–Α–Φ–Η –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Η―²―¨ –Φ–Ψ―Ä–Β. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β―Ä―²–Α –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥ ―É―¹–Ϋ―É―²―¨: ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Β –Η ―¹–≤–Β―²–Μ–Ψ–Β –≤–Ψ―à–Μ–Ψ –≤ –Φ–Ψ―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨. –£ 4.00 –Ζ–Α―¹―²―É–Ω–Η–Μ –Ϋ–Α –≤–Α―Ö―²―É.
–ü–Ψ―¹–Μ–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β―Ä―²–Α –≤ ―²–Β―Ö ―¹–Μ―É―΅–Α―è―Ö, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ―â―É―â–Α–Μ –Ω–Ψ―²―Ä―è―¹–Α―é―â―É―é –Κ―Ä–Α―¹–Ψ―²―É –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Α, ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Ε–Η–≤–Α–Μ ―¹–≤–Ψ―é –±–Β–Ζ–¥–Α―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. ¬Ϊ–ù―É –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É –≤―¹―é ―ç―²―É –Ω―Ä–Β–Μ–Β―¹―²―¨, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –≤–Η–Ε―É, ―è –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥―É –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α―²―¨, –¥–Ψ–Ϋ–Β―¹―²–Η –¥–Ψ –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –≤ –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Β, ―¹―²–Η―Ö–Α―Ö, –Ψ―²–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Η―²―¨ –≤ –Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ–Β?¬Μ βÄ™ –¥―É–Φ–Α–Μ ―è.
–û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ βÄ™ –Κ–Α–Κ ―²–Β–Μ―¨–Ϋ―è―à–Κ–Α –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Α: –Ω–Ψ–Μ–Ψ―¹–Κ–Α –±–Β–Μ–Α―è, –Ω–Ψ–Μ–Ψ―¹–Κ–Α ―΅–Β―Ä–Ϋ–Α―è. –½–Α –Κ–Α–Κ―É―é-―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≤–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―è –Ψ–±―Ä–Α―²–Η–Μ –Ϋ–Α ―¹–Β–±―è –Ϋ–Β–±–Μ–Α–≥–Ψ―¹–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β –±–Ψ―Ü–Φ–Α–Ϋ–Α –ö–Α–Μ–Η–Ϋ–Η–Ϋ–Α –Η ―¹―Ö–Μ–Ψ–Ω–Ψ―²–Α–Μ –Ϋ–Α―Ä―è–¥ –≤–Ϋ–Β –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Η βÄ™ –Ϋ–Α ―Ö–Μ–Β–±–Ψ–Ω–Β–Κ–Α―Ä–Ϋ―é. –Δ–Α–Κ–Α―è –Ε–Β ¬Ϊ–Κ–Α―Ä–Α¬Μ –±―΄–Μ–Α ―É–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Α–Ϋ–Α –Η –ê―Ä–Ϋ–Ψ –ü–Α―Ä–Κ–Β–Μ―é. –ö –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É ―΅–Α―¹―É –Φ―΄ –Ω―Ä–Η―à–Μ–Η –Ϋ–Α –Ω–Β–Κ–Α―Ä–Ϋ―é –Η –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω–Β–Κ–Α―Ä―é βÄ™ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ―²–Ψ―Ä–Α-–¥–≤–Α –≥–Ψ–¥–Α ―¹―²–Α―Ä―à–Β –Ϋ–Α―¹ –Ω–Ψ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²―É –Η ―¹―²–Α―Ä―à–Β–Φ―É –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹―É –Ω–Ψ –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η―é. –ü―Ä–Η―à–Μ–Η –≤ ―³–Ψ―Ä–Φ–Β, –Ψ–±―ä―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―é: –±–Ψ―¹–Η–Κ–Ψ–Φ, –≤ –±―Ä―é–Κ–Α―Ö –Ψ―² ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Β–≥–Ψ –Ω–Μ–Α―²―¨―è –Η ―¹ –±–Β–Μ―΄–Φ ―΅–Β―Ö–Μ–Ψ–Φ –Ψ―² –±–Β―¹–Κ–Ψ–Ζ―΄―Ä–Κ–Η –Ϋ–Α –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Β. –ù–Α –Ω–Α–Μ―É–±–Β –±―΄–Μ–Α –Ε–Α―Ä–Α 35-36 –≥―Ä–Α–¥―É―¹–Ψ–≤, –≤ –Ω–Β–Κ–Α―Ä–Ϋ–Β, –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ, –Ζ–Α 40, ―Ö–Ψ―²―è ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Ω–Β―΅–Η –Β―â–Β –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Η –≤–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ―΄.
–ü―Ä–Ψ–Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–≤ –Ϋ–Α―¹ –Ω–Ψ ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Β –±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ω–Β–Κ–Α―Ä―¨ –≤–Β–Μ–Β–Μ ―Ä–Α–Ζ–¥–Β―²―¨―¹―è –¥–Ψ ―²―Ä―É―¹–Ψ–≤, ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ ―¹–Ϋ―è―²―¨ –±―Ä―é–Κ–Η, –Η –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ ¬Ϊ―³―Ä–Ψ–Ϋ―² ―Ä–Α–±–Ψ―²¬Μ. –£ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–≥–Ψ–≤–Α―²–Ψ–Φ ―è―â–Η–Κ–Β –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ ―²–Β―¹―²–Ψ –¥–Μ―è –≤―΄–Ω–Β―΅–Κ–Η ―΅–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ö–Μ–Β–±–Α, –Α –≤ –¥–≤―É―Ö –¥–Β–Ε–Α―Ö βÄ™ –¥–Μ―è –±–Β–Μ–Ψ–≥–Ψ. –½–Α–¥–Α―΅–Α: –Ζ–Α–Φ–Β―¹–Η―²―¨ ―²–Β―¹―²–Ψ –¥–Μ―è ―΅–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η –±–Β–Μ–Ψ–≥–Ψ ―Ö–Μ–Β–±–Α, ―Ä–Α–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨ –Ω–Ψ ―³–Ψ―Ä–Φ–Α–Φ –Η –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –≤ –Ω–Β―΅–Η, –Ω–Ψ –Β–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Β –≤―΄―²–Α―â–Η―²―¨ ―³–Ψ―Ä–Φ―΄ –Η ―¹–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨ ―Ö–Μ–Β–± –Ϋ–Α ―¹―²–Β–Μ–Μ–Α–Ε–Η. –€―΄ –±–Ψ–¥―Ä–Ψ –Ω―Ä–Η―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Η –Κ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Β –Η –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –±―΄―¹―²―Ä–Ψ ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ ―¹ –Ζ–Α–Φ–Β―¹–Ψ–Φ ―΅–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ö–Μ–Β–±–Α, –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –≤―΄―²–Η―Ä–Α―è –Μ–Η―Ü–Ψ –±–Β–Μ―΄–Φ–Η ―΅–Β―Ö–Μ–Α–Φ–Η, ―¹―²–Α―Ä–Α―è―¹―¨, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Ψ―² –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ω–Α–¥–Α–Μ –≤ ―²–Β―¹―²–Ψ. –½–Α―²–Β–Φ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η –Φ–Β―¹–Η―²―¨ –±–Β–Μ–Ψ–Β ―²–Β―¹―²–Ψ. –ü–Α―Ä–Κ–Β–Μ―¨ –±―΄–Μ –Ω–Ψ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Β–Β –Φ–Β–Ϋ―è, ―¹–Ψ–Ω–Β–Μ, –Ϋ–Ψ ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Μ―¹―è. –· –Ε–Β, –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ζ–Η–Μ –Ω–Ψ –Μ–Ψ–Κ–Ψ―²―¨ –Ψ–¥–Ϋ―É ―Ä―É–Κ―É, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ –Η –≤―²–Ψ―Ä―É―é, –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥ –Η―Ö –≤―΄―²–Α―â–Η―²―¨ –Η ―¹–Ψ–≥–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ζ–Α―¹―²―΄–Μ –Ϋ–Α–¥ –¥–Β–Ε–Ψ–Ι. –ü–Β–Κ–Α―Ä―¨ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Β―¹ –≤–Β–¥―Ä–Ψ –≤–Ψ–¥―΄, –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥ –Φ–Ϋ–Β ¬Ϊ–≤―΄―²–Α―â–Η―²―¨―¹―è¬Μ –Η–Ζ ―²–Β―¹―²–Α, –≤–Β–Μ–Β–Μ ―¹–Φ–Ψ―΅–Η―²―¨ ―Ä―É–Κ–Η –Ω–Ψ –Μ–Ψ–Κ–Ψ―²―¨ –Η –Φ–Β―¹–Η―²―¨ ―²–Β―¹―²–Ψ –¥–Ψ ―²–Β―Ö –Ω–Ψ―Ä, –Ω–Ψ–Κ–Α –Ψ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –±―É–¥–Β―² –Ω―Ä–Η–Μ–Η–Ω–Α―²―¨ –Κ ―Ä―É–Κ–Α–Φ. –· –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ –Φ–Β―¹–Η―²―¨ ―²–Β―¹―²–Ψ, –≤–Β―¹―¨ –Φ–Ψ–Κ―Ä―΄–Ι –Ψ―² –Ω–Ψ―²–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―¹―²–Β–Κ–Α–Μ –Ω―Ä―è–Φ–Ψ –≤ –¥–Β–Ε―É. –‰―¹–Κ―Ä―΄ ―¹―΄–Ω–Α–Μ–Η―¹―¨ –Η–Ζ –≥–Μ–Α–Ζ. –†―É–Κ–Η –Ψ–Ϋ–Β–Φ–Β–Μ–Η, –±–Ψ–Μ–Β–Μ–Α –Ω–Ψ―è―¹–Ϋ–Η―Ü–Α, –Α ―²–Β―¹―²–Ψ –≤―¹–Β –Ω―Ä–Η–Μ–Η–Ω–Α–Μ–Ψ –Η –Ω―Ä–Η–Μ–Η–Ω–Α–Μ–Ψ. –ö ―²–Ψ–Φ―É –Ε–Β –±―΄–Μ–Η –≤–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ―΄ ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ–Ω–Β―΅–Η, –Η ―²–Β–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Α –≤ –Ω–Β–Κ–Α―Ä–Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ–Α―¹―¨ –≤―΄―à–Β 50 –≥―Ä–Α–¥―É―¹–Ψ–≤. –ù–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü, –Ω–Β–Κ–Α―Ä―¨ –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―²–Η–Μ ―ç―²―É –Ω―΄―²–Κ―É. –£–Β–Μ–Β–Μ –Ψ–±–Φ―΄―²―¨ –Ω–Ψ―² –≤ –≤–Β–¥―Ä–Β ―¹ –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι. –ï―â–Β ―Ä–Α–Ζ –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ–±–Ψ–≤–Α–≤ ―Ä―É–Κ–Ψ–Ι –±–Β–Μ–Ψ–Β –Ω―΄―à–Ϋ–Ψ–Β ―²–Β―¹―²–Ψ, ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Ψ –≥―É―¹―²–Ψ–≤–Α―²–Ψ, –Η –≤―΄–Μ–Η–Μ –≤ ―²–Β―¹―²–Ψ –≤–Β–¥―Ä–Ψ –≤–Ψ–¥―΄, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Φ―΄ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅―²–Ψ –Ψ–±–Φ―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨. –ù–Β ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Η–≤ –Ϋ–Α–Φ –Ω–Β―Ä–Β–Κ―É―Ä–Η―²―¨, –≤–Β–Μ–Β–Μ ―Ä–Α―¹–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α―²―¨ ―²–Β―¹―²–Ψ –≤ ―³–Ψ―Ä–Φ―΄, –Α ―¹–Α–Φ, –Ϋ–Α–¥–Β–≤ –±―Ä–Β–Ζ–Β–Ϋ―²–Ψ–≤―΄–Β ―Ä―É–Κ–Α–≤–Η―Ü―΄, –Μ–Ψ–≤–Κ–Ψ –Ζ–Α–±―Ä–Α―¹―΄–≤–Α–Μ ―ç―²–Η ―³–Ψ―Ä–Φ―΄ –≤ ―Ä–Α―¹–Κ–Α–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ζ–Β–≤ –Ω–Β―΅–Η. –€―΄ ―¹ –ü–Α―Ä–Κ–Β–Μ–Β–Φ, –Ω–Ψ―à–Α―²―΄–≤–Α―è―¹―¨, –≤―΄–±―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Ω–Α–Μ―É–±―É. –£―¹―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ ―¹–Ψ–Μ–Ϋ―Ü–Β. –û–Κ–Β–Α–Ϋ –±―΄–Μ ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Β–Ϋ –Η –≤–Β–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ.
–ö –Ω–Ψ–¥―ä–Β–Φ―É ―Ö–Μ–Β–± –±―΄–Μ –≥–Ψ―²–Ψ–≤ –Η –Η–Ζ–≤–Μ–Β―΅–Β–Ϋ –Η–Ζ –Ω–Β―΅–Η. –Θ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Α –Μ–Ψ―²–Κ–Η –≤ ―Ö–Μ–Β–±–Ψ―Ä–Β–Ζ–Κ–Β, –Ψ–Ϋ –Η―¹―²–Ψ―΅–Α–Μ –Ϋ–Β–Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–≤–Α–Β–Φ–Ψ –≤–Κ―É―¹–Ϋ―΄–Ι –Α―Ä–Ψ–Φ–Α―². –ü–Β―Ä–Β–¥ –Ζ–Α–≤―²―Ä–Α–Κ–Ψ–Φ –Ζ–Α –Ϋ–Η–Φ –≤―΄―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥―¨ –±–Α―΅–Κ–Ψ–≤―΄–Β. –· –Ε–Β –Ϋ–Β–¥–Β–Μ–Η –¥–≤–Β –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥ –Β―¹―²―¨ –±–Β–Μ―΄–Ι ―Ö–Μ–Β–±. –ü–Ψ―²–Ψ–Φ –≤―¹–Β –Ζ–Α–±―΄–Μ–Ψ―¹―¨, –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β –Ζ–Α–Ω–Ψ–≤–Β–¥–Η: ―²–Β―¹―²–Ψ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –Φ–Β―¹–Η―²―¨ –¥–Ψ ―²–Β―Ö –Ω–Ψ―Ä, –Ω–Ψ–Κ–Α –Ψ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Β―Ä–Β―¹―²–Α–Ϋ–Β―² –Ω―Ä–Η–Μ–Η–Ω–Α―²―¨ –Κ ―Ä―É–Κ–Α–Φ.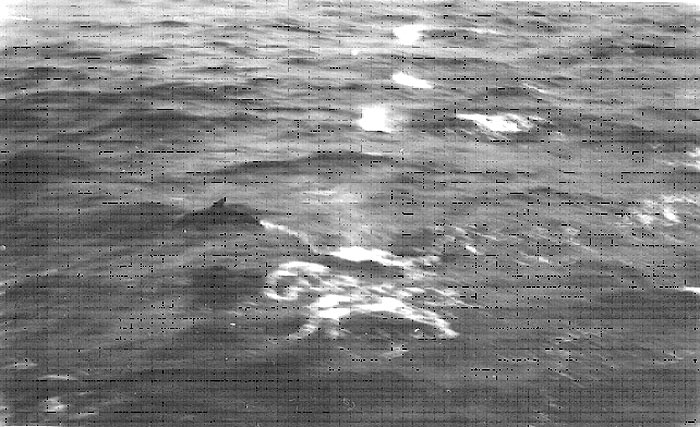 –Γ―²–Α–Ι–Κ–Α –¥–Β–Μ―¨―³–Η–Ϋ–Ψ–≤. –Λ–Ψ―²–Ψ –Α–≤–≥―É―¹―² 1955 –≥. –ê―²–Μ–Α–Ϋ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–£ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Α–≤–≥―É―¹―²–Α ¬Ϊ–Γ–Β–¥–Ψ–≤¬Μ –Ω―Ä–Η–±–Μ–Η–Ε–Α–Β―²―¹―è –Κ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤―É –€–Α–¥–Β–Ι―Ä–Α. –Γ―²–Α–Ι–Κ–Α –¥–Β–Μ―¨―³–Η–Ϋ–Ψ–≤ –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Α–Β―² –Ϋ–Α―¹ –Ω–Ψ –Ω―Ä–Α–≤–Ψ–Φ―É –±–Ψ―Ä―²―É. –£–¥–Α–Μ–Η –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α―é―²―¹―è –Ε–Η–≤–Ψ–Ω–Η―¹–Ϋ―΄–Β –≥–Ψ―Ä―΄, –Ω―Ä–Ψ―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α―é―²―¹―è –≤–Β–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―É―â–Β–Μ―¨―è, ―É–≥–Α–¥―΄–≤–Α―é―²―¹―è –≥–Ψ―Ä–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ―²–Ψ–Κ–Η, ―¹―Ä―΄–≤–Α―é―â–Η–Β―¹―è ―¹ –Ψ―²–≤–Β―¹–Ϋ―΄―Ö ―¹–Κ–Α–Μ –≤ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ. –ü–Η–Κ –†―É–Ϋ–≤–Ψ (–≤―΄―¹–Ψ―²–Α 1845 –Φ) ―²–Β―Ä―è–Β―²―¹―è –≤ –Ψ–±–Μ–Α–Κ–Α―Ö. –Γ―²–Α–Ι–Κ–Α –¥–Β–Μ―¨―³–Η–Ϋ–Ψ–≤. –Λ–Ψ―²–Ψ –Α–≤–≥―É―¹―² 1955 –≥. –ê―²–Μ–Α–Ϋ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–£ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Α–≤–≥―É―¹―²–Α ¬Ϊ–Γ–Β–¥–Ψ–≤¬Μ –Ω―Ä–Η–±–Μ–Η–Ε–Α–Β―²―¹―è –Κ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤―É –€–Α–¥–Β–Ι―Ä–Α. –Γ―²–Α–Ι–Κ–Α –¥–Β–Μ―¨―³–Η–Ϋ–Ψ–≤ –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Α–Β―² –Ϋ–Α―¹ –Ω–Ψ –Ω―Ä–Α–≤–Ψ–Φ―É –±–Ψ―Ä―²―É. –£–¥–Α–Μ–Η –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α―é―²―¹―è –Ε–Η–≤–Ψ–Ω–Η―¹–Ϋ―΄–Β –≥–Ψ―Ä―΄, –Ω―Ä–Ψ―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α―é―²―¹―è –≤–Β–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―É―â–Β–Μ―¨―è, ―É–≥–Α–¥―΄–≤–Α―é―²―¹―è –≥–Ψ―Ä–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ―²–Ψ–Κ–Η, ―¹―Ä―΄–≤–Α―é―â–Η–Β―¹―è ―¹ –Ψ―²–≤–Β―¹–Ϋ―΄―Ö ―¹–Κ–Α–Μ –≤ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ. –ü–Η–Κ –†―É–Ϋ–≤–Ψ (–≤―΄―¹–Ψ―²–Α 1845 –Φ) ―²–Β―Ä―è–Β―²―¹―è –≤ –Ψ–±–Μ–Α–Κ–Α―Ö. –û―¹―²―Ä–Ψ–≤ –€–Α–¥–Β–Ι―Ä–Α. –Λ–Ψ―²–Ψ –Α–≤–≥―É―¹―² 1955 –≥. –ê―²–Μ–Α–Ϋ―²–Η–Κ–Α–Δ–Β–Ω–Μ–Ψ, –Ω–Ψ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―É –Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ–Β, –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Η―² –≤ –Ε–Α―Ä―É, –¥–Α–Μ–Β–Β βÄ™ –≤ –Η–Ζ–Ϋ―É―Ä―è―é―â―É―é –Ε–Α―Ä―É. –Λ–Ψ―Ä–Φ–Α –Ψ–¥–Β–Ε–¥―΄ βÄ™ –≥–Ψ–Μ―΄–Ι ―²–Ψ―Ä―¹, –±–Ψ―¹–Η–Κ–Ψ–Φ –Η –±–Β–Μ―΄–Β ―΅–Β―Ö–Μ―΄ –Ϋ–Α –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Β. –û―¹―²―Ä–Ψ–≤ –€–Α–¥–Β–Ι―Ä–Α. –Λ–Ψ―²–Ψ –Α–≤–≥―É―¹―² 1955 –≥. –ê―²–Μ–Α–Ϋ―²–Η–Κ–Α–Δ–Β–Ω–Μ–Ψ, –Ω–Ψ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―É –Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ–Β, –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Η―² –≤ –Ε–Α―Ä―É, –¥–Α–Μ–Β–Β βÄ™ –≤ –Η–Ζ–Ϋ―É―Ä―è―é―â―É―é –Ε–Α―Ä―É. –Λ–Ψ―Ä–Φ–Α –Ψ–¥–Β–Ε–¥―΄ βÄ™ –≥–Ψ–Μ―΄–Ι ―²–Ψ―Ä―¹, –±–Ψ―¹–Η–Κ–Ψ–Φ –Η –±–Β–Μ―΄–Β ―΅–Β―Ö–Μ―΄ –Ϋ–Α –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Β.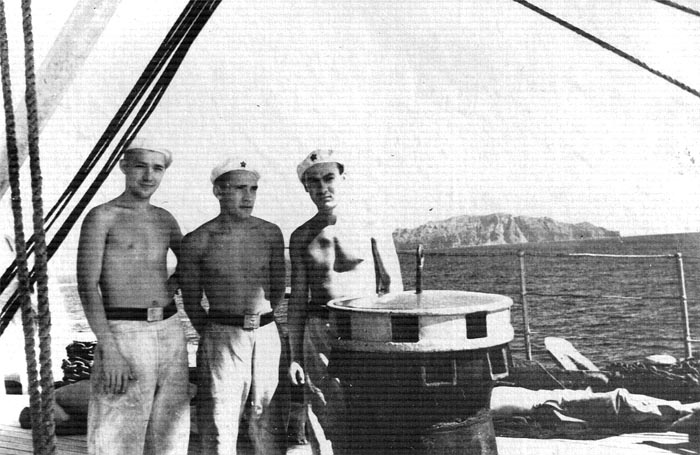 –ù–Α –Ω–Ψ–Μ―É–±–Α–Κ–Β ¬Ϊ–Γ–Β–¥–Ψ–≤–Α¬Μ –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²―΄: –ë–Ψ–Ϋ–¥–Α―Ä–Β–Ϋ–Κ–Ψ, –Γ–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≤, –¦–Α–≤―Ä–Ψ–≤. –£–¥–Α–Μ–Η βÄ™ ―¹–Κ–Α–Μ–Η―¹―²―΄–Β –±–Β―Ä–Β–≥–Α –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –€–Α–¥–Β–Ι―Ä–Α. –Λ–Ψ―²–Ψ 09.08.1955 –≥. –ê―²–Μ–Α–Ϋ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² –ù–Α –Ω–Ψ–Μ―É–±–Α–Κ–Β ¬Ϊ–Γ–Β–¥–Ψ–≤–Α¬Μ –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²―΄: –ë–Ψ–Ϋ–¥–Α―Ä–Β–Ϋ–Κ–Ψ, –Γ–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≤, –¦–Α–≤―Ä–Ψ–≤. –£–¥–Α–Μ–Η βÄ™ ―¹–Κ–Α–Μ–Η―¹―²―΄–Β –±–Β―Ä–Β–≥–Α –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –€–Α–¥–Β–Ι―Ä–Α. –Λ–Ψ―²–Ψ 09.08.1955 –≥. –ê―²–Μ–Α–Ϋ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―²
18.03.201400:2718.03.2014 00:27:09
0
17.03.201401:0117.03.2014 01:01:46
–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ ―à―²–Α–±–Α 1-–Ι –ë–ü–¦ –®―²–Α–± –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄, ―Ö–Ψ―²―è –Ψ–Ϋ –Η –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Μ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α, –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è ―¹–Μ–Α–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ, –¥―Ä―É–Ε–Ϋ―΄–Φ. –û–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―è –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α ―à―²–Α–±–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ ―à―²–Α―²―É –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –≤ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ –Φ–Β―Ä–Β, ―²–Α–Κ ―É–Ε ―ç―²–Ψ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Ψ―¹―¨, –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –ê.–ù.–Δ―é―Ä–Β–Ϋ–Κ–Ψ–≤, ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Κ–Ψ–Φ–Ω–Β―²–Β–Ϋ―²–Ϋ―΄–Ι –Η –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι, ―¹―Ä–Α–Ζ―É ―¹―²–Α–≤―à–Η–Ι –¥–Μ―è –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Α–¥―ë–Ε–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–Ω–Ψ―Ä–Ψ–Ι. –¦–Β–≥–Κ–Ψ –Ϋ–Α―à–Μ–Η –Φ―΄ –Ψ–±―â–Η–Ι ―è–Ζ―΄–Κ –Η ―¹ –Φ–Ψ–Η–Φ –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–≥–Ψ–Ι –Ω–Ψ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ι ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η βÄî ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ –Φ–Η–Ϋ―ë―Ä–Ψ–Φ –Γ.–‰.–‰–Ψ–¥–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Φ, –¥–Α –Η ―¹ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ–Η ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Α–Φ–Η ―à―²–Α–±–Α.
–½–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Η―²―¨―¹―è ―¹ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ–Η –Η –Μ―é–¥―¨–Φ–Η –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Φ–Ϋ–Β ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–≤―à–Η–Β –Η―Ö ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Β ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²―΄ ―à―²–Α–±–Α, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Η –Ψ―²–¥–Β–Μ–Α –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–Ω–Α–≥–Α–Ϋ–¥―΄, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –≤–Ψ–Ζ–≥–Μ–Α–≤–Μ―è–Μ –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Α―Ä –™.–€.–û–±―É―à–Β–Ϋ–Κ–Ψ–≤.
–ü–Ψ―΅―²–Η –≤–Β―¹―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ ―É–Ε–Β –Η–Φ–Β–Μ –Κ–≤–Α―Ä―²–Η―Ä―΄ –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β. –Θ –Ϋ–Α―¹ ―¹ –Κ–Ψ–Φ–±―Ä–Η–≥–Ψ–Φ ―¹–Β–Φ–Β–Ι ―²―É―² –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ, –Η –Φ―΄ ―Ä–Β–¥–Κ–Ψ –Ψ―²–Μ―É―΅–Α–Μ–Η―¹―¨ –Η–Ζ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è. –ü–Ψ –≤–Β―΅–Β―Ä–Α–Φ –ï–≥–Η–Ω–Κ–Ψ –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―à–Α–Μ –Φ–Β–Ϋ―è –Κ ―¹–Β–±–Β, –≤ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ϋ―É―é ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ―É―é –Κ–Α―é―²―É –Ω–Ψ–¥ ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤―΄–Φ –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Ψ–Φ ¬Ϊ–‰―Ä―²―΄―à–Α¬Μ, –Η –Φ―΄ –Ψ–±–Φ–Β–Ϋ–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤–Ω–Β―΅–Α―²–Μ–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η –¥–Ϋ―è, –Ψ–±―¹―É–Ε–¥–Α–Μ–Η –Ϋ–Α―à–Η –¥–Β–Μ–Α. –Γ―²–Α–≤ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Η –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Φ, –Φ―΄ –Ϋ–Β –Ω–Β―Ä–Β―¹―²–Α–Μ–Η –±―΄―²―¨ –¥–Ψ–±―Ä―΄–Φ–Η ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Α–Φ–Η. –û―¹―²–Α–≤―à–Η―¹―¨ –≤–¥–≤–Ψ―ë–Φ, –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η –¥―Ä―É–≥ –¥―Ä―É–≥―É, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Η–≤―΄–Κ–Μ–Η –≤ –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η: –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤–Η―΅ –Η –¦–Β–≤ –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Β–≤–Η―΅. –™―Ä―É–Ω–Ω–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α ―à―²–Α–±–Α (―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Β ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²―΄) 1-–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ. –Γ–Μ–Β–≤–Α –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Ψ. –ü–Β―Ä–≤―΄–Ι ―Ä―è–¥: –·–Κ–Ψ–≤―Ü–Β–≤, –£.–ü.–ß–Α–Μ–Ψ–≤, –Γ.–‰.–‰–Ψ–¥–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι, –‰.–ê.–ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–≤. –£―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―Ä―è–¥: –ë.–£.–‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤, –ü–Ψ–Ζ–¥–Ϋ―è–Κ, –ê.–ù.–Δ―é―Ä–Β–Ϋ–Κ–Ψ–≤, –‰.–ï.–½–Α–Μ–Η–Ω–Α–Β–≤. –¦–Η–±–Α–≤–Α, –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ –Η―é–Ϋ―è 1941 –≥–Ψ–¥–Α–†–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ ―¹ –ï–≥–Η–Ω–Κ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Μ–Β–≥–Κ–Ψ. –ö–Α–Κ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ, ―É –Ϋ–Α―¹ ―¹–Ψ–≤–Ω–Α–¥–Α–Μ–Η –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Κ–Η –Μ―é–¥–Β–Ι –Η ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι, –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Ψ ―²–Ψ–Φ, –Κ–Α–Κ ―Ä–Β―à–Α―²―¨ ―²―É –Η–Μ–Η –Η–Ϋ―É―é –Ζ–Α–¥–Α―΅―É. –€―΄ ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–≤–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α–Φ –≤–≤–Β―Ä–Β–Ϋ―΄ –Μ―É―΅―à–Η–Β –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η. –™―Ä―É–Ω–Ω–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α ―à―²–Α–±–Α (―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Β ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²―΄) 1-–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ. –Γ–Μ–Β–≤–Α –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Ψ. –ü–Β―Ä–≤―΄–Ι ―Ä―è–¥: –·–Κ–Ψ–≤―Ü–Β–≤, –£.–ü.–ß–Α–Μ–Ψ–≤, –Γ.–‰.–‰–Ψ–¥–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι, –‰.–ê.–ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–≤. –£―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―Ä―è–¥: –ë.–£.–‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤, –ü–Ψ–Ζ–¥–Ϋ―è–Κ, –ê.–ù.–Δ―é―Ä–Β–Ϋ–Κ–Ψ–≤, –‰.–ï.–½–Α–Μ–Η–Ω–Α–Β–≤. –¦–Η–±–Α–≤–Α, –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ –Η―é–Ϋ―è 1941 –≥–Ψ–¥–Α–†–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ ―¹ –ï–≥–Η–Ω–Κ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Μ–Β–≥–Κ–Ψ. –ö–Α–Κ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ, ―É –Ϋ–Α―¹ ―¹–Ψ–≤–Ω–Α–¥–Α–Μ–Η –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Κ–Η –Μ―é–¥–Β–Ι –Η ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι, –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Ψ ―²–Ψ–Φ, –Κ–Α–Κ ―Ä–Β―à–Α―²―¨ ―²―É –Η–Μ–Η –Η–Ϋ―É―é –Ζ–Α–¥–Α―΅―É. –€―΄ ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–≤–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α–Φ –≤–≤–Β―Ä–Β–Ϋ―΄ –Μ―É―΅―à–Η–Β –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η.
–£–Ψ 2-–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Β –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ―΅―²–Η ―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ε–Β, –Ψ–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –≤ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ ¬Ϊ–©―É–Κ–Η¬Μ, ―É―¹―²―É–Ω–Α–≤―à–Η–Β –Ω–Ψ –±–Ψ–Β–≤―΄–Φ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―è–Φ –Ω―Ä–Β–Ψ–±–Μ–Α–¥–Α–≤―à–Η–Φ ―É –Ϋ–Α―¹ ¬Ϊ―ç―¹–Κ–Α–Φ¬Μ. –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ϋ–Ψ–≤–Β–Ι―à–Η―Ö ―²–Η–Ω–Ψ–≤ –Η ―¹–Β―Ä–Η–Ι, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä―¹–Κ–Η–Β ―²–Η–Ω–Α ¬Ϊ–ö¬Μ, –≤―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –≤ –±―Ä–Η–≥–Α–¥―É ―¹―²―Ä–Ψ―è―â–Η―Ö―¹―è, –Η ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Α –Β―â―ë –Ϋ–Β ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è―à–Ϋ―è―è, –Α –Ζ–Α–≤―²―Ä–Α―à–Ϋ―è―è –±–Ψ–Β–≤–Α―è ―¹–Η–Μ–Α. –ë–Ψ–Β–≤–Α―è –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤―΄–Ζ―΄–≤–Α–Β―² –Ψ–Ζ–Α–±–Ψ―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –¦―É―΅―à–Η–Β –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η, –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Ψ–Ω―΄―²–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄, ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ ―É–Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―²–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Η... –£―¹―ë ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―²–Α–Κ. –ù–Ψ –±–Ψ–Β–≤–Α―è –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è, –Ψ –≤―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –≤ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ï–≥–Η–Ω–Κ–Ψ ―²–Β–Μ–Β–≥―Ä–Α―³–Ϋ–Ψ –¥–Ψ–Ϋ―ë―¹ –≤ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ, –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Α –Ϋ–Β –≤―΄–Ζ―΄–≤–Α―²―¨ –Ψ–Ζ–Α–±–Ψ―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –ö–Α–Κ –Φ―΄ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η, –±–Ψ–Β–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ (–Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α―à–Β–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄) –≤–Β―¹―¨–Φ–Α –Ζ–Α–±–Ψ―²–Η–Μ–Α –Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β ―³–Μ–Ψ―²–Α.
–‰–Ζ –≤―¹–Β―Ö –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ–Η ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Μ –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι ―³–Μ–Ψ―², –Μ–Η―à―¨ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―΅–Η―¹–Μ–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Φ–Α–Β 1941 –≥–Ψ–¥–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ–Η –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ι –Μ–Η–Ϋ–Η–Η. –û―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Β―â―ë –Ϋ–Β –Ψ―²―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Η –Η –Ϋ–Β ―¹–¥–Α–Μ–Η ―Ä―è–¥–Α –Κ―É―Ä―¹–Ψ–≤―΄―Ö –Ζ–Α–¥–Α―΅, –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ, βÄî –Ψ–≥–Ϋ–Β–≤―΄―Ö. –‰–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹–Μ–Ψ–≤–Α–Φ–Η, –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–¥–Η–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Ψ–±–Μ–Α–¥–Α―é―² –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ―΄–Φ–Η –Ϋ–Α–≤―΄–Κ–Α–Φ–Η –Ω―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―Ä―É–Ε–Η―è, –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ―΄―Ö –Η –Ϋ–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö –Α―²–Α–Κ.
–ù–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―è –¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Ψ–Ι –Φ–Β–Ϋ–Β–Β –≥–Ψ–¥–Α (–±―΄―¹―²―Ä―΄–Ι ―Ä–Ψ―¹―² –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö ―¹–Η–Μ –Ψ–±―É―¹–Μ–Ψ–≤–Μ–Η–≤–Α–Μ ―΅–Α―¹―²―΄–Β –Ω–Β―Ä–Β–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α), –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β –Β―â―ë –Ϋ–Β –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –≤ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―É―é –Α―²–Α–Κ―É –Ϋ–Α ―²–Ψ–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β –Η ―¹ ―²–Β–Φ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Φ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –±―΄–Μ–Η –Η–Φ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –≤–≤–Β―Ä–Β–Ϋ―΄.
–½–Α –¥–Β―¹―è―²–Η–Μ–Β―²–Η―è –±–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –≤―¹–Β―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –≤ –Ζ–Α–Φ–Β―Ä–Ζ–Α―é―â–Β–Φ –Ϋ–Α–¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –≤–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Φ ―É–≥–Μ―É –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α, –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Β –Ω―Ä–Η–≤―΄–Κ–Μ–Η –Ω–Μ–Α–≤–Α―²―¨ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Μ–Β―²–Ψ–Φ. –ü–Β―Ä–Β–¥ –Μ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Ψ–Φ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ―É–Κ―Ä―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ζ–Α –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―²–Ϋ―΄–Φ–Η –Φ–Ψ–Μ–Α–Φ–Η –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Α –Η–Μ–Η ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―² –Κ –Ω―Ä–Η―΅–Α–Μ–Α–Φ –Μ–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Η―Ö –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Ψ–≤. –‰ –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤ –¥–Ψ –≤–Β―¹–Ϋ―΄!
–ê –≤–Β―¹–Ϋ–Ψ–Ι, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤–Ψ―¹―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¨ ―É―²―Ä–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α –Ζ–Η–Φ–Ϋ―é―é ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Κ―É –Ϋ–Α–≤―΄–Κ–Η, –≤―¹―ë –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ–Η ―¹–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α, ―¹ –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö –Ζ–Α–¥–Α―΅ –Κ―É―Ä―¹–Α –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η... –Δ–Β–Φ –±–Ψ–Μ–Β–Β ―΅―²–Ψ –Ζ–Α ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ―è–Μ―¹―è –Η ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Ι, ―É―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Ψ―²―¹–Μ―É–Ε–Η–≤―à–Η–Β ―¹–≤–Ψ–Ι ―¹―Ä–Ψ–Κ, –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄–Β. –î–Ψ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄―Ö ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–± –¥–Β–Μ–Ψ –¥–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ –Μ–Η―à―¨ –≤–Ψ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Β –Μ–Β―²–Ϋ–Β–Ι –Κ–Α–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η. –‰ ―¹–Α–Φ–Η ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄–Β ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–±―΄ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨, –Κ–Α–Κ –≤―΄―è―¹–Ϋ―è–Μ–Ψ―¹―¨, –±–Ψ–Μ―¨―à–Β–Ι ―΅–Α―¹―²―¨―é –≤ ―É–Ω―Ä–Ψ―â―ë–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö: –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ ―²–Η―Ö–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ, –Η–¥―É―â–Η–Φ –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Κ―É―Ä―¹–Ψ–Φ. –ë―΄―¹―²―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –Ω―Ä–Β–¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β –Φ–Η―à–Β–Ϋ–Β–Ι ―Ä–Β–¥–Κ–Ψ.
–ù–Α –î–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Φ –£–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Β, –≥–¥–Β –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Α –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö ―Ä―É–±–Β–Ε–Β–Ι –Ϋ–Α–Μ–Α–Ε–Η–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤ –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Β –Ϋ–Α–≤–Η―¹―à–Β–Ι –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―É–≥―Ä–Ψ–Ζ―΄, ―¹–Α–Φ–Α –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Ζ–Α―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Α –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Β–Β –Η–Ζ–Ε–Η–≤–Α―²―¨ ―É–Ω―Ä–Ψ―â–Β–Ϋ―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –Η, –Κ–Α–Κ ―è ―É–Ε–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ, –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Β –≤ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Β –Ψ–±―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ –Η–Ϋ–Α―΅–Β.
–€–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Ι –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι ―³–Μ–Ψ―² ―¹ ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –Β–≥–Ψ –Ζ–Α―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Μ–Α–≤–Α–Μ –Κ―Ä―É–≥–Μ―΄–Ι –≥–Ψ–¥. –£–Β―¹―²–Η ―¹–Β–±―è –Ω–Ψ-–¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ―É –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–Μ–Α –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Α. –½–¥–Β―¹―¨ –Ε–Β –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ–¥–Α, –Ω―Ä–Ψ―à–Β–¥―à–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Α–Κ –±–Α–Μ―²–Η–Ι―Ü―΄ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Η –Ϋ–Β–Ζ–Α–Φ–Β―Ä–Ζ–Α―é―â–Η–Β –±–Α–Ζ―΄ –≤ –¦–Η–±–Α–≤–Β –Η –Ϋ–Α –Ξ–Α–Ϋ–Κ–Ψ, –Η –Ϋ–Β–Ϋ–Α–¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –Ζ–Α–Φ–Β―Ä–Ζ–Α―é―â–Η–Ι –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ, –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Η―²―¨ ―É―¹―²–Ψ―è–≤―à–Η–Ι―¹―è, –Ω―Ä–Η–≤―΄―΅–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Ψ–Κ. –‰ –¥–Α–Ε–Β –Ψ–Ω―΄―² ―³–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Α–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –≤–Β–Μ–Η –±–Ψ–Β–≤―΄–Β –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –≤ –Ζ–Η–Φ–Ϋ–Η―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö, –Η –¥–Α–Ε–Β –Ω–Μ–Α–≤–Α–Μ–Η –Ω–Ψ–¥–Ψ –Μ―¨–¥–Ψ–Φ (―²–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―Ü―΄ –¥–Β–Μ–Α–Μ–Η ―ç―²–Ψ –Β―â―ë ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β), –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ―¹―è –Ω–Ψ–Κ–Α –Ψ–Ω―΄―²–Ψ–Φ –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Ι, –Ϋ–Β ―É―¹–Ω–Β–Μ ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Ψ ―Ä–Α―¹–Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Η―²―¨―¹―è.
–ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Η –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Β ―É–Ε–Β –Ϋ–Β –≤―¹―ë –±―΄–Μ–Ψ, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β. –ö–Α–Κ ―è ―É–Ζ–Ϋ–Α–Μ, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –≤ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Β ¬Ϊ–€–Α–Μ―é―²–Ψ–Κ¬Μ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 2-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ï.–™.–°–Ϋ–Α–Κ–Ψ–≤ (–¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ ―ç―²–Ψ―² –≤―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –≤ ―Ä–Α―¹―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―É―é 3-―é –±―Ä–Η–≥–Α–¥―É –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –Α ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ω–Β―Ä–Β―à―ë–Μ –≤–Ψ 2-―é), –≤ ―¹–Β―Ä–Β–¥–Η–Ϋ–Β –Φ–Α―è ―É–Ε–Β –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Κ―É―Ä―¹ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄―Ö ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–±, –Ψ―²―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–≤ –Ω―Ä–Β–¥―à–Β―¹―²–≤―É―é―â–Η–Β –Ζ–Α–¥–Α―΅–Η –≤ –Ζ–Η–Φ–Ϋ–Η–Β –Φ–Β―¹―è―Ü―΄. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α ¬Ϊ–€–Α–Μ―é―²–Ψ–Κ¬Μ –ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η–Ι –™–Α–≤―Ä–Η–Μ–Ψ–≤–Η―΅ –°–Ϋ–Α–Κ–Ψ–≤–Γ –ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –™–Α–≤―Ä–Η–Μ–Ψ–≤–Η―΅–Β–Φ –°–Ϋ–Α–Κ–Ψ–≤―΄–Φ ―è –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Η–Μ―¹―è –≤ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–Φ –≥–Ψ–¥―É –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹―²–Α–Ε–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Η –Η –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Μ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Ω―΄―²–Ϋ–Β–Ι―à–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α ―¹ –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Η–Φ ―É–≤–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α ¬Ϊ–€–Α–Μ―é―²–Ψ–Κ¬Μ –ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η–Ι –™–Α–≤―Ä–Η–Μ–Ψ–≤–Η―΅ –°–Ϋ–Α–Κ–Ψ–≤–Γ –ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –™–Α–≤―Ä–Η–Μ–Ψ–≤–Η―΅–Β–Φ –°–Ϋ–Α–Κ–Ψ–≤―΄–Φ ―è –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Η–Μ―¹―è –≤ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–Φ –≥–Ψ–¥―É –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹―²–Α–Ε–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Η –Η –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Μ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Ω―΄―²–Ϋ–Β–Ι―à–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α ―¹ –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Η–Φ ―É–≤–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ.
–ü―Ä–Α–≤–¥–Α, –Β–≥–Ψ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ –±–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Ξ–Α–Ϋ–Κ–Ψ, –≥–¥–Β –Η–Φ–Β–Μ–Η―¹―¨ ―É–¥–Ψ–±–Ϋ―΄–Β –¥–Μ―è –Ψ―²―Ä–Α–±–Ψ―²–Κ–Η ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄―Ö –Α―²–Α–Κ –Ω–Ψ–Μ–Η–≥–Ψ–Ϋ―΄, –Α –≤ –¦–Η–±–Α–≤–Β ―¹ ―ç―²–Η–Φ –Ψ–±―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ ―Ö―É–Ε–Β. –€–Β–Ε–¥―É ―²–Β–Φ, –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α –Ψ–≥–Ϋ–Β–≤―É―é –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ―É ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ, –Κ–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¹―è, –Ϋ–Α–Ε–Α―²―¨. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Η –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ι –Ε–Β –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥–Κ–Β –≤ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ –¥–Μ―è –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–Φ―É ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ï–≥–Η–Ω–Κ–Ψ –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –±–Ψ–Β–≤―É―é –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ―É –Ϋ–Α―à–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ ―Ü–Β–Μ–Β―¹–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Ϋ–Β―¹―²–Η –≤ –†–Η–Ε―¹–Κ–Η–Ι –Ζ–Α–Μ–Η–≤. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Α―à–Β –Ψ–±―â–Β–Β ―¹ –Κ–Ψ–Φ–±―Ä–Η–≥–Ψ–Φ –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β. –†–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –≤ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Β ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ–Η, –Η –Φ―΄ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α–Μ–Η―¹―¨ –Κ ―ç―²–Ψ–Φ―É –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹―É –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ –Η –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨.
–‰–Φ–Β–Μ–Η―¹―¨ –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ―΄ –Ϋ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤―΄–≤–Β―¹―²–Η –Η–Ζ –¦–Η–±–Α–≤―΄ ―Ö–Ψ―²―è –±―΄ ―΅–Α―¹―²―¨ –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄. –¦–Η–±–Α–≤―¹–Κ–Α―è –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –≥–Α–≤–Α–Ϋ―¨ –Η –Α–Κ–≤–Α―²–Ψ―Ä–Η―è ―¹―É–¥–Ψ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Α ¬Ϊ–Δ–Ψ―¹–Φ–Α―Ä–Β¬Μ –±―΄–Μ–Η –±―É–Κ–≤–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–±–Η―²―΄ ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Φ–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ–Η. –Δ–Α–Κ–Ψ–Β ―¹–Ψ―¹―Ä–Β–¥–Ψ―²–Ψ―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Η―Ö –≤ ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι –Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Ψ–Ι –±–Α–Ζ–Β –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α, –Κ ―²–Ψ–Φ―É –Ε–Β –Β―â―ë –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Ζ–Α―â–Η―â―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Α, –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ψ–Ω―Ä–Α–≤–¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –¥–Α–Ε–Β –Ω―Ä–Η ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Β. –ê ―²–Ψ–≥–¥–Α―à–Ϋ―é―é –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ―É –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è –±―΄–Μ–Ψ ―¹―΅–Η―²–Α―²―¨ ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ–Ι: –≤ –ï–≤―Ä–Ψ–Ω–Β ―à–Μ–Α –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Α.
–‰–Ζ –Φ–Β–Φ―É–Α―Ä–Ψ–≤ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α―è –™–Β―Ä–Α―¹–Η–Φ–Ψ–≤–Η―΅–Α –ö―É–Ζ–Ϋ–Β―Ü–Ψ–≤–Α ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ: –Φ―΄―¹–Μ–Η –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –¦–Η–±–Α–≤―É –Ϋ–Α–¥–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≥―Ä―É–Ζ–Η―²―¨, –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Α–Μ–Η –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―É –Ϋ–Α―¹ ―¹ –ï–≥–Η–Ω–Κ–Ψ. –ù–Ψ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ –±―΄–Μ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Β–Β, ―΅–Β–Φ –Ϋ–Α–Φ ―²–Ψ–≥–¥–Α –Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –Η –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥ –±―΄―²―¨ –Ζ–Α–Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ ―Ä–Β―à―ë–Ϋ
–¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ–Ψ–Φ. –ü–Β―Ä–Β–±–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β, ―Ö–Ψ―²―è –±―΄ –Η ―΅–Α―¹―²–Η―΅–Ϋ–Ψ–Β, –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Β ―¹–Κ―Ä–Ψ–Β―à―¨ –Ψ―² –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Ϋ–Η―Ö –≥–Μ–Α–Ζ, –Η –≤―΄―¹―à–Β–Β ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄ ―¹―²―Ä–Β–Φ–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Η–Ζ–±–Β–Ε–Α―²―¨ –Μ―é–±―΄―Ö –Ω–Β―Ä–Β–¥–Η―¹–Μ–Ψ–Κ–Α―Ü–Η–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –±―΄―²―¨ –Η―¹―²–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Α–Ϋ―΄ –Ω–Ψ-―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–Φ―É.
–‰ –≤―¹―ë –Ε–Β –≤–Ψ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Β –Φ–Α―è –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ –Ψ –Ω–Β―Ä–Β–±–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η –±―΄–Μ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ. –Δ –Ψ–≥–¥–Α –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α–Μ–Ψ―¹―¨: –≤–Ψ–Ζ―΄–Φ–Β–Μ–Η –≤―¹―ë-―²–Α–Κ–Η –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Β –Ϋ–Α―à–Η –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Ι―΅–Η–≤―΄–Β ―²–Β–Μ–Β–≥―Ä–Α–Φ–Φ―΄ –≤ ―à―²–Α–± ―³–Μ–Ψ―²–Α, ―¹―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Η –Η–Ζ–Μ–Α–≥–Α―é―â–Η–Β―¹―è –≤ –Ϋ–Η―Ö –¥–Ψ–≤–Ψ–¥―΄. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α―é ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨, –Ζ–Α―¹–Μ―É–≥–Α ―²―É―² –±―΄–Μ–Α –≤ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ –Ϋ–Β –Ϋ–Α―à–Α. ¬Ϊ–≠―¹–Κ–Η¬Μ –Ω–Β―Ä–Β―à–Μ–Η –≤ –Θ―¹―²―¨-–î–≤–Η–Ϋ―¹–Κ –‰–Ζ –¦–Η–±–Α–≤―΄ ―É―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Η ―à―²–Α–± –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄, –Ψ–±–Β –Ϋ–Α―à–Η –Ω–Μ–Α–≤–±–Α–Ζ―΄ ¬Ϊ–‰―Ä―²―΄―à¬Μ –Η ¬Ϊ–Γ–Φ–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι¬Μ –Η –¥–≤–Α –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, βÄî –≤―¹–Β ¬Ϊ―ç―¹–Κ–Η¬Μ, –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β –¥–≤―É―Ö ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è. –û―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –¦–Η–±–Α–≤–Β –¥–≤–Α –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α: –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Φ–Η–Ϋ–Ζ–Α–≥–Η –Η ¬Ϊ–€–Α–Μ―é―²–Κ–Η¬Μ. –‰, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ–Ι –±–Α–Ζ―΄ ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Ψ―²–Ϋ―é–¥―¨ –Ϋ–Β ―¹–≤―ë―Ä―²―΄–≤–Α–Μ–Α―¹―¨.
–Γ―²–Α―Ä―à–Η–Φ –≤ –Μ–Η–±–Α–≤―¹–Κ–Ψ–Ι –≥―Ä―É–Ω–Ω–Β –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Κ–Ψ–Φ–±―Ä–Η–≥ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–Μ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ê.–ö.–ê–≤–Β―Ä–Ψ―΅–Κ–Η–Ϋ–Α.
–ù–Α―à–Β–Ι –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι –±–Α–Ζ–Ψ–Ι ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ –î–Α―É–≥–Α–≤–≥―Ä–Η–≤–Α, –Η–Ϋ–Α―΅–Β –Θ―¹―²―¨-–î–≤–Η–Ϋ―¹–Κ, –Κ–Α–Κ –Φ―΄ –Η –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η ―ç―²–Ψ―² –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Ϋ–Α―¹–Β–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω―É–Ϋ–Κ―² –Ϋ–Α –Μ–Β–≤–Ψ–Φ –±–Β―Ä–Β–≥―É –î–Α―É–≥–Α–≤―΄ ―É –≤–Ω–Α–¥–Β–Ϋ–Η―è –Β―ë –≤ –Ζ–Α–Μ–Η–≤, –Ω–Ψ ―¹―É―â–Β―¹―²–≤―É –Ω―Ä–Β–¥–Φ–Β―¹―²―¨–Β –†–Η–≥–Η. –‰ ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –≤–Β―Ä–Η–Μ–Ψ―¹―¨, βÄî ―²―É―² –Ψ–±–Ψ―¹–Ϋ―É–Β–Φ―¹―è –Ϋ–Α–¥–Ψ–Μ–≥–Ψ!
–ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤–Η―΅ –ï–≥–Η–Ω–Κ–Ψ, –Ϋ–Α–¥–Β–≤ –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Α, –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¹―è –Κ –Ω―Ä–Β–¥―¹–Β–¥–Α―²–Β–Μ―é –Γ–Ψ–≤–Ϋ–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ–Α –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Ι –¦–Α―²–≤–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –Γ–Γ–†. –‰–Φ –±―΄–Μ ―²–Ψ–≥–¥–Α –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄–Ι –Μ–Α―²―΄―à―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―¨ –£–Η–Μ–Η―¹ –¦–Α―Ü–Η―¹. –ü―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η–Μ―¹―è, ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ψ –Ϋ―É–Ε–¥–Α―Ö ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è. –£―΄–¥–Α―é―â–Η–Ι―¹―è –Μ–Α―²―΄―à―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―¨ –Η –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨ –£–Η–Μ–Η―¹ –¦–Α―Ü–Η―¹ –¦–Α―Ü–Η―¹ –Ψ―²–Ϋ―ë―¹―¹―è –Κ –Ω―Ä–Η–±―΄–≤―à–Η–Φ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ. –£ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Ω―Ä–Ψ―΅–Η―Ö, –±―΄–Μ ―Ä–Β―à―ë–Ϋ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ –Ψ –Ε–Η–Μ―¨–Β –¥–Μ―è ―¹–Β–Φ–Β–Ι –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –Η ―¹–≤–Β―Ä―Ö―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤. –€―΄ ―¹ –Κ–Ψ–Φ–±―Ä–Η–≥–Ψ–Φ ―²–Ψ–Ε–Β –≤―΄–Ω–Η―¹–Α–Μ–Η –≤ –Θ―¹―²―¨-–î–≤–Η–Ϋ―¹–Κ –Ϋ–Α―à–Η ―¹–Β–Φ―¨–Η. –ù–Ψ, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β ―ç―²–Η –Ζ–Α–±–Ψ―²―΄ –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Φ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Β. –£―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄―Ö ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–± –ù–Β –¥–Ψ–Ε–Η–¥–Α―è―¹―¨, –Ω–Ψ–Κ–Α –≤―¹―ë –Ϋ–Α–Μ–Α–¥–Η―²―¹―è –Ϋ–Α –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Φ –Φ–Β―¹―²–Β –±–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è (–≤ –≥–Α–≤–Α–Ϋ–Η –Θ―¹―²―¨-–î–≤–Η–Ϋ―¹–Κ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η –¥–Μ―è ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±–Ψ―Ä―É–¥–Ψ–≤–Α―²―¨, –Ϋ–Β―É–¥–Ψ–±―¹―²–≤ ―Ö–≤–Α―²–Α–Μ–Ψ), ―¹―²–Α–Μ–Η ―³–Ψ―Ä―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –±–Ψ–Β–≤―É―é –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ―É. –î–Μ―è –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η―è ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄―Ö ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–± ―à―²–Α–± ―³–Μ–Ψ―²–Α –Ω―Ä–Η―¹–Μ–Α–Μ ―ç―¹–Φ–Η–Ϋ–Β―Ü ¬Ϊ–≠–Ϋ–≥–Β–Μ―¨―¹¬Μ, ―¹–Μ―É–Ε–Η–≤―à–Η–Ι –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Ι –±―΄―¹―²―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―Ü–Β–Μ―¨―é, –Η –±―΄–≤―à–Η–Ι –Μ–Α―²–≤–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι ―²―Ä–Α–Μ―¨―â–Η–Κ ¬Ϊ–‰–Φ–Α–Ϋ―²–Α¬Μ. –£―΄–¥–Α―é―â–Η–Ι―¹―è –Μ–Α―²―΄―à―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―¨ –Η –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨ –£–Η–Μ–Η―¹ –¦–Α―Ü–Η―¹ –¦–Α―Ü–Η―¹ –Ψ―²–Ϋ―ë―¹―¹―è –Κ –Ω―Ä–Η–±―΄–≤―à–Η–Φ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ. –£ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Ω―Ä–Ψ―΅–Η―Ö, –±―΄–Μ ―Ä–Β―à―ë–Ϋ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ –Ψ –Ε–Η–Μ―¨–Β –¥–Μ―è ―¹–Β–Φ–Β–Ι –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –Η ―¹–≤–Β―Ä―Ö―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤. –€―΄ ―¹ –Κ–Ψ–Φ–±―Ä–Η–≥–Ψ–Φ ―²–Ψ–Ε–Β –≤―΄–Ω–Η―¹–Α–Μ–Η –≤ –Θ―¹―²―¨-–î–≤–Η–Ϋ―¹–Κ –Ϋ–Α―à–Η ―¹–Β–Φ―¨–Η. –ù–Ψ, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β ―ç―²–Η –Ζ–Α–±–Ψ―²―΄ –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Φ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Β. –£―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄―Ö ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–± –ù–Β –¥–Ψ–Ε–Η–¥–Α―è―¹―¨, –Ω–Ψ–Κ–Α –≤―¹―ë –Ϋ–Α–Μ–Α–¥–Η―²―¹―è –Ϋ–Α –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Φ –Φ–Β―¹―²–Β –±–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è (–≤ –≥–Α–≤–Α–Ϋ–Η –Θ―¹―²―¨-–î–≤–Η–Ϋ―¹–Κ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η –¥–Μ―è ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±–Ψ―Ä―É–¥–Ψ–≤–Α―²―¨, –Ϋ–Β―É–¥–Ψ–±―¹―²–≤ ―Ö–≤–Α―²–Α–Μ–Ψ), ―¹―²–Α–Μ–Η ―³–Ψ―Ä―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –±–Ψ–Β–≤―É―é –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ―É. –î–Μ―è –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η―è ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄―Ö ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–± ―à―²–Α–± ―³–Μ–Ψ―²–Α –Ω―Ä–Η―¹–Μ–Α–Μ ―ç―¹–Φ–Η–Ϋ–Β―Ü ¬Ϊ–≠–Ϋ–≥–Β–Μ―¨―¹¬Μ, ―¹–Μ―É–Ε–Η–≤―à–Η–Ι –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Ι –±―΄―¹―²―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―Ü–Β–Μ―¨―é, –Η –±―΄–≤―à–Η–Ι –Μ–Α―²–≤–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι ―²―Ä–Α–Μ―¨―â–Η–Κ ¬Ϊ–‰–Φ–Α–Ϋ―²–Α¬Μ.
–î―Ä―É–≥–Ψ–Ι ―ç―¹–Φ–Η–Ϋ–Β―Ü ¬Ϊ–ê―Ä―²―ë–Φ¬Μ –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–≤–Α–Μ –Ϋ–Α ―¹–Ψ―¹–Β–¥–Ϋ–Η―Ö –Ω–Ψ–Μ–Η–≥–Ψ–Ϋ–Α―Ö ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–±―΄ –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ 2-–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄, –Ω―Ä–Η―à–Β–¥―à–Η―Ö –≤ –†–Η–Ε―¹–Κ–Η–Ι –Ζ–Α–Μ–Η–≤ ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ω–Μ–Α–≤–±–Α–Ζ–Ψ–Ι ¬Ϊ–ü–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ–Α―è –Ζ–≤–Β–Ζ–¥–Α¬Μ, –±―΄–≤―à–Β–Ι ―Ü–Α―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―è―Ö―²–Ψ–Ι, –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²–Ψ–Ι ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α –Β―ë –±–Ψ―Ä―²―É ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Ψ–±–Α–Μ―² βÄî –±–Ψ–Μ―¨―à–Β–≤–Η―¹―²―¹–Κ–Η–Ι ―à―²–Α–± –±–Α–Μ―²–Η–Ι―Ü–Β–≤ –Η –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –≤ –Ω―Ä–Β–¥–Ψ–Κ―²―è–±―Ä―¨―¹–Κ–Η–Β –¥–Ϋ–Η ―¹―ä–Β–Ζ–¥ ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤ –ë–Α–Μ―²―³–Μ–Ψ―²–Α.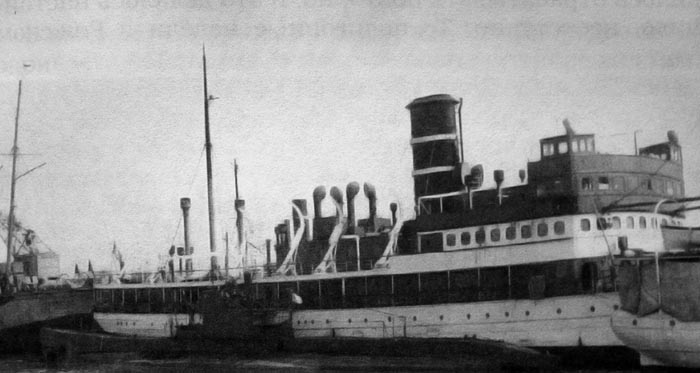 –ü–Μ–Α–≤–±–Α–Ζ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ ¬Ϊ–ü–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ–Α―è –Ζ–≤–Β–Ζ–¥–Α¬Μ ¬Ϊ–Θ―΅–Η―²―¨―¹―è ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Β¬Μ, βÄî ―ç―²–Ψ ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ–¥―΅―ë―Ä–Κ–Η–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –≤ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α―Ö –Ϋ–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ–Α –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α. –î–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Β–Β, –Ω―Ä–Α–≤–¥–Α, –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Η ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄―Ö ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–± –Φ―΄ ―²–Ψ–≥–¥–Α –Β―â―ë –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –Ϋ–Β –≤ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Β―Ä–Β ―É―΅–Η―²―΄–≤–Α–Μ–Η –≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ―É―é –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ―É –Η ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–≥–Ψ –±–Ψ―è. –ë–Μ–Η–Ε–Α–Ι―à–Α―è –Ζ–Α–¥–Α―΅–Α –≤–Η–¥–Β–Μ–Α―¹―¨ –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤ –Φ–Α–Κ―¹–Η–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Η–Ι ―¹―Ä–Ψ–Κ –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è―²―¨ –±–Ψ–Β–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤―¹–Β―Ö –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –Ω–Β―Ä–Β–≤–Β–¥―ë–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤ –†–Η–Ε―¹–Κ–Η–Ι –Ζ–Α–Μ–Η–≤, –¥–Ψ ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ―è, –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ι –Μ–Η–Ϋ–Η–Η. –û―²―Ä–Α–±–Α―²―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ―΄–Β ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄–Β –Α―²–Α–Κ–Η βÄî –Ω–Ψ–¥ –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω–Ψ–Φ, –Η –Ϋ–Ψ―΅–Ϋ―΄–Β βÄî –≤ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η. –ü–Μ–Α–≤–±–Α–Ζ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ ¬Ϊ–ü–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ–Α―è –Ζ–≤–Β–Ζ–¥–Α¬Μ ¬Ϊ–Θ―΅–Η―²―¨―¹―è ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Β¬Μ, βÄî ―ç―²–Ψ ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ–¥―΅―ë―Ä–Κ–Η–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –≤ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α―Ö –Ϋ–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ–Α –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α. –î–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Β–Β, –Ω―Ä–Α–≤–¥–Α, –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Η ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄―Ö ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–± –Φ―΄ ―²–Ψ–≥–¥–Α –Β―â―ë –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –Ϋ–Β –≤ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Β―Ä–Β ―É―΅–Η―²―΄–≤–Α–Μ–Η –≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ―É―é –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ―É –Η ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–≥–Ψ –±–Ψ―è. –ë–Μ–Η–Ε–Α–Ι―à–Α―è –Ζ–Α–¥–Α―΅–Α –≤–Η–¥–Β–Μ–Α―¹―¨ –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤ –Φ–Α–Κ―¹–Η–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Η–Ι ―¹―Ä–Ψ–Κ –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è―²―¨ –±–Ψ–Β–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤―¹–Β―Ö –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –Ω–Β―Ä–Β–≤–Β–¥―ë–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤ –†–Η–Ε―¹–Κ–Η–Ι –Ζ–Α–Μ–Η–≤, –¥–Ψ ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ―è, –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ι –Μ–Η–Ϋ–Η–Η. –û―²―Ä–Α–±–Α―²―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ―΄–Β ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄–Β –Α―²–Α–Κ–Η βÄî –Ω–Ψ–¥ –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω–Ψ–Φ, –Η –Ϋ–Ψ―΅–Ϋ―΄–Β βÄî –≤ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η.
–ö–Ψ–Φ–±―Ä–Η–≥ –Η–Μ–Η ―è, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―è―¹―¨ –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―²―É –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è-–Φ–Η―à–Β–Ϋ–Η, –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η –Β–≥–Ψ –Κ―É―Ä―¹, ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²―¨, ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä –Φ–Α–Ϋ–Β–≤―Ä–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è ―¹ ―²–Α–Κ–Η–Φ ―Ä–Α―¹―΅―ë―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –¥–Μ―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –≤―΄―Ö–Ψ–¥―è―â–Β–Ι –≤ –Α―²–Α–Κ―É –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Η –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β ―²–Α–Κ ―É–Ε –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ω–Ψ―Ä–Α–Ζ–Η―²―¨ ―ç―²―É ―Ü–Β–Μ―¨. –€–Α–Ϋ–Β–≤―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―ç―¹–Φ–Η–Ϋ―Ü–Α –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–Μ–Η –¥–Β–Μ–Α―²―¨ ―ç―²–Ψ, –Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ¬Ϊ–≠–Ϋ–≥–Β–Μ―¨―¹–Α¬Μ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –£. –ü. –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤, –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α―è –¥–Β–Μ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, ―¹–≤–Ψ―é ―Ä–Ψ–Μ―¨ –≤ ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–±–Α―Ö –Η–≥―Ä–Α–Μ –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ.
–†–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²―΄ ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–± –±―΄–≤–Α–Μ–Η ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Φ–Η. –ß―²–Ψ-―²–Ψ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ―²―Ä–Α–±–Α―²―΄–≤–Α―²―¨ –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ, –Η ―ç―²–Ψ –¥–Β–Μ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Ι―΅–Η–≤–Ψ, –Ϋ–Β–Ψ―²―¹―²―É–Ω–Ϋ–Ψ. –Δ–Β –Ω–Ψ–Μ–Η–≥–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Β–¥–Β–Μ–Η –≤ –†–Η–Ε―¹–Κ–Ψ–Φ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Β, –Ϋ–Β–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Β ―΅–Β―²―΄―Ä–Β –Ϋ–Β–¥–Β–Μ–Η –Ω–Β―Ä–Β–¥ ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ–Ι, ―¹―²–Α–Μ–Η ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ-–±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Α–¥–Ψ–Ι, –¥–Β―Ä–Ε–Α–≤―à–Β–Ι –≤ –Ϋ–Α–Ω―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –Η ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Η ―¹―²―Ä–Β–Μ―è–≤―à–Η―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –Κ–Ψ–Φ–¥–Η–≤–Ψ–≤ –Η ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Ψ–≤ ―à―²–Α–±–Α, ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ–Φ, –≤―¹–Β―Ö. –‰ ―΅–Β–≥–Ψ-―²–Ψ –Φ―΄ –¥–Ψ―¹―²–Η–≥–Μ–Η. –î–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –Ψ –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–¥–Β –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –≤ –Ω–Β―Ä–≤―É―é –Μ–Η–Ϋ–Η―é –¥–Β–Μ–Ψ –Ϋ–Β –¥–Ψ―à–Μ–Ψ: –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²―¨ –≤―¹―ë –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ–Β –¥–Μ―è ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β ―Ö–≤–Α―²–Η–Μ–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η. –ù–Ψ ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≤―¹―ë –Ψ―â―É―²–Η–Φ–Β–Β, ―΅―²–Ψ –Μ―é–¥–Η –Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η ―É–Ε–Β –Ϋ–Β ―²–Α–Κ–Η–Β, –Κ–Α–Κ–Η–Φ–Η –Ω―Ä–Η―à–Μ–Η –Η–Ζ –¦–Η–±–Α–≤―΄. –û―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―ç―²–Ψ –Κ–Α―¹–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –≤―¹―²―É–Ω–Η–≤―à–Η―Ö –≤ ―¹―²―Ä–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Ζ–Ε–Β –¥―Ä―É–≥–Η―Ö.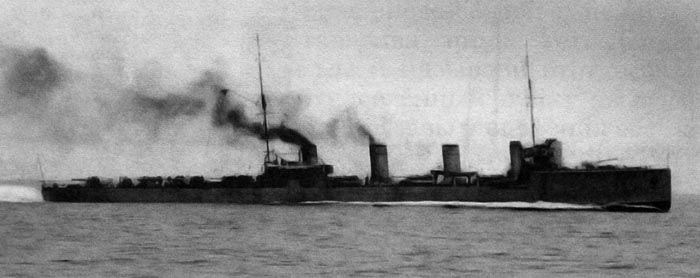 –≠―¹–Κ–Α–¥―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Φ–Η–Ϋ–Ψ–Ϋ–Ψ―¹–Β―Ü ¬Ϊ–≠–Ϋ–≥–Β–Μ―¨―¹¬Μ ―²–Η–Ω–Α ¬Ϊ–ù–Ψ–≤–Η–Κ¬Μ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ ―Ä–Ψ–Μ―¨ ―Ü–Β–Μ–Η –Ω―Ä–Η –Ψ―²―Ä–Α–±–Ψ―²–Κ–Β ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄―Ö –Α―²–Α–Κ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ–€–Ψ–≥–Μ–Η –Μ–Η –Φ―΄ ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ –Ζ–Α ―ç―²–Η –Ϋ–Β–¥–Β–Μ–Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Β? –Δ–Ψ–≥–¥–Α –Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, βÄî –¥–Β–Μ–Α–Β–Φ –Φ–Α–Κ―¹–Η–Φ―É–Φ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, ―É–Ω–Μ–Ψ―²–Ϋ―è―è –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄–Ι –¥–Β–Ϋ―¨. –£–Ψ–Κ―Ä―É–≥ –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ ―É–Ε–Β –Ϋ–Β–Φ–Α–Μ–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ζ–Α―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Ψ –Ω–Ψ―²–Ψ―Ä–Α–Ω–Μ–Η–≤–Α―²―¨―¹―è. –‰ –≤―¹―ë –Ε–Β, –≤–Η–¥―è –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–≤―à–Η–Β―¹―è –Ϋ–Β–¥–Ψ―΅―ë―²―΄, –Ϋ–Β–¥–Ψ―Ä–Α–±–Ψ―²–Κ–Η, –≤–Β―Ä–Η–Μ–Η, βÄî –Β―â―ë ―É―¹–Ω–Β–Β–Φ ―É―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Η―²―¨ –Η―Ö, –Β―â―ë –±―É–¥―É―² ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄–Β –≤―΄―Ö–Ψ–¥―΄ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ψ―²―à–Μ–Η―³―É–Β―²―¹―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―¹–Κ–Ψ–Β –Η –≤―¹–Β―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Φ–Α―¹―²–Β―Ä―¹―²–≤–Ψ. –½–Ϋ–Α–Ι –Φ―΄ –≤―¹–Β, –Κ–Α–Κ –Φ–Α–Μ–Ψ ―É –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η, –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, ―¹―É–Φ–Β–Μ–Η –±―΄ –Ϋ–Α–Ω―Ä―è―΅―¨ ―¹–Η–Μ―΄ ―²–Α–Κ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –¥–Ψ―¹―²–Η–≥–Ϋ―É―²―¨ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β–≥–Ψ. –û–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Α –Ϋ–Α–Κ–Α–Μ―è–Β―²―¹―è –£ –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η ―è –Ω―Ä–Η–≤―΄–Κ –Κ ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ –ï–≥–Η–Ω–Κ–Ψ ―Ä–Β–¥–Κ–Ψ –Ζ–Α–≥–Ψ–≤–Α―Ä–Η–≤–Α–Β―² –Ψ–± –‰―¹–Ω–Α–Ϋ–Η–Η, –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–≤–Η–¥–Α–Μ –Η –Ω–Β―Ä–Β–Ε–Η–Μ ―²–Α–Φ. –Γ–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Η –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ―è–Μ–Η, –≤–Ω―Ä–Ψ―΅–Β–Φ, –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β ―¹―Ä–Α–Ε–Α–≤―à–Η–Β―¹―è –Ζ–Α –ü–Η―Ä–Β–Ϋ–Β―è–Φ–Η –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―Ü―΄. –Δ–Α–Κ –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Ψ βÄî –Ψ ¬Ϊ―¹–Ω–Β―Ü–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Α―Ö¬Μ –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β ―Ä–Α―¹–Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―è–Μ–Η―¹―¨, ―Ö–Ψ―²―è –≤―¹–Β –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η, –≥–¥–Β ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Ω–Ψ–±―΄–≤–Α–Μ. –≠―¹–Κ–Α–¥―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Φ–Η–Ϋ–Ψ–Ϋ–Ψ―¹–Β―Ü ¬Ϊ–≠–Ϋ–≥–Β–Μ―¨―¹¬Μ ―²–Η–Ω–Α ¬Ϊ–ù–Ψ–≤–Η–Κ¬Μ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ ―Ä–Ψ–Μ―¨ ―Ü–Β–Μ–Η –Ω―Ä–Η –Ψ―²―Ä–Α–±–Ψ―²–Κ–Β ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄―Ö –Α―²–Α–Κ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ–€–Ψ–≥–Μ–Η –Μ–Η –Φ―΄ ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ –Ζ–Α ―ç―²–Η –Ϋ–Β–¥–Β–Μ–Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Β? –Δ–Ψ–≥–¥–Α –Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, βÄî –¥–Β–Μ–Α–Β–Φ –Φ–Α–Κ―¹–Η–Φ―É–Φ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, ―É–Ω–Μ–Ψ―²–Ϋ―è―è –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄–Ι –¥–Β–Ϋ―¨. –£–Ψ–Κ―Ä―É–≥ –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ ―É–Ε–Β –Ϋ–Β–Φ–Α–Μ–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ζ–Α―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Ψ –Ω–Ψ―²–Ψ―Ä–Α–Ω–Μ–Η–≤–Α―²―¨―¹―è. –‰ –≤―¹―ë –Ε–Β, –≤–Η–¥―è –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–≤―à–Η–Β―¹―è –Ϋ–Β–¥–Ψ―΅―ë―²―΄, –Ϋ–Β–¥–Ψ―Ä–Α–±–Ψ―²–Κ–Η, –≤–Β―Ä–Η–Μ–Η, βÄî –Β―â―ë ―É―¹–Ω–Β–Β–Φ ―É―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Η―²―¨ –Η―Ö, –Β―â―ë –±―É–¥―É―² ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄–Β –≤―΄―Ö–Ψ–¥―΄ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ψ―²―à–Μ–Η―³―É–Β―²―¹―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―¹–Κ–Ψ–Β –Η –≤―¹–Β―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Φ–Α―¹―²–Β―Ä―¹―²–≤–Ψ. –½–Ϋ–Α–Ι –Φ―΄ –≤―¹–Β, –Κ–Α–Κ –Φ–Α–Μ–Ψ ―É –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η, –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, ―¹―É–Φ–Β–Μ–Η –±―΄ –Ϋ–Α–Ω―Ä―è―΅―¨ ―¹–Η–Μ―΄ ―²–Α–Κ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –¥–Ψ―¹―²–Η–≥–Ϋ―É―²―¨ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β–≥–Ψ. –û–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Α –Ϋ–Α–Κ–Α–Μ―è–Β―²―¹―è –£ –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η ―è –Ω―Ä–Η–≤―΄–Κ –Κ ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ –ï–≥–Η–Ω–Κ–Ψ ―Ä–Β–¥–Κ–Ψ –Ζ–Α–≥–Ψ–≤–Α―Ä–Η–≤–Α–Β―² –Ψ–± –‰―¹–Ω–Α–Ϋ–Η–Η, –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–≤–Η–¥–Α–Μ –Η –Ω–Β―Ä–Β–Ε–Η–Μ ―²–Α–Φ. –Γ–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Η –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ―è–Μ–Η, –≤–Ω―Ä–Ψ―΅–Β–Φ, –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β ―¹―Ä–Α–Ε–Α–≤―à–Η–Β―¹―è –Ζ–Α –ü–Η―Ä–Β–Ϋ–Β―è–Φ–Η –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―Ü―΄. –Δ–Α–Κ –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Ψ βÄî –Ψ ¬Ϊ―¹–Ω–Β―Ü–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Α―Ö¬Μ –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β ―Ä–Α―¹–Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―è–Μ–Η―¹―¨, ―Ö–Ψ―²―è –≤―¹–Β –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η, –≥–¥–Β ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Ω–Ψ–±―΄–≤–Α–Μ.
–ù–Ψ –≤ –Θ―¹―²―¨-–î–≤–Η–Ϋ―¹–Κ–Β –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤–Η―΅, –Ψ―¹―²–Α–≤–Α―è―¹―¨ ―¹–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ―é –Ϋ–Α–Β–¥–Η–Ϋ–Β, –≤―¹―ë ―΅–Α―â–Β ―¹―²–Α–Μ –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―²―¨ –Ξ–Η―Ö–Ψ–Ϋ, –ö–Α―Ä―²–Α―Ö–Β–Ϋ―É –Η ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ ―²–Α–Φ ―²―Ä–Η-―΅–Β―²―΄―Ä–Β –≥–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥. –‰ –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ –≤―¹–Μ―É―Ö ―Ä–Α–Ζ–Φ―΄―à–Μ―è―²―¨ –Ψ –Ω–Ψ–≤–Α–¥–Κ–Α―Ö ―³–Α―à–Η―¹―²–Ψ–≤, –Η―Ö ―²–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ω―Ä–Η―ë–Φ–Α―Ö, –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅–Β–≥–Ψ –Ψ―² –Ϋ–Η―Ö –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ψ–Ε–Η–¥–Α―²―¨. –≠―²–Η –Β–≥–Ψ –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è –Η ―Ä–Α–Ζ–¥―É–Φ―¨―è ―è–≤–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Α–≤–Β―è–Ϋ―΄ –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥―è―â–Η–Φ –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹. –ù–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Β ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Β―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ.
–®―²–Α–± ―³–Μ–Ψ―²–Α –Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –≤–Η–¥―è―² –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –¥–Ψ–Ζ–Ψ―Ä―΄ –Η –Μ―ë―²―΅–Η–Κ–Η. –ù–Α–±–Μ―é–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Η–Ϋ―²–Β–Ϋ―¹–Η–≤–Ϋ–Ψ–Β –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η―Ö ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–≤ –≤ –Ω–Ψ―Ä―²―΄ –Λ–Η–Ϋ–Μ―è–Ϋ–¥–Η–Η, –Ω―Ä–Η―΅―ë–Φ –Ϋ–Β―Ä–Β–¥–Κ–Ψ –Ψ–Ϋ–Η ―à–Μ–Η ―¹ –≥―Ä―É–Ζ–Ψ–Φ –≤ –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η –Μ―ë–≥–Κ–Η―Ö –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι. –ê –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ψ―²―²―É–¥–Α –≤ –±–Α–Μ–Μ–Α―¹―²–Β. –½–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Α–Μ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹: ―΅―²–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–Ζ―è―² –Ϋ–Β–Φ―Ü―΄ –≤ –Λ–Η–Ϋ–Μ―è–Ϋ–¥–Η―é? –ù–Β –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α –Μ–Η? –Δ–Α–Κ –Ψ–Ϋ–Ψ –Η –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨.
–ö–Α–Κ–Η–Β-―²–Ψ, –Ϋ–Β–Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ ―΅–Β–Φ –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α―é―â–Η–Β―¹―è ―¹―É–¥–Α, –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ ―É―¹―²―¨–Β –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α, –Ϋ–Α –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Η―Ö, –Α ―²–Ψ –Η –Ϋ–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Η―Ö –Ω–Ψ–¥―¹―²―É–Ω–Α―Ö –Κ –Ϋ–Α―à–Η–Φ –±–Α–Ζ–Α–Φ. –Θ―΅–Α―â–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α–¥ ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–Ι ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Β–Ι –Η–Μ–Η –Ϋ–Α―à–Η–Φ–Η ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η –≤–Ψ–¥–Α–Φ–Η, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –≤–±–Μ–Η–Ζ–Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –±–Α–Ζ, –Ϋ–Β–Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄―Ö, –Α –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α, –±–Β–Ζ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η―Ö ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―²–Ψ–≤. –£ ―Ä―è–¥–Β ―¹–Μ―É―΅–Α–Β–≤ –±―΄–Μ–Η –≤―¹–Β –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥―è―² ―³–Ψ―²–Ψ―¹―ä―ë–Φ–Κ―É. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Ψ―²–Κ―Ä―΄–≤–Α―²―¨ –Ω–Ψ –Ϋ–Η–Φ –Ψ–≥–Ψ–Ϋ―¨, ―Ö–Ψ―²―è –±―΄ –¥–Μ―è –Ψ―²–Ω―É–≥–Η–≤–Α–Ϋ–Η―è, –Ζ–Α–Ω―Ä–Β―â–Α–Μ–Ψ―¹―¨. –Δ―É―² –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Α ―³–Ψ―Ä–Φ―É–Μ–Α: ¬Ϊ–Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–¥–Α–≤–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Κ–Α―Ü–Η–Η¬Μ.
–ü–Ψ–Φ–Ϋ―é, –Κ–Α–Κ –ï–≥–Η–Ω–Κ–Ψ –≤ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι ―Ä–Α–Ζ –Ω―Ä―è–Φ–Ψ, ―¹–Ψ ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ–Ι ―É–±–Β–Ε–¥―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –≤―΄―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ ―²–Α–Κ ―É–Ω–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ –Μ–Β–Ζ–Μ–Ψ –≤ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―É, –Ϋ–Ψ –Ψ―² ―΅–Β–≥–Ψ –≤―¹―ë –Β―â―ë ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ―²–Φ–Α―Ö–Ϋ―É―²―¨―¹―è:
βÄî –Γ–Μ―É―Ö–Η ―¹–Μ―É―Ö–Α–Φ–Η, –Ω–Α–Κ―² –Ω–Α–Κ―²–Ψ–Φ, –Ϋ–Ψ, –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è, –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Α –≤ ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –¥–Β–Μ–Β –Ϋ–Β –Ζ–Α –≥–Ψ―Ä–Α–Φ–Η. –ü–Ψ–Ε–Α–Μ―É–Ι, –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ϋ–Α―΅–Α―²―¨―¹―è –≤–Ψ―²-–≤–Ψ―²... –‰, –Ψ―΅–Β–≤–Η–¥–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Α–¥–Ψ –Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –Η–Ζ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ –≤―¹―ë–Φ.
–û–Ϋ ―¹―²–Α–Μ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ –≤―¹―é ―¹―²―Ä–Α―²–Β–≥–Η―é –Η ―²–Α–Κ―²–Η–Κ―É –≥–Η―²–Μ–Β―Ä–Ψ–≤―Ü–Β–≤ –Ω―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Ζ―΄–≤–Α–Β―² –Η–¥–Β―è –≤–Ϋ–Β–Ζ–Α–Ω–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É–¥–Α―Ä–Α. –Θ–¥–Α―Ä―΄ ―¹ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Α, ―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Η –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –Ϋ–Α –Ζ–Β–Φ–Μ–Β, –Ϋ–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≤–Ψ–Ζ–¥―É―à–Ϋ―΄–Β –¥–Β―¹–Α–Ϋ―²―΄, βÄî ―²–Α–Κ –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ–Η –≤―²–Ψ―Ä–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –≤ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄ –ï–≤―Ä–Ψ–Ω―΄. –£–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ―΄, ―¹―΅–Η―²–Α–Μ –Ψ–Ϋ, –Η –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Β –¥–Β―¹–Α–Ϋ―²―΄. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä 1-–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –ö–ë–Λ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤–Η―΅ –ï–≥–Η–Ω–Κ–ΨβÄî –û–Ϋ–Η –Ϋ–Β –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤―è―²―¹―è –Ϋ–Η –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Κ–Α–Κ–Η–Φ –≤–Β―Ä–Ψ–Μ–Ψ–Φ―¹―²–≤–Ψ–Φ, βÄî –≤―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Ε–Β –≤ –Ϋ–Ψ―Ä–≤–Β–Ε―¹–Κ–Η–Β –Ω–Ψ―Ä―²―΄ –Ω–Ψ–¥ –±―Ä–Η―²–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ ―³–Μ–Α–≥–Ψ–Φ! βÄî –Δ –Α–Κ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ ―¹–≤–Ψ–Η ―²―Ä–Β–≤–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α–Ζ–¥―É–Φ―¨―è –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤–Η―΅. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä 1-–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –ö–ë–Λ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤–Η―΅ –ï–≥–Η–Ω–Κ–ΨβÄî –û–Ϋ–Η –Ϋ–Β –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤―è―²―¹―è –Ϋ–Η –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Κ–Α–Κ–Η–Φ –≤–Β―Ä–Ψ–Μ–Ψ–Φ―¹―²–≤–Ψ–Φ, βÄî –≤―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Ε–Β –≤ –Ϋ–Ψ―Ä–≤–Β–Ε―¹–Κ–Η–Β –Ω–Ψ―Ä―²―΄ –Ω–Ψ–¥ –±―Ä–Η―²–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ ―³–Μ–Α–≥–Ψ–Φ! βÄî –Δ –Α–Κ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ ―¹–≤–Ψ–Η ―²―Ä–Β–≤–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α–Ζ–¥―É–Φ―¨―è –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤–Η―΅.
–£―¹―ë ―ç―²–Ψ –Μ–Β–≥–Κ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Β–±–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ –Ζ–Α ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è–Φ–Η –Ϋ–Α –½–Α–Ω–Α–¥–Β –Φ―΄ ―¹–Μ–Β–¥–Η–Μ–Η –≤–Ϋ–Η–Φ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ. –ü―Ä–Α–≤–¥–Α, –≥–Α–Ζ–Β―²―΄ –Ψ―¹–≤–Β―â–Α–Μ–Η –Η―Ö –Κ–Α–Κ-―²–Ψ ―¹–Μ–Η―à–Κ–Ψ–Φ –Ϋ–Β–Ι―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ, ―¹–Μ–Η―à–Κ–Ψ–Φ –¥–Η–Ω–Μ–Ψ–Φ–Α―²–Η―΅–Ϋ–Ψ, –Η–Ζ–±–Β–≥–Α―è –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α―²―¨ –Α–≥―Ä–Β―¹―¹–Η―é –Α–≥―Ä–Β―¹―¹–Η–Β–Ι.
¬Ϊ–ê –≤ –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η, βÄî –¥―É–Φ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Φ–Ϋ–Β, βÄî –Ϋ–Α–Φ –Ω–Ψ―΅―²–Η –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η –Ψ ―²–Α–Κ―²–Η–Κ–Β ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α, –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―¹ ―΅–Β–≥–Ψ –Ψ–Ϋ –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ϋ–Α―΅–Α―²―¨, –Κ ―΅–Β–Φ―É –Ϋ–Α–¥–Ψ –±―΄―²―¨ –≥–Ψ―²–Ψ–≤―΄–Φ–Η. –ß―²–Ψ-―²–Ψ –Ψ―²―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Α ―²―É―² –Ψ―² –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Ϋ–Α―à–Α –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ϋ–Α―É–Κ–Α. –‰–Μ–Η –Ϋ–Β ―Ä–Β―à–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨?¬Μ
–‰―¹―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –Η–Ζ ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Α –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Α, –Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ –¥–Μ―è –Ϋ–Α―¹ –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ ―É―¹–Κ–Ψ―Ä―è―²―¨ –±–Ψ–Β–≤―É―é –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ―É, –Ψ―²―Ä–Α–±–Ψ―²–Κ―É –Ψ–≥–Ϋ–Β–≤―΄―Ö –Ζ–Α–¥–Α―΅, ―΅―²–Ψ –Φ―΄ –Η ―¹―²–Α―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –¥–Β–Μ–Α―²―¨. –î―É–Φ–Α–Μ–Η –Η –Ψ ―²–Ψ–Φ, –Κ–Α–Κ ―É―¹–Κ–Ψ―Ä–Η―²―¨ ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ –Ω―Ä–Η―΅–Α–Μ–Ψ–≤ –Η –Ω―Ä–Ψ―΅–Η―Ö ―¹–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Ι –≤ –Ϋ–Α―à–Β–Ι –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι –±–Α–Ζ–Β, ―΅―²–Ψ–±―΄ –±―΄–Μ–Ψ ―É–¥–Ψ–±–Ϋ–Β–Β –Β―é –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è –≤ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è.
–½–Α ―¹–Α–Φ―É ―ç―²―É –±–Α–Ζ―É –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –±–Β―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Η–Μ–Η―¹―¨. –‰ ―΅―²–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―É–¥–Β―² –Ψ―²―¹―é–¥–Α –Ω–Ψ―¹―΄–Μ–Α―²―¨ –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –≤ –±–Ψ–Β–≤―΄–Β –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥―΄, ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–≤–Α–Μ–Η―¹―¨. –£ –†–Η–Ε―¹–Κ–Η–Ι –Ζ–Α–Μ–Η–≤ –Ϋ–Β–Φ―Ü―΄ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―Ä–≤―É―²―¹―è. –‰―Ä–±–Β–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤ –Ω–Β―Ä–Β–Κ―Ä―΄―² –Φ–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ζ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η... –û ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –≤―Ä–Α–≥ ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ –¥–Ψ–Ι―²–Η –¥–Ψ –†–Η–≥–Η –Ω–Ψ ―¹―É―à–Β, –Β―â―ë –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Η –Φ―΄―¹–Μ–Η. –ê –Κ―²–Ψ –Ω–Ψ–≤–Β―Ä–Η–Μ –±―΄ –≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –¥–Ψ–Ι–¥–Β―² –¥–Ψ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Α? –€―΄ –Ω―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ ―É―¹–≤–Ψ–Η–Μ–Η: –±–Η―²―¨ –≤―Ä–Α–≥–Α –Ϋ–Α–¥–Ψ –Ϋ–Α –Β–≥–Ψ ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Η, ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ζ–Β–Φ–Μ–Η –Ϋ–Β –Ψ―²–¥–Α–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Η –Ω―è–¥–Η!.. –‰ ―Ö–Ψ―²―è ―è –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥ –Ζ–Ϋ–Α―²―¨, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –Ψ ―²–Ψ–Φ, –Ϋ–Α―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ―²―¹―²–Α―ë―² –Ω–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –±–Ψ–Β–≤―΄–Φ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―è–Φ –Ϋ–Α―à–Α –Α–≤–Η–Α―Ü–Η―è (–Ϋ–Ψ–≤―΄–Β, –±–Ψ–Μ–Β–Β ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―²―΄ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Α―²―¨), –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É-―²–Ψ –≤–Β―Ä–Η–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ –Ψ―²–±–Η―²―¨ –Ϋ–Α–Ω–Α–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Ι –Γ–Ψ―é–Ζ ―É–¥–Α―¹―²―¹―è –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Φ–Α–Μ–Ψ–Ι –Κ―Ä–Ψ–≤―¨―é. –£–Β–¥―¨ ―²–Α–Κ –Ϋ–Α―¹ ―É―΅–Η–Μ–Η. –Δ–Α–Κ–Η–Β –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥―΄ –Ϋ–Α –≤–Ψ–Ι–Ϋ―É ―¹ –Η–Φ–Ω–Β―Ä–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Α–Φ–Η –±―΄–Μ–Η, –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, –Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Ψ―΅–Κ–Ψ–Ι –Ζ―Ä–Β–Ϋ–Η―è, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤―΄―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Φ–Η –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η–Φ–Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η. –î–Α–Ε–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―³–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Α–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η ―É –Ϋ–Α―¹ –Β―â―ë –Ϋ–Β –≤―΄–≤–Β―²―Ä–Η–Μ–Η―¹―¨ ―É–Ω―Ä–Ψ―â―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ψ –±―É–¥―É―â–Β–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Β. –ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ ―à―²–Α–±–Α 1-–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –ö–ë–Λ –¦–Β–≤ –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Β–≤–Η―΅ –ö―É―Ä–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤–ù–Ψ –Ζ–Α –¦–Η–±–Α–≤―É –Φ―΄ ―²―Ä–Β–≤–Ψ–Ε–Η–Μ–Η―¹―¨: –Ψ–Ϋ–Α –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–Φ –Κ―Ä–Α–Β. –‰ –≤ –ü–Β―Ä–≤―É―é –Φ–Η―Ä–Ψ–≤―É―é –≤–Ψ–Ι–Ϋ―É ―³–Μ–Ψ―², –Κ–Α–Κ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β ―¹–Φ–Ψ–≥ –Ω―Ä–Β–¥–Ψ―²–≤―Ä–Α―²–Η―²―¨ –Ζ–Α―Ö–≤–Α―²–Α –Β―ë –Κ–Α–Ι–Ζ–Β―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Ι –™–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ–Η–Β–Ι. –¦–Η–±–Α–≤–Α –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Ψ –Ψ―² –≥–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Η, –Ψ―² –Ζ–Α―Ö–≤–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≥–Η―²–Μ–Β―Ä–Ψ–≤―Ü–Α–Φ–Η –¥–≤–Α –≥–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥ –€–Β–Φ–Β–Μ―è (–Ϋ―΄–Ϋ–Β –ö–Μ–Α–Ι–Ω–Β–¥–Α). –ù–Ψ –Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ ―É―è–Ζ–≤–Η–Φ–Β–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ψ–Ϋ–Α ―¹ –Φ–Ψ―Ä―è. –Ξ–≤–Α―²–Η―² –Μ–Η ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―²–Α–Φ –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤―΄―Ö –±–Α―²–Α―Ä–Β–Ι, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ψ―²―Ä–Α–Ζ–Η―²―¨ –≤―΄―¹–Α–¥–Κ―É –¥–Β―¹–Α–Ϋ―²–Α? –ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ ―à―²–Α–±–Α 1-–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –ö–ë–Λ –¦–Β–≤ –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Β–≤–Η―΅ –ö―É―Ä–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤–ù–Ψ –Ζ–Α –¦–Η–±–Α–≤―É –Φ―΄ ―²―Ä–Β–≤–Ψ–Ε–Η–Μ–Η―¹―¨: –Ψ–Ϋ–Α –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–Φ –Κ―Ä–Α–Β. –‰ –≤ –ü–Β―Ä–≤―É―é –Φ–Η―Ä–Ψ–≤―É―é –≤–Ψ–Ι–Ϋ―É ―³–Μ–Ψ―², –Κ–Α–Κ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β ―¹–Φ–Ψ–≥ –Ω―Ä–Β–¥–Ψ―²–≤―Ä–Α―²–Η―²―¨ –Ζ–Α―Ö–≤–Α―²–Α –Β―ë –Κ–Α–Ι–Ζ–Β―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Ι –™–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ–Η–Β–Ι. –¦–Η–±–Α–≤–Α –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Ψ –Ψ―² –≥–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Η, –Ψ―² –Ζ–Α―Ö–≤–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≥–Η―²–Μ–Β―Ä–Ψ–≤―Ü–Α–Φ–Η –¥–≤–Α –≥–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥ –€–Β–Φ–Β–Μ―è (–Ϋ―΄–Ϋ–Β –ö–Μ–Α–Ι–Ω–Β–¥–Α). –ù–Ψ –Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ ―É―è–Ζ–≤–Η–Φ–Β–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ψ–Ϋ–Α ―¹ –Φ–Ψ―Ä―è. –Ξ–≤–Α―²–Η―² –Μ–Η ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―²–Α–Φ –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤―΄―Ö –±–Α―²–Α―Ä–Β–Ι, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ψ―²―Ä–Α–Ζ–Η―²―¨ –≤―΄―¹–Α–¥–Κ―É –¥–Β―¹–Α–Ϋ―²–Α?
–ö–Ψ–Φ–±―Ä–Η–≥ ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ –Ψ―² ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ–Α ―¹–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Ι –Ω–Ψ –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Ι ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–≤―à–Β–Ι―¹―è –≤ –¦–Η–±–Α–≤–Β –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Β: ―΅―²–Ψ –Β―â―ë –Ψ―¹―²–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ –Η ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―ç―²–Ψ –Ζ–Α–Ι–Φ―ë―² –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η? –Θ―¹–Κ–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Η–Β ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Α –Ζ–Α–≤–Η―¹–Β–Μ–Ψ –Ϋ–Β –Ψ―² –Ϋ–Α―¹, –Ϋ–Ψ –Φ–Β―Ä―΄ –Κ ―ç―²–Ψ–Φ―É, –Κ–Α–Κ –Φ―΄ –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η, –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η―¹―¨. –ü–Ψ–Κ–Α –Φ―΄ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η –≤ –†–Η–Ε―¹–Κ–Ψ–Φ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Β ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄–Β ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–±―΄, –≤ –¦–Η–±–Α–≤–Β –Ω–Ψ–±―΄–≤–Α–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ. –ï –≥–Ψ, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ζ–Α–±–Ψ―²–Η–Μ–Α –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ω–Β―Ä–Β–¥–Ψ–≤–Ψ–Ι –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –±–Α–Ζ―΄ –Κ–Ψ –≤―¹―è–Κ–Η–Φ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Φ –Ϋ–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―è–Φ.
–£ –Θ―¹―²―¨-–î–≤–Η–Ϋ―¹–Κ–Β, ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Β–¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –Ψ―² ¬Ϊ–‰―Ä―²―΄―à–Α¬Μ, ―¹―²–Ψ―è–Μ–Α ―É –Ω―Ä–Η―΅–Α–Μ–Α –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Ω–Α–Μ―É–±–Ϋ–Α―è ¬Ϊ–£–Η―Ä–Ψ–Ϋ–Η―è¬Μ βÄî –Φ–Ψ–±–Η–Μ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Α―¹―¹–Α–Ε–Η―Ä―¹–Κ–Ψ–Β ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―¹―²–Η–Μ―¹―è ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ ―à―²–Α–±–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –ü.–ê.–Δ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Η–Ϋ, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±―ä–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è βÄî –ü―Ä–Η–±–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –±–Α–Ζ―΄. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ü―Ä–Η–±–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –±–Α–Ζ―΄ –ü–Α–≤–Β–Μ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅ –Δ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Η–Ϋ–ù–Α―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―è –Ζ–Ϋ–Α–Μ, –Ψ–Ϋ–Α ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –¥–Μ―è ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Β―ë –≤―¹–Β–Φ–Η –±–Α–Ζ–Α–Φ–Η, ―Ä–Α–Ζ–≤―ë―Ä–Ϋ―É―²―΄–Φ–Η –≤ –Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η―Ö ―Ä–Β―¹–Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Α―Ö, –Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Α ―ç―²–Ψ –Ψ–±―ä–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Ϋ–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―è―¹―¨ –≤ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Α–¥–Η–Η. –ù–Β –±―΄–Μ ―É–Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―²–Ψ–≤–Α–Ϋ –¥–Α–Ε–Β ―à―²–Α―², –Α ¬Ϊ–£–Η―Ä–Ψ–Ϋ–Η―é¬Μ –Β―â―ë –Ϋ–Β ―É―¹–Ω–Β–Μ–Η –Ψ―¹–Ϋ–Α―¹―²–Η―²―¨ ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α–Φ–Η ―¹–≤―è–Ζ–Η, –Η –Δ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Η–Ϋ –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è ―Ä–Α–¥–Η–Ψ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Β–Ι ¬Ϊ–‰―Ä―²―΄―à–Α¬Μ. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ü―Ä–Η–±–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –±–Α–Ζ―΄ –ü–Α–≤–Β–Μ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅ –Δ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Η–Ϋ–ù–Α―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―è –Ζ–Ϋ–Α–Μ, –Ψ–Ϋ–Α ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –¥–Μ―è ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Β―ë –≤―¹–Β–Φ–Η –±–Α–Ζ–Α–Φ–Η, ―Ä–Α–Ζ–≤―ë―Ä–Ϋ―É―²―΄–Φ–Η –≤ –Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η―Ö ―Ä–Β―¹–Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Α―Ö, –Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Α ―ç―²–Ψ –Ψ–±―ä–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Ϋ–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―è―¹―¨ –≤ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Α–¥–Η–Η. –ù–Β –±―΄–Μ ―É–Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―²–Ψ–≤–Α–Ϋ –¥–Α–Ε–Β ―à―²–Α―², –Α ¬Ϊ–£–Η―Ä–Ψ–Ϋ–Η―é¬Μ –Β―â―ë –Ϋ–Β ―É―¹–Ω–Β–Μ–Η –Ψ―¹–Ϋ–Α―¹―²–Η―²―¨ ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α–Φ–Η ―¹–≤―è–Ζ–Η, –Η –Δ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Η–Ϋ –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è ―Ä–Α–¥–Η–Ψ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Β–Ι ¬Ϊ–‰―Ä―²―΄―à–Α¬Μ.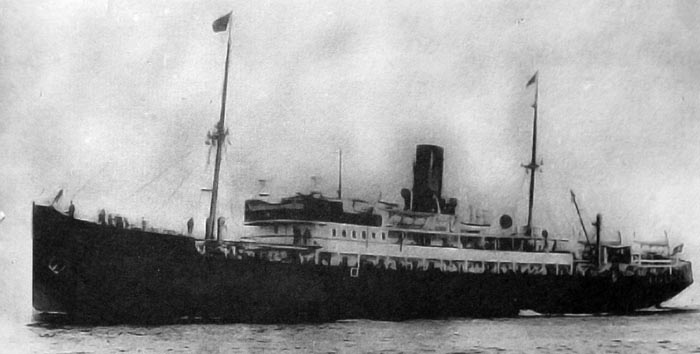 –ü–Α―¹―¹–Α–Ε–Η―Ä―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Α―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥ ¬Ϊ–£–Η―Ä–Ψ–Ϋ–Η―è¬Μ. –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä–Β, 1941 –≥–Ψ–¥–•–Η–≤–Ψ–Ι, –Ψ–±―â–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –ü–Α–≤–Β–Μ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅ –±―΄–≤–Α–Μ ―΅–Α―¹―²―΄–Φ –≥–Ψ―¹―²–Β–Φ –Ϋ–Α ¬Ϊ–‰―Ä―²―΄―à–Β¬Μ. –û–Ϋ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ –≤ ―²–Β―¹–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Ϋ―²–Α–Κ―²–Β ―¹ ―¹―É―Ö–Ψ–Ω―É―²–Ϋ―΄–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ, –Ω–Ψ―΅―²–Η –Β–Ε–Β–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―¹–Β―â–Α–Μ ―à―²–Α–± –ü―Ä–Η–±–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Κ―Ä―É–≥–Α –Η –Ϋ–Β―Ä–Β–¥–Κ–Ψ, –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―²―è―¹―¨ –Η–Ζ –†–Η–≥–Η, –Ω–Ψ–¥―ä–Β–Ζ–Ε–Α–Μ –Ϋ–Α –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Β ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Κ –Ϋ–Α―à–Β–Φ―É ―²―Ä–Α–Ω―É, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Ψ–¥–Β–Μ–Η―²―¨―¹―è –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Η―è–Φ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Μ –Ψ―² –Α―Ä–Φ–Β–Ι―¹–Κ–Η―Ö ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Ψ―²–¥–Β–Μ―¨―Ü–Β–≤. –ü–Α―¹―¹–Α–Ε–Η―Ä―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Α―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥ ¬Ϊ–£–Η―Ä–Ψ–Ϋ–Η―è¬Μ. –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä–Β, 1941 –≥–Ψ–¥–•–Η–≤–Ψ–Ι, –Ψ–±―â–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –ü–Α–≤–Β–Μ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅ –±―΄–≤–Α–Μ ―΅–Α―¹―²―΄–Φ –≥–Ψ―¹―²–Β–Φ –Ϋ–Α ¬Ϊ–‰―Ä―²―΄―à–Β¬Μ. –û–Ϋ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ –≤ ―²–Β―¹–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Ϋ―²–Α–Κ―²–Β ―¹ ―¹―É―Ö–Ψ–Ω―É―²–Ϋ―΄–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ, –Ω–Ψ―΅―²–Η –Β–Ε–Β–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―¹–Β―â–Α–Μ ―à―²–Α–± –ü―Ä–Η–±–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Κ―Ä―É–≥–Α –Η –Ϋ–Β―Ä–Β–¥–Κ–Ψ, –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―²―è―¹―¨ –Η–Ζ –†–Η–≥–Η, –Ω–Ψ–¥―ä–Β–Ζ–Ε–Α–Μ –Ϋ–Α –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Β ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Κ –Ϋ–Α―à–Β–Φ―É ―²―Ä–Α–Ω―É, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Ψ–¥–Β–Μ–Η―²―¨―¹―è –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Η―è–Φ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Μ –Ψ―² –Α―Ä–Φ–Β–Ι―¹–Κ–Η―Ö ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Ψ―²–¥–Β–Μ―¨―Ü–Β–≤.
–ö ―¹–Β―Ä–Β–¥–Η–Ϋ–Β –Η―é–Ϋ―è ―ç―²–Η –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Η―è ―¹―²–Α–Μ–Η –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―Ä–Α–Ε–Η–≤–Α―é―â–Η–Φ–Η. –ß–Β―Ä–Β–Ζ –Δ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Η–Ϋ–Α –Φ―΄ ―É–Ζ–Ϋ–Α–≤–Α–Μ–Η ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β, ―΅–Β–Φ –Ω–Ψ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ –Κ–Α–Ϋ–Α–Μ–Α–Φ, –Ψ –Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö ―¹–Μ―É―΅–Α―è―Ö –≤―²–Ψ―Ä–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η―Ö ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥―΅–Η–Κ–Ψ–≤ –≤ ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–Β –≤–Ψ–Ζ–¥―É―à–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―¹―²–≤–Ψ, –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Β―²―¹―è ―¹–Ψ―¹―Ä–Β–¥–Ψ―²–Ψ―΅–Β–Ϋ–Η–Β –≥–Η―²–Μ–Β―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö –≤–Ψ–Ι―¹–Κ ―É –Ϋ–Α―à–Η―Ö –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Ω–Ψ–¥ –¦–Η–±–Α–≤–Ψ–Ι.
–‰–Ζ ―à―²–Α–±–Α ―³–Μ–Ψ―²–Α –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Α–Μ–Η –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–≤―΄―¹–Η―²―¨ –±–¥–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤―¹–Β―Ö –≤–Α―Ö―² –Η –¥–Β–Ε―É―Ä–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄, ―É―¹–Η–Μ–Η―²―¨ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Ζ–Α –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Ψ–Φ –Η –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι. –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―Ä–Α―¹―¹―Ä–Β–¥–Ψ―²–Ψ―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι ―³–Μ–Ψ―²–Α. –£ –Θ―¹―²―¨-–î–≤–Η–Ϋ―¹–Κ ―É–Ε–Β –Ω–Β―Ä–Β―à―ë–Μ –û―²―Ä―è–¥ –Μ―ë–≥–Κ–Η―Ö ―¹–Η–Μ (–û–¦–Γ) –≤–Ψ –≥–Μ–Α–≤–Β ―¹ –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Ψ–Φ ¬Ϊ–ö–Η―Ä–Ψ–≤¬Μ.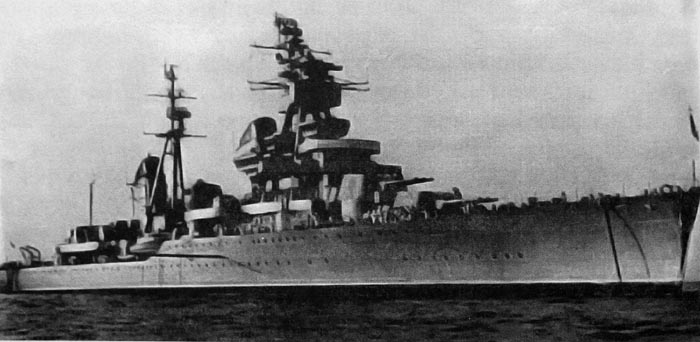 –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Φ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä ¬Ϊ–ö–Η―Ä–Ψ–≤¬Μ–£ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Β 19 –Η―é–Ϋ―è –±―΄–Μ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ: –Ω–Β―Ä–Β–Ι―²–Η –Ϋ–Α –Ω–Ψ–≤―΄―à–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ―É―é –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä –¥–≤–Α. –ü―Ä–Η ―¹–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α―Ö –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ –Ϋ–Β ―è–≤–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ. –ü―Ä–Ψ―¹―²–Ψ ―¹―²–Α–Μ–Ψ –Β―â―ë ―è―¹–Ϋ–Β–Β, –Ϋ–Α―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Β―Ä―¨―ë–Ζ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β. –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Φ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä ¬Ϊ–ö–Η―Ä–Ψ–≤¬Μ–£ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Β 19 –Η―é–Ϋ―è –±―΄–Μ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ: –Ω–Β―Ä–Β–Ι―²–Η –Ϋ–Α –Ω–Ψ–≤―΄―à–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ―É―é –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä –¥–≤–Α. –ü―Ä–Η ―¹–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α―Ö –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ –Ϋ–Β ―è–≤–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ. –ü―Ä–Ψ―¹―²–Ψ ―¹―²–Α–Μ–Ψ –Β―â―ë ―è―¹–Ϋ–Β–Β, –Ϋ–Α―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Β―Ä―¨―ë–Ζ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β.
–ü―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²―¨ –±–Ψ–Β–≤―É―é –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ―É ―²–Α–Κ, –Κ–Α–Κ –≤–Β–Μ–Α―¹―¨ –Ψ–Ϋ–Α –≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Β–¥–Β–Μ–Η, ―¹―²–Α–Μ–Ψ ―É–Ε–Β –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è. –ß―²–Ψ ―É―¹–Ω–Β–Μ–Η ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨, ―²–Ψ ―É―¹–Ω–Β–Μ–Η, –Α ―É―΅–Η―²―¨―¹―è –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Φ―É –Φ–Α―¹―²–Β―Ä―¹―²–≤―É –Ϋ–Β –Ω–Β―Ä–Β―¹―²–Α―é―² –≤–Β–¥―¨ –Η –Ϋ–Α –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Β. –ü–Ψ–Κ–Α –Ε–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Α–Φ –Ϋ–Α–¥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨ –±–Ψ–Β–Ζ–Α–Ω–Α―¹, ―²–Ψ–Ω–Μ–Η–≤–Ψ, –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η–Β –Η –≤―¹―ë –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β, ―΅―²–Ψ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄―²―¨ –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―²―É –≤ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Φ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Β. –Θ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ―³–Μ–Ψ―²―Ü–Β–≤ –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Ψ, ―¹–≤―è–Ζ―¨ ―¹ –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–Φ –Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Β–Ϋ–Α.
–‰–Ζ –¦–Η–±–Α–≤―΄ –ê–≤–Β―Ä–Ψ―΅–Κ–Η–Ϋ –¥–Ψ–Ϋ―ë―¹, ―΅―²–Ψ –Η ―²–Α–Φ ―ç―²–Ψ –¥–Β–Μ–Α–Β―²―¹―è, –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ ―²―Ä–Η ¬Ϊ–€–Α–Μ―é―²–Κ–Η¬Μ –Η–Ζ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α –€–Α―²–≤–Β–Β–≤–Α, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –¦-3 –≥–Ψ―²–Ψ–≤―è―²―¹―è –Κ –≤―΄―Ö–Ψ–¥―É –≤ –¥–Ψ–Ζ–Ψ―Ä. –≠―²–Η–Φ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―è–Ε–Α–Μ―¹―è –ö–Μ–Β–≤–Β–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–≤―à–Η–Ι –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―è –Ψ―² –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è ―³–Μ–Ψ―²–Α. –ê –ê–≤–Β―Ä–Ψ―΅–Κ–Η–Ϋ ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –≥―Ä―É–Ω–Ω–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ―è–Μ―¹―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É –¦–Η–Β–Ω–Α–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –±–Α–Ζ―΄ –≤ –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Η.
–î–Μ―è ―É―¹–Η–Μ–Β–Ϋ–Η―è –¥–Ψ–Ζ–Ψ―Ä–Ψ–≤ –Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ϋ–Β―¹–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Α–Φ –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Η―²―¨ –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ –Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Β–Β –‰―Ä–±–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤–Α –Ψ–¥–Ϋ―É –Η–Ζ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Η―Ö―¹―è –≤ –Θ―¹―²―¨-–î–≤–Η–Ϋ―¹–Κ–Β ¬Ϊ―ç―¹–Ψ–Κ¬Μ. –†–Β―à–Η–Μ–Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Α―²―¨ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―É―é –Μ–Ψ–¥–Κ―É –Γ-7 –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α –¦–Η―¹–Η–Ϋ–Α.
–Γ–Ϋ–Α―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Α –Ψ–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Α –Κ–Α–Κ –¥–Μ―è –±–Ψ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α. –¦―é–¥–Η ―É―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η, –Ζ–Ϋ–Α―è, ―΅―²–Ψ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Ϋ–Α–¥–Ψ –±―΄―²―¨ –≥–Ψ―²–Ψ–≤―΄–Φ–Η –Κ–Ψ –≤―¹–Β–Φ―É. –‰ –≤―¹―ë –Ε–Β –Κ–Α–Κ-―²–Ψ –Ϋ–Β –≤–Β―Ä–Η–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Α –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ζ–Α―¹―²–Α―²―¨ –Μ–Ψ–¥–Κ―É –≤–Ψ―² –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –¥–Ψ–Ζ–Ψ―Ä–Β. –ê –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η–Β –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Η ―É–Ε–Β –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ–Η ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –Φ–Η–Ϋ―΄ –≤ ―É―¹―²―¨–Β –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α, –Ϋ–Ψ –Φ―΄ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η.
–ï―â―ë –Ψ–¥–Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Α βÄî –Γ-4 –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α –ê–±―Ä–Ψ―¹–Η–Φ–Ψ–≤–Α, ―²―â–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ–Η ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Α–Φ–Η ―à―²–Α–±–Α, –Ζ–Α―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Α –Ϋ–Α –¥–Β–Ε―É―Ä―¹―²–≤–Ψ –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ―΅–Α―¹–Ψ–≤–Ψ–Ι –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Κ –≤―΄―Ö–Ψ–¥―É –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Ι ―¹―Ä–Ψ–Κ –Α–≤―²–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η.
–ù–Α―¹―²–Α–Μ –≤–Β―΅–Β―Ä 20 –Η―é–Ϋ―è. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –Φ–Ψ–Β–≥–Ψ –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Α –Κ–Ψ–Φ–±―Ä–Η–≥―É –Ψ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ϋ–Α –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Β –Ζ–Α –¥–Β–Ϋ―¨, –Φ―΄ ―É―²–Ψ―΅–Ϋ―è–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α–¥–Μ–Β–Ε–Η―² –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²―¨ –Ζ–Α–≤―²―Ä–Α. –ö ―²―Ä–Α–Ω―É –Ω–Μ–Α–≤–±–Α–Ζ―΄ –Ω–Ψ–¥―ä–Β―Ö–Α–Μ–Α –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Α, –Η –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―² ¬Ϊ–‰―Ä―²―΄―à–Α¬Μ –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ―¹―è –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –Δ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Η–Ϋ. –û–Ϋ –±―΄–Μ –Φ―Ä–Α―΅–Β–Ϋ –Η –Ζ–Α–Φ–Β―²–Ϋ–Ψ –≤–Ζ–≤–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ. –Δ–Ψ―Ä–Ψ–Ω–Μ–Η–≤–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α–≤―à–Η―¹―¨, –ü–Α–≤–Β–Μ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅ ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Ω―Ä―è–Φ–Ψ –Η–Ζ ―à―²–Α–±–Α –Ψ–Κ―Ä―É–≥–Α, –≥–¥–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ ―²–Α–Κ―É―é –Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η―é: –Ω–Β―Ä–Β–±–Β–Ε―΅–Η–Κ ―¹ –≥–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄, –Ω–Β―Ä–Β―à–Β–¥―à–Η–Ι –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü―É ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è, ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η–Β –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α –≥–Ψ―²–Ψ–≤―è―²―¹―è –Ϋ–Α–Ω–Α―¹―²―¨ –Ϋ–Α –Ϋ–Α―¹ –≤ –Ϋ–Ψ―΅―¨ –Ϋ–Α 22 –Η―é–Ϋ―è.
–£–Β―Ä–Η―²―¨ –Η–Μ–Η –Ϋ–Β –≤–Β―Ä–Η―²―¨? –£ ―¹–Μ―É―Ö–Α―Ö –Ψ –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Β, ―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Η―Ö –≤ –ü―Ä–Η–±–Α–Μ―²–Η–Κ–Β, ―É–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Μ–Η―¹―¨ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Β ―¹―Ä–Ψ–Κ–Η –Β―ë –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α, –Η –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Η–Ζ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è ―¹―Ä–Ψ–Κ–Ψ–≤ ―É–Ε–Β –Ψ―¹―²–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ–Ζ–Α–¥–Η. –ù–Ψ –Η –Ψ―²–Φ–Α―Ö–Ϋ―É―²―¨―¹―è –Ψ―² ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Η―è –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ. –ù–Β―¹–Ω―Ä–Ψ―¹―²–Α –Ε–Β ―³–Μ–Ψ―² –Ω–Β―Ä–Β―à―ë–Μ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–≤―΄―à–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ―É―é –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –·―¹–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ: –Ϋ–Α–¥–Ψ –Β―â―ë ―ç–Ϋ–Β―Ä–≥–Η―΅–Ϋ–Β–Β, –Ϋ–Β ―²–Β―Ä―è―è –Ϋ–Η ―΅–Α―¹–Α, –¥–Β–Μ–Α―²―¨ ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Φ―΄ ―É–Ε–Β –¥–Β–Μ–Α–Μ–Η, βÄî –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²―¨ –±―Ä–Η–≥–Α–¥―É –Κ –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Β. –‰–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η–Β–Ι –Δ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Η–Ϋ–Α –Φ―΄ –Ω–Ψ–¥–Β–Μ–Η–Μ–Η―¹―¨ ―¹ –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Ϋ―΄–Φ –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Α―Ä–Ψ–Φ –û–±―É―à–Β–Ϋ–Κ–Ψ–≤―΄–Φ, ―¹ –Κ–Ψ–Φ–¥–Η–≤–Α–Φ–Η –Η –¥–≤―É–Φ―è-―²―Ä–Β–Φ―è ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η ―à―²–Α–±–Α ―¹ ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Η–Κ―É–¥–Α –¥–Α–Μ―¨―à–Β –Ψ–Ϋ–Α –Ϋ–Β –Ω–Ψ―à–Μ–Α. –ù–Α –±–Ψ–Μ―¨―à–Β–Β –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Μ–Η –Ω―Ä–Α–≤–Α.
–Γ–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―è –Ω–Β―Ä–Β–±–Β–Ε―΅–Η–Κ–Α ―É–Ε–Β –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄ ―à―²–Α–±―É ―³–Μ–Ψ―²–Α. –€―΄ –Ε–¥–Α–Μ–Η, –Ϋ–Β –¥–Α–¥―É―² –Μ–Η –Ψ―²―²―É–¥–Α ―²–Β–Φ –Η–Μ–Η –Η–Ϋ―΄–Φ ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Ϋ―è―²―¨, –Κ–Α–Κ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η―²―¨―¹―è –Κ ―ç―²–Η–Φ ―¹–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è–Φ. –ù–Ψ –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ, –≤–Ϋ–Ψ―¹―è―â–Β–≥–Ψ ―è―¹–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –Ϋ–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ. –®―²–Α–± ―³–Μ–Ψ―²–Α –Μ–Η―à―¨ ―É–¥–Ψ―¹―²–Ψ–≤–Β―Ä―è–Μ―¹―è –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä –¥–≤–Α –¥–Β–Ι―¹―²–≤―É–Β―². –ü–Ψ―¹―²―É–Ω–Α–Μ–Η –Ω―Ä–Η–≤―΄―΅–Ϋ―΄–Β ―É–Ε–Β ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ψ–± –Η–Ϋ―²–Β–Ϋ―¹–Η–≤–Ϋ–Ψ–Φ –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Η ―¹―É–¥–Ψ–≤ –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η–Κ–Α―Ü–Η―è―Ö, –≤–Β–¥―É―â–Η―Ö –Κ ―³–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ –Ω–Ψ―Ä―²–Α–Φ. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²―΄ –Ω–Ψ–¥ ―³–Μ–Α–≥–Ψ–Φ ―¹–Ψ ―¹–≤–Α―¹―²–Η–Κ–Ψ–Ι ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Ω―Ä–Β–Η–Φ―É―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹ –≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Α –Ϋ–Α –Ζ–Α–Ω–Α–¥ –Η ―à–Μ–Η –Ϋ–Β–Ζ–Α–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η.
–ù–Β ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ψ–±―΄―΅–Ϋ―΄–Φ–Η –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η―è, –Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι –Φ–Η―Ä–Ϋ―΄–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –¥–Ψ–Ϋ―ë―¹ –≤ ―à―²–Α–± ―³–Μ–Ψ―²–Α (–¥–Ψ –Ϋ–Α―¹ ―ç―²–Ψ –¥–Ψ―à–Μ–Ψ, –Ω–Ψ–Ζ–Ε–Β) –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –¥–Ψ–Ζ–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Ι ¬Ϊ–€–Α–Μ―é―²–Κ–Η¬Μ –Η–Ζ 2-–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –ê.–‰.–€–Α―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ, –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄–Ι –≤–Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Η –±–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ. –£ –Ϋ–Ψ―΅―¨ –Ϋ–Α 21 –Η―é–Ϋ―è –Φ–Η–Φ–Ψ –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Η –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ –±–Ψ–Μ–Β–Β ―²―Ä―ë―Ö –¥–Β―¹―è―²–Κ–Ψ–≤ ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–≤, –≤ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η―Ö. –ö–Ψ–≥–¥–Α ―¹―²–Α–Μ–Ψ ―Ä–Α―¹―¹–≤–Β―²–Α―²―¨, –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―¹―É–¥–Α―Ö –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η–Μ–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―É―é –Μ–Ψ–¥–Κ―É, –Η –Ϋ–Α –Ω–Α–Μ―É–±–Α―Ö –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ–Α―¹―¨ ―¹―É–Φ–Α―²–Ψ―Ö–Α, –Κ―²–Ψ-―²–Ψ –¥–Α–Ε–Β –±―Ä–Ψ―¹–Α–Μ―¹―è –Κ ―¹–Ω–Α―¹–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ ―à–Μ―é–Ω–Κ–Α–Φ, –Η―Ö –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Η –Κ ―¹–Ω―É―¹–Κ―É –Ϋ–Α –≤–Ψ–¥―É... –Δ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –Β―â―ë –Ϋ–Β –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Α –Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Β!
21 –Η―é–Ϋ―è –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ –≤ ―²–Ψ–Φ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ-–Ϋ–Α–Ω―Ä―è–Ε―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Η–Η –Κ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ-―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ―è―¹–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Η. –ê –≤–Ϋ–Β―à–Ϋ–Β –≤―¹―ë –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ. –Γ―²–Ψ―è–Μ–Α ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Α―è –Ω–Ψ–≥–Ψ–¥–Α, –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β –Ζ–Α–Κ–Α–Ϋ―΅–Η–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ ―²―Ä―É–¥–Ψ–≤–Α―è –Ϋ–Β–¥–Β–Μ―è, –Η –Μ―é–¥–Η, –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, –Ζ–Α―Ä–Α–Ϋ–Β–Β ―Ä–Α–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ―²―ë–Ω–Μ–Ψ–Φ―É –Μ–Β―²–Ϋ–Β–Φ―É –≤–Ψ―¹–Κ―Ä–Β―¹–Β–Ϋ―¨―é.
–Γ ¬Ϊ–‰―Ä―²―΄―à–Α¬Μ –±―΄–Μ–Ψ –≤–Η–¥–Ϋ–Ψ, –Κ–Α–Κ ―¹–Ω–Β―à–Α―² –Ω–Ψ –¥–Ψ–Φ–Α–Φ ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η–Β –Ω–Ψ―Ä―²–Α –Η ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ–Η, –Ζ–Α–Ϋ―è―²―΄–Β –Ψ–±–Ψ―Ä―É–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –±–Α–Ζ―΄. –ü–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Φ, ―΅―²–Ψ –≤―¹―è ―ç―²–Α –Φ–Η―Ä–Ϋ–Α―è –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –≤–Ψ―²-–≤–Ψ―² –Ψ–±–Ψ―Ä–≤―ë―²―¹―è. –‰ –≤–Ψ–Ω―Ä–Β–Κ–Η –≤―¹–Β–Φ―É, ―΅―²–Ψ ―É–Ε–Β –Ζ–Ϋ–Α–Μ –Η –Κ–Α–Κ –±―É–¥―²–Ψ ―É―¹–Ω–Β–Μ –Ψ―¹–Φ―΄―¹–Μ–Η―²―¨, ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Ψ―¹―¨ –¥―É–Φ–Α―²―¨: –Φ–Ψ–Ε–Β―², –Β―â―ë –Ψ–±–Ψ–Ι–¥―ë―²―¹―è? –€–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, ―ç―²–Ψ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Κ–Α–Κ–Η–Β-―²–Ψ –Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Κ–Α―Ü–Η–Η, –Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ϋ–Α―¹ –Ω―Ä–Β–¥―É–Ω―Ä–Β–Ε–¥–Α–Μ–Η? –£–Β–¥―¨ –Η –Ϋ–Α –î–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Φ –£–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Β ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ä–Α–Ζ –Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ ―¹―²–Ψ–Η–Φ –Ϋ–Α–Κ–Α–Ϋ―É–Ϋ–Β –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄. –ö–Α–Κ-―²–Ψ ―É―¹–Ω–Ψ–Κ–Α–Η–≤–Α–Μ–Η –Φ–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Β ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–Ω–Β―Ä–Β–¥–Α―΅–Η: ―à–Μ–Α –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Α―è –Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η―è –Ψ ―²―Ä―É–¥–Ψ–≤―΄―Ö –±―É–¥–Ϋ―è―Ö ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄, –Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Α―è –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α...
–£–Β―¹―¨ –¥–Β–Ϋ―¨ –≤―¹–Β –±―΄–Μ–Η –Ζ–Α–Ϋ―è―²―΄ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –¥–Β–Μ–Ψ–Φ. –™–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä –¥–≤–Α –Ϋ–Β –Ψ―²–Φ–Β–Ϋ―è–Μ–Α –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é ―¹―É–±–±–Ψ―²–Ϋ–Β–≥–Ψ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Α, –Η –≤–Β―΅–Β―Ä–Ψ–Φ –Ϋ–Α –Ω–Μ–Α–≤–±–Α–Ζ–Α―Ö –¥–Β–Φ–Ψ–Ϋ―¹―²―Ä–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Κ–Η–Ϋ–Ψ―³–Η–Μ―¨–Φ―΄. –ß–Α―¹―²―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Α ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―¹―²–Η –≤–Β―΅–Β―Ä ―¹ ―¹–Β–Φ―¨―è–Φ–Η, –Ζ–Α–Ϋ–Ψ―΅–Β–≤–Α―²―¨ –¥–Ψ–Φ–Α. –Γ–Η―¹―²–Β–Φ–Α –Ψ–Ω–Ψ–≤–Β―â–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α –Κ–≤–Α―Ä―²–Η―Ä–Α―Ö –±―΄–Μ–Α ―É–Ε–Β –Ψ―²―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Ϋ–Α –Η –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–Μ–Α –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –≤―¹–Β―Ö ―¹–Ψ–±―Ä–Α―²―¨, –Β―¹–Μ–Η –Ω–Ψ–Ϋ–Α–¥–Ψ–±–Η―²―¹―è. –Δ–Β–Φ –±–Ψ–Μ–Β–Β ―΅―²–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―¹–Κ–Η–Β ―¹–Β–Φ―¨–Η –Ω–Ψ―¹–Β–Μ–Η–Μ–Η―¹―¨ –Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Κ―²–Ϋ–Ψ, –≤ –Ω―Ä–Η–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ―¹―ë–Μ–Κ–Β, –Κ―É–¥–Α ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Β–Ι–¥–Ψ–≤―΄–Ι –Κ–Α―²–Β―Ä.
–ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤–Η―΅ –ï–≥–Η–Ω–Κ–Ψ –¥–Α–Μ –Ω–Ψ–Ϋ―è―²―¨, ―΅―²–Ψ –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι –Ϋ–Β ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–Β―²―¹―è. –û―¹―²–Α–≤–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Ω–Μ–Α–≤–±–Α–Ζ–Β –Η ―è. –ù–Β –Ψ―²–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥, –Κ ―¹–Β–Φ―¨–Β, –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Η–Ζ –Φ–Ψ–Η―Ö –±–Μ–Η–Ε–Α–Ι―à–Η―Ö –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ω–Ψ ―à―²–Α–±―É. –ü–Ψ―²–Ψ–Φ ―è ―É–Ζ–Ϋ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ ―²–Α–Κ –±―΄–Μ–Ψ –≤ ―²–Ψ―² –≤–Β―΅–Β―Ä –Η –≤ –¥―Ä―É–≥–Η―Ö ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è―Ö.
–î–Μ―è –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –≤–Α–Ε–Ϋ―΄–Φ, –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ –Ω―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –Η ―à―²–Α–±–Η―¹―²–Ψ–≤ –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Ω–Ψ―¹―²–Α―Ö, ―É ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤ ―¹–≤―è–Ζ–Η. –Γ―΄–≥―Ä–Α–Μ–Ψ ―¹–≤–Ψ―é ―Ä–Ψ–Μ―¨, –¥―É–Φ–Α–Β―²―¹―è, ―²–Α–Κ–Ε–Β –Η ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Φ―΄, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―è―¹―¨ –Β―â―ë –≤ –Ϋ–Β–Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, ―É–Ε–Β –±―΄–Μ–Η –≤–Ϋ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Β –≥–Ψ―²–Ψ–≤―΄ –Κ ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ―É –≥―Ä–Ψ–Ζ–Ϋ–Ψ–Φ―É.
–Δ–Β–Μ–Β–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ, –Ω–Ψ–Φ–Β―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è ―¹–Β―Ä–Η–Β–Ι –£–£–û βÄî ¬Ϊ–≤–Ϋ–Β –≤―¹―è–Κ–Ψ–Ι –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Η¬Μ, –Ω―Ä–Ψ–¥―É–±–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ω–Ψ –≤―¹–Β–Φ –Κ–Α–Ϋ–Α–Μ–Α–Φ ―¹–≤―è–Ζ–Η, –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Α –Ϋ–Β–Ζ–Α–¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –¥–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É–Ϋ–Ψ―΅–Η. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ –Ϋ–Β–Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Ι―²–Η –Ϋ–Α –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ―É―é –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä –Ψ–¥–Η–Ϋ βÄî –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―É―é –±–Ψ–Β–≤―É―é. –‰ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ –Φ―΄ ―¹–Φ–Ψ–≥–Μ–Η –¥–Ψ–Ϋ–Β―¹―²–Η –Ψ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –¥–Μ―è ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ ―É–Ε–Β –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ.
–ü–Ψ ―¹–Η–≥–Ϋ–Α–Μ―É –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―²―Ä–Β–≤–Ψ–≥–Η –≤–Β―¹―¨ –Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Ω–Β―Ä–Β―à―ë–Μ –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η, –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Ψ―΅–Β–≤–Α–≤―à–Η–Β –¥–Ψ–Φ–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ –Η ―¹–≤–Β―Ä―Ö―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ–Η. –¦–Ψ–¥–Κ–Η, –Η–Φ–Β―è –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―²―É –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄–Β –Ζ–Α–Ω–Α―¹―΄, ―Ä–Α―¹―¹―Ä–Β–¥–Ψ―²–Ψ―΅–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ –≥–Α–≤–Α–Ϋ–Η –Η –Ω–Ψ –Ω―Ä–Η―΅–Α–Μ–Α–Φ –Ϋ–Α –î–Α―É–≥–Α–≤–Β. –ö―É–¥–Α –Κ–Ψ–Φ―É –≤―¹―²–Α―²―¨, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ ―É–Ε–Β –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η. –½–Α–Ϋ―è–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Η –±–Ψ–Β–≤―΄–Β –Ω–Ψ―¹―²―΄ ―Ä–Α―¹―΅―ë―²―΄ –Ζ–Β–Ϋ–Η―²–Ϋ―΄―Ö –Ψ―Ä―É–¥–Η–Ι –Η –Ω―É–Μ–Β–Φ―ë―²–Ψ–≤.
–£―¹―ë –¥–Β–Μ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ, ―¹–Μ–Α–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ. –ß―ë―²–Κ–Ψ –Ζ–≤―É―΅–Α–Μ–Η –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΄. –ù–Α ¬Ϊ–‰―Ä―²―΄―à–Β¬Μ –Η―Ö –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ ―É–Ε–Β –Ϋ–Β –¥–Β–Ε―É―Ä–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ ―à―²–Α–±―É, –Α –Ζ–Α―¹―²―É–Ω–Η–≤―à–Η–Ι –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–≤―É―é ―΅–Β―²―΄―Ä―ë―Ö―΅–Α―¹–Ψ–≤―É―é –≤–Α―Ö―²―É –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ―΄–Ι –¥–Β–Ε―É―Ä–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω―É–Ϋ–Κ―²―É (–Λ–ö–ü) –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄. –ï―¹–Μ–Η –±―΄ –Ϋ–Α―à–Β ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹ –±–Β―Ä–Β–≥–Α, –Λ–ö–ü –Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –±―΄ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β―Ä–Ϋ―É―²―¨ –≤ –Κ–Α–Κ–Ψ–Φ-―²–Ψ ―É–Κ―Ä―΄―²–Η–Η, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –≤ –Ψ–±–Ψ―Ä―É–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –¥–Μ―è ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Α–Μ–Β. –ù–Α –Ω–Μ–Α–≤–±–Α–Ζ–Β –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –Ϋ–Α–Φ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β–Κ―É–¥–Α, –Η –≤―¹–Β –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Φ–Β―¹―²–Α―Ö. –Λ–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ϋ―΄–Φ –Ω―É–Ϋ–Κ―²–Ψ–Φ –Α–≤―²–Ψ–Φ–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ ―¹–Ψ–≤–Ψ–Κ―É–Ω–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η–Ι, ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Α–¥―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ–Β: ―Ä―É–±–Κ–Α –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Β–Ε―É―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Α―é―²―΄ –Κ–Ψ–Φ–±―Ä–Η–≥–Α –Η –Φ–Ψ―è, ―Ä–Α–¥–Η–Ψ―Ä―É–±–Κ–Α, –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Ψ―²―¹–Β–Κ–Η –Η –Κ–Α―é―²―΄.
–û―΅–Β–Ϋ―¨ ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ –¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ―¹―è –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤–Η―΅ –ï–≥–Η–Ω–Κ–Ψ, –Η ―ç―²–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Α―é―â–Η–Φ. –û ―²–Ψ–Φ, –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Α ―ç―²–Ψ –Η–Μ–Η –Ϋ–Β –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Α, –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Ϋ–Α –Λ–ö–ü –Ϋ–Β ―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α–Μ. –Γ―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ―΅–Β–≤–Η–¥–Ϋ―΄–Φ, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ βÄî –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Α. –ù–Ψ –≤ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Ψ, –Β―â―ë –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨ –≤―¹―ë –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥―è―â–Β–Β –Ζ–Α ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β, –Α ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –≤―¹–Β–Φ, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β ―²–Α–Κ, ―É –Ϋ–Α―¹ –Ω–Ψ–Κ–Α –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Ι.
–ß―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –Κ–Α–Κ –Ε–¥―É―² –≤―¹–Β –Ϋ–Α –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Β –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ –Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η–Η, ―Ä–Α–Ζ―ä―è―¹–Ϋ―è―é―â–Β–Ι –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β. –ù–Ψ ―²–Α–Κ –Ε–Β –Ϋ–Α–Ω―Ä―è–Ε―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ε–¥–Α–Μ–Η –Β―ë –Η –Φ―΄ ―¹ –Κ–Ψ–Φ–±―Ä–Η–≥–Ψ–Φ. –½–Α–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α―²―¨ –Ψ ―΅―ë–Φ-―²–Ψ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ ―¹―΅–Η―²–Α–Μ–Η –Ϋ–Β―É–Φ–Β―¹―²–Ϋ―΄–Φ. –ù–Β ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–≤–Α–Μ–Η―¹―¨, ―΅―²–Ψ –≤―¹―ë –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ–Β ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Α―² –Η ―²–Α–Κ.
–•–¥–Α―²―¨ –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Β –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ. –ü―Ä–Η―à–Μ–Α –Ϋ–Ψ–≤–Α―è ―²–Β–Μ–Β–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ, –Η–Ζ–Μ–Α–≥–Α–≤―à–Α―è, –Κ–Α–Κ ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Η–Μ –Ϋ–Α ―³–Μ–Ψ―²―΄ –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ –£–€–Λ. –û–Ϋ–Α –Ω―Ä–Β–¥―É–Ω―Ä–Β–Ε–¥–Α–Μ–Α, ―΅―²–Ψ ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Ϋ–Ψ―΅―¨―é –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Ω–Α–¥–Β–Ϋ–Η–Β –™–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ–Η–Η –Η–Μ–Η –Β―ë ―¹–Ψ―é–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Η ―ç―²–Ψ –Ϋ–Α–Ω–Α–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ―²―Ä–Α–Ε–Α―²―¨ –≤―¹–Β–Ι ―¹–Η–Μ–Ψ–Ι –Ψ―Ä―É–Ε–Η―è. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –±―΄–Μ–Α –Η –Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Κ–Α: –Ϋ–Α–Ω–Α–¥–Β–Ϋ–Η―é –Φ–Ψ–≥―É―² –Ω―Ä–Β–¥―à–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Κ–Α―Ü–Η–Η, –Ω–Ψ–¥–¥–Α–≤–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ϋ–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―²...
–ö–Α–Κ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Η―²―¨ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Κ–Α―Ü–Η–Η –Ψ―² ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α–Ω–Α–¥–Β–Ϋ–Η―è?.. –£ –†–Η–Ε―¹–Κ–Ψ–Φ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Β –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Κ–Α―Ü–Η–Η –±―΄–Μ–Η –Φ–Α–Μ–Ψ–≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ―΄: –Ζ–¥–Β―¹―¨ –≤―¹―ë-―²–Α–Κ–Η –Β―â―ë –Ϋ–Β –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü–Α. –ù―É –Α –≤ –¦–Η–±–Α–≤–Β?.. –ö–Α–Κ –±―΄ ―²–Α–Φ –Ϋ–Η –±―΄–Μ–Ψ, ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Φ―΄ ―É–Ε–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η ―¹–Ψ―Ä–Η–Β–Ϋ―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤ –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Β –Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι, ―΅―²–Ψ –Η ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ–Η –±–Β–Ζ –Ω―Ä–Ψ–Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Η―è. –‰ ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ –Μ―É―΅―à–Η–Ι ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–± –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η―²―¨ –Ψ–±―â―É―é –≤―΄―¹–Ψ–Κ―É―é –±–¥–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –Ψ–±―â―É―é –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²―¨ –Μ―é–±–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ.
–ù–Ψ―΅―¨ ―¹―²–Ψ―è–Μ–Α ―²–Η―Ö–Α―è, –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―¹–≤–Β―²–Μ–Α―è, –Κ–Α–Κ –Η –Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Β―²―¹―è –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Β –≤ ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –≥–Ψ–¥–Α. –ë–Μ–Η–Ε–Β –Κ ―É―²―Ä―É –Ϋ–Α–¥ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Ψ–Φ ―¹―²–Α–Μ –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨―¹―è –Μ―ë–≥–Κ–Η–Ι ―²―É–Φ–Α–Ϋ. –€―΄ –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Μ–Η ―¹–≤―è–Ζ―¨ ―¹–Ψ ―à―²–Α–±–Α–Φ–Η –Δ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Η–Ϋ–Α –Η –û―²―Ä―è–¥–Α –Μ―ë–≥–Κ–Η―Ö ―¹–Η–Μ, ―¹ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ–Η ―¹–Ψ―¹–Β–¥―è–Φ–Η –Ω–Ψ –±–Α–Ζ–Β. –ù–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β–Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α–Μ. –î–Ψ–Μ–≥–Ψ –±―΄–Μ–Η ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ―΄–Φ–Η –Η –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΄ ―¹ –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤―΄―Ö –Ω–Ψ―¹―²–Ψ–≤ –≤ ―É―¹―²―¨–Β –†–Η–Ε―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α. –î–Ψ –Ω―è―²–Ψ–≥–Ψ ―΅–Α―¹–Α ―É―²―Ä–Α –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ –Η –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –¦–Η–±–Α–≤―΄. –£–Ψ–Ι–Ϋ–Α –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α―¹―¨ –û –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –Φ―΄ ―É–Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η –≤ ―à–Β―¹―²–Ψ–Φ ―΅–Α―¹―É ―É―²―Ä–Α 22 –Η―é–Ϋ―è, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―² ―³–Μ–Ψ―²–Α –Ψ–Ω–Ψ–≤–Β―¹―²–Η–Μ –±–Α–Μ―²–Η–Ι―Ü–Β–≤: ¬Ϊ–™–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α–Ω–Α–Μ–Α –Ϋ–Α –Ϋ–Α―à–Η –±–Α–Ζ―΄ –Η –Ω–Ψ―Ä―²―΄. –Γ–Η–Μ–Ψ–Ι –Ψ―Ä―É–Ε–Η―è –Ψ―²―Ä–Α–Ε–Α―²―¨ –Ϋ–Α–Ω–Α–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α!¬Μ –‰ ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ε–Β –±―΄–Μ–Α –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Α –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Ω–Ψ–Ζ–¥–Α–≤―à–Α―è ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Α, –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è ―¹ –Ϋ–Α―à–Β–Ι –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ–Ι –±–Α–Ζ―΄ –≤ –¦–Η–±–Α–≤–Β –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β–Φ―Ü―΄ –±–Ψ–Φ–±―è―² –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥, –Α –Ϋ–Α ―¹―É―à–Β –Η–¥―ë―² –±–Ψ–Ι ―É –ü–Α–Μ–Α–Ϋ–≥–Η. –ö–Μ–Β–≤–Β–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι ―É―¹–Ω–Β–Μ –¥–Ψ–Ϋ–Β―¹―²–Η –Ψ ―²–Ψ–Φ –Ε–Β –≤ ―à―²–Α–± ―³–Μ–Ψ―²–Α ―΅―É―²―¨ ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β. –Δ–Α–Κ –≤―¹―ë ―¹―²–Α–Μ–Ψ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―è―¹–Ϋ–Ψ.
–ö–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –ê.–ù.–Δ―é―Ä–Β–Ϋ–Κ–Ψ–≤, –¥–Β–Ε―É―Ä–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Α –Λ–ö–ü, –Ϋ–Α―΅–Α–Μ –≤–Β―¹―²–Η –Ϋ–Ψ–≤―΄–Ι –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ―΄–Ι –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―² βÄî ¬Ϊ–•―É―Ä–Ϋ–Α–Μ –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄¬Μ. –û–¥–Ϋ–Α –Η–Ζ –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö –Ζ–Α–Ω–Η―¹–Β–Ι, ―¹–¥–Β–Μ–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤ –Ϋ―ë–Φ, –Κ–Α―¹–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α –¦–Η―¹–Η–Ϋ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ –≤ –¥–Ψ–Ζ–Ψ―Ä–Β –Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Β–Β –‰―Ä–±–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤–Α, –Η –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Α, –Β―¹–Μ–Η –±―΄ –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Ψ, –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―²–Η―²―¨―¹―è –≤ ―ç―²–Ψ―² –¥–Β–Ϋ―¨ –Ϋ–Α –±–Α–Ζ―É. –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É –Γ-7 –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ: ¬Ϊ–ù–Α―΅–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Α ―¹ –™–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ–Η–Β–Ι. –ü–Β―Ä–Β–Ι―²–Η –Ϋ–Α –¥–Ψ–Ζ–Ψ―Ä –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η¬Μ.
–£―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –ê–≤–Β―Ä–Ψ―΅–Κ–Η–Ϋ ―Ä–Α–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ, ―΅―²–Ψ ―²―Ä–Η ¬Ϊ–€–Α–Μ―é―²–Κ–Η¬Μ: –€-79, M-81 –Η –€-83, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Φ–Ψ―â–Ϋ–Α―è –¦-3, –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β –¥–Μ―è ―É―¹–Η–Μ–Β–Ϋ–Η―è –¥–Ψ–Ζ–Ψ―Ä–Ψ–≤ –Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η, –Ω–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ―É –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –±–Α–Ζ―΄ –ö–Μ–Β–≤–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤―΄―Ö–Ψ–¥―è―² –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Η –Κ –Ζ–Α–Ω–Α–¥―É –Ψ―² –¦–Η–±–Α–≤―΄ ―¹ –Ζ–Α–¥–Α―΅–Β–Ι –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–Ω―É―¹–Κ–Α―²―¨ –Κ –Ϋ–Β–Ι –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―è―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η. –Γ―΅–Η―²–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Φ, ―΅―²–Ψ –≥–Η―²–Μ–Β―Ä–Ψ–≤―Ü―΄ –Ω–Ψ–Ω―΄―²–Α―é―²―¹―è –≤―΄―¹–Α–¥–Η―²―¨ ―²–Α–Φ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –¥–Β―¹–Α–Ϋ―². –£―Ä―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ε–Β –Ψ–Ϋ–Η –≤ –ù–Ψ―Ä–≤–Β–≥–Η–Η –Ω―Ä―è–Φ–Ψ –≤ –Ω–Ψ―Ä―²―΄!..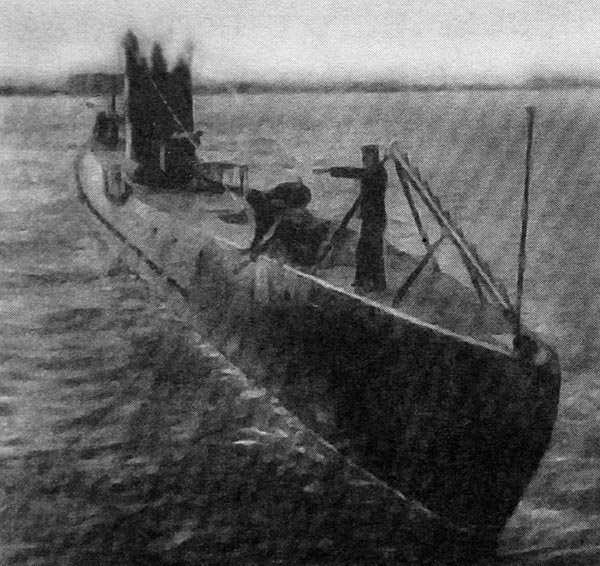 ¬Ϊ–≠―¹–Κ–Α¬Μ –Η–¥―ë―² –≤–Ψ–Β–≤–Α―²―¨–ê –Η–Ζ –Θ―¹―²―¨-–î–≤–Η–Ϋ―¹–Κ–Α –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ι –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α –≤ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Γ-4 –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α –ê–±―Ä–Ψ―¹–Η–Φ–Ψ–≤–Α, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Α―è―¹―è ―É–Ε–Β ―²―Ä–Β―²―¨–Η ―¹―É―²–Κ–Η –≤ ―΅–Α―¹–Ψ–≤–Ψ–Ι –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. ¬Ϊ–≠―¹–Κ–Α¬Μ –Η–¥―ë―² –≤–Ψ–Β–≤–Α―²―¨–ê –Η–Ζ –Θ―¹―²―¨-–î–≤–Η–Ϋ―¹–Κ–Α –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ι –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α –≤ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Γ-4 –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α –ê–±―Ä–Ψ―¹–Η–Φ–Ψ–≤–Α, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Α―è―¹―è ―É–Ε–Β ―²―Ä–Β―²―¨–Η ―¹―É―²–Κ–Η –≤ ―΅–Α―¹–Ψ–≤–Ψ–Ι –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η.
–ü–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Β –Η–Φ–Β–Μ–Ψ―¹―¨ –¥–≤–Β –±–Ψ–Β–≤―΄–Β –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–≤―à–Η―Ö –Ϋ–Β–Ζ–Α–≤–Η―¹–Η–Φ–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Α –Ψ―² –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι, –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―² –≤ –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Η–≤–Β, –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Α ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄, ―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ–Η–Μ –Φ–Β–Ε–¥―É –Ϋ–Η–Φ–Η –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―²–Β–Α―²―Ä –Ω–Ψ –Ω–Α―Ä–Α–Μ–Μ–Β–Μ–Η, –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥―è―â–Β–Ι ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ―é–Ε–Ϋ―É―é –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –™–Ψ―²–Μ–Α–Ϋ–¥. –£ –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―É―é –Ζ–Ψ–Ϋ―É –Ϋ–Α―à–Β–Ι 1-–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –≤―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α –Α–Κ–≤–Α―²–Ψ―Ä–Η―è –Κ ―é–≥―É –Ψ―² ―ç―²–Ψ–Ι –Ω–Α―Ä–Α–Μ–Μ–Β–Μ–Η, –Α 2-–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ βÄî ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Α―è ―΅–Α―¹―²―¨ –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è –Η –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Ζ–Α–Μ–Η–≤.
–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ ―Ä–Β―à–Η–Μ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Η―²―¨ –Ω–Β―Ä–≤―É―é –Μ–Ψ–¥–Κ―É –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ –€–Β–Φ–Β–Μ―è –Η –Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Β–Β, –≥–¥–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ–Μ–Β–≥–Α―²―¨ –Ω―Ä–Η–±―Ä–Β–Ε–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η–Κ–Α―Ü–Η–Η –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α, –Ω–Η―²–Α―é―â–Η–Β ―³―Ä–Ψ–Ϋ―². –®―²–Α–± ―³–Μ–Ψ―²–Α ―¹ ―ç―²–Η–Φ ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η–Μ―¹―è.
–ö ―Ä–Α–Ζ―Ä–Α–±–Ψ―²–Κ–Β –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Α―Ü–Η–Η –±―΄–Μ–Η –Ω―Ä–Η–≤–Μ–Β―΅–Β–Ϋ―΄ ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Β ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²―΄: ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ –ê.–ù.–Δ―é―Ä–Β–Ϋ–Κ–Ψ–≤, –Φ–Η–Ϋ―ë―Ä –Γ. –‰. –‰–Ψ–¥–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι, ―¹–≤―è–Ζ–Η―¹―² –Δ–Α―Ä―É―²–Η–Ϋ –Η –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ –ù–Α―É–Φ–Ψ–≤. –£ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Β, –≤―Ä―É―΅–Α–Β–Φ–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α–Φ, ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Α―è –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Α –Ϋ–Α –Φ–Ψ―Ä–Β –Η –≤ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –¥–Μ―è –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β, –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ–Α –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α–Φ –≤ ―à―²–Α–±–Β, –Η ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ζ–Α–¥–Α―΅–Α: ―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–≤ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α. –£ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Β –±–Ψ–Β–≤―΄–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η ―¹―²–Ψ―è–Μ–Η –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Φ –Φ–Β―¹―²–Β –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ ―¹―΅–Η―²–Α–Μ―¹―è –≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ―΄–Φ –≤―Ä–Α–Ε–Β―¹–Κ–Η–Ι –¥–Β―¹–Α–Ϋ―², –Α –Ψ–Ϋ, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥ –±―΄ –≤―΄―¹–Α–¥–Η―²―¨―¹―è –±–Β–Ζ –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Κ–Η –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Η –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι.
–ö –≤―΄―Ö–Ψ–¥―É –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Η. –ü–Ψ–Κ–Η–¥–Α–Μ–Η ―Ä–Β–Ι–¥ –Θ―¹―²―¨-–î–≤–Η–Ϋ―¹–Κ–Α –Ϋ–Α―à–Η ―¹–Ψ―¹–Β–¥–Η –Ω–Ψ –±–Α–Ζ–Β βÄî –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –û―²―Ä―è–¥–Α –Μ―ë–≥–Κ–Η―Ö ―¹–Η–Μ. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β ―³–Μ–Ψ―²–Α –Ω―Ä–Η–≤–Μ–Β–Κ–Μ–Ψ ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Φ–Η–Ϋ–Ψ–Ϋ–Ψ―¹―Ü―΄ –Κ –Ω–Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Β –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Φ–Η–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Ι, ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω―Ä–Β–≥―Ä–Α–¥–Η―²―¨ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ―É –≤―Ö–Ψ–¥ –≤ –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Η –†–Η–Ε―¹–Κ–Η–Ι –Ζ–Α–Μ–Η–≤―΄, –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²―¨ –Ϋ–Α―à–Η –±–Α–Ζ―΄. –‰–Ζ ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅–Β–Φ―É ―É―΅–Η–Μ–Η –Ϋ–Α―¹ –≤ –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η, ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β –Μ―É―΅―à–Β–Β –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –±―΄―¹―²―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö ―ç―¹–Φ–Η–Ϋ―Ü–Β–≤, ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ―΄―Ö ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –Ϋ–Β –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –≤–±–Μ–Η–Ζ–Η ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤, –Α –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ―΄–Β, βÄî ―É –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α. –ù–Ψ –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Β –Ϋ–Β ―Ö–≤–Α―²–Α–Μ–Ψ –Φ–Η–Ϋ–Ζ–Α–≥–Ψ–≤, –Κ–Α–Κ –Η ―²―Ä–Α–Μ―¨―â–Η–Κ–Ψ–≤, –Η–Φ–Β–Μ–Ψ―¹―¨ –≤―¹–Β–≥–Ψ –¥–≤–Α –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α–≥―Ä–Α–¥–Η―²–Β–Μ―è –Η –Ψ–¥–Η–Ϋ –Ω―Ä–Η―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –¥–Μ―è –Ω–Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Η –Φ–Η–Ϋ ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―². –û–±–Η–¥–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ, ―΅―²–Ψ –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι ―³–Μ–Ψ―², ―²–Α–Κ –≤―΄―Ä–Ψ―¹―à–Η–Ι –Ζ–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Β –≥–Ψ–¥―΄, –Ϋ–Β ―É―¹–Ω–Β–Μ –Κ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―É –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι ―¹–±–Α–Μ–Α–Ϋ―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è –Ω–Ψ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι.
–ù–Β―², –Ω–Ψ–Ε–Α–Μ―É–Ι, –¥―Ä―É–≥–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―²–Β–Α―²―Ä–Α, –≥–¥–Β –Φ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ψ―Ä―É–Ε–Η–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Ψ –±―΄―²―¨ –Ω―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Ψ ―¹―²–Ψ–Μ―¨ ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Ψ, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Β. –‰ –≥–Η―²–Μ–Β―Ä–Ψ–≤―Ü―΄ –¥–Β–Μ–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –±–Ψ–Μ―¨―à―É―é ―¹―²–Α–≤–Κ―É ―¹ ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α. –€–Α―¹―à―²–Α–±―΄ –Η―Ö –Φ–Η–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Κ –Ω―Ä–Ψ―è―¹–Ϋ–Η–Μ–Η―¹―¨ –¥–Μ―è –Ϋ–Α―¹, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β ―¹―Ä–Α–Ζ―É, –Ϋ–Ψ ―É–Ε–Β –≤ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ ―à―²–Α–± ―³–Μ–Ψ―²–Α –Ψ–Ω–Ψ–≤–Β―¹―²–Η–Μ ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Ψ –Φ–Η–Ϋ–Α―Ö, –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤ ―¹–Α–Φ―΄―Ö ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α―Ö: –Η –Ϋ–Α –Κ―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²―¹–Κ–Ψ–Φ ―³–Α―Ä–≤–Α―²–Β―Ä–Β, –≥–¥–Β –Ψ–Ϋ–Η ―¹–±―Ä–Α―¹―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Α, –Η –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Α―Ö –Κ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―É, –Η –≤ –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Φ–Β―¹―²–Α―Ö. –€–Η–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ –≥―Ä–Ψ–Ζ–Ϋ―΄–Φ ―³–Α–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Η –Ϋ–Α –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Φ –≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―¹―²–≤–Β. –‰ –Β―â―ë –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Μ –Ψ –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η―Ö –Φ–Η–Ϋ–Α―Ö, ―É–Ε–Β –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤–±–Μ–Η–Ζ–Η –¦–Η–±–Α–≤―΄ –Η –£–Η–Ϋ–¥–Α–≤―΄ (–£–Β–Ϋ―²―¹–Ω–Η–Μ―¹), –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –≤ ―É―¹―²―¨–Β –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α, ―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η–Μ–Η ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Η–Β –¥–Ψ–Ζ–Ψ―Ä―΄. –ù–Β ―É―¹–Ω–Β–Μ–Η –Φ―΄ –Β―â―ë ―É–Ζ–Ϋ–Α―²―¨ –Η ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ –≤―Ä–Α–≥ –≤–≤–Ψ–¥–Η―² –≤ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Β –Φ–Η–Ϋ―΄ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö ―²–Η–Ω–Ψ–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è –Ψ–±–Β–Ζ–≤―Ä–Β–Ε–Η–≤–Α―²―¨ –Ψ–±―΄―΅–Ϋ―΄–Φ–Η ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α–Φ–Η.
–ï―â―ë –¥–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É–¥–Ϋ―è, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Η–Ζ –≤―΄―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―è –Ω―Ä–Β–¥―¹–Β–¥–Α―²–Β–Μ―è –Γ–Ψ–≤–Ϋ–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ–Α –£.–€.–€–Ψ–Μ–Ψ―²–Ψ–≤–Α –≤―¹―è ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Α ―É–Ζ–Ϋ–Α–Μ–Α –Ψ –Ϋ–Α–Ω–Α–¥–Β–Ϋ–Η–Η ―³–Α―à–Η―¹―²―¹–Κ–Ψ–Ι –™–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ–Η–Η, –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η–Β –±–Ψ–Φ–±–Α―Ä–¥–Η―Ä–Ψ–≤―â–Η–Κ–Η –¥–≤–Α–Ε–¥―΄ –Ϋ–Α–Μ–Β―²–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –†–Η–≥―É, –Ϋ–Α –Β―ë –Α―ç―Ä–Ψ–¥―Ä–Ψ–Φ. –™–Α–≤–Α–Ϋ―¨ –Η ―Ä–Β–Ι–¥ –Θ―¹―²―¨-–î–≤–Η–Ϋ―¹–Κ–Α –Ψ–Ϋ–Η ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –±–Ψ–Φ–±–Η–Μ–Η. –ü―Ä–Η –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Ϋ–Α–Μ―ë―²–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ζ–Β–Ϋ–Η―²―΅–Η–Κ–Η –Ψ―²–Κ―Ä―΄–≤–Α–Μ–Η –Ψ–≥–Ψ–Ϋ―¨, –Ψ–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –±–Β–Ζ –≤–Η–¥–Η–Φ―΄―Ö ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Ψ–≤: –Ω–Ψ―Ä–Α–Ε–Α―²―¨ ―³–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –≤–Ψ–Ζ–¥―É―à–Ϋ―΄–Β ―Ü–Β–Μ–Η ―²–Ψ–Ε–Β –Β―â―ë –Ϋ–Α–¥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―É―΅–Η―²―¨―¹―è.
–ù–Ψ ―¹–Α–Φ―΄–Φ ―²―Ä–Β–≤–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Φ –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –¦–Η–±–Α–≤―΄. –Γ–Ψ–±―΄―²–Η―è ―²–Α–Φ ―Ä–Α–Ζ–≤–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹―²―Ä–Β–Φ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Β–Φ―΄–Β –¥–Ψ–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η―è –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ϋ–Β ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Β ―É–Ε–Β ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ―΅–Α―¹. –·―¹–Ϋ–Ψ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Α–Φ–Β―Ä–Β–Ϋ–Η–Β –≤―Ä–Α–≥–Α –Ψ–≤–Μ–Α–¥–Β―²―¨ –¦–Η–±–Α–≤–Ψ–Ι ―É–¥–Α―Ä–Ψ–Φ ―¹ ―¹―É―à–Η. –½–Α―Ö–≤–Α―²–Η–≤ –ü–Α–Μ–Α–Ϋ–≥―É, –Ϋ–Β–Φ―Ü―΄ –Ω―Ä–Ψ–¥–≤–Η–≥–Α–Μ–Η―¹―¨ –Κ –¦–Η–±–Α–≤–Β –Ω–Ψ –Ω―Ä–Η–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ―É ―à–Ψ―¹―¹–Β. –Λ–Α―à–Η―¹―²―¹–Κ–Α―è –Α–≤–Η–Α―Ü–Η―è –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ–Α –±–Ψ–Φ–±–Η―²―¨ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ―É―é –±–Α–Ζ―É –Η –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥.
–£ ―²–Α–Κ–Η―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Φ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Β–Β –Ϋ–Α―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β –≤ –¦–Η–±–Α–≤–Β –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―²–Α–Φ –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ. –Δ―É–¥–Α –Ω–Ψ―à–Μ–Α ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Α ―¹ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Κ–Ψ–Φ–±―Ä–Η–≥–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ―É 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ê–≤–Β―Ä–Ψ―΅–Κ–Η–Ϋ―É –Ϋ–Β–Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è―²―¨ –≤ –Θ―¹―²―¨-–î–≤–Η–Ϋ―¹–Κ ―¹ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Φ –Ζ–Α―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ –≤ –£–Η–Ϋ–¥–Α–≤―É –≤―¹–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―è―â–Η–Β―¹―è –Ϋ–Α –Ω–Μ–Α–≤―É –Η ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ―΄–Β –¥―Ä–Α―²―¨―¹―è.
–Δ–Α–Κ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α―¹―¨ –¥–Μ―è –Ϋ–Α―¹ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è ―¹―²―Ä–Α–¥–Α. –£ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –Ε–Β –Β―ë ―΅–Α―¹―΄ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Β–¥–≤–Η–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Η –Ϋ–Β –≤―¹―ë –Β―â―ë ―²–Ψ–Μ–Κ–Ψ–Φ ―É–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –≤ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Β, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –±―΄―¹―²―Ä―΄–Ι –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤ –Ϋ–Β–Φ―Ü–Α–Φ–Η –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Ϋ–Α ―¹―É―Ö–Ψ–Ω―É―²–Ϋ–Ψ–Ι –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü–Β –Ω–Ψ–¥ –¦–Η–±–Α–≤–Ψ–Ι. –ù–Ψ ―è –≤–Η–¥–Β–Μ, –≤ –Κ–Α–Κ–Ψ–Φ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Φ –Ϋ–Α―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η–Η ―É―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α –ê–±―Ä–Ψ―¹–Η–Φ–Ψ–≤–Α, –≤–Η–¥–Β–Μ, –Κ–Α–Κ –≥–Ψ―²–Ψ–≤―è―²―¹―è –Κ –≤―΄―Ö–Ψ–¥―É –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Η –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Η –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ. –ù–Α–≤–Α–Μ–Η–≤―à–Η–Β―¹―è ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è –Ϋ–Η ―É –Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β –≤―΄–Ζ–≤–Α–Μ–Η ―Ä–Α―¹―²–Β―Ä―è–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ω–Ψ–¥–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –û―΅–Β–Ϋ―¨ ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ψ–±―â–Α―è ―Ä–Β―à–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨ ―¹–Α–Φ–Ψ–Ψ―²–≤–Β―Ä–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Ι –¥–Ψ–Μ–≥.
–™–Μ―è–¥―è –Ϋ–Α ―²–Ψ―² ―²―è–Ε–Κ–Η–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –Η–Ζ –Ϋ―΄–Ϋ–Β―à–Ϋ–Β–≥–Ψ –¥–Α–Μ–Β–Κ–Α, ―è –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―é –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―ç―²–Ψ. –‰ ―¹ –Β―â―ë –±–Ψ–Μ―¨―à–Β–Ι ―É–±–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―é: –Β―¹–Μ–Η –≤–Ϋ–Β–Ζ–Α–Ω–Ϋ–Ψ–Β –Ϋ–Α–Ω–Α–¥–Β–Ϋ–Η–Β –≤―Ä–Α–≥–Α –Η –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Ψ –Ϋ–Α―¹ ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ω–Β―Ä–Β–¥ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ–Η ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ―¹―²―è–Φ–Η, –Ψ―à–Β–Μ–Ψ–Φ–Η―²―¨ –Ϋ–Α―à–Η―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι –Β–Φ―É –≤―¹―ë ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨. –ê ―ç―²–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–Μ–Ψ –Ϋ–Β–Φ–Α–Μ–Ψ...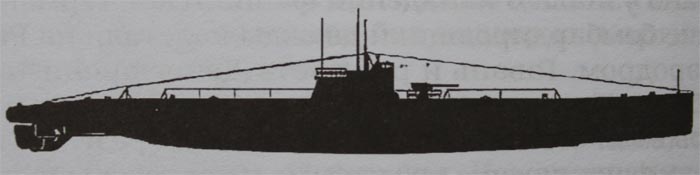 –ë–Ψ–Μ―¨―à–Α―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α βÄî –Φ–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ζ–Α–≥―Ä–Α–¥–Η―²–Β–Μ―¨ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―¹–Β―Ä–Η–Η ―²–Η–Ω–Α ¬Ϊ–¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–Β―Ü¬Μ–ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² –ë–Ψ–Μ―¨―à–Α―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α βÄî –Φ–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ζ–Α–≥―Ä–Α–¥–Η―²–Β–Μ―¨ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―¹–Β―Ä–Η–Η ―²–Η–Ω–Α ¬Ϊ–¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–Β―Ü¬Μ–ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―²
17.03.201401:0117.03.2014 01:01:46
0
17.03.201400:5217.03.2014 00:52:36
 –¦–Α–≤―Ä–Ψ–≤ –£–Α–Μ–Β―Ä–Η–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅ βÄ™ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –≤ –Ψ―²―¹―²–Α–≤–Κ–Β, –Κ–Α–Ϋ–¥–Η–¥–Α―² –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Ϋ–Α―É–Κ, –¥–Ψ―Ü–Β–Ϋ―². –‰–Ζ 38 –Μ–Β―² ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –≤ –£–€–Λ 15 –Μ–Β―² –Ω―Ä–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ –Ϋ–Α –¥–Η–Ζ–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Η –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö (¬Ϊ–Γ-69¬Μ, ¬Ϊ–Γ-28¬Μ, ¬Ϊ–ö-135¬Μ). –ü―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β –≤ 9 –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö ―¹–Μ―É–Ε–±–Α―Ö. –£ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―¹―²–Α―Ä―à–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Α ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ –≤ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Β –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ¬Ϊ–ö-135¬Μ –Ϋ–Α –ö―É–±―É –≤ 1970 –≥. –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä, –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Κ―Ä―΄–Μ–Α―²―΄–Φ–Η ―Ä–Α–Κ–Β―²–Α–Φ–Η, ―¹–Κ―Ä―΄―²–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Β–Ψ–¥–Ψ–Μ–Β–Μ –≤―¹–Β ―Ä―É–±–Β–Ε–Η –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Γ–®–ê, –≤―¹–Ω–Μ―΄–Μ ―É –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü―΄ –Κ―É–±–Η–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –≤–Ψ–¥ –Η, –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Κ―É–±–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ–Η –€–ü–ö, –Ω―Ä–Ψ―à–Β–Μ –≤ –Ω–Ψ―Ä―² –Γ―ä–Β–Ϋ―³―É―ç–≥–Ψ―¹. –¦–Α–≤―Ä–Ψ–≤ –£–Α–Μ–Β―Ä–Η–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅ βÄ™ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –≤ –Ψ―²―¹―²–Α–≤–Κ–Β, –Κ–Α–Ϋ–¥–Η–¥–Α―² –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Ϋ–Α―É–Κ, –¥–Ψ―Ü–Β–Ϋ―². –‰–Ζ 38 –Μ–Β―² ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –≤ –£–€–Λ 15 –Μ–Β―² –Ω―Ä–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ –Ϋ–Α –¥–Η–Ζ–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Η –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö (¬Ϊ–Γ-69¬Μ, ¬Ϊ–Γ-28¬Μ, ¬Ϊ–ö-135¬Μ). –ü―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β –≤ 9 –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö ―¹–Μ―É–Ε–±–Α―Ö. –£ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―¹―²–Α―Ä―à–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Α ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ –≤ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Β –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ¬Ϊ–ö-135¬Μ –Ϋ–Α –ö―É–±―É –≤ 1970 –≥. –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä, –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Κ―Ä―΄–Μ–Α―²―΄–Φ–Η ―Ä–Α–Κ–Β―²–Α–Φ–Η, ―¹–Κ―Ä―΄―²–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Β–Ψ–¥–Ψ–Μ–Β–Μ –≤―¹–Β ―Ä―É–±–Β–Ε–Η –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Γ–®–ê, –≤―¹–Ω–Μ―΄–Μ ―É –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü―΄ –Κ―É–±–Η–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –≤–Ψ–¥ –Η, –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Κ―É–±–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ–Η –€–ü–ö, –Ω―Ä–Ψ―à–Β–Μ –≤ –Ω–Ψ―Ä―² –Γ―ä–Β–Ϋ―³―É―ç–≥–Ψ―¹.
–Θ―΅–Η–Μ―¹―è –≤ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η ―²―΄–Μ–Α –Η ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Α. –½–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ –Β―ë ―¹ –½–Ψ–Μ–Ψ―²–Ψ–Ι –Φ–Β–¥–Α–Μ―¨―é –Η –±―΄–Μ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ–Β–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α 37-–Ι –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –ö–ë–Λ –Ω–Ψ ―²―΄–Μ―É. –½–Α―²–Β–Φ –¥–Μ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α–Μ –≤ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –ê–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η –Η–Φ. –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –Λ–Μ–Ψ―²–Α –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –ù. –™. –ö―É–Ζ–Ϋ–Β―Ü–Ψ–≤–Α –Η –≤–Β–Μ –±–Ψ–Μ―¨―à―É―é –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ-–Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ―É―é ―Ä–Α–±–Ψ―²―É. –‰–Φ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ―΄ –±–Ψ–Μ–Β–Β 40 –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ―΄―Ö ―²―Ä―É–¥–Ψ–≤.
–Γ 1988 –Ω–Ψ 1991 –≥–≥. –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –≤ –¦–Η–≤–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –î–Ε–Α–Φ–Α―Ö–Η―Ä–Η–Η, –≥–¥–Β –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ―¹―è –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –¦–Η–≤–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö –£–€–Γ. –£–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι –Γ–®–ê –≤ –‰―Ä–Α–Κ–Β –≤ ―Ö–Ψ–¥–Β –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η ¬Ϊ–ë―É―Ä―è –≤ –Ω―É―¹―²―΄–Ϋ–Β¬Μ –±―΄–Μ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―¹–Ψ–≤–Β―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Α –≤ –¦–Η–≤–Η―é ―¹―²–Α–Μ–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Φ ―ç–Ω–Η–Ζ–Ψ–¥–Ψ–Φ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –±–Η–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Η –£.–ù. –¦–Α–≤―Ä–Ψ–≤–Α. –£ ―³–Β–≤―Ä–Α–Μ–Β 1992 –≥. –Ψ–Ϋ ―É–≤–Ψ–Μ–Η–Μ―¹―è –Η–Ζ ―Ä―è–¥–Ψ–≤ –£–€–Λ.
–ê–≤―²–Ψ―Ä –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö ―¹―²–Α―²–Β–Ι, –Ψ―΅–Β―Ä–Κ–Ψ–≤, ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Ψ–≤, –Ψ–Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –≤ –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Α―Ö –Η –≥–Α–Ζ–Β―²–Α―Ö. –£ 2006 –≥. –≤ –Η–Ζ–¥–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Β ¬Ϊ–Γ―É–¥–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η–Β¬Μ –≤―΄―à–Μ–Α –Β–≥–Ψ –Κ–Ϋ–Η–≥–Α ¬Ϊ–ü–Β―Ä–≤―΄–Β ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Η–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Ω–Μ–Α–≤–Α―²–Β–Μ–Η¬Μ, –Ω–Ψ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è 100-–Μ–Β―²–Ϋ–Β–Φ―É ―é–±–Η–Μ–Β―é –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α –†–Ψ―¹―¹–Η–Η. –£ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β 2013 –≥. ―²–Ψ –Ε–Β –Η–Ζ–¥–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ –≤―΄–Ω―É―¹―²–Η–Μ–Ψ –≤ ―¹–≤–Β―² –Β–≥–Ψ –≤―²–Ψ―Ä―É―é –Κ–Ϋ–Η–≥―É –Ϋ–Α ―ç―²―É –Ε–Β ―²–Β–Φ―É βÄ™ ¬Ϊ–ü–Β―Ä–≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥―Ü―΄ ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α¬Μ, –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è―é―â―É―é ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –Η–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Β –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ι –Κ–Ϋ–Η–≥–Η, –¥–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –≥–Μ–Α–≤–Ψ–Ι ¬Ϊ–ü–Ψ–Κ–Ψ―Ä–Η―²–Β–Μ–Η ―³–Α–Ϋ―²–Α―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ¬Μ βÄ™ –Ψ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Η –Η ―¹―É–¥―¨–±–Β –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ι –≤ –Φ–Η―Ä–Β –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―É 1000 –Φ.
–£ ―¹–Ψ–Α–≤―²–Ψ―Ä―¹―²–≤–Β ―¹ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄–Φ –Ω–Η―²–Β―Ä―¹–Κ–Η–Φ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Κ–Ψ–Φ-–Κ―Ä–Α–Β–≤–Β–¥–Ψ–Φ –™–Α–Μ–Η–Ϋ–Ψ–Ι –ë―É–Ϋ–Α―²―è–Ϋ –¦–Α–≤―Ä–Ψ–≤―΄–Φ –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ―΄ –¥–≤–Β –Κ–Ϋ–Η–≥–Η: ¬Ϊ–ü―Ä–Η–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―΄ –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Α¬Μ (2003 –≥.) –Η ¬Ϊ–Π–Α―Ä―¹–Κ–Ψ–Β –Γ–Β–Μ–Ψ. –½–¥–Β―¹―¨ –Ε–Η–Μ–Η ―Ü–Α―Ä–Η –Η –Ω–Ψ―ç―²―΄¬Μ (2011 –≥.). –û–±–Β –≤―΄―à–Μ–Η –≤ ―¹–≤–Β―² –≤ –Η–Ζ–¥–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Β ¬Ϊ–ü–Α―Ä–Η―²–Β―²¬Μ.
–£ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –£.–ù.–¦–Α–≤―Ä–Ψ–≤ –Ω–Η―à–Β―² –Κ–Ϋ–Η–≥―É ¬Ϊ–Λ–Α–Φ–Η–Μ–Η―è¬Μ, –Ω―Ä–Β–¥–Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –¥–Μ―è –Β–≥–Ψ –¥–Β―²–Β–Ι –Η –≤–Ϋ―É–Κ–Ψ–≤. –ü―Ä–Β–¥–Μ–Α–≥–Α–Β–Φ―΄–Β –≤―΄–¥–Β―Ä–Ε–Κ–Η –Η–Ζ ―ç―²–Ψ–Ι –Κ–Ϋ–Η–≥–Η –Ω–Ψ–≤–Β―¹―²–≤―É―é―² –Ψ ―²–Ψ–Φ, –Κ–Α–Κ –¥–Μ―è –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²–Ψ–≤ 2-–≥–Ψ –£―΄―¹―à–Β–≥–Ψ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è (–≥. –†–Η–≥–Α) –±―΄–Μ–Ψ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ψ –Β–Ε–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β –Ψ–±―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β (–Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–≥–Ψ –Κ―É―Ä―¹–Α ―²–Β–Ψ―Ä–Β―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±―É―΅–Β–Ϋ–Η―è), –≤–Κ–Μ―é―΅–Α―è –Η―²–Ψ–≥–Ψ–≤―É―é ―¹―²–Α–Ε–Η―Ä–Ψ–≤–Κ―É –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö –≤ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β –¥―É–±–Μ–Β―Ä–Ψ–≤ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –≥―Ä―É–Ω–Ω (1955 βÄ™ 1958 –≥–≥.)–‰―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ―΄ ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Η –Η–Ζ –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Α―Ä―Ö–Η–≤–Α –£.–ù.–¦–Α–≤―Ä–Ψ–≤–Α, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Η–Ζ –Κ–Ϋ–Η–≥–Η –£.–ü.–€–Η―²―Ä–Ψ―³–Α–Ϋ–Ψ–≤–Α ¬Ϊ¬Μ. - –î–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Ι ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥ –Ϋ–Α –Θ–ü–Γ ¬Ϊ–Γ–Β–¥–Ψ–≤¬Μ (02.08. βÄ™ 02.10.1955 –≥.) –†–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Φ ―É―²―Ä–Ψ–Φ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η―Ö –¥–Ϋ–Β–Ι –Η―é–Μ―è 1955 –≥. –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²―΄ 2-–≥–Ψ –£―΄―¹―à–Β–≥–Ψ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è –≤―΄–≥―Ä―É–Ζ–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ –≤–Ψ–Κ–Ζ–Α–Μ–Β –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β –Η –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Κ–Ψ–Μ–Ψ–Ϋ–Ϋ―É –Ω–Ψ ―²―Ä–Η. –ù–Α –Μ–Β–≤–Ψ–Φ ―Ä―É–Κ–Α–≤–Β –±―É―à–Μ–Α―²–Ψ–≤ –≤―¹–Β –Β―â–Β –Κ―Ä–Α―¹–Ψ–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ψ–¥–Ϋ–Α –Κ―É―Ä―¹–Ψ–≤–Κ–Α. –Λ–Ψ―Ä–Φ–Α-3 –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Β –≤–Β―â–Η –±―΄–Μ–Η ―É–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ―΄ –≤ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Β ―΅–Β–Φ–Ψ–¥–Α–Ϋ―΄, –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ―΄–Β –Κ–Η―¹–Ψ–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Κ–Α―Ä―²–Α–Φ–Η, –Ω―Ä–Η–±–Ψ―Ä–Α–Φ–Η –Η ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Η―è–Φ–Η –±―΄–Μ–Η –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ―΄ –Ϋ–Α –¥–≤–Α –≥―Ä―É–Ζ–Ψ–≤–Η–Κ–Α. –ê–≤―²–Ψ–Φ–Α―à–Η–Ϋ―΄ ―¹ ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Α―é―â–Η–Φ–Η –≥―Ä―É–Ζ –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ–Α–Φ–Η –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ –¦–Ψ–Φ–Ψ–Ϋ–Ψ―¹–Ψ–≤, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ψ―²―²―É–¥–Α –Ϋ–Α –Ω–Α―Ä–Ψ–Φ–Β –Ω–Β―Ä–Β–Ω―Ä–Α–≤–Η―²―¨―¹―è –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―². –ö–Ψ–Μ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Α –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²–Ψ–≤ –Ω–Ψ―à–Μ–Α –Ω–Β―à–Κ–Ψ–Φ –Κ –Γ–Β–Ϋ–Α―²―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Η (–Ω–Μ. –î–Β–Κ–Α–±―Ä–Η―¹―²–Ψ–≤), –≥–¥–Β ―É –¥–Β–±–Α―Ä–Κ–Α–¥–Β―Ä–Α –Ϋ–Α―¹ –Ψ–Ε–Η–¥–Α–Μ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –±―É–Κ―¹–Η―Ä. - –î–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Ι ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥ –Ϋ–Α –Θ–ü–Γ ¬Ϊ–Γ–Β–¥–Ψ–≤¬Μ (02.08. βÄ™ 02.10.1955 –≥.) –†–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Φ ―É―²―Ä–Ψ–Φ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η―Ö –¥–Ϋ–Β–Ι –Η―é–Μ―è 1955 –≥. –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²―΄ 2-–≥–Ψ –£―΄―¹―à–Β–≥–Ψ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è –≤―΄–≥―Ä―É–Ζ–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ –≤–Ψ–Κ–Ζ–Α–Μ–Β –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β –Η –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Κ–Ψ–Μ–Ψ–Ϋ–Ϋ―É –Ω–Ψ ―²―Ä–Η. –ù–Α –Μ–Β–≤–Ψ–Φ ―Ä―É–Κ–Α–≤–Β –±―É―à–Μ–Α―²–Ψ–≤ –≤―¹–Β –Β―â–Β –Κ―Ä–Α―¹–Ψ–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ψ–¥–Ϋ–Α –Κ―É―Ä―¹–Ψ–≤–Κ–Α. –Λ–Ψ―Ä–Φ–Α-3 –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Β –≤–Β―â–Η –±―΄–Μ–Η ―É–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ―΄ –≤ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Β ―΅–Β–Φ–Ψ–¥–Α–Ϋ―΄, –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ―΄–Β –Κ–Η―¹–Ψ–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Κ–Α―Ä―²–Α–Φ–Η, –Ω―Ä–Η–±–Ψ―Ä–Α–Φ–Η –Η ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Η―è–Φ–Η –±―΄–Μ–Η –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ―΄ –Ϋ–Α –¥–≤–Α –≥―Ä―É–Ζ–Ψ–≤–Η–Κ–Α. –ê–≤―²–Ψ–Φ–Α―à–Η–Ϋ―΄ ―¹ ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Α―é―â–Η–Φ–Η –≥―Ä―É–Ζ –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ–Α–Φ–Η –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ –¦–Ψ–Φ–Ψ–Ϋ–Ψ―¹–Ψ–≤, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ψ―²―²―É–¥–Α –Ϋ–Α –Ω–Α―Ä–Ψ–Φ–Β –Ω–Β―Ä–Β–Ω―Ä–Α–≤–Η―²―¨―¹―è –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―². –ö–Ψ–Μ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Α –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²–Ψ–≤ –Ω–Ψ―à–Μ–Α –Ω–Β―à–Κ–Ψ–Φ –Κ –Γ–Β–Ϋ–Α―²―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Η (–Ω–Μ. –î–Β–Κ–Α–±―Ä–Η―¹―²–Ψ–≤), –≥–¥–Β ―É –¥–Β–±–Α―Ä–Κ–Α–¥–Β―Ä–Α –Ϋ–Α―¹ –Ψ–Ε–Η–¥–Α–Μ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –±―É–Κ―¹–Η―Ä.
–€–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ–Η –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥ –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β, –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É ―²–Ψ –Η –¥–Β–Μ–Ψ ―Ä–Α–Ζ–¥–Α–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤–Ψ–Ζ–≥–Μ–Α―¹―΄ –≤–Ψ―¹―Ö–Η―â–Β–Ϋ–Η―è, –Ζ–Α–¥–Α–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹―΄ –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²–Α–Φ-–Μ–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―Ü–Α–Φ. –û―³–Η―Ü–Β―Ä―΄ –Ϋ–Β –Ψ–±―Ä–Α―â–Α–Μ–Η –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α ―ç―²–Η –≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≤ ―¹―²―Ä–Ψ―é, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ –≤ ―ç―²–Ψ―² ―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Ι ―΅–Α―¹ ―É–Μ–Η―Ü―΄ –±―΄–Μ–Η ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―É―¹―²―΄–Ϋ–Ϋ―΄. –ù–Β –Ψ–±–Ψ―à–Μ–Ψ―¹―¨ –Η –±–Β–Ζ ―¹–Φ–Β―Ö–Α. –ù–Α –ù–Β–≤―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ―¹–Ω–Β–Κ―²–Β ―Ä―è–¥–Ψ–Φ ―¹ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄–Φ –Κ–Α―³–Β ¬Ϊ–Γ–Β–≤–Β―Ä¬Μ –±―΄–Μ –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Β―¹―²–Ψ―Ä–Α–Ϋ ¬Ϊ–ù–Β–≤–Α¬Μ (―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ ―²–Α–Φ –Κ–Ϋ–Η–Ε–Ϋ―΄–Ι –Φ–Α–≥–Α–Ζ–Η–Ϋ ¬Ϊ–ë―É–Κ–≤–Ψ–Β–¥¬Μ). –≠―²―É –≤―΄–≤–Β―¹–Κ―É –Ω―Ä–Ψ―΅–Β–Μ –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―² –ê―Ä–Ϋ–Ψ –ü–Α―Ä–Κ–Β–Μ―¨. –ü–Ψ―΅–Β–Φ―É-―²–Ψ –Ω–Ψ―¹―΅–Η―²–Α–≤, ―΅―²–Ψ –≤―΄–≤–Β―¹–Κ–Α –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Α –Μ–Α―²–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ–Η –±―É–Κ–≤–Α–Φ–Η, –Ψ–Ϋ –≥―Ä–Ψ–Φ–Κ–Ψ –Η–Ζ―Ä–Β–Κ: ¬Ϊ–Γ–Φ–Ψ―²―Ä–Η―²–Β, ―Ä–Β–±―è―²–Α, –Η–Ϋ–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Κ–Α–±–Α–Κ βÄ€–Ξ–ï–ë–êβÄù (–ù–ï–£–ê)¬Μ.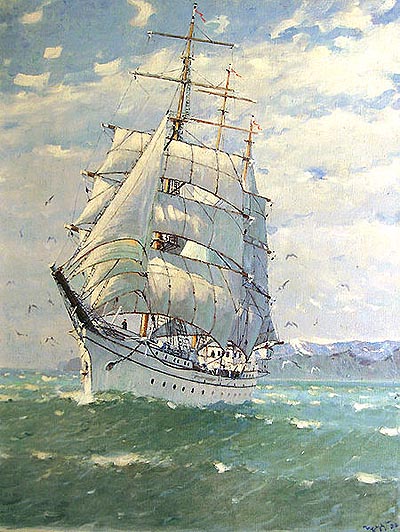 –ü–Ψ―¹–Μ–Β –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ζ–Κ–Η –Ϋ–Α –±―É–Κ―¹–Η―Ä ―à–Μ–Η –ù–Β–≤–Ψ–Ι, –Κ–Α–Ϋ–Α–Μ–Ψ–Φ. –‰–Ζ–¥–Α–Μ–Β–Κ–Α ―É–≤–Η–¥–Β–Μ–Η –Κ―É–Ω–Ψ–Μ –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–±–Ψ―Ä–Α –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Β. –£―΄―¹–Α–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α ―¹―²–Β–Ϋ–Κ―É –Θ―¹―²―¨-–†–Ψ–≥–Α―²–Κ–Η, ―Ä―è–¥–Ψ–Φ ―¹ –Ψ―à–≤–Α―Ä―²–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Κ–Ψ―Ä–Φ–Ψ–Ι –Κ ―¹―²–Β–Ϋ–Κ–Β –Κ―Ä–Α―¹–Α–≤―Ü–Β–Φ ―΅–Β―²―΄―Ä–Β―Ö–Φ–Α―΅―²–Ψ–≤―΄–Φ –±–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ ¬Ϊ–Γ–Β–¥–Ψ–≤¬Μ. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ ―Ä–Ψ―² –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―² –Ω–Ψ ―²―Ä–Α–Ω―É, ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É ―¹ –Κ–Ψ―Ä–Φ―΄ ¬Ϊ–Γ–Β–¥–Ψ–≤–Α¬Μ. –€―΄ –Ε–Β ―¹–Ψ ―¹―²–Β–Ϋ–Κ–Η ―¹ ―É–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η–Β–Φ ―Ä–Α―¹―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α–Μ–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ –Ϋ–Α –¥–≤–Α –Φ–Β―¹―è―Ü–Α ―¹―²–Α―²―¨ –Ϋ–Α―à–Η–Φ –¥–Ψ–Φ–Ψ–Φ. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ζ–Κ–Η –Ϋ–Α –±―É–Κ―¹–Η―Ä ―à–Μ–Η –ù–Β–≤–Ψ–Ι, –Κ–Α–Ϋ–Α–Μ–Ψ–Φ. –‰–Ζ–¥–Α–Μ–Β–Κ–Α ―É–≤–Η–¥–Β–Μ–Η –Κ―É–Ω–Ψ–Μ –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–±–Ψ―Ä–Α –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Β. –£―΄―¹–Α–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α ―¹―²–Β–Ϋ–Κ―É –Θ―¹―²―¨-–†–Ψ–≥–Α―²–Κ–Η, ―Ä―è–¥–Ψ–Φ ―¹ –Ψ―à–≤–Α―Ä―²–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Κ–Ψ―Ä–Φ–Ψ–Ι –Κ ―¹―²–Β–Ϋ–Κ–Β –Κ―Ä–Α―¹–Α–≤―Ü–Β–Φ ―΅–Β―²―΄―Ä–Β―Ö–Φ–Α―΅―²–Ψ–≤―΄–Φ –±–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ ¬Ϊ–Γ–Β–¥–Ψ–≤¬Μ. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ ―Ä–Ψ―² –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―² –Ω–Ψ ―²―Ä–Α–Ω―É, ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É ―¹ –Κ–Ψ―Ä–Φ―΄ ¬Ϊ–Γ–Β–¥–Ψ–≤–Α¬Μ. –€―΄ –Ε–Β ―¹–Ψ ―¹―²–Β–Ϋ–Κ–Η ―¹ ―É–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η–Β–Φ ―Ä–Α―¹―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α–Μ–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ –Ϋ–Α –¥–≤–Α –Φ–Β―¹―è―Ü–Α ―¹―²–Α―²―¨ –Ϋ–Α―à–Η–Φ –¥–Ψ–Φ–Ψ–Φ.
–û–¥–Ϋ–Ψ –Η–Ζ ―¹–Α–Φ―΄―Ö –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―΄―Ö –Ω–Α―Ä―É―¹–Ϋ―΄―Ö ―¹―É–¥–Ψ–≤, ―΅–Β―²―΄―Ä–Β―Ö–Φ–Α―΅―²–Ψ–≤―΄–Ι –±–Α―Ä–Κ –±―΄–Μ –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Ψ–Ι ―³–Η―Ä–Φ–Ψ–Ι –ö―Ä―É–Ω–Α –Ϋ–Α –≤–Β―Ä―³―è―Ö –≤ –ö–Η–Μ–Β –Η ―¹–Ω―É―â–Β–Ϋ –Ϋ–Α –≤–Ψ–¥―É 14 ―³–Β–≤―Ä–Α–Μ―è 1921 –≥. –Γ―É–¥–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α―Ä–Β–Κ–Μ–Η ¬Ϊ–€–Α–≥–¥–Α–Μ–Β–Ϋ–Α –£–Η–Ϋ–Β–Ϋ¬Μ (–Ω–Ψ –Η–Φ–Β–Ϋ–Η –Ε–Β–Ϋ―΄ ―¹―É–¥–Ψ–≤–Μ–Α–¥–Β–Μ―¨―Ü–Α). –™–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―Ä–Β–Ϋ–Η―è –±–Α―Ä–Κ–Α: –£–Ψ–¥–Ψ–Η–Ζ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η–Β βÄ™ 6 500 ―².
–î–Μ–Η–Ϋ–Α –Ϋ–Α–Η–±–Ψ–Μ―¨―à–Α―è βÄ™ 117,5 –Φ
–®–Η―Ä–Η–Ϋ–Α –Ϋ–Α –Φ–Η–¥–Β–Μ–Β βÄ™ 14,7 –Φ
–£―΄―¹–Ψ―²–Α –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±–Ψ―Ä―²–Α βÄ™ 7 –Φ
–û―¹–Α–¥–Κ–Α –≤ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Φ –≥―Ä―É–Ζ―É βÄ™ 7,5 –Φ
–ö–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –Φ–Α―΅―² βÄ™ 4
–ù–Α–Η–±–Ψ–Μ―¨―à–Α―è –≤―΄―¹–Ψ―²–Α –Φ–Α―΅―²―΄
(–≤―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –≥―Ä–Ψ―²–Α) βÄ™ 57 –Φ
–û–±―â–Β–Β ―΅–Η―¹–Μ–Ψ –Ω–Α―Ä―É―¹–Ψ–≤ βÄ™ 32
–û–±―â–Α―è –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥―¨ –Ω–Α―Ä―É―¹–Ψ–≤ βÄ™ 4 192 –Κ–≤.–Φ
–ù–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η. –Γ―É–¥–Ϋ–Ψ –≤―΄―à–Μ–Ψ –Ϋ–Α –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ―Ä―΄ –≤ ―Ä–Ψ–Μ–Η ¬Ϊ–£–Η–Ϋ–¥–Ε–Α–Φ–Φ–Β―Ä–Α¬Μ βÄ™ –Ω–Α―Ä―É―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≥–Η–≥–Α–Ϋ―²–Α –Κ–Ψ–Φ–Φ–Β―Ä―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η―è, ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ , –Ω―Ä–Η―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Μ―è –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–Ζ–Κ–Η, ―²–Α–Κ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ―΄―Ö, –Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≥―Ä―É–Ζ–Ψ–≤. –ö ―¹–Β―Ä–Β–¥–Η–Ϋ–Β 30-―Ö –≥–Ψ–¥–Ψ–≤ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–≥–Ψ –≤–Β–Κ–Α ―Ä–Α–Ζ–Ψ―Ä–Η–≤―à–Α―è―¹―è ―¹―É–¥–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Ψ–¥–Α–Μ–Α –±–Α―Ä–Κ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ψ–≥–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ―É –¦–Μ–Ψ–Ι–¥―É βÄ™ ―¹―²―Ä–Α―Ö–Ψ–≤–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η, –≤–Μ–Α–¥–Β–≤―à–Β–Ι –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ–Φ ―¹―É–¥–Ψ–≤ –Η –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–≤―à–Β–Ι―¹―è –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Ψ–Ι –Κ–Α–¥―Ä–Ψ–≤ –¥–Μ―è ―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α. –ë–Α―Ä–Κ –±―΄–Μ –Ω–Β―Ä–Β–Ψ–±–Ψ―Ä―É–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ –≤ ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ-–Ω–Α―Ä―É―¹–Ϋ–Ψ–Β ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ –Η –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Β –Η–Φ―è ¬Ϊ–ö–Ψ–Φ–Φ–Ψ–¥–Ψ―Ä –ô–Ψ–Ϋ–Ζ–Β–Ϋ¬Μ. –Γ–Η―¹―²–Β–Φ–Α –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η –Κ–Α–¥―Ä–Ψ–≤ –±―΄–Μ–Α –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Φ–Α–Ϋ–Α ―²–Α–Κ, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ―¨. –ü―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ–Α–Ϋ―²―΄, –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è―è –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹―¹–Κ–Η–Β –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Μ–Η –Ε–Α–Μ–Ψ–≤–Α–Ϋ―¨―è. –ö―Ä–Ψ–Φ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –Ζ–Α ―¹–≤–Ψ–Β –Ψ–±―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Η –Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η–Β –Ψ–Ϋ–Η –≤–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η –Ω–Μ–Α―²―É. –ü―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ –≤ –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―²–Α―Ö –Η ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Β –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–Ζ–Η–Φ―΄―Ö –≥―Ä―É–Ζ–Ψ–≤ ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ. –Δ–Α–Κ–Η–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ, ―Ä–Α―¹―Ö–Ψ–¥―΄ –Ω–Ψ ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Η―é ―¹―É–¥–Ϋ–Α ―¹–Ϋ–Η–Ε–Α–Μ–Η―¹―¨, –Α –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ―¨ ―É–≤–Β–Μ–Η―΅–Η–≤–Α–Μ–Α―¹―¨. –ö ―¹–Β―Ä–Β–¥–Η–Ϋ–Β 30-―Ö –≥–Ψ–¥–Ψ–≤ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–≥–Ψ –≤–Β–Κ–Α ―Ä–Α–Ζ–Ψ―Ä–Η–≤―à–Α―è―¹―è ―¹―É–¥–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Ψ–¥–Α–Μ–Α –±–Α―Ä–Κ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ψ–≥–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ―É –¦–Μ–Ψ–Ι–¥―É βÄ™ ―¹―²―Ä–Α―Ö–Ψ–≤–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η, –≤–Μ–Α–¥–Β–≤―à–Β–Ι –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ–Φ ―¹―É–¥–Ψ–≤ –Η –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–≤―à–Β–Ι―¹―è –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Ψ–Ι –Κ–Α–¥―Ä–Ψ–≤ –¥–Μ―è ―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α. –ë–Α―Ä–Κ –±―΄–Μ –Ω–Β―Ä–Β–Ψ–±–Ψ―Ä―É–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ –≤ ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ-–Ω–Α―Ä―É―¹–Ϋ–Ψ–Β ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ –Η –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Β –Η–Φ―è ¬Ϊ–ö–Ψ–Φ–Φ–Ψ–¥–Ψ―Ä –ô–Ψ–Ϋ–Ζ–Β–Ϋ¬Μ. –Γ–Η―¹―²–Β–Φ–Α –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η –Κ–Α–¥―Ä–Ψ–≤ –±―΄–Μ–Α –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Φ–Α–Ϋ–Α ―²–Α–Κ, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ―¨. –ü―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ–Α–Ϋ―²―΄, –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è―è –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹―¹–Κ–Η–Β –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Μ–Η –Ε–Α–Μ–Ψ–≤–Α–Ϋ―¨―è. –ö―Ä–Ψ–Φ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –Ζ–Α ―¹–≤–Ψ–Β –Ψ–±―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Η –Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η–Β –Ψ–Ϋ–Η –≤–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η –Ω–Μ–Α―²―É. –ü―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ –≤ –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―²–Α―Ö –Η ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Β –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–Ζ–Η–Φ―΄―Ö –≥―Ä―É–Ζ–Ψ–≤ ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ. –Δ–Α–Κ–Η–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ, ―Ä–Α―¹―Ö–Ψ–¥―΄ –Ω–Ψ ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Η―é ―¹―É–¥–Ϋ–Α ―¹–Ϋ–Η–Ε–Α–Μ–Η―¹―¨, –Α –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ―¨ ―É–≤–Β–Μ–Η―΅–Η–≤–Α–Μ–Α―¹―¨.
–Γ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ–Φ 2-–Ι –€–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Φ–Ψ–±–Η–Μ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ψ –Η –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Β –¥–Μ―è –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Κ–Η ―¹–Ϋ–Α–±–Ε–Β–Ϋ–Η―è –≤ –Ω–Ψ―Ä―²―΄ –≤–±–Μ–Η–Ζ–Η ¬Ϊ–≤–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Α¬Μ. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –ü–Ψ–±–Β–¥―΄ –Ϋ–Α–¥ ―³–Α―à–Η―¹―²―¹–Κ–Ψ–Ι –™–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ–Η–Β–Ι –Ω―Ä–Η ―Ä–Α―¹–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –Β–Β ―³–Μ–Ψ―²–Α –Φ–Β–Ε–¥―É ―¹–Ψ―é–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η ¬Ϊ–ö–Ψ–Φ–Φ–Ψ–¥–Ψ―Ä –ô–Ψ–Ϋ–Ζ–Β–Ϋ¬Μ –±―΄–Μ –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–Ϋ –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Γ–Ψ―é–Ζ―É –Η –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –Η–Φ―è ¬Ϊ–Γ–Β–¥–Ψ–≤¬Μ.
–£ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Β –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ–¥ ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Φ ―³–Μ–Α–≥–Ψ–Φ –±–Α―Ä–Κ –≤―΄―à–Β–Μ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±―ä–Β–Φ–Α –≤–Ψ―¹―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α–±–Ψ―² –≤ –Η―é–Ϋ–Β 1952 –≥–Ψ–¥–Α –Ω–Ψ–¥ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–≥–Ψ ―ç–Ϋ―²―É–Ζ–Η–Α―¹―²–Α –Ω–Α―Ä―É―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Β–Μ–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 2 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –€–Η―²―Ä–Ψ―³–Α–Ϋ–Ψ–≤–Α –ü–Β―²―Ä–Α –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Η―΅–Α. –ù–Α―à –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥ –±―΄–Μ ―à–Β―¹―²―΄–Φ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Φ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ ¬Ϊ–Γ–Β–¥–Ψ–≤–Α¬Μ –Η –≤―²–Ψ―Ä―΄–Φ βÄ™ –≤ 1955 –≥–Ψ–¥―É.
–ù–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–¥–Ϋ–Β–Β ―¹―²–Α–Μ–Η –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄ ―¹―Ä–Ψ–Κ–Η –Η –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―² –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α:
βÄ™ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Β ―¹ 2 –Α–≤–≥―É―¹―²–Α –Ω–Ψ 4 –Ψ–Κ―²―è–±―Ä―è 1955 –≥.;
βÄ™ –Ω–Ψ ―é–Ε–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―Ö–Β–Φ–Β βÄ™ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―², –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä–Β, –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤–Ϋ–Α―è –Ζ–Ψ–Ϋ–Α, –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä–Β, –ê–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι –Κ–Α–Ϋ–Α–Μ (–Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤―΄ –¦–Α-–€–Α–Ϋ―à –Η –ü–Α–¥–Β–Κ–Α–Μ–Β), –ë–Η―¹–Κ–Α–Ι―¹–Κ–Η–Ι –Ζ–Α–Μ–Η–≤, –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤ –€–Α–¥–Β–Ι―Ä–Α, –ê–Ζ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Β –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α.
βÄ™ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Β βÄ™ –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è –ê―²–Μ–Α–Ϋ―²–Η–Κ–Α, –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β –Η –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä―è –Η –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―².
–ù–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Α βÄ™ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Α –Κ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―é. –û–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Ι –Ω–Α―Ä―É―¹–Ϋ–Η–Κ ―É–Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Μ―è–Β―²―¹―è ¬Ϊ–ù–Ψ–Β–≤―É –Κ–Ψ–≤―΅–Β–≥―ɬΜ. –ù–Α –Β–≥–Ψ –±–Ψ―Ä―²―É ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α―é―²―¹―è –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²―΄ –¥–≤―É―Ö ―É―΅–Η–Μ–Η―â (–†–Η–Ε―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η –ê―Ä―Ö–Α–Ϋ–≥–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ), –≥–Η–¥―Ä–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è –Ω–Α―Ä―²–Η―è, –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄―Ö –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ βÄ™ ―¹–Μ―É―à–Α―²–Β–Μ–Β–Ι –Κ–Α–Κ–Η―Ö-―²–Ψ –Κ―É―Ä―¹–Ψ–≤ –Ω–Β―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η, –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α ―Ä–Α–¥–Η–Ψ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Η, –Ψ―Ä–Κ–Β―¹―²―Ä –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α, –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Κ–Ψ―Ä―Ä–Β―¹–Ω–Ψ–Ϋ–¥–Β–Ϋ―²–Ψ–≤ –Η. ―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Β–Β―²―¹―è, ―à―²–Α―²–Ϋ–Α―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Α ¬Ϊ–Γ–Β–¥–Ψ–≤–Α¬Μ βÄ™ –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ 400 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ. –£ ―²―Ä―é–Φ–Α―Ö ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ¬Ϊ–ù–Ψ–Β–≤–Α –Κ–Ψ–≤―΅–Β–≥–Α¬Μ ―¹–Κ―Ä―΄–≤–Α―é―²―¹―è –¥–≤―É―Ö–Φ–Β―¹―è―΅–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α–Ω–Α―¹―΄ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η―è –Η –Ω―Ä–Β―¹–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–¥―΄ –Ϋ–Α ―ç―²―É –Φ–Α―¹―¹―É –Μ―é–¥–Β–Ι, –Ζ–Α–Ω–Α―¹―΄ ―²–Ψ–Ω–Μ–Η–≤–Α –¥–Μ―è –¥–≤–Η–≥–Α―²–Β–Μ―è –Η –¥–Η–Ζ–Β–Μ―¨-–≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä–Α, –Ζ–Α–Ω–Α―¹–Ϋ―΄–Β –Ω–Α―Ä―É―¹–Α –Η ―²―Ä–Ψ―¹―΄, –Κ―Ä–Α―¹–Κ–Α –Η –Φ–Ψ―é―â–Η–Β ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α, ―²―΄―¹―è―΅–Η –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Α―Ä―² –Ω–Ψ –≤―¹–Β–Φ―É –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―²―É –Η ―¹–Ψ―²–Ϋ–Η ―²–Α–±–Μ–Η―Ü, –Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Η–Ι –Η –Ϋ–Α–≤–Η–≥–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Ψ–≤ –¥–Μ―è –≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Κ–Η –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²–Α–Φ–Η, –¥–Β―¹―è―²–Κ–Η ―¹–Β–Κ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤ –Η –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―²–Ψ–≤ ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Φ–Β–Ϋ―²–Α, ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Ψ–±–Ψ―Ä―É–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –¥–Μ―è –≥–Η–¥―Ä–Ψ–≥―Ä–Α―³–Ψ–≤ –Η ―Ä–Α–¥–Η―¹―²–Ψ–≤ –Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Β –¥―Ä―É–≥–Ψ–Β. –£–Β―¹–Β–Μ–Ψ–Β –Ψ–Ε–Η–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –≤―΄–Ζ–≤–Α–Μ–Α –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ζ–Κ–Α –¥–≤―É―Ö –¥–Β―¹―è―²–Κ–Ψ–≤ ―Ö―Ä―é―à–Β–Κ, –¥–Μ―è –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―É―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ–Η –Ζ–Α–≥–Ψ–Ϋ –Ϋ–Α ―à–Κ–Α―³―É―²–Β –Ω–Ψ –Μ–Β–≤–Ψ–Φ―É –±–Ψ―Ä―²―É.
–Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ–≤–Ζ―Ä–Ψ―¹–Μ–Β–≤, –Φ―΄ –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ–Η –≤―¹―é ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η –Η ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α ―¹ –Φ–Α–Κ―¹–Η–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–Ι –¥–Μ―è –±―É–¥―É―â–Η―Ö –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ ―³–Μ–Ψ―²–Α. –½–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–¥–Ϋ–Β–Β –Φ―΄ –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Η–Μ–Η –Ψ–Ω―΄―², –Φ―É–¥―Ä–Ψ―¹―²―¨ –Η –≥―Ä–Ψ–Φ–Α–¥–Ϋ―É―é –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―è –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α βÄ™ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤–Α –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Α. –ê –≤–Β–¥―¨ –Β–Φ―É ―É–Ε–Β ―à–Β–Μ ―à–Β―¹―²–Η–¥–Β―¹―è―²―΄–Ι –≥–Ψ–¥!  –ö–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤ –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (1896 βÄ™ 1973 –≥–≥.) –Λ–Ψ―²–Ψ 1953 –≥. –†–Η–≥–Α–Γ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ζ–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α–±–Ψ―² –Η ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η―è –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –Ϋ–Α―¹ ―É–≤–Ψ–Μ–Η–Μ–Η –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―². –ù–Β –Ω–Ψ–Φ–Ϋ―é –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―é ―É–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è (–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η –¥–Ψ –Κ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ ―΅–Α―¹–Α), –Ϋ–Ψ –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β ―è –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –Ψ–¥–Η–Ϋ. –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―² ―²–Ψ–≥–¥–Α –±―΄–Μ –Ζ–Α–Κ―Ä―΄―²―΄–Φ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ψ–Φ ―¹ –Φ–Ψ―â–Ϋ―΄–Φ ―¹―É–¥–Ψ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Ϋ―΄–Φ –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Ψ–Φ –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Φ–Η –Ω―Ä–Β–¥–Ω―Ä–Η―è―²–Η―è–Φ–Η. –ö–Α–Ε–Β―²―¹―è, ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ –±―É–¥–Ϋ–Η–Ι –¥–Β–Ϋ―¨. –£ –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω–Α―Ä–Κ–Β –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Μ–Η―¹―¨ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄–Β –Φ–Α–Φ―΄ ―¹ –Κ–Ψ–Μ―è―¹–Κ–Α–Φ–Η, –Ϋ–Α ―É–Μ–Η―Ü–Α―Ö βÄ™ ―Ä–Β–¥–Κ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Η–Β, ―¹–Ω–Β―à–Α―â–Η–Β –Ω–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –¥–Β–Μ–Α–Φ. –· –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ ―É –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ–Α –ü–Β―²―Ä―É I, ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ϋ–Α–Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ –Θ―¹―²―¨-–†–Ψ–≥–Α―²–Κ–Η. –ù–Α ―²―΄–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β –Ω–Ψ―¹―²–Α–Φ–Β–Ϋ―²–Α –Ω―Ä–Ψ―΅–Η―²–Α–Μ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α–Κ–Α–Ζ ¬Ϊ–û–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―É –Λ–Μ–Ψ―²–Α –Η ―¹–Β–≥–Ψ –Φ–Β―¹―²–Α –¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨ –¥–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Ι ―¹–Η–Μ―΄ –Η –Ε–Η–≤–Ψ―²–Α, ―è–Κ–Ψ –Ϋ–Α–Η–≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Β–Ι―à–Β–Β –¥–Β–Μ–Ψ¬Μ. –ö–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤ –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (1896 βÄ™ 1973 –≥–≥.) –Λ–Ψ―²–Ψ 1953 –≥. –†–Η–≥–Α–Γ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ζ–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α–±–Ψ―² –Η ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η―è –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –Ϋ–Α―¹ ―É–≤–Ψ–Μ–Η–Μ–Η –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―². –ù–Β –Ω–Ψ–Φ–Ϋ―é –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―é ―É–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è (–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η –¥–Ψ –Κ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ ―΅–Α―¹–Α), –Ϋ–Ψ –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β ―è –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –Ψ–¥–Η–Ϋ. –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―² ―²–Ψ–≥–¥–Α –±―΄–Μ –Ζ–Α–Κ―Ä―΄―²―΄–Φ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ψ–Φ ―¹ –Φ–Ψ―â–Ϋ―΄–Φ ―¹―É–¥–Ψ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Ϋ―΄–Φ –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Ψ–Φ –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Φ–Η –Ω―Ä–Β–¥–Ω―Ä–Η―è―²–Η―è–Φ–Η. –ö–Α–Ε–Β―²―¹―è, ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ –±―É–¥–Ϋ–Η–Ι –¥–Β–Ϋ―¨. –£ –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω–Α―Ä–Κ–Β –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Μ–Η―¹―¨ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄–Β –Φ–Α–Φ―΄ ―¹ –Κ–Ψ–Μ―è―¹–Κ–Α–Φ–Η, –Ϋ–Α ―É–Μ–Η―Ü–Α―Ö βÄ™ ―Ä–Β–¥–Κ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Η–Β, ―¹–Ω–Β―à–Α―â–Η–Β –Ω–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –¥–Β–Μ–Α–Φ. –· –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ ―É –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ–Α –ü–Β―²―Ä―É I, ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ϋ–Α–Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ –Θ―¹―²―¨-–†–Ψ–≥–Α―²–Κ–Η. –ù–Α ―²―΄–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β –Ω–Ψ―¹―²–Α–Φ–Β–Ϋ―²–Α –Ω―Ä–Ψ―΅–Η―²–Α–Μ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α–Κ–Α–Ζ ¬Ϊ–û–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―É –Λ–Μ–Ψ―²–Α –Η ―¹–Β–≥–Ψ –Φ–Β―¹―²–Α –¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨ –¥–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Ι ―¹–Η–Μ―΄ –Η –Ε–Η–≤–Ψ―²–Α, ―è–Κ–Ψ –Ϋ–Α–Η–≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Β–Ι―à–Β–Β –¥–Β–Μ–Ψ¬Μ. –Ψ―²–Κ―Ä―΄―² –≤ 1841 –≥. –Γ–Κ―É–Μ―¨–Ω―²–Ψ―Ä –Δ.–•.–ù.–•–Α–Κ. –û―²–Μ–Η–≤–Κ–Α –ü.–ö.–ö–Μ–Ψ–¥―²–Α. –ù–Α–¥–Ω–Η―¹―¨ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Α –Ω–Ψ–Ζ–¥–Ϋ–Β–Β βÄ™ –≤ 1881 –≥.–ù–Β–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Β―¹–Μ–Η –±―΄ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ–Κ–Η –Ϋ–Β –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Μ–Η ―ç―²–Ψ―² –Ϋ–Α–Κ–Α–Ζ, ―²–Ψ –Η –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥ –Ϋ–Β ―É―¹―²–Ψ―è–Μ –±―΄ –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ–Ψ–Ι 900-–¥–Ϋ–Β–≤–Ψ–Ι ―³–Α―à–Η―¹―²―¹–Κ–Ψ–Ι –±–Μ–Ψ–Κ–Α–¥―΄. –Ψ―²–Κ―Ä―΄―² –≤ 1841 –≥. –Γ–Κ―É–Μ―¨–Ω―²–Ψ―Ä –Δ.–•.–ù.–•–Α–Κ. –û―²–Μ–Η–≤–Κ–Α –ü.–ö.–ö–Μ–Ψ–¥―²–Α. –ù–Α–¥–Ω–Η―¹―¨ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Α –Ω–Ψ–Ζ–¥–Ϋ–Β–Β βÄ™ –≤ 1881 –≥.–ù–Β–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Β―¹–Μ–Η –±―΄ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ–Κ–Η –Ϋ–Β –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Μ–Η ―ç―²–Ψ―² –Ϋ–Α–Κ–Α–Ζ, ―²–Ψ –Η –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥ –Ϋ–Β ―É―¹―²–Ψ―è–Μ –±―΄ –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ–Ψ–Ι 900-–¥–Ϋ–Β–≤–Ψ–Ι ―³–Α―à–Η―¹―²―¹–Κ–Ψ–Ι –±–Μ–Ψ–Κ–Α–¥―΄.
–£―΄–Ι–¥―è –Η–Ζ –Ω–Α―Ä–Κ–Α, –Ω–Ψ―à–Β–Μ –Ω–Ψ ―É―é―²–Ϋ―΄–Φ –Η ―΅–Η―¹―²―΄–Φ ―É–Μ–Η―Ü–Α–Φ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α βÄ™ –Κ–Ψ–Μ―΄–±–Β–Μ–Η –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α.
–ù–Α ―è–Κ–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Η –Ω–Ψ–Μ―é–±–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Μ–Β–Ω–Ϋ―΄–Φ –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Φ ―¹–Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Η –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Φ –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―É –Γ―²–Β–Ω–Α–Ϋ―É –û―¹–Η–Ω–Ψ–≤–Η―΅―É –€–Α–Κ–Α―Ä–Ψ–≤―É. –Γ–Ω―É―¹―²―è –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ–Β―², –≤ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö –≥–Α―Ä–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–Ϋ–Α―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤-―¹–Β–≤–Β―Ä–Ψ–Φ–Ψ―Ä―Ü–Β–≤ ―è –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Μ –Ϋ–Α–¥–Ω–Η―¹―¨-–Ζ–Α–≤–Β―â–Α–Ϋ–Η–Β –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–≤–Ψ–¥―Ü–Α, –≤―΄―¹–Β―΅–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ–Φ –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ–Β: ¬Ϊ–ü–Ψ–Φ–Ϋ–Η –≤–Ψ–Ι–Ϋ―É!¬Μ. –î―É–Φ–Α―é, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ –Ζ–Α–≤–Β―â–Α–Ϋ–Η–Β –Α–Κ―²―É–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Η ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è.  –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Γ–Ψ–±–Ψ―Ä –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Β. –ü–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ –Ω–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²―É –Α―Ä―Ö–Η―²–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Α –£.–ê.–ö–Ψ―¹―è–Κ–Ψ–≤–Α –≤ 1903 βÄ™ 1913 –≥–≥. –ü–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ –Γ.–û.–€–Α–Κ–Α―Ä–Ψ–≤―É. –Γ–Κ―É–Μ―¨–Ω―²–Ψ―Ä –¦.–£.–®–Β―Ä–≤―É–¥.1913 –≥. –ü–Ψ–≥―É–Μ―è–≤ –Ω–Ψ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―É –Κ–Α–Κ–Ψ–Β-―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è, –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è ―É –Κ–Η–Ϋ–Ψ―²–Β–Α―²―Ä–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ―¹―è ¬Ϊ–Δ―Ä–Η ―ç―¹–Φ–Η–Ϋ―Ü–Α¬Μ. –½–Α―à–Β–Μ –≤ –Φ–Α–≥–Α–Ζ–Η–Ϋ. –ù–Α –≤―¹–Β –Ψ―¹―²–Α–≤―à–Η–Β―¹―è –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η –Κ―É–Ω–Η–Μ –Ω–Ψ–Μ―²–Ψ―Ä–Α –Η–Μ–Η –¥–≤–Α –Κ–Η–Μ–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Α –Κ–Ψ–Ϋ―³–Β―² ¬Ϊ–Γ–Ψ–Β–≤―΄–Ι –±–Α―²–Ψ–Ϋ―΅–Η–Κ¬Μ. –Γ ―ç―²–Η–Φ –Κ―É–Μ―¨–Κ–Ψ–Φ ―è –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨. –£―¹―²―É–Ω–Η–≤ –Ϋ–Α –≤–Β―Ä―Ö–Ϋ―é―é –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Κ―É ―²―Ä–Α–Ω–Α, –Ψ―²–¥–Α–Μ ―΅–Β―¹―²―¨ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ―É ―³–Μ–Α–≥―É –Η –≤–¥―Ä―É–≥ –Ψ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ ―è ―É–Ε–Β –≥–Ψ–¥ –Ϋ–Ψ―à―É ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ―É―é ―³–Ψ―Ä–Φ―É, –Ϋ–Ψ –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –≤ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α―é―¹―¨ ―¹ –±–Β―Ä–Β–≥–Α –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨, –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―É–Ε–Β –Ζ–Α–≤―²―Ä–Α –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –≤―΄–Ι―²–Η –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β! –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Γ–Ψ–±–Ψ―Ä –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Β. –ü–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ –Ω–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²―É –Α―Ä―Ö–Η―²–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Α –£.–ê.–ö–Ψ―¹―è–Κ–Ψ–≤–Α –≤ 1903 βÄ™ 1913 –≥–≥. –ü–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ –Γ.–û.–€–Α–Κ–Α―Ä–Ψ–≤―É. –Γ–Κ―É–Μ―¨–Ω―²–Ψ―Ä –¦.–£.–®–Β―Ä–≤―É–¥.1913 –≥. –ü–Ψ–≥―É–Μ―è–≤ –Ω–Ψ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―É –Κ–Α–Κ–Ψ–Β-―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è, –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è ―É –Κ–Η–Ϋ–Ψ―²–Β–Α―²―Ä–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ―¹―è ¬Ϊ–Δ―Ä–Η ―ç―¹–Φ–Η–Ϋ―Ü–Α¬Μ. –½–Α―à–Β–Μ –≤ –Φ–Α–≥–Α–Ζ–Η–Ϋ. –ù–Α –≤―¹–Β –Ψ―¹―²–Α–≤―à–Η–Β―¹―è –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η –Κ―É–Ω–Η–Μ –Ω–Ψ–Μ―²–Ψ―Ä–Α –Η–Μ–Η –¥–≤–Α –Κ–Η–Μ–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Α –Κ–Ψ–Ϋ―³–Β―² ¬Ϊ–Γ–Ψ–Β–≤―΄–Ι –±–Α―²–Ψ–Ϋ―΅–Η–Κ¬Μ. –Γ ―ç―²–Η–Φ –Κ―É–Μ―¨–Κ–Ψ–Φ ―è –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨. –£―¹―²―É–Ω–Η–≤ –Ϋ–Α –≤–Β―Ä―Ö–Ϋ―é―é –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Κ―É ―²―Ä–Α–Ω–Α, –Ψ―²–¥–Α–Μ ―΅–Β―¹―²―¨ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ―É ―³–Μ–Α–≥―É –Η –≤–¥―Ä―É–≥ –Ψ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ ―è ―É–Ε–Β –≥–Ψ–¥ –Ϋ–Ψ―à―É ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ―É―é ―³–Ψ―Ä–Φ―É, –Ϋ–Ψ –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –≤ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α―é―¹―¨ ―¹ –±–Β―Ä–Β–≥–Α –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨, –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―É–Ε–Β –Ζ–Α–≤―²―Ä–Α –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –≤―΄–Ι―²–Η –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β!
–£ –Ϋ–Ψ―¹–Ψ–≤–Ψ–Φ –Κ―É–±―Ä–Η–Κ–Β, –Κ―É–¥–Α ―è ―¹–Ω―É―¹―²–Η–Μ―¹―è, –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²–Ψ–≤ –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Ψ–Ι –Κ –Ζ–Α–≤―²―Ä–Α―à–Ϋ–Β–Φ―É –¥–Ϋ―é. –· –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ –Η―Ö –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä―É. –ü–Β―Ä–Β–Ψ–¥–Β–Μ―¹―è –≤ ―΅–Η―¹―²–Ψ–Β ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Β–Β –Ω–Μ–Α―²―¨–Β. –½–Α–≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ –≤ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Ψ–Φ–Ψ–Κ–Α–Β–Φ―É―é –Κ–Α–Μ―¨–Κ―É –Γ–Μ―É–Ε–Β–±–Ϋ―É―é –Κ–Ϋ–Η–Ε–Κ―É (―É–¥–Ψ―¹―²–Ψ–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Η–Β –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²–Α), –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Η–Ι –±–Η–Μ–Β―², ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―é –Φ–Α–Φ―΄ –Η –Ω–Ψ―΅―²–Η –Ϋ–Β–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Ψ–Ι –Φ–Ϋ–Β –¥–Β–≤―É―à–Κ–Η ―¹ –Κ―Ä–Α―¹–Η–≤―΄–Φ –Η–Φ–Β–Ϋ–Β–Φ –¦–Α―Ä–Η―¹–Α, ―΅―²–Ψ –≤ –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–¥–Β ―¹ –Η―¹–Ω–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Β―² ¬Ϊ―΅–Α–Ι–Κ–Α¬Μ. –£―¹–Β ―ç―²–Ψ ―¹–Ω―Ä―è―²–Α–Μ –≤ –±―É–Φ–Α–Ε–Ϋ–Η–Κ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ζ–Α―à–Η–Μ –≤ –Κ–Α―Ä–Φ–Α–Ϋ–Β ―³–Ψ―Ä–Φ―΄-3, ―É–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤ ―Ä―É–Ϋ–¥―É–Κ–Β. –Λ–Ψ―²–Ψ 1955 –≥. –†–Η–≥–Α–ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² –Λ–Ψ―²–Ψ 1955 –≥. –†–Η–≥–Α–ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―²
17.03.201400:5217.03.2014 00:52:36
–Γ―²―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü―΄:
–ü―Ä–Β–¥.
|
1
|
...
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
...
|
12
|
–Γ–Μ–Β–¥.
|
|
–™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β –Ζ–Α –Ϋ–Β–¥–Β–Μ―é
|







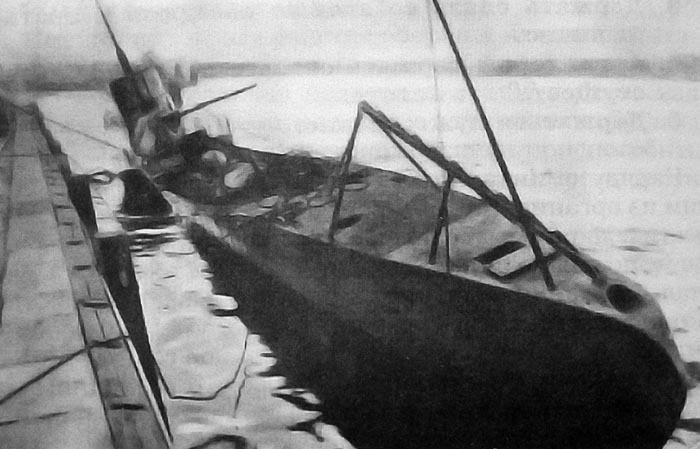



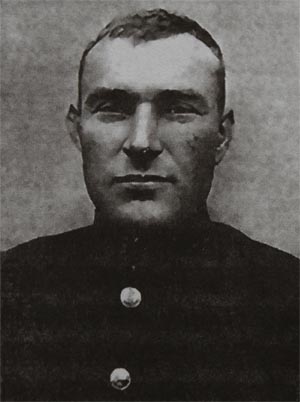



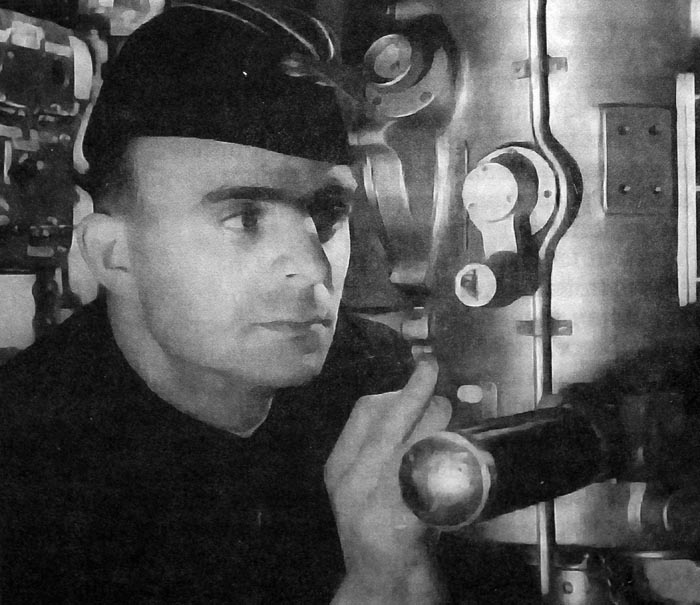
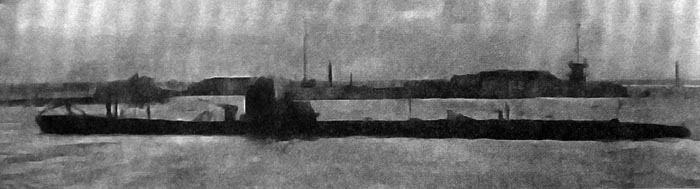
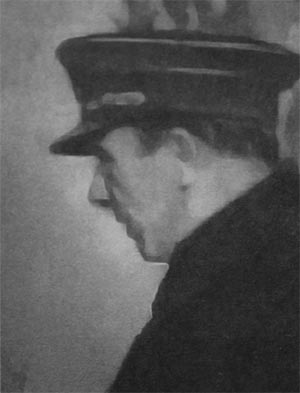




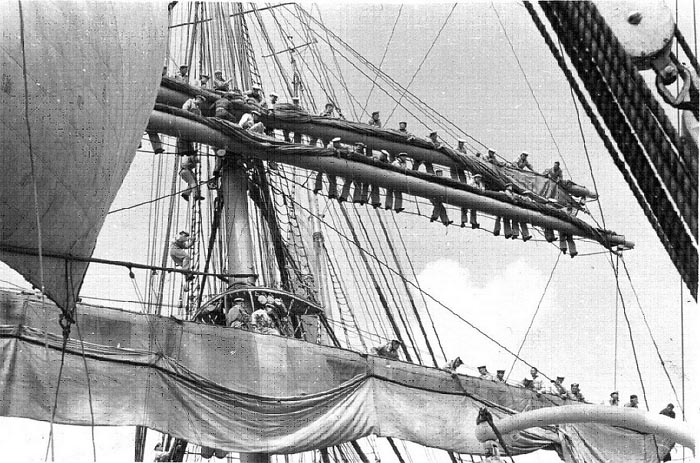
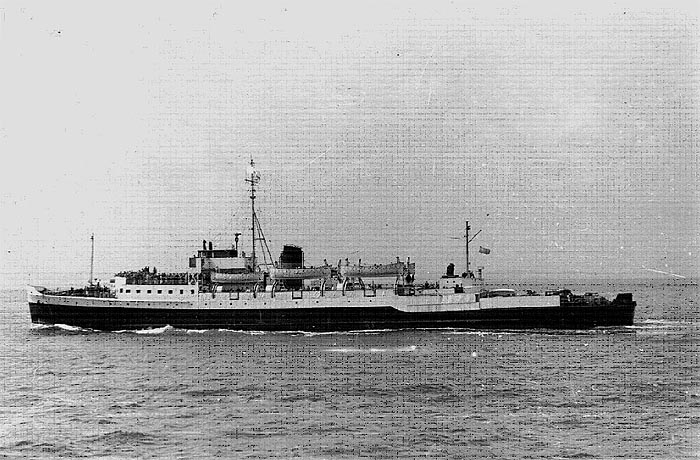


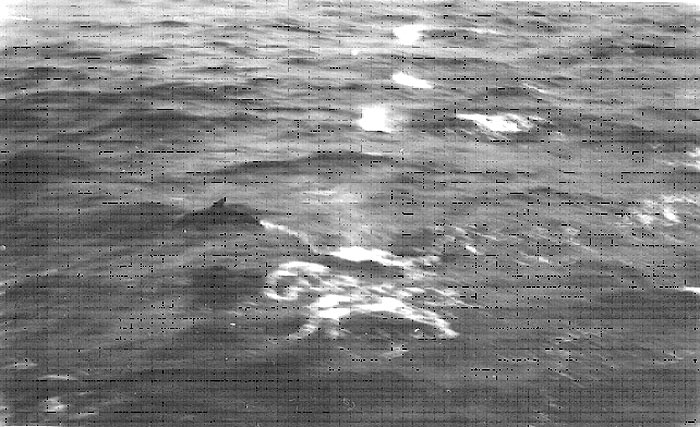

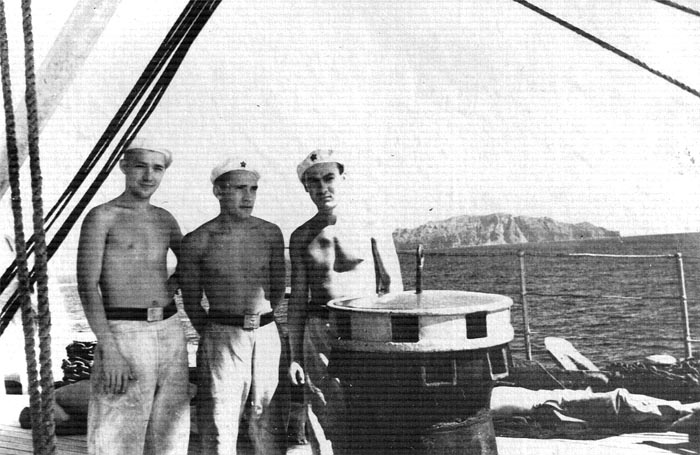



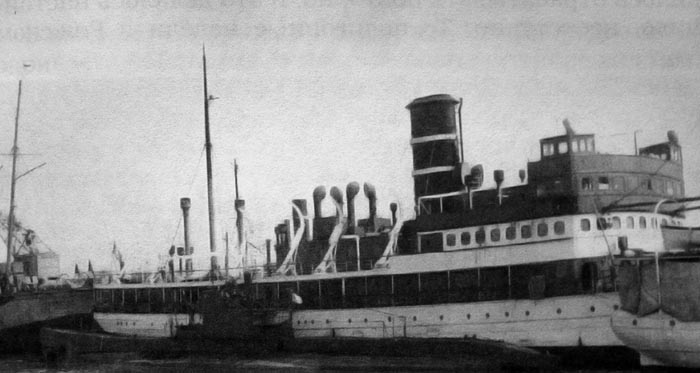
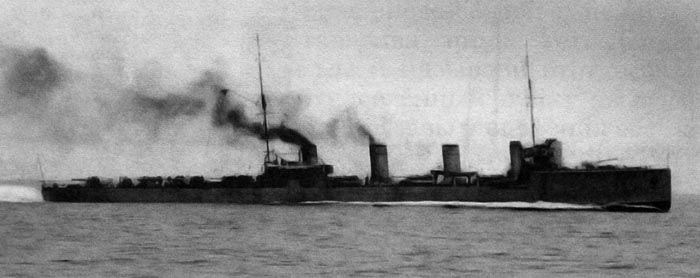



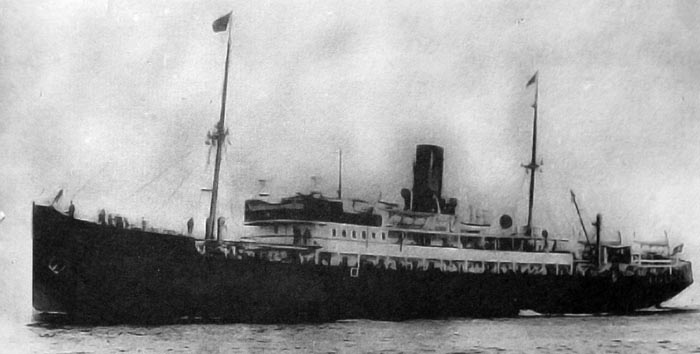
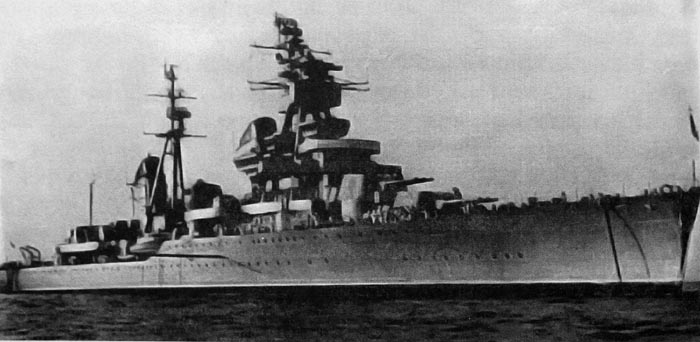
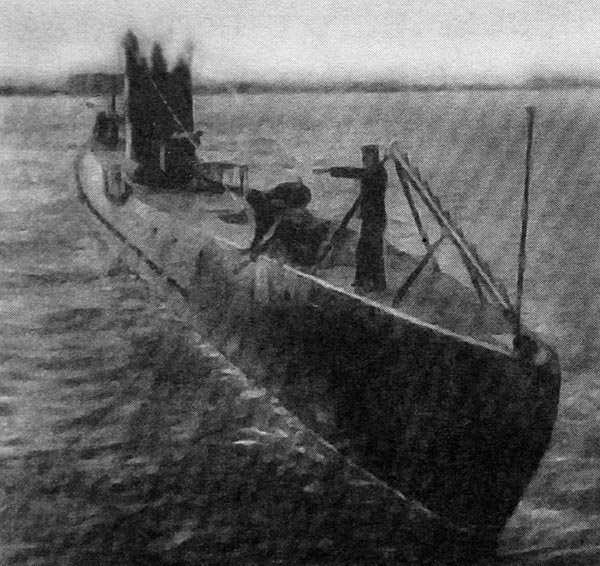
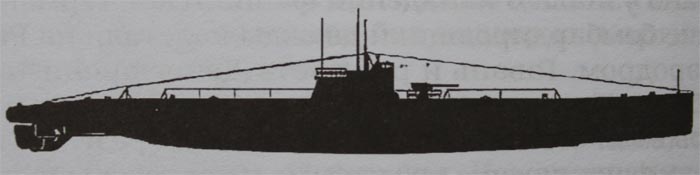


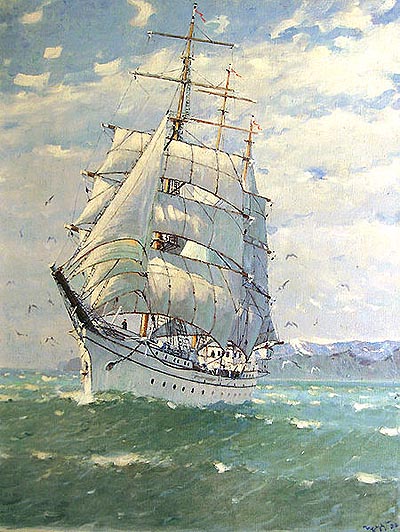






.jpg)


