–ë–Α–Ϋ–Ϋ–Β―Ä

–‰―¹–Κ―É―¹―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Η–Ϋ―²–Β–Μ–Μ–Β–Κ―² –Ϋ–Α ―¹―²―Ä–Α–Ε–Β –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Α
|
–£―¹–Κ–Ψ―Ä–Φ–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹ –Κ–Ψ–Ω―¨―è - –Γ–Ψ–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Α –Ψ–Κ―²―è–±―Ä―¨ 2013 –≥–Ψ–¥–Α
0
17.10.201311:1217.10.2013 11:12:50
–Θ–≤–Α–Ε–Α–Β–Φ―΄–Β –¥―Ä―É–Ζ―¨―è! –£―¹–Β-―²–Α–Κ–Η –½–Β–Φ–Μ―è –≤–Β―Ä―²–Η―²―¹―è, –Η –Φ―΄ ―¹–Φ–Ψ–≥–Μ–Η ¬Ϊ―¹–¥–≤–Η–Ϋ―É―²―¨¬Μ –™–¦–Ϊ–ë–Θ –Φ–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö ―΅–Η–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ψ―² –Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä―΄ ―¹ –Φ–Β―¹―²–Α. –· –≤―΅–Β―Ä–Α –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –Κ–Ψ–Ω–Η―é –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²–Β–Κ―¹―²–Α –Θ―¹―²–Α–≤–Α –™–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Α–≤―²–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä―΄ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄ ¬Ϊ–€―É–Ζ–Β–Ι–Ϋ–Ψ-–Ω–Α―Ä–Κ–Ψ–≤―΄–Ι –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―¹ ¬Ϊ–Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β –Δ―É―à–Η–Ϋ–Ψ¬Μ. –£–Ψ―² –≤―΄–¥–Β―Ä–Ε–Κ–Α –Η–Ζ –Ω―É–Ϋ–Κ―²–Α 2.3. –Θ―¹―²–Α–≤–Α: 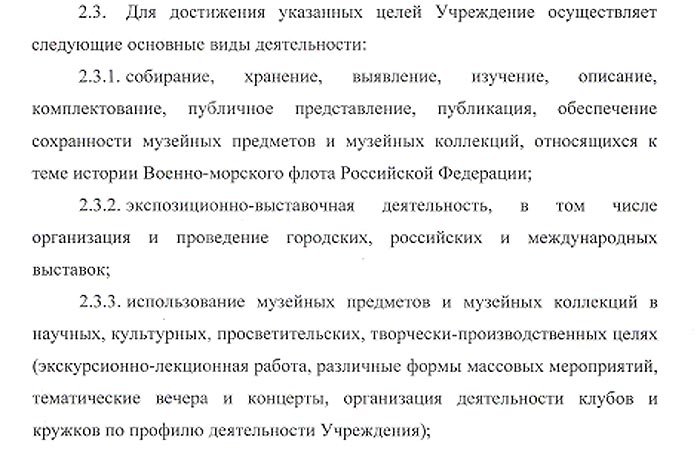 –Η ―²–Α–Κ –¥–Α–Μ–Β–Β. –Δ–Α–Κ–Η–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ, –Ϋ–Α―à–Β –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ω–Α―Ä–Κ–Α ¬Ϊ–Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β –Δ―É―à–Η–Ϋ–Ψ¬Μ (–Ψ–Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ψ –≤ ―¹―²–Α―²―¨–Β ¬Ϊ–™–Η–±–Β–Μ―¨ –Φ―É–Ζ–Β―è¬Μ, –≥–Α–Ζ–Β―²–Α ¬Ϊ–£–ü–ö¬Μ –Ψ―² 31 –Η―é–Μ―è 2013 –≥.) –Ϋ–Α―à–Μ–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β –≤ ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Φ –Ω–Ψ–¥–Ω―É–Ϋ–Κ―²–Β ―¹―²–Α―²―¨–Η 2.3. –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α―²–Β–Μ–Β–Ι ―É–Ϋ–Η–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ―É–Ζ–Β―è βÄ™ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ϋ–Α ¬Ϊ–Γ–Β–≤–Φ–Α―à–Β¬Μ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―É―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Η―²―¨. –Θ –Ϋ–Η―Ö –Ω–Ψ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Η –¥–Α–Μ―¨―à–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ ―¹ –Φ―É–Ζ–Β–Β–Φ, –Ω–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è―è –Β–≥–Ψ ―³–Ψ–Ϋ–¥―΄. –ù–Ψ –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É ―΅–Η–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ–Η –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –≤ –Γ–€–‰ –Η ―É―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Η―²―¨ –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Β―â–Β –Μ–Β―²–Ψ–Φ? –‰ ―΅―²–Ψ –Η–Φ –Φ–Β―à–Α–Β―² –¥–Ψ ―¹–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ ―ç―²–Ψ? –ù–Β–Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Ϋ–ΨβÄΠ –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Φ–Ϋ–Ψ–Ι –±―΄–Μ–Η ―¹–¥–Β–Μ–Α–Ϋ―΄ ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Β ―à–Α–≥–Η: 20 ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä―è ―è –Ω–Ψ–±―΄–≤–Α–Μ –≤ –û–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η–Β–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –ü―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Β–Ϋ―²–Α –†–Ψ―¹―¹–Η–Η –Η –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–Μ –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Β –û–±―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Β –Κ –Ϋ–Β–Φ―É ―¹ ―É–Ω–Ψ–Φ―è–Ϋ―É―²–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ–Ψ–Ι. –€–Β–Ϋ―è –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ–Η –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –±–Μ–Α–≥–Ψ―¹–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ, –≤–Ϋ–Η–Κ–Μ–Η –≤ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹, –Η –≤ ―ç―²–Ψ―² –Ε–Β –¥–Β–Ϋ―¨ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ―¹―¨ –ü–Ψ―Ä―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β –ü―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Β–Ϋ―²–Α –Ω–Ψ –Ϋ–Β–Φ―É (ⳕ –ê26-13-816-53411 –Ψ―² 20.09.13). –Δ–Β–Κ―¹―²–Α ―É –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Β―², –Ϋ–Ψ ―É–Ε–Β ―¹ 27 ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä―è –Ω–Ψ 18 –Ψ–Κ―²―è–±―Ä―è –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η―² ―²–Α–Κ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ–Α―è –≤–Ϋ–Β–Ω–Μ–Α–Ϋ–Ψ–≤–Α―è –≤―΄–Β–Ζ–¥–Ϋ–Α―è –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Κ–Α –€–Η–Ϋ–Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä―΄ –†–Λ –ü–Α―Ä–Κ–Α –Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä―΄ –Η –Ψ―²–¥―΄―Ö–Α –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β –Δ―É―à–Η–Ϋ–Ψ ―¹ ―²–Ψ―΅–Κ–Η –Ζ―Ä–Β–Ϋ–Η―è ―¹–Ψ–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η―è –€–Θ–½–ï–ô–ù–û–™–û –½–ê–ö–û–ù–û–î–ê–Δ–ï–¦–§–Γ–Δ–£–ê –‰ –û–ë–ï–Γ–ü–ï–ß–ï–ù–‰–· –Γ–û–Ξ–†–ê–ù–ù–û–Γ–Δ–‰ –Δ–†–ï–Ξ –ë–Ϊ–£–®–‰–Ξ –û–ë–Σ–ï–ö–Δ–û–£ –£–€–Λ (–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, ―ç–Κ―Ä–Α–Ϋ–Ψ–Ω–Μ–Α–Ϋ–Α, –Κ–Α―²–Β―Ä–Α –Ϋ–Α –£–ü). –†–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²―΄ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –ü–Ψ―Ä―É―΅–Β–Ϋ–Η―è –ü―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Β–Ϋ―²–Α –±―É–¥―É―² –Ψ–±―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –¥–Ψ –Φ–Β–Ϋ―è –¥–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ―΄. –î–Μ―è –Φ–Β–Ϋ―è ―É–Ε–Β –Ϋ–Β―² –≤ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β –±–Ψ–Μ–Β–Β –≤―΄―¹―à–Β–Ι –Η–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η, –Ψ―¹―²–Α–Β―²―¹―è –Ω–Ψ–¥–Ψ–Ε–¥–Α―²―¨. –£―΄, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ –Ε–Β, ―É–Ζ–Ϋ–Α–Β―²–Β –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ.  –Γ ―É–≤–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ, –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –ö―É–Ζ–Η–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤
17.10.201311:1217.10.2013 11:12:50
0
17.10.201311:0917.10.2013 11:09:10
–ù–Ψ–≤―΄–Β –Ω–Β―¹–Ϋ–Η –Ψ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Φ. –™–Μ–Α–≤–Α –Ω–Β―Ä–≤–Α―è, –≤–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è–€–Ϋ–Β –Ζ–Α―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Ψ―¹―¨ ―É–±–Β–¥–Η―²―¨ –≤–Α―¹ –Ϋ–Β ―Ü–Η―³―Ä–Α–Φ–Η –Η ―³–Α–Κ―²–Α–Φ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―É –≤―¹–Β―Ö –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Α –Μ–Ψ–≥–Η–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Α―¹―¹―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Ι –Η –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Β–Ψ–±―΄―΅–Ϋ―΄–Φ –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥–Ψ–Φ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥―è―â–Β–Β. –ù–Α―΅–Ϋ–Β–Φ ―¹ ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―² –Ε–Η―²―¨ –≤ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η. –†–Ψ―¹―¹–Η―è ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è βÄî ―ç―²–Ψ ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η–Κ–Α, –Ϋ–Β–Κ–Ψ–Β ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Β, –Φ–Ψ―Ä–Β –Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η–Η, –Ϋ–Α―à–Α –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Κ–Α –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥―è―â–Β–≥–Ψ, –¥―Ä―É–Ζ―¨―è –†–Ψ―¹―¹–Η–Η –Η –Β–Β –≤―Ä–Α–≥–Η. –ï―¹–Μ–Η ―è ―΅–Β–≥–Ψ-―²–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Β―Ä–Β―΅–Η―¹–Μ–Η–Μ, ―²–Ψ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―² ―΅―²–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β ―¹―É―â–Β―¹―²–≤―É–Β―². –Γ–Κ–Ψ―Ä–Β–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ, –Η ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –Ω–Ψ–Ϋ―è―²―¨ –Η ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –Η–¥―É―â–Η–Β –≤―΄–≤–Ψ–¥―΄. –Ξ–Ψ―²–Η–Φ –Φ―΄ ―²–Ψ–≥–Ψ –Η–Μ–Η –Ϋ–Β―², –Ϋ–Ψ ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Η–Φ–Β–Β―²―¹―è –Ϋ–Β–Κ–Ψ–Β ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ–≤–Β―¹–Η–Β, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –≤―¹–Β ―¹–Η–Μ―΄ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―è―²―¹―è –Β―¹–Μ–Η –Ϋ–Β –≤ –≥–Α―Ä–Φ–Ψ–Ϋ–Η–Η, ―²–Ψ –≤ ―Ä–Α–≤–Β–Ϋ―¹―²–≤–Β, –Ω―Ä–Η –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Ψ –Ψ―¹―²–Α–Β―²―¹―è –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Ψ–Φ, –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥ βÄî –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ψ–Φ, ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η―è –Ϋ–Β ―Ä–Α―¹–Ω–Α–¥–Α–Β―²―¹―è, –Η –Ϋ–Α–¥ –Ϋ–Β–Ι ―É–¥–Α–Β―²―¹―è –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–≤–Α―²―¨ ―¹―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Η―²–Β―². –Ξ–Ψ―²―è ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ–≤–Β―¹–Η–Β ―ç―²–Ψ –≤–Β―¹―¨–Φ–Α ―à–Α―²–Κ–Ψ–Β, –Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―² –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Η―²―¨―¹―è. –ï―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Φ–Ψ–≥―É―² –±―΄―²―¨ –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Η –Ϋ–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨. –‰ ―²―É―² –¥–Μ―è –Ϋ–Α―¹ –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Κ―¹―²–Α―²–Η –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Α―à–Α –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―è, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –Φ―΄, –Κ –≤–Β–Μ–Η―΅–Α–Ι―à–Β–Φ―É ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Ϋ–Η―é, –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Β–Φ. –‰ –Ϋ–Β ―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ –Β–Β –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –Ω–Β―Ä–Β–Ω–Η―¹―΄–≤–Α―é―², ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ –¥–Μ―è –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö –Ϋ–Β–≤―΄–≥–Ψ–¥–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Φ―΄ –Β–Β –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η. –ü–Ψ –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Β–Ι –Φ–Β―Ä–Β ―²–Α–Κ–Ψ–Ι, –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι –Ψ–Ϋ–Α –≤ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Φ –Ω―Ä–Η–±–Μ–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –±―΄–Μ–Α. –£–Ψ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Ω―Ä–Η–±–Μ–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Φ―΄ –Β–Β ―É–Ε–Β –Ϋ–Β ―É–Ζ–Ϋ–Α–Β–Φ, –¥–Α–Ε–Β –Β―¹–Μ–Η –≤–¥―Ä―É–≥ –Ψ―²–Κ―Ä–Ψ–Β―²―¹―è –Φ–Ϋ–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ –Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö ―³–Α–Κ―²–Ψ–≤, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ ―ç―²–Η ―³–Α–Κ―²―΄ –¥–Μ―è –Ϋ–Α―¹ –Ζ–≤―É―΅–Α―² ―É–Ε–Β –Ω–Ψ-–¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ―É. –ù–Ψ –Ψ–±–Ψ –≤―¹–Β–Φ –Ω–Ψ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ―É. –Γ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –Ψ–± ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η–Κ–Β. –û–Ϋ–Α –≤–Α―Ä–Η―²―¹―è –Ϋ–Β –≤ –±–Β–Ζ–≤–Ψ–Ζ–¥―É―à–Ϋ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―¹―²–≤–Β, –Η –Ζ–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Β –¥–≤–Α–¥―Ü–Α―²―¨ –Μ–Β―² –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ä–Ψ―¹–Μ–Α –≤ –Φ–Η―Ä–Ψ–≤―É―é ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η–Κ―É, –Η –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –Β―¹―²―¨ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω–Μ―é―¹―΄ –Η ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Φ–Η–Ϋ―É―¹―΄. –ü–Μ―é―¹―΄ –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Μ―é–±–Ψ–Β ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Β―Ä–Β–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η–Β ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Ψ–≤ –Η –¥–Β–Ϋ–Β–Ε–Ϋ―΄―Ö ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤ –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ϋ–Β―¹–Β―² –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ―¨, –Η –Ϋ–Β―¹–Μ―É―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄ –Φ–Β―΅―²–Α―é―² –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Η―Ö ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η―é –¥–≤–Η–≥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Κ–Α–Κ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Ψ–≤, –Α –Β―â–Β –Μ―É―΅―à–Β βÄî –¥–Β–Ϋ–Β–≥. –û–¥–Η–Ϋ ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä: ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ –ö–Η―Ä–≥–Η–Ζ–Η―è –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α―¹―¨ –Φ–Β–Ε–¥―É –ö–Η―²–Α–Β–Φ, ―¹ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄, –Η –±―΄–≤―à–Η–Φ –Φ–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Φ ¬Ϊ–ß–Β―Ä–Κ–Η–Ζ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ¬Μ, ―¹ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι, –Ϋ–Α –Β–Β ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Η –Β–Ε–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Ψ―¹–Β–¥–Α–Μ–Ψ –Ψ―² ―²―Ä–Β―Ö –¥–Ψ –Ω―è―²–Η –Φ–Η–Μ–Μ–Η–Α―Ä–¥–Ψ–≤ –¥–Ψ–Μ–Μ–Α―Ä–Ψ–≤ βÄî –Ω―Ä–Η–Μ–Η–Ω–Α–Μ–Ψ –Κ –Ω–Μ–Ψ–¥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Η―Ä–≥–Η–Ζ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ―΅–≤–Β. –ù–Ψ ―ç―²–Ψ, ―²–Α–Κ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, –Ω–Β―Ä–≤–Η―΅–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Η―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Η–Β ―΅―É–Ε–Η―Ö –¥–Β–Ϋ–Β–≥. –ï―¹―²―¨ –Β―â–Β –±–Ψ–Μ–Β–Β ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β βÄî –≤―²–Ψ―Ä–Η―΅–Ϋ–Ψ–Β. –ù–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –¥–Β–Μ–Β, –≤ –Φ–Η―Ä–Β ―¹―É―â–Β―¹―²–≤―É–Β―² –¥–≤–Α ―Ä―΄–Ϋ–Κ–Α –¥–Μ―è –¥–Β–Ϋ–Β–≥ –≤–Ψ –≤―¹–Β―Ö –Η―Ö –Η–Ω–Ψ―¹―²–Α―¹―è―Ö –Η –¥–≤–Α ―Ä―΄–Ϋ–Κ–Α –¥–Μ―è ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Ψ–≤. –Γ–Κ–Α–Ε–Β–Φ, –Κ―²–Ψ-―²–Ψ –¥–Ψ–±―΄–≤–Α–Β―² 100 –Φ–Η–Μ–Μ–Η–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ ―²–Ψ–Ϋ–Ϋ –Ϋ–Β―³―²–Η –≤ –≥–Ψ–¥ –Η –≤―΄―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―² –≤―¹―é –Β–Β –Ϋ–Α ―Ä―΄–Ϋ–Ψ–Κ. –ù–Ψ –Ϋ–Β –≤―¹–Β –Β–Β –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –Ω–Ψ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Η ―²–Ψ –Ε–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ϋ–Α –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Β –Η–Ζ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ ―²―Ä―É–±―΄, –≥–¥–Β ―¹―²–Ψ–Η―² –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–Κ―É–Ω–Α―²–Β–Μ―¨ ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ϋ–Α–Μ–Η–≤–Α–Ι–Κ–Ψ–Ι. –û―² –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―²–Α –¥–Ψ–±―΄―΅–Η –Ϋ–Β―³―²–Η –¥–Ψ –Β–Β –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ψ–±―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η―² –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ ―¹―Ä–Ψ–Κ, –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Β–Β –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–¥–Α―é―², –Α –Ω–Β―Ä–Β–Ω―Ä–Ψ–¥–Α―é―² –≤ ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–Φ –¥–Ψ 200 ―Ä–Α–Ζ. –ü–Ψ–Μ―É―΅–Α–Β―²―¹―è, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α ―Ä―΄–Ϋ–Κ–Β –≤–Φ–Β―¹―²–Ψ ―¹–Κ―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ –¥–Ψ–±―΄―²―΄―Ö 100 –Φ–Η–Μ–Μ–Η–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ ―²–Ψ–Ϋ–Ϋ –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α―é―² ―Ü–Η―Ä–Κ―É–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ 20 –Φ–Η–Μ–Μ–Η–Α―Ä–¥–Ψ–≤ ―²–Ψ–Ϋ–Ϋ. –≠―²–Ψ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω―Ä–Η–≤–Μ–Β–Κ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ, –Β―¹–Μ–Η –¥–Α–Ε–Β –Ω―Ä–Η –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Ι –Ω–Β―Ä–Β–Ω―Ä–Ψ–¥–Α–Ε–Β –¥–Ψ–±–Α–≤–Μ―è―²―¨ –Κ ―Ü–Β–Ϋ–Β –Φ–Α–Μ―É―é ―²–Ψ–Μ–Η–Κ―É, ―²–Ψ –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ―¨ –≤―¹–Β ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ –±―É–¥–Β―² ―²–Α–Κ–Ψ–Ι, ―΅―²–Ψ ―É –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö, –Κ–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¹―è, ¬Ϊ―¹–Ϋ–Ψ―¹–Η―² –Κ―Ä―΄―à―ɬΜ. –ü–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α―é, ―΅―²–Ψ –≤―΄ –Ω–Ψ–Κ–Α –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²–Β―¹―¨ –≤ –Ϋ–Β–¥–Ψ―É–Φ–Β–Ϋ–Η–Η, –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Β –¥–Ψ–≥–Α–¥―΄–≤–Α―è―¹―¨, ―΅―²–Ψ ―¹–Α–Φ ―³–Α–Κ―² –Ω―Ä–Ψ–¥–Α–Ε–Η –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Β –Ϋ–Β―³―²–Η, –Α –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Α –Ω–Ψ–¥ –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ ¬Ϊ–Ϋ–Β―³―²―¨¬Μ, –Ω―Ä–Η–Ϋ–Ψ―¹–Η―² –±–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ―É―é –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ―¨. –ü–Ψ―è―¹–Ϋ―è―é: –¥–Ψ–Ω―É―¹―²–Η–Φ, –Φ–Β–Ε–¥―É –¥–Ψ–±―΄―²―΅–Η–Κ–Ψ–Φ –Ϋ–Β―³―²–Η –Η –Ω–Ψ–Κ―É–Ω–Α―²–Β–Μ–Β–Φ –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Α–Β―²―¹―è –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Α–Κ―² –Ϋ–Α –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Κ―É –Ϋ–Β―³―²–Η ―¹ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –≤ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Β―¹―è―Ü–Β–≤. –ù–Η–Κ―²–Ψ –Ϋ–Β –Φ–Β―à–Α–Β―² –≤–Μ–Α–¥–Β–Μ―¨―Ü―É –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Α–Κ―²–Α –≤ –Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Η–Η –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Κ–Η –Ω–Β―Ä–Β–Ω―Ä–Ψ–¥–Α―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Α–Κ―² –Η–Μ–Η –Ϋ–Β–Κ–Η–Ι ―é―Ä–Η–¥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―² –Β–≥–Ψ –Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ―è―é―â–Η–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β―² ―¹–≤–Ψ―é ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨. –‰ ―²–Α–Κ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ. –Γ –Κ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ-―²–Ψ –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―²–Α ―¹–Ψ–≤–Ψ–Κ―É–Ω–Ϋ–Α―è –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ –Ψ―² ¬Ϊ–≤–Ψ–Ζ–¥―É―à–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Β―³―²–Η¬Μ –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β―² –Ω―Ä–Β–≤―΄―à–Α―²―¨ ―²―É, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –Κ–Μ–Α–¥–Β―² ―¹–Β–±–Β –Κ–Α―Ä–Φ–Α–Ϋ –Β–Β –¥–Ψ–±―΄―²―΅–Η–Κ. –≠―²–Ψ –≤―¹–Β –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η―², –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä―è –Κ–Ψ–Φ–Ω―¨―é―²–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Β―Ö–Ϋ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η–Η –Η –Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ ―³–Η–Ϋ–Α–Ϋ―¹–Ψ–≤―΄–Φ –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Φ–Β–Ϋ―²–Α–Φ, ―Ä–Α–Ζ–¥―É–≤–Α―é―â–Η–Φ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―à–Ϋ―΄–Β –Ω―É–Ζ―΄―Ä–Η. –Δ–Α–Κ–Ψ–≤–Α ―¹―É–¥―¨–±–Α ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è―à–Ϋ–Β–Ι –Ϋ–Β―³―²–Η βÄî –Κ–Ψ―Ä–Φ–Η―²―¨ ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι, –Ϋ–Ψ –Η –≤–Η―Ä―²―É–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―Ä―΄–Ϋ–Ψ–Κ. –‰―¹―²–Ψ―Ä–Η―è ―¹ –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Α–Φ–Η –≤―΄–≥–Μ―è–¥–Η―² –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ ―²–Α–Κ –Ε–Β. –Γ–Α–Φ―΄–Φ–Η –Ω–Ψ–Ω―É–Μ―è―Ä–Ϋ―΄–Φ–Η ―è–≤–Μ―è―é―²―¹―è –¥–≤–Α –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ–Α βÄî ―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–≤–Μ―è –Ϋ–Α FOREXe –Η ―²–Α–Κ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ–Ψ–Β ¬Ϊ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β ―Ä–Η―¹–Κ–Α–Φ–Η¬Μ. –£ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β, ―²―Ä–Β–Ι–¥–Β―Ä –Ϋ–Α –Κ–Α–Ε–¥―É―é ―²―΄―¹―è―΅―É ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –¥–Β–Ϋ–Β–≥ –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―²―¨ –Κ―Ä–Α―²–Κ–Ψ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι –Κ―Ä–Β–¥–Η―² –≤ 200 ―Ä–Α–Ζ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β (–Ψ–Ω―è―²―¨ ―ç―²–Η –Ω―Ä–Β―¹–Μ–Ψ–≤―É―²―΄–Β ¬Ϊ200 ―Ä–Α–Ζ¬Μ). –ü―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ –±–Α–Ϋ–Κ –Ϋ–Β ―²–Β―Ä―è–Β―² –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ, –Ψ―²–Ζ―΄–≤–Α―è ―¹–≤–Ψ–Ι –Κ―Ä–Β–¥–Η―² –Η –Ω―Ä–Η–Ϋ―É–¥–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Κ―Ä―΄–≤–Α―è ―¹–¥–Β–Μ–Κ―É –Κ–Α–Κ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ―΄–Ι ―É–±―΄―²–Ψ–Κ –Ω―Ä–Η–±–Μ–Η–Ε–Α–Β―²―¹―è –Κ –≤–Β–Μ–Η―΅–Η–Ϋ–Β ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤, –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É–Β–Φ―΄―Ö ―²―Ä–Β–Ι–¥–Β―Ä–Ψ–Φ. –£ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β ―¹ ¬Ϊ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―Ä–Η―¹–Κ–Α–Φ–Η¬Μ –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η―² ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–Β. –î–Ψ–Ω―É―¹―²–Η–Φ, –≤―΄ –Ψ–±―Ä–Α―²–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ –±–Α–Ϋ–Κ ―¹ –Ω―Ä–Ψ―¹―¨–±–Ψ–Ι –≤―΄–¥–Α―²―¨ –≤–Α–Φ –Κ―Ä–Β–¥–Η―² –Ϋ–Α ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Β–¥–Ω―Ä–Η―è―²–Η―è. –ü―Ä–Ψ―¹–Η―²–Β 500 –Φ–Η–Μ–Μ–Η–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –¥–Β–Ϋ–Β–Ε–Ϋ―΄―Ö –Β–¥–Η–Ϋ–Η―Ü. –ë–Α–Ϋ–Κ –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Η―Ö –¥–Α―²―¨, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –≥–Ψ―²–Ψ–≤ –±―Ä–Α―²―¨ –Ϋ–Α ―¹–Β–±―è –≤–Β―¹―¨ ―Ä–Η―¹–Κ –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―²–Α, –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ψ–Ϋ –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Α–Β―² 100 –±―É–Φ–Α–Ε–Β–Κ, –≤ ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Η–Η ―¹ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ–Η ―¹―²–Ψ –Ω–Ψ–Κ―É–Ω–Α―²–Β–Μ–Β–Ι ―ç―²–Η―Ö –±―É–Φ–Α–Ε–Β–Κ –Ϋ–Β―¹―É―² ―Ä–Η―¹–Κ–Η –Ω–Ψ 1 –Φ–Η–Μ–Μ–Η–Ψ–Ϋ―É –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―²–Α, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α―è –Ζ–Α ―ç―²–Ψ –Κ–Α–Κ―É―é-―²–Ψ ―΅–Α―¹―²―¨ –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ–Η –±–Α–Ϋ–Κ–Α-–Κ―Ä–Β–¥–Η―²–Ψ―Ä–Α. –ù–Ψ ―¹ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―²–Α –±―É–Φ–Α–Ε–Κ–Η –Ε–Η–≤―É―² ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨―é βÄî –Η―Ö –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–¥–Α–≤–Α―²―¨ –Η –Ω–Ψ–Κ―É–Ω–Α―²―¨ –≤ –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–¥–Β –Ϋ–Α –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ―¨. –Δ–Α–Κ –Η–Μ–Η –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ ―²–Α–Κ –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Α–Β―² –≤–Η―Ä―²―É–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―³–Η–Ϋ–Α–Ϋ―¹–Ψ–≤―΄–Ι ―Ä―΄–Ϋ–Ψ–Κ, ―É –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Β―¹―²―¨ –Ω–Μ―é―¹ βÄî –≤–Ψ –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö, –Ψ–Ϋ ―¹–≤―è–Ζ―΄–≤–Α–Β―², –Κ–Α–Κ ―Ü–Β–Φ–Β–Ϋ―², –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Β –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –Ϋ–Η―΅–Β–Φ –Ϋ–Β –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –¥–Β–Ϋ–Β–≥, –Α, –≤–Ψ-–≤―²–Ψ―Ä―΄―Ö, –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–≤–Α–Β―² –±–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ–Η –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―É–Ζ–Κ–Ψ–Φ―É –Κ―Ä―É–≥―É –Μ–Η―Ü. –€–Η–Ϋ―É―¹ –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Α–Β―²―¹―è –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Κ–Ψ―ç―³―³–Η―Ü–Η–Β–Ϋ―² ―Ö200 –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–≤–Α–Β―² –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ–Η, ―¹ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ–Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Β ―¹―Ä–Α–≤–Ϋ–Η―²―¹―è –Ϋ–Η –Ψ–¥–Ϋ–Α ―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Ω―Ä–Ψ–Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η–≤–Β–¥–Β―² ―¹–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –Κ –¥–Β―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η–Η –≤―¹–Β–Ι ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η–Κ–Η (―΅―²–Ψ ―É–Ε–Β –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Ψ), –Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Κ –Β–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Κ―Ä–Α―¹–Η–≤–Ψ–Φ―É, ―²―Ä–Α–≥–Η–Κ–Ψ–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Κ–Ψ–Μ–Μ–Α–Ω―¹―É. –ï―¹―²―¨ ―²―Ä–Η –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Α: –Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤―è–Μ–Ψ―²–Β–Κ―É―â–Η–Ι –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ–Ϋ―³–Μ–Η–Κ―², –Ω–Ψ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β―²–Β–Κ–Α―é―â–Η–Ι –≤ –Φ–Η―Ä–Ψ–≤―É―é –≤–Ψ–Ι–Ϋ―É; –Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α―è –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥ –Ϋ–Α–¥―É–Φ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–≥–Ψ–Φ ―¹―Ä–Α–Ζ―É, –±–Β–Ζ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η; –Η –±–Ψ–Μ–Β–Β –≥―É–Φ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Α–Φ–Ψ―É–±–Η–Ι―¹―²–≤–Ψ –≤ –≤–Η–¥–Β –Ω–Ψ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η―è –≤―¹–Β―Ö –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ϋ–Β –Φ―΄ ―¹ –≤–Α–Φ–Η –Ϋ–Α–¥–Β–Μ–Α–Μ–Η, –Ϋ–Ψ –Ζ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ϋ–Α–Φ ―¹ –≤–Α–Φ–Η –Ψ―²–≤–Β―΅–Α―²―¨. –Δ―É―² –Ω–Ψ―Ä–Α ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η―²―¨: –Ψ―²–Κ―É–¥–Α –±–Β―Ä―É―²―¹―è –¥–Ψ–Μ–≥–Η? –î–Β–Μ–Ψ –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ―¨, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è ―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä―É–Β―²―¹―è –Ϋ–Α –≤–Η―Ä―²―É–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Ϋ―΄―Ö –Η ―³–Η–Ϋ–Α–Ϋ―¹–Ψ–≤―΄―Ö ―Ä―΄–Ϋ–Κ–Α―Ö, –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ω―Ä–Β–≤―Ä–Α―â–Α―²―¨―¹―è –≤ ―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Β―¹–Β―΅–Β―² –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü―É. –ê–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ―É―é –≤–Η―Ä―²―É–Α–Μ―¨–Ϋ―É―é –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ―¨ –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è –Ω―Ä–Β–≤―Ä–Α―²–Η―²―¨ –≤ –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η –≤ –Γ–®–ê, –Α–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ―É―é. βÄî –≤ –ê–Ϋ–≥–Μ–Η–Η, –Α –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ―É―é βÄî –≤ –Λ–†–™. –î–Μ―è –≤―΄–Ω–Μ–Α―²―΄ ―ç―²–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ–Η –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –±―Ä–Α―²―¨ –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η –Ζ–Α –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Α–Φ–Η ―ç―²–Η―Ö ―¹―²―Ä–Α–Ϋ. –£ ―¹–Ω–Η―¹–Κ–Β –Ε–Β―Ä―²–≤ ―É–Ε–Β –‰―¹–Ω–Α–Ϋ–Η―è, ―΅–Α―¹―²–Η―΅–Ϋ–Ψ –‰―²–Α–Μ–Η―è (–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –≤ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ζ ―¹–Ω–Α―¹–Α–Β―² –ë–Β―Ä–Μ―É―¹–Κ–Ψ–Ϋ–Η), ―΅–Α―¹―²–Η―΅–Ϋ–Ψ –‰―Ä–Μ–Α–Ϋ–¥–Η―è, –Ω―Ä–Β―¹–Μ–Ψ–≤―É―²―΄–Ι –ö–Η–Ω―Ä. –ù–Α –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Η, ―¹–Κ–Ψ―Ä–Β–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ, –¦–Η―Ö―²–Β–Ϋ―à―²–Β–Ι–Ϋ –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Ψ―³―à–Ψ―Ä–Ϋ―΄–Β ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Η, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –≤–Φ–Β―¹―²–Ψ ―΅―¨–Η―Ö-―²–Ψ –¥–Β–Ϋ–Β–≥ –Ψ―¹―²–Α–Ϋ―É―²―¹―è –¥–Ψ–Μ–≥–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –≤―¹―ë ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ ―¹–Ω–Η―à―É―². –£–Ψ –≤―¹–Β–Φ ―ç―²–Ψ–Φ –±–Β–Ζ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Η–Η ―Ä–Ψ–Μ―¨ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η ―¹–≤–Ψ–¥–Η―²―¹―è –Κ ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é ―²–Ψ–≥–Ψ,―΅―²–Ψ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è ¬Ϊ―Ä–Β–Ζ–Β―Ä–≤–Ϋ―΄–Φ–Η –≤–Α–Μ―é―²–Α–Φ–Η¬Μ, –Η ―¹–Κ―Ä―΄―²–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–Ω–Η―²–Κ–Β –Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ―΄―Ö ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η–Κ. –ü–Ψ–¥–Ω–Η―²–Κ–Α –Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Μ―è–Β―²―¹―è ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―ç–Μ–Β–≥–Α–Ϋ―²–Ϋ―΄–Ι –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ–Α ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –¥–Β–Ϋ–Β–≥ –≤ ―Ä–Β–Ζ–Β―Ä–≤–Ϋ―΄―Ö –≤–Α–Μ―é―²–Α―Ö. –î–Β–Μ –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Β―¹–Μ–Η –≤–Ζ―è―²―¨ –≤―¹―é –¥–Β–Ϋ–Β–Ε–Ϋ―É―é –Φ–Α―¹―¹―É ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄, ―²–Ψ –Ψ–Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è –≤–Α–Μ―é―²–Α ―²–Β―Ä―è–Β―² –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ω–Ψ–Κ―É–Ω–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―²―É ―΅–Α―¹―²―¨, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è ―ç–Κ–≤–Η–≤–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Α –¥–Β–Ϋ–Β–Ε–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Α―¹―¹–Β, ―Ö―Ä–Α–Ϋ―è―â–Β–Ι―¹―è –Ω–Ψ–¥ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–≥–Α–Φ–Η –Ζ–Α ―Ä―É–±–Β–Ε–Ψ–Φ. –€–Ψ–≥―É –Ψ―à–Η–±–Η―²―¨―¹―è, –Ϋ–Ψ –¥–Μ―è ―Ä―É–±–Μ―è ―ç―²–Ψ―² –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨ ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤―É–Β―² –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ 30%.. –î―Ä―É–≥–Η–Φ–Η ―¹–Μ–Ψ–≤–Α–Φ–Η, ―²―Ä–Β―²―¨ –≤―¹–Β–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ –Φ―΄ –Ζ–Α―Ä–Α–±–Α―²―΄–≤–Α–Β–Φ, ―²―Ä–Α―²–Η―² –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Η –Ϋ―É–Ε–¥―΄ ―΅―É–Ε–Ψ–Ι –¥―è–¥―è –≤ –Ω―Ä–Ψ―Ü–≤–Β―²–Α―é―â–Β–Ι –Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β. –Δ–Ψ–≤–Α―Ä–Ϋ–Ψ–Β –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ –¥–Μ―è ―²–Ψ–≥–Ψ,―΅―²–Ψ–±―΄ –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η ―Ö–Ψ―²―¨ –≤ –Κ–Α–Κ–Ψ–Φ-―²–Ψ –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Β –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Α–Φ–Η. –ù–Ψ –Β―¹―²―¨ –Β―â–Β –Ψ–¥–Η–Ϋ –Ϋ―é–Α–Ϋ―¹: –Β―¹–Μ–Η –Φ―΄ –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Η ―²–Ψ–≤–Α―Ä, βÄî –Ϋ–Β―³―²―¨, –≥–Α–Ζ, ―¹―²–Α–Μ―¨, ―Ü–Β–Φ–Β–Ϋ―², –Κ–Α–Μ–Η–Ι–Ϋ―΄–Β ―É–¥–Ψ–±―Ä–Β–Ϋ–Η―è –Η ―².–Ω., βÄî –Ϋ–Α 100 –Φ–Η–Μ–Μ–Η–Α―Ä–¥–Ψ–≤ –¥–Ψ–Μ–Μ–Α―Ä–Ψ–≤, ―ç―²–Ψ –Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Β―², ―΅―²–Ψ ―²–Β, –Κ―²–Ψ –Η–Φ–Β–Β―² –¥–Ψ―¹―²―É–Ω –Κ –≤–Η―Ä―²―É–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ―É ―Ä―΄–Ϋ–Κ―É, –Φ–Ψ–≥―É―² –≤―΄–±―Ä–Ψ―¹–Η―²―¨ –Ϋ–Α –Ϋ–Β–≥–Ψ –≤ 200 ―Ä–Α–Ζ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –¥–Β–Ϋ–Β–≥, ―².–Β. 20 ―²―Ä–Η–Μ–Μ–Η–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –¥–Ψ–Μ–Μ–Α―Ä–Ψ–≤ –Η ―¹―²―Ä–Η―΅―¨ –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ―¨ ―É–Ε–Β ―¹ –Ϋ–Η―Ö. –ù–Ψ –¥–Ψ –Ϋ–Α―¹ ―¹ –≤–Α–Φ–Η ―ç―²–Α –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ―¨ –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –¥–Ψ–Ι–¥–Β―² βÄî –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Β―² –≤ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Η–Ζ–±―Ä–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö. –Δ–Α–Κ–Ψ–≤–Α ―¹–Β―Ä–Φ―è–Ε–Ϋ–Α―è –Ω―Ä–Α–≤–¥–Α, –Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι, βÄî ―É–≤―΄!βÄ™ –≤–Α–Φ –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ, –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β –Φ–Β–Ϋ―è, –Ϋ–Β ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ε–Β―². –ï―¹―²―¨ –Β―â–Β –Ψ–¥–Η–Ϋ –Ϋ―é–Α–Ϋ―¹, –Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ ―¹―²–Ψ–Η―² ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨. –£―΄, –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ ―¹–Μ―΄―à–Α–Μ–Η, –Κ–Α–Κ –≤–Α–Φ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η, ―΅―²–Ψ ―É–Κ―Ä–Β–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β ―Ä―É–±–Μ―è ―¹–Ϋ–Η–Ζ–Η―² –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―É―Ä–Β–Ϋ―²–Ψ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Ψ–≤, ―¹–Β–±–Β―¹―²–Ψ–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ψ–±―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–≤―΄―¹–Η―²―¹―è. –≠―²–Ψ –≤―¹–Β –Φ–Η―³. –£ ―¹―²―Ä―É–Κ―²―É―Ä–Β ―¹―²–Ψ–Η–Φ–Ψ―¹―²–Η ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Ψ–≤ ―²―Ä―É–¥–Ψ–Ζ–Α―²―Ä–Α―²―΄ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è―é―² –Ϋ–Β –±–Ψ–Μ―¨―à–Β 20%, –Η–Μ–Η –≤ ―²―Ä–Η ―Ä–Α–Ζ–Α –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β,―΅–Β–Φ –Ϋ–Α –½–Α–Ω–Α–¥–Β, ―²–Ψ–≥–¥–Α –Κ–Α–Κ –Ζ–Α―²―Ä–Α―²―΄, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Α―¹―¹–Ψ―Ü–Η–Η―Ä―É―é―²―¹―è ―É –Ϋ–Α―¹ ―¹–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ–Φ ¬Ϊ―²–Α―Ä–Η―³―΄¬Μ –Ϋ–Β–Ψ–±–Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–Ζ–¥―É―²―΄. –½–Α―΅–Β–Φ –Ϋ–Α–Φ –Ϋ―É–Ε–Ϋ―΄ –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ ―Ä–Α―¹―²―É―â–Η–Β ―²–Α―Ä–Η―³―΄? βÄî –î–Μ―è ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Η–Ϋ–≤–Β―¹―²–Η―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Κ–Μ–Η–Φ–Α―² –†–Ψ―¹―¹–Η–Η –Ϋ–Β ―²–Β―Ä―è–Μ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ω―Ä–Η–≤–Μ–Β–Κ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –û–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è, –Β―¹–Μ–Η –Φ―΄ –±―É–¥–Β–Φ –Ω–Μ–Α―²–Η―²―¨ –Ω–Ψ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–≥–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ ―²–Α―Ä–Η―³–Α–Φ, –Ϋ–Α―à–Η –Η–Ϋ–≤–Β―¹―²–Ψ―Ä―΄ –Φ–Ψ–≥―É―² –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è―²―¨ –¥–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É―²–Ψ―Ä–Α ―²―Ä–Η–Μ–Μ–Η–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ ―Ä―É–±–Μ–Β–Ι –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ–Η –Η –Ϋ–Α–≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ω–Ψ–Κ–Η–Ϋ―É―² –†–Ψ―¹―¹–Η―é. –£–Ψ―² –Η –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Β―²―¹―è, ―΅―²–Ψ ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –≤―¹–Β –Φ―΄ –Ε–Η–≤–Β–Φ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Μ―è ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α―²―¨ –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ―΄–Ι –Η–Ϋ–≤–Β―¹―²–Η―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Κ–Μ–Η–Φ–Α―². –Δ–Α–Κ –≤―΄–≥–Μ―è–¥–Η―² ―²–Α ―¹―Ä–Β–¥–Α, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è ―¹―É―â–Β―¹―²–≤―É–Β―² –Ϋ–Α―à–Α ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η–Κ–Α. –≠―²–Α ―¹―Ä–Β–¥–Α –¥–Μ―è –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Β―¹–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Μ–Η–≤–Α –Η –¥–Α–Ε–Β –≤―Ä–Α–Ε–¥–Β–±–Ϋ–Α –ß―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Η–Ϋ―²―Ä–Η–≥–Ψ–≤–Α―²―¨, ―è –Ψ―²–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –Ϋ–Α –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―Ä–Α―¹―¹―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ψ –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Β –±–Η―Ä–Ε –Η –Ψ –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Β –Φ―è–≥–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η―è. –£ –Ϋ―΄–Ϋ–Β―à–Ϋ–Β–Ι ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η–Η –Ψ–±–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –†–Ψ―¹―¹–Η―è, –Ϋ–Ψ –Η –ö–Η―²–Α–Ι –Η –·–Ω–Ψ–Ϋ–Η―è. –û―΅–Β–Ϋ―¨ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ–Ψ ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β –Ω–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Β –‰–Ϋ–¥–Η–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―Ä–Β―à–Η―²―¨ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Η―Ö ―²–Β―Ö –Ζ–Α–¥–Α―΅, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―¹―²–Ψ―è―² –Ω–Β―Ä–Β–¥ –†–Ψ―¹―¹–Η–Β–Ι ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è. –ù–Ψ ―ç―²–Ψ –≤―¹―ë –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–¥–Ϋ–Β–Β. 16 –Ψ–Κ―²―è–±―Ä―è 2013 –≥.  –Π–≤–Β―²―΄ –Ϋ–Α –Ψ–Κ–Ϋ–Β –Π–≤–Β―²―΄ –Ϋ–Α –Ψ–Κ–Ϋ–Β–î–Α, –Φ―΄ ―¹ ―²–Ψ–±–Ψ–Ι –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β–Φ –±―΄―²―¨ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ–Η βÄ™ –Δ–Β–±―è ―É–Ε –Ϋ–Β―², –Α –Φ–Ϋ–Β –Ϋ–Β –Ω–Ψ –Ϋ―É―²―Ä―ÉβÄΠ –û–Κ―²―è–±―Ä―¨―¹–Κ–Α―è –Ϋ–Β―¹–±―΄―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ βÄî –Κ–Α–Κ –Η–Ϋ–Β–Ι, –†–Α―¹―²–Α―è―²―¨ –Ϋ–Β ―É―¹–Ω–Β–≤―à–Η–Ι –Ω–Ψ ―É―²―Ä―É. –û–Κ―²―è–±―Ä―¨―¹–Κ–Α―è –Ϋ–Β―¹–±―΄―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η–Ι, –Γ–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Η–Β –Κ–Α–Κ –Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―É―Ö–Ψ–¥. –‰ –≤―¹―ë, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨, βÄî –≤―¹―ë –Ζ–Α –Ϋ–Α–Φ–Η, –£―¹―ë, ―΅―²–Ψ ―¹–Μ―É―΅–Η―²―¹―è, βÄî –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ–Ι–¥–Β―². –ê –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ϋ–Β ―É―¹–Ω–Β–Β―², –Γ–±―΄–Μ–Α―¹―¨ –Μ–Η―à―¨ –Ψ―¹–Β–Ϋ―¨ βÄî –Ζ–Α ―¹–Ω–Η–Ϋ–Ψ–Ι –ü–Ψ–Κ―Ä–Ψ–≤. –û–Ω―è―²―¨ –Η–¥―É―² –Ϋ–Β–±–Β―¹–Ϋ―΄–Β –Κ―É–Ω–Β–Μ–Η, –¦–Η―à–Α―è ―¹–Ψ–Μ–Ϋ―Ü–Α –Η ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤―΄―Ö ―¹–Μ–Ψ–≤. –ù–Β―¹–±―΄―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ βÄî –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü ―¹–Κ–Η―²–Α–Ϋ–Η–Ι –‰―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²―¹―è –Η –Ζ–Α–≤–Β―Ä―à–Η―² ―΅–Β―Ä―ë–¥. –‰ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―É–Κ―Ä–Α―à―É ―è ―Ü–≤–Β―²–Α–Φ–Η –Γ–≤–Ψ―ë –Ψ–Κ–Ϋ–Ψ, –Η –Ψ―¹–Β–Ϋ―¨ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–¥–Β―²! 15 –Ψ–Κ―²―è–±―Ä―è 2013 –≥.
17.10.201311:0917.10.2013 11:09:10
0
17.10.201311:0217.10.2013 11:02:23
–£ ―ç―²–Ψ―² –Ε–Β –¥–Β–Ϋ―¨, –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ, –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α―è –Ϋ–Β–Η–Ζ–±–Β–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –Κ –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨―é –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä 10-–≥–Ψ ―¹–Κ –Ω―Ä–Η―¹―²―É–Ω–Η–Μ –Κ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Ι ―΅–Α―¹―²–Η ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α - –Ψ –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η –Β–Φ―É ―΅–Α―¹―²–Β–Ι –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≥–Α―Ä–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–Ϋ–Α. 2.08 –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―² –Γ–½–ù –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―² –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É ―¹–Ψ–≤–Β―²―É –ö–ë–Λ: ¬Ϊ–ù–Α –±–Μ–Η–Ε–Α–Ι―à–Η–Β 3-4 –¥–Ϋ―è –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η―²―¨ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α–¥–Α―΅ –Ω–Ψ ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―é –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α 8 –Α―Ä–Φ–Η–Η, –≤―΄–¥–Β–Μ―è―è –¥–Μ―è ―ç―²–Ψ–Ι ―Ü–Β–Μ–Η –Β–Ε–Β–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ―΄ –±–Ψ–Φ–±–Α―Ä–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Η –Η―¹―²―Ä–Β–±–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Η –ö–ë–Λ¬Μ [–¥–Ψ–Κ. ⳕ 150]. –ê –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―² –Γ–Λ –Ω―Ä–Ψ―¹–Η―² –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―² –ö–ë–Λ –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –£–£–Γ –ö–ë–Λ –Ζ–Α–¥–Α―΅–Η: ¬Ϊ–û―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ―É –Φ–Ψ―²–Ψ-–Φ–Β―Ö. –≤–Ψ–Ι―¹–Κ –Ω―Ä-–Κ–Α –Ϋ–Α –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Β –ù–Α―Ä–≤–Α - –™–¥–Ψ–≤ –Η –≤–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Φ –±–Β―Ä–Β–≥―É ―Ä–Β–Κ–Η –ù–Α―Ä–≤–Α –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –Γ–Κ―Ä―è–≥–Η–Ϋ–Α –≥–Ψ―Ä–Α, –€–Α–Μ–Η–Ϋ―Ü–Β–≤–Ψ, –†–Α–¥–Ψ–≤–Β–Μ–Η. –ü―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²―¨ –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–Ζ–Κ―É –Ω–Ψ –Ε–Β–Μ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Β 118 ―¹–¥ –Ϋ–Α ―É―΅–Α―¹―²–Κ–Β –ù–Α―Ä–≤–Α, –†–Α–Κ–≤–Β―Ä–Β, –ö–Α–±–Α–Μ–Α. –ê–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ ―΅–Α―¹―²―è–Φ –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²–Η―è 8–ê –≤ –Ψ―²―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ω―Ä-–Κ–Α¬Μ [–¥–Ψ–Κ. ⳕ 151]. –ü―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ –Ζ–Α–¥–Α―΅–Η –Ω–Ψ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è–Φ –Ϋ–Α –Φ–Ψ―Ä–Β, –≤ ―΅–Α―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≤ –†–Η–Ε―¹–Κ–Ψ–Φ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Β, –Ω–Ψ –Ω―Ä–Β―¹–Β―΅–Β–Ϋ–Η―é ―¹–Ϋ–Α–±–Ε–Β–Ϋ–Η―è –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ –Α―Ä–Φ–Η–Ι ¬Ϊ–Γ–Β–≤–Β―Ä¬Μ ―¹ –£–£–Γ –ö–ë–Λ –Ϋ–Β ―¹–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η―¹―¨. 3.08 –≤ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β 8–ê –≤―¹―²―É–Ω–Η–Μ –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –ü.–Γ.–ü―à–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―² ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Ϋ―΄–Φ–Η ―É–¥–Α―Ä–Α–Φ–Η ―Ä–Α–Ζ―ä–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –≤–Ψ–Ι―¹–Κ 10-–≥–Ψ –Η 11-–≥–Ψ ―¹–Κ ―Ä–Α–Ζ–≥―Ä–Ψ–Φ–Η―²―¨ –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –Δ–Α–Ω–Α –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Α―é―â―É―é –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ―É―é –≥―Ä―É–Ω–Ω–Η―Ä–Ψ–≤–Κ―É, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―΅–Β–≥–Ψ –Ψ–±―ä–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹–Η–Μ–Α–Φ–Η –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨ ―É–Ω–Ψ―Ä–Ϋ―É―é –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―É –Ϋ–Α –ù–Α―Ä–≤―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω–Β―Ä–Β―à–Β–Ι–Κ–Β. –ï–≥–Ψ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β βÄî ¬Ϊ–Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―É –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Α –≤–Ψ–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨ –Ϋ–Α –ö–ë–Λ¬Μ [–¥–Ψ–Κ. ⳕ 152], –Ψ ―΅–Β–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι 8–ê –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–Φ―É –Γ–Λ.  –ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –ü–£–û –ö–ë–Λ –™.–Γ.–½–Α―à–Η―Ö–Η–Ϋ 5.08, ―É–Ζ–Ϋ–Α–≤ –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ, –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―² –ö–ë–Λ –¥–Ψ–Ϋ–Ψ―¹–Η―² –≥–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ―É –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α–Φ–Η –Γ–½–ù: ¬Ϊ–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Α―Ä–Φ 8 –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ –£–Γ –ö–ë–Λ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Φ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Η ―¹―²―è–Ϋ―É―²―¨ –Ϋ–Α –≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ –Φ–Α–Κ―¹–Η–Φ―É–Φ ―¹–Η–Μ –Η ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤ 10 ―¹–Κ, –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄–≤–Α―é―â–Β–≥–Ψ ―é–Ε–Ϋ–Ψ–Β –Η ―é–≥–Ψ-–Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Ψ–Β (–≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ, –Η–Φ–Β–Μ–Ψ―¹―¨ –≤ –≤–Η–¥―É ―é–≥–Ψ-–≤–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Β. βÄî –†.3.) –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ, ―Ü–Β–Μ―¨―é –Ϋ–Α–Ϋ–Β―¹―²–Η –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ―É ―É–¥–Α―Ä. –Γ–Μ―É―΅–Α–Β –Ϋ–Β―É―¹–Ω–Β―Ö–Α –≤―¹–Β ―¹–Η–Μ―΄ –Ψ―²–≤–Β―¹―²–Η –Ϋ–Α –≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ... –Γ–≤–Ψ–Η―Ö ―¹―É―Ö–Ψ–Ω―É―²–Ϋ―΄―Ö ―¹–Η–Μ –¥–Μ―è ―¹–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α ―³–Μ–Ψ―² –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Β―²¬Μ [–¥–Ψ–Κ. ⳕ 160]. –ù–Β –Ψ–Ε–Η–¥–Α―è –Ψ―²–≤–Β―²–Α, –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―² –ö–ë–Λ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Η ―à―²–Α–± –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α, –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–≤ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Ι –±–Α–Ζ―΄ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –ü–£–û –ö–ë–Λ –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–Φ–Α–Ι–Ψ―Ä–Α –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –™.–Γ.–½–Α―à–Η―Ö–Η–Ϋ–Α. –£–Ψ –≥–Μ–Α–≤–Β –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –≥. –ü–Α–Μ–¥–Η―¹–Κ–Η –±―΄–Μ –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ –Κ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–¥–Α–Ϋ―² –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Ι –±–Α–Ζ―΄ –ö–ë–Λ –Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ –‰.–ê.–ö―É―¹―²–Ψ–≤. –ë―΄–Μ–Η ―Ä–Α–Ζ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Ϋ―΄ –Ω–Μ–Α–Ϋ―΄ –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –≥. –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ –Η –≥. –ü–Α–Μ–¥–Η―¹–Κ–Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅–Α―¹―²―è–Φ–Η –ö–ë–Λ.  –ö–Ψ–Φ–Β–Ϋ–¥–Α–Ϋ―² –ë–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –™–ë –ö–ë–Λ –‰.–ê.–ö―É―¹―²–Ψ–≤ 6.08 –≤ –Ψ―²–≤–Β―² –Ϋ–Α –Ω―Ä–Η–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –≤―΄―à–Β –¥–Ψ–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η–Β –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―² –ö–ë–Λ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Η–≤―É –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―²–Α –Γ–½–ù, ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–≤―à―É―é: ¬Ϊ–ü―Ä–Η–Ϋ―è―²―¨ –≤―¹–Β –Φ–Β―Ä―΄ –¥–Μ―è –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α¬Μ [–¥–Ψ–Κ. ⳕ 169]. –ü―Ä–Η–Φ–Β―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–Φ―É 8–ê ―ç―²–Α –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Η–≤–Α –Α–¥―Ä–Β―¹–Ψ–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Μ–Η―à―¨ –≤ –Κ–Ψ–Ω–Η–Η, ―².–Β. –Ϋ–Β –¥–Μ―è –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è, –Α –¥–Μ―è –Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η–Η. –Γ–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ―΅–Β–≤–Η–¥–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ ―¹ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―²–Α –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ζ–Α –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―É –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α ―³–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –≤–Ψ–Ζ–Μ–Α–≥–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α –ö–ë–Λ, ―΅―²–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι 8–ê –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Α–≥–Α–Μ ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ –Β―â–Β 3.08. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―ç―²–Ψ―² –¥–Β–Ϋ―¨, 6 –Α–≤–≥―É―¹―²–Α 1941 –≥., –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ, ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² ―¹―΅–Η―²–Α―²―¨ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ–Φ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ ―ç―²–Α–Ω–Α –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η. 7.08 –≤―΄―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è –≤―΄―à–Β –Φ―΄―¹–Μ―¨ –±―΄–Μ–Α –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Β–Ϋ–Α –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Η–≤–Ψ–Ι ―à―²–Α–±–Α –Γ–Λ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι 8–ê: ¬Ϊ–Γ―΅–Η―²–Α―é –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Η–Ι –Ψ―²―Ö–Ψ–¥ –Κ–Α–Κ –†–Α–Κ–≤–Β―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Ι –≥―Ä―É–Ω–Ω–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Η, ―²–Α–Κ –Η –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Α –Ϋ–Β–¥–Ψ–Ω―É―¹―²–Η–Φ―΄–Φ –Η –Ω―Ä–Β―¹―²―É–Ω–Ϋ―΄–Φ... 10 ―¹–Κ –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –Ϋ–Β –Ψ―²―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –Ϋ–Α –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ, –Α –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Α―²―¨ –Ϋ–Α –≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ, ―¹ ―²–Β–Φ ―΅―²–Ψ–±―΄ ―¹–Ψ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –£–Α–Φ –≤ ―Ä–Α–Ζ–≥―Ä–Ψ–Φ–Β –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α¬Μ [–¥–Ψ–Κ. ⳕ 174]. 7.08 –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η–Β –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α –≤―΄―à–Μ–Η –Ϋ–Α –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨–Β –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –ö―É–Ϋ–¥–Α. –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Α―è –±–Α–Ζ–Α –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Η–Β―¹―è –≤ –Ϋ–Β–Ι ―¹–Η–Μ―΄, –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ―΄ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Η ―²―΄–Μ–Ψ–≤―΄–Β –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ―΄ –ö–ë–Λ –≤–Ψ –≥–Μ–Α–≤–Β ―¹ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―¹–Ψ–≤–Β―²–Ψ–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Α, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β 10-–Ι ―¹–Κ 8–ê –Γ–Λ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ ―²―΄–Μ―É –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α, –Ψ―²―Ä–Β–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ψ―² ¬Ϊ–±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Ζ–Β–Φ–Μ–Η¬Μ. 8.08 ―²–Β–Φ –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β 10-–Ι ―¹–Κ –Ω–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ―É –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ 8–ê –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨, –Κ–Α–Κ –Η 5.08, –Ω―΄―²–Α–Μ―¹―è –≤–Ψ―¹―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Η―²―¨―¹―è ―¹ 11-–Φ ―¹–Κ, –Ϋ–Ψ –Ψ–Ω―è―²―¨ –Ϋ–Β―É–¥–Α―΅–Ϋ–Ψ. –£ –Ψ―²–≤–Β―² –Ϋ–Α ―è–≤–Ϋ–Ψ–Β –Ϋ–Α–Φ–Β―Ä–Β–Ϋ–Η–Β ―É–≤–Β―¹―²–Η 10-–Ι ―¹–Κ –Η–Ζ-–Ω–Ψ–¥ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―² –ö–ë–Λ –Ψ–±―Ä–Α―²–Η–Μ―¹―è –Κ –≥–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ―É –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α–Φ–Η –Γ–½–ù, –Ϋ–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ―É –£–€–Λ –Η –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―é –≥–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ–Α –Γ–½–ù –Ω–Ψ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η ―¹ –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ: ¬Ϊ–û―¹―²–Α―²–Κ–Η 10 ―¹–Κ –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ–Η―²―¨ –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²―É ―¹ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Ζ–Α–¥–Α―΅–Β–Ι –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α –Η –Ϋ–Β ―¹–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨ –≤–Ψ–Ι―¹–Κ ―¹ –Ζ–Α–Ϋ―è―²―΄―Ö 10 ―¹–Κ ―Ä―É–±–Β–Ε–Β–Ι¬Μ [–¥–Ψ–Κ. ⳕ 179].  –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –ö–ë–Λ –£.–Λ.–Δ―Ä–Η–±―É―Ü –ù–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ–Η –≤ –Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Η–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η―è―Ö [–±–Η–±–Μ. ⳕ 22] –Η –¥–Α–Ε–Β ―¹–Α–Φ –±―΄–≤―à–Η–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –ö–ë–Λ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –£.–Λ.–Δ―Ä–Η–±―É―Ü, –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–≤―à–Η–Ι ―²–Β–Κ―¹―² –Ω―Ä–Ψ―Ü–Η―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤―΄―à–Β ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ―΄, –≤ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è―Ö [–±–Η–±–Μ. ⳕ 101] ―É–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é―², ―΅―²–Ψ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―² –ö–ë–Λ –Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ–Η―²―¨ 10-–Ι ―¹–Κ ―³–Μ–Ψ―²―É. –ù–Ψ ―ç―²–Ψ –Ψ―à–Η–±–Κ–Α! –‰ –≤ –Η―¹―Ö–Ψ–¥―è―â–Β–Ι, –Η –≤ ―Ä–Α―¹―à–Η―³―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤―Ö–Ψ–¥―è―â–Β–Ι ―à–Η―³―Ä―²–Β–Μ–Β–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Α―Ö –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η 10-–≥–Ψ ―¹–Κ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²―É2. 2. –Γ–Φ.: –ê–û –Π–£–€–ê. –Λ. 6. –î. 877. –¦. 55-57; –ê–≤―²–Ψ–≥―Ä–Α―³. –Λ. 1. –î. 572. –¦. 48,49. –ü–Ψ–¥–Μ–Η–Ϋ–Ϋ–Η–Κ. 9.08 –≤ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–≤―à–Β–Ι―¹―è –Ϋ–Β–Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―² –ö–ë–Λ –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –Ϋ–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ―É –£–€–Λ: ¬Ϊ–½–Α–¥–Α―΅–Α, –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è 8.08 –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Α―Ä–Φ–Ψ–Φ 8 –Κ-―Ä―É 10 ―¹–Κ –Ψ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Α –≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ, –Ϋ–Β –¥–Α–Β―² –Ϋ–Α–Φ ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, ―΅―²–Ψ –Η ―ç―²–Α ―΅–Α―¹―²―¨ –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Β―²―¹―è –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄–≤–Α―²―¨ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ... –Γ–≤–Ψ–Η―Ö, ―¹―É―Ö–Ψ–Ω―É―²–Ϋ―΄―Ö ―¹–Η–Μ –ö–ë–Λ –Η–Φ–Β–Β―² –Ψ–¥–Ϋ―É –±―Ä–Η–≥–Α–¥―É 2500 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Ω–Μ―é―¹ –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄, ―Ä–Ψ―²―΄, ―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä―É–Β–Φ―΄–Β –Η–Ζ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö ―΅–Α―¹―²–Β–Ι, –¥–Ψ 2000 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ... –Γ―΅–Η―²–Α–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –¥–Α–Ε–Β –Ω―Ä–Η –Η–Ϋ―²–Β–Ϋ―¹–Η–≤–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ–≥–Ϋ–Β ―¹―É–¥–Ψ–≤–Ψ–Ι, –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ–Ι –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Η ―¹―É―Ö–Ψ–Ω―É―²–Ϋ―΄―Ö –≤–Ψ–Ι―¹–Κ –Ϋ–Α ―²–Α–Κ–Ψ–Φ ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Ψ–Φ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Β –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ... –†–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –™–ë –Η–Φ–Β–Β―²―¹―è –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Α―è ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Α: –¥–Ψ 80 –Ζ–Β–Ϋ–Η―²–Ϋ―΄―Ö –Ψ―Ä―É–¥–Η–Ι, –Ω―Ä–Ψ–Ε–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Α, ―¹–Ψ―²–Ϋ–Η ―¹–Ω–Β―Ü–Α–≤―²–Ψ–Φ–Α―à–Η–Ϋ –£–£–Γ, –¥–Ψ 100 ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Ψ–≤, –≤―¹–Β ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ. –î–Μ―è –Ζ–Α―â–Η―²―΄ –™–ë ―³–Μ–Ψ―²–Α –Ϋ―É–Ε–Ϋ―΄ ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤―É―é―â–Η–Β ―¹–Η–Μ―΄ –Η ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É ―¹―΅–Η―²–Α–Β–Φ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ–Φ... –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨ ―ç―²–Ψ―² –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ –ù–ö–û¬Μ [–¥–Ψ–Κ. ⳕ 184]. –ß–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅–Α―¹–Ψ–≤ –Ϋ–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ –£–€–Λ –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ: ¬Ϊ–ù–Β–Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε―É –Ϋ–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ―É –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄. –Γ―²–Α–≤–Κ–Α –Ζ–Ϋ–Α–Β―² –Ψ –≤–Α―à–Β–Φ ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η. –û―² –Ζ–Α―â–Η―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α –Ψ–Ε–Η–¥–Α–Β―²―¹―è, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –≤―΄–¥–Β―Ä–Ε–Α―² –Α―²–Α–Κ―É¬Μ [–¥–Ψ–Κ. ⳕ 185]. –£ ―ç―²–Ψ―² –Ε–Β –¥–Β–Ϋ―¨, ―².–Β. 9.08, –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―² –Γ–Λ –Ψ―²–¥–Α–Μ –Ϋ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü 10-–Φ―É ―¹–Κ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―è―²―¨ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ: ¬Ϊ–ù–Β –¥–Ψ–Ω―É―¹―²–Η―²―¨ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –Ϋ–Η –Ϋ–Α –Ψ–¥–Η–Ϋ ―à–Α–≥ –Κ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―É. –£–Α–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―É–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Η―è ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―Ä―É–±–Β–Ε–Α –≥―Ä–Ψ–Φ–Α–¥–Ϋ–Α –Η –Ψ―΅–Β–≤–Η–¥–Ϋ–Α¬Μ [–¥–Ψ–Κ. 186]. –ë―΄―¹―²―Ä–Ψ –Ε–Β –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Η–Μ–Α―¹―¨ ―²–Ψ―΅–Κ–Α –Ζ―Ä–Β–Ϋ–Η―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Γ–Λ –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨ –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α! –ö―²–Ψ-―²–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥. –Γ–Κ–Ψ―Ä–Β–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ, –Γ―²–Α–≤–Κ–Α ¬Ϊ―¹ –Ω–Ψ–¥–Α―΅–Η¬Μ –Ϋ–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ–Α –£–€–Λ. –£ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β ―΅–Β―²―΄―Ä–Β―Ö –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η―Ö –¥–Ϋ–Β–Ι –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹ –Β―â–Β –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ―΄–Β –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η―Ö –≤–Ψ–Ι―¹–Κ –Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Β–Β –Δ–Α–Ω–Α. 14.08 10-–Ι ―¹–Κ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Ϋ―è–Μ 160-–Κ–Η–Μ–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤―΄–Ι ―²–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Β―Ä–Β–¥–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―Ä―É–±–Β–Ε, –Ω―Ä–Ψ―²―è–Ϋ―É–≤―à–Η–Ι―¹―è –¥―É–≥–Ψ–Ι ―¹ ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ψ-–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Α –Ϋ–Α ―é–≥–Ψ-–Ζ–Α–Ω–Α–¥ - –Ψ―² –Γ–Α–Μ―¨–Φ–Η―¹―²―É –Ϋ–Α –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨–Β –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α –ö–Ψ–Μ–≥–Α –¥–Ψ ―É―¹―²―¨―è ―Ä–Β–Κ–Η –ö–Α–Ζ–Α―Ä–Η, –≤–Ω–Α–¥–Α―é―â–Β–Ι –≤ –†–Η–Ε―¹–Κ–Η–Ι –Ζ–Α–Μ–Η–≤. –ö–Ψ―Ä–Ω―É―¹ –Ϋ–Α―¹―΅–Η―²―΄–≤–Α–Μ –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Β 14,5 ―²―΄―¹. ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –≤ –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö ―΅–Α―¹―²―è―Ö –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ 11 ―²―΄―¹. ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ. –°–≥–Ψ-–½–Α–Ω–Α–¥–Ϋ―É―é ―΅–Α―¹―²―¨ (–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ―΄) ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―Ä―É–±–Β–Ε–Α ―¹ 3.08 –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ –Η ―¹–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Μ –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Φ –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α ―¹–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –Ψ―²―Ä―è–¥ –Ω–Ψ–¥ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α 1-–Ι –Ψ–±―Ä–Φ–Ω –Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –‰.–™.–ö–Ψ―¹―²–Η–Κ–Ψ–≤–Α (3-–Ι –Ψ–±–Φ–Ω 1-–Ι –Ψ–±―Ä–Φ–Ω, 8-–Ι –Ω–Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Ψ―²―Ä―è–¥, ―²―Ä–Η ―Ä–Ψ―²―΄ 47-–≥–Ψ –Η 91-–≥–Ψ –Ψ―¹―²―Ä–±, 1, 4-–Ι –Η 11-–Ι ―ç―¹―²–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Η–Β –Η―¹―²―Ä–Β–±–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –±–Α―²–Α–Μ―¨–Ψ–Ϋ―΄; –≤―¹–Β–≥–Ψ –±–Ψ–Μ–Β–Β 2 ―²―΄―¹. ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ), –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Β–Φ―΄–Ι –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Β–Ι ―³–Μ–Ψ―²–Α. –‰―²–Α–Κ, 10-–Ι ―¹–Κ, –Β―¹–Μ–Η –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Η–≤–Α―²―¨ ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è –Ψ–±―ä–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ, –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –≤ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―è―é―â–Β–≥–Ψ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è 8–ê –Η –Γ–Λ –Ϋ–Β ―¹―É–Φ–Β–Μ–Η –Ψ―²–≤–Β―¹―²–Η –Β–≥–Ψ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –ù–Α―Ä–≤―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Β―Ä–Β―à–Β–Β–Κ –Ϋ–Α –≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ 11-–Φ ―¹–Κ. 11.08 –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―² –ö–ë–Λ –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Β―² –Ϋ–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ―É –£–€–Λ –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ ¬Ϊ–≤ ―Ü–Β–Μ―è―Ö ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –≤ ―Ü–Β–Μ–Ψ–Φ ―¹―΅–Η―²–Α–Μ –±―΄ –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄–Φ ―à―²–Α–±, ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Η –Ψ―²–¥–Β–Μ―΄ ―³–Μ–Ψ―²–Α –Ω–Β―Ä–Β–≤–Β―¹―²–Η ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ε–Β –≤ –†―É―΅―¨–Η¬Μ [–¥–Ψ–Κ. ⳕ 199]. –£ ―¹―²―Ä–Ψ–Η–≤―à–Β–Ι―¹―è –≤ –¦―É–Ε―¹–Κ–Ψ–Ι –≥―É–±–Β –£–€–ë –†―É―΅―¨–Η –±―΄–Μ–Η –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ―΄ –Λ–ö–ü –ö–ë–Λ –Η –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η―è –¥–Μ―è ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η―è –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Ψ–≤ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è ―³–Μ–Ψ―²–Α. –£–Η–¥–Η–Φ–Ψ, –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―² –ö–ë–Λ –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Μ –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ–Ι –Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η–Η –Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Α ―¹―É―Ö–Ψ–Ω―É―²–Ϋ–Ψ–Φ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Β –Ω–Ψ–¥ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Ψ–Φ, –Β―¹–Μ–Η ―Ö–Ψ―²–Β–Μ –Ω–Β―Ä–Β–±―Ä–Α―²―¨―¹―è –≤ –†―É―΅―¨–Η. –ê –Μ–Η–Ϋ–Η―è ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Α –Ϋ–Α –Μ–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–Φ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ψ―² –†―É―΅―¨–Β–≤ –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α ―²–Α–Κ–Ψ–Φ –Ε–Β ―Ä–Α―¹―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Η, –Κ–Α–Κ –Η –≤ –≠―¹―²–Ψ–Ϋ–Η–Η βÄî –Ψ―² –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α. 12.08 –™–Η―²–Μ–Β―Ä –¥–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Κ –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Η–≤–Β –û–ö–£ ⳕ 34 –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―² –≥―Ä―É–Ω–Ω–Β –Α―Ä–Φ–Η–Ι ¬Ϊ–Γ–Β–≤–Β―Ä¬Μ: ¬Ϊ–ö–Α–Κ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ–Η―² –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Α, ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² ―¹–Ψ–≤–Φ–Β―¹―²–Ϋ―΄–Φ–Η ―É―¹–Η–Μ–Η―è–Φ–Η ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι ―¹―É―Ö–Ψ–Ω―É―²–Ϋ―΄―Ö –≤–Ψ–Ι―¹–Κ, –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Η –Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α –Μ–Η–Κ–≤–Η–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–≤–Ψ–Ζ–¥―É―à–Ϋ―΄–Β –±–Α–Ζ―΄ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –Ϋ–Α –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α―Ö –î–Α–≥–Ψ –Η –≠–Ζ–Β–Μ―¨. –ü―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ ―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Η―²―¨ –≤―Ä–Α–Ε–Β―¹–Κ–Η–Β –Α―ç―Ä–Ψ–¥―Ä–Ψ–Φ―΄, ―¹ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Μ―è―é―²―¹―è –≤–Ψ–Ζ–¥―É―à–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Α–Μ–Β―²―΄ –Ϋ–Α –ë–Β―Ä–Μ–Η–Ϋ¬Μ [–¥–Ψ–Κ. ⳕ 205]. –Δ–Α–Κ–Η–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ, –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Α –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α –Ω―Ä–Η–Ψ–±―Ä–Β–Μ–Α –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Β –Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Β, –Ψ―²–≤–Μ–Β–Κ–Α―è –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α ―¹ –Μ–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è, –Ϋ–Ψ –Η –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ―É―é ―Ä–Ψ–Μ―¨, –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Α–≤―à―É―é―¹―è –≤ –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Η –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α–Μ–Β―²–Ψ–≤ –Ϋ–Α –ë–Β―Ä–Μ–Η–Ϋ. –£ ―ç―²–Ψ―² –Ε–Β –¥–Β–Ϋ―¨ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ ―à―²–Α–±–Α –Γ–Λ –≤ –¥–Ψ–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ―É –™–® –ö–ê –Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –¥–Μ―è ―É―¹–Η–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α –≤ –±–Μ–Η–Ε–Α–Ι―à–Η–Β –¥–Ϋ–Η –Ω–Ψ–¥–Α―²―¨ ―²―É–¥–Α –Ψ–¥–Ϋ―É ―¹―²―Ä–Β–Μ–Κ–Ψ–≤―É―é –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η―é (–Ϋ–Η–Κ–Α–Κ―É―é –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η―é –≤ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–Α–Μ–Η). –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―² –ö–ë–Λ, –≤ ―¹–≤–Ψ―é –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥―¨, –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –Ϋ–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ―É –£–€–Λ ―¹–≤–Ψ―é –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Κ―É –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Η, –Ψ―²–Φ–Β―²–Η–≤, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ –Α–Κ―²–Η–≤–Η–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ –Φ–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Η, –ö–ë–Λ –Η–Ζ-–Ζ–Α –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Α ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β–≤―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ω–Ψ–Φ–Β―à–Α―²―¨ ―ç―²–Ψ–Φ―É, –Α –Η–Ζ-–Ζ–Α –¥–Β―³–Η―Ü–Η―²–Α ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―¹–Η–Μ –≤―΄―²―Ä–Α–Μ–Η–≤–Α–Β―² –Φ–Η–Ϋ –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β, ―΅–Β–Φ ―¹―²–Α–≤–Η―² –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ. –Θ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ: ¬Ϊ–ü―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Ψ–Φ –Φ–Α―¹―à―²–Α–±–Β –Ζ–Α―¹–Ψ―Ä―è–Β―² –Φ–Η–Ϋ–Α–Φ–Η ―É―¹―²―¨–Β –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α –Η –Ϋ–Α―à–Β –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨–Β, ―΅–Α―¹―²–Ψ ―²–Β–Φ ―¹–Α–Φ―΄–Φ ―É―¹–Η–Μ–Η–≤–Α―è –Ϋ–Α―à–Η –Ζ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è. –‰―¹―Ö–Ψ–¥―è –Η–Ζ –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Η –Ϋ–Α ―¹―É―Ö–Ψ–Ω―É―²–Ϋ–Ψ–Φ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Β –≤ –≠―¹―²–Ψ–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Β–Φ―Ü―΄ –Ϋ–Β –Ζ–Α–Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ψ–≤–Α–Ϋ―΄ –≤ –¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –≤ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Β –î–ï–Γ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Φ–Ψ―Ä–Β –Η–Μ–Η –≤ –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Κ–Β ―³–Μ–Α–Ϋ–≥–Α ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Α―Ä–Φ–Η–Η ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ. –ë–Β―¹–Ω–Ψ―Ä―è–¥–Ψ―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Η –Ψ–±–Η–Μ–Η–Β –Φ–Η–Ϋ –≤ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Β –¥–Α–Β―² –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –≤ –±–Μ–Η–Ε–Α–Ι―à–Β–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö (―²–Α–Κ –≤ –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Β; –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ βÄî –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö. βÄî –†. 3.) ―¹–Η–Μ ―³–Μ–Ψ―²–Α –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –≤ –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Β - –≤―Ä―è–¥ –Μ–Η –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ. –Γ–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Η –Ψ–±―ä–Β–Κ―²–Ψ–≤ –¥–Μ―è –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι –Ϋ–Α―à–Η―Ö –ö–† –Η –¦–î –Ω–Ψ–Κ–Α –Ϋ–Β―², –Α –Ϋ–Α―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Η―Ö –≤ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Β –Ϋ–Α ―Ä–Β–Ι–¥–Β ―²–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Φ–Α–Μ–Ψ –Ψ–±–Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ψ –Η –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨ –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ–Β–Ϋ–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ–Η ―¹–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β ―É–Φ–Β–Ϋ―¨―à–Α–Β―² –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι ―Ä–Η―¹–Κ –Ψ―² –≤–Ψ–Ζ–¥―É―à–Ϋ―΄―Ö –Α―²–Α–Κ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ϋ–Β―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –±―É–¥―É―² –Η–Φ–Β―²―¨ –Φ–Β―¹―²–Ψ –Ω–Ψ –Ϋ–Α―à–Β–Φ―É ―³–Μ–Ψ―²―É ―¹ –Ω―Ä–Η–±–Μ–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ω―Ä-–Κ–Α –Κ –±–Α–Ζ–Β. –†–Η―¹–Κ –Ϋ–Β –Ψ–Ω―Ä–Α–≤–¥―΄–≤–Α–Β―²―¹―è –Ϋ–Η –Ζ–Α–¥–Α―΅–Β–Ι, –Ϋ–Η ―Ü–Β–Μ―è–Φ–Η¬Μ. –î–Α–Μ–Β–Β –≤ –¥–Ψ–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η–Η –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Ψ―¹―¨: ¬Ϊ–ê―Ä–Φ–Η―è ―¹―²―Ä–Β–Φ–Η―²―¹―è ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η―²―¨ –Ε–Η–≤―É―é ―¹–Η–Μ―É, ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ―É, –Ϋ–Β ―¹―΅–Η―²–Α―è―¹―¨ ―¹ ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Β–Ι, ―³–Μ–Ψ―² –Ε–Β ―Ä–Η―¹–Κ―É–Β―² –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹–Η–Μ–Α–Φ–Η, –Ϋ–Β –Η–Φ–Β―è ―¹–Β–±–Β –Ψ–±―ä–Β–Κ―²–Ψ–≤. –Γ –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ –Ϋ–Α―à–Β–Ι –Α―Ä–Φ–Η–Η –≤ –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² –Ψ–Ε–Η–¥–Α―²―¨ –Ω–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è ―³–Μ–Ψ―²–Α –Ϋ–Β–Φ―Ü–Β–≤ –¥–Μ―è –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Η ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Α―Ä–Φ–Η–Η. –ù–Α―à–Α –Α―Ä–Φ–Η―è –Ω–Ψ―²―Ä–Β–±―É–Β―² ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ψ―² –ö–ë–Λ –¥–Β―¹–Α–Ϋ―²–Ψ–≤ –Η –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²–Η―è ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ ―³–Μ–Α–Ϋ–≥–Α ―¹ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β. –ö ―ç―²–Ψ–Φ―É –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ϋ―É–Ε–Β–Ϋ –±―É–¥–Β―² –±–Ψ–Β―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ―΄–Ι ―³–Μ–Ψ―²¬Μ [–¥–Ψ–Κ. ⳕ 211]. –‰―¹―Ö–Ψ–¥―è –Η–Ζ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ, –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―² –ö–ë–Λ –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Α–≥–Α–Μ –≤―΄–≤–Β―¹―²–Η –Η–Ζ –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –™–ë –≤ –¦―É–Ε―¹–Κ―É―é –≥―É–±―É –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä, –¥–≤–Α –Μ–Η–¥–Β―Ä–Α –Η –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ –Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö ―ç―¹–Φ–Η–Ϋ―Ü–Β–≤, –Ψ―¹―²–Α–≤–Η–≤ –≤ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Β –Η –†–Η–Ε―¹–Κ–Ψ–Φ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Β –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ―΄ ―¹―²–Α―Ä―΄―Ö –≠–€, –Γ–ö–† ―²–Η–Ω–Α ¬Ϊ–Θ―Ä–Α–≥–Α–Ϋ¬Μ –Η –ö–¦, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –±―Ä–Η–≥–Α–¥―É –Δ–ö–ê.  –Δ–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄–Ι –Κ–Α―²–Β―Ä ―²–Η–Ω–Α –™-5 –ü–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨ –Ω–Β―Ä–Β–Ϋ–Ψ―¹–Α ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –Η–Ζ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α, –Ϋ–Ψ ―É–Ε–Β –Ϋ–Β –≤ –†―É―΅―¨–Η, –Α –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―². 13.08 –Ϋ–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ –£–€–Λ –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ: ¬Ϊ–£–Α―à–Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Β ―²–Β–Μ–Β–≥―Ä–Α–Φ–Φ―΄ –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β ―¹–≤–Ψ–¥―è―²―¹―è –Κ –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η―é –Ω–Β―Ä–Β–±―Ä–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –£–Ψ―¹―²–Ψ–Κ. –ë―É–¥―É –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α―²―¨ –£–Α―à–Η ―²–Β–Μ–Β–≥―Ä–Α–Φ–Φ―΄ ―². –Γ―²–Α–Μ–Η–Ϋ―É, –Ϋ–Ψ ―è –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ. –ü–Ψ―²–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ –Η –Ϋ–Β –Η–¥–Β―² –≤ –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Ζ–Α–Μ–Η–≤, ―΅―²–Ψ –≤ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Β ―¹―²–Ψ―è―² –Ϋ–Α―à–Η ―¹–Η–Μ―΄... –ö–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –Ϋ–Α–¥–Ψ –±–Β―Ä–Β―΅―¨, –Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Β–≤―Ä–Α―â–Α―²―¨ ―ç―²–Ψ –≤ ―¹–Α–Φ–Ψ―Ü–Β–Μ―¨ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ. –†–Β―à–Α―²―¨ ―²–Α–Κ–Η–Β –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹―΄ –Φ–Ψ–Ε–Β―² ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –™–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ―É –£―΄ –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ–Β–Ϋ―΄¬Μ [–¥–Ψ–Κ. ⳕ 212]. –ö―¹―²–Α―²–Η, –≥–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α–Φ–Η –Γ–½–ù –≤ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Η–≤–Α―Ö –Ϋ–Η ―Ä–Α–Ζ―É –Ϋ–Β –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É ―¹–Ψ–≤–Β―²―É –ö–ë–Λ –Ψ –Ζ–Α–¥–Α―΅–Β –Ϋ–Β–¥–Ψ–Ω―É―â–Β–Ϋ–Η―è –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―΄―Ö ―¹–Η–Μ ―³–Μ–Ψ―²–Α –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –≤ –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Ζ–Α–Μ–Η–≤. –£–Η–¥–Η–Φ–Ψ, –≤ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Η–Β –Ψ―² –Ϋ–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ–Α –£–€–Λ, ―¹―΅–Η―²–Α–Μ ―ç―²―É –Ζ–Α–¥–Α―΅―É –Ϋ–Β–Α–Κ―²―É–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι. –û–Ϋ –¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ―É –ö–ë–Λ –≤–Ψ –≥–Μ–Α–≤–Β ―¹ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―¹–Ψ–≤–Β―²–Ψ–Φ –≤ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Β –≤ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Α―Ö –Ψ―²–≤–Μ–Β―΅–Β–Ϋ–Η―è –Ψ―² –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Α ―²―Ä–Β―Ö –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η―Ö –Ω–¥, –Ϋ–Β―Ö–≤–Α―²–Κ―É –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –™–Η―²–Μ–Β―Ä –Β―â–Β –≤ –Η―é–Μ–Β –≤–Ψ–Ζ–Φ–Β―¹―²–Η–Μ –Η–Ζ ―Ä–Β–Ζ–Β―Ä–≤–Α. –ï―â–Β –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–≤ ―¹–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Ι –Ψ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Α―Ö –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Α –Ϋ–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ–Α –£–€–Λ –‰.–£.–Γ―²–Α–Μ–Η–Ϋ―É, –Ϋ–Ψ, –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ, –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α―è –Β–≥–Ψ ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Η–Β –Η ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ –Ϋ–Β–Φ―É, –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―² –ö–ë–Λ ―¹–Α–Φ –Ω–Ψ―¹–Μ–Α–Μ –¥–Ψ–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η–Β –£–Β―Ä―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ―É –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–Φ―É –‰.–£.–Γ―²–Α–Μ–Η–Ϋ―É, –≥–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ―É –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α–Φ–Η –Γ–½–ù –Η –Ϋ–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ―É –£–€–Λ, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Μ, ―΅―²–Ψ ¬Ϊ―¹―΅–Η―²–Α–Β―² ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ–Φ –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨ ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–Β ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β: –Ϋ–Β–Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–±―Ä–Ψ―¹–Η―²―¨ ―¹ –Ξ–Α–Ϋ–Κ–Ψ 20 ―²―΄―¹―è―΅ –±–Ψ–Ι―Ü–Ψ–≤ ―¹ –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Β–Ι, ―²–Α–Ϋ–Κ–Α–Φ–Η –¥–Μ―è –Ζ–Α―â–Η―²―΄ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α, –Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―΄―à–Β –Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η―è –Ξ–Α–Ϋ–Κ–Ψ. –≠―²–Ψ –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η–Β –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ–Η―² ―É–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α―²―¨ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ –¥–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Μ–Ψ–Φ–Α –Ϋ–Α ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Α―Ö. –ë―É–¥―É―² –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²―΄ –≤―¹–Β –Φ–Β―Ä―΄ –¥–Μ―è ―¹–Ψ–Κ―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ―²–Β―Ä―¨ –Ω―Ä–Η –Ω–Β―Ä–Β–±―Ä–Ψ―¹–Κ–Β. –ù–Α–Μ–Η―΅–Η–Β ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Ϋ―΄―Ö ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤ –≤ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ–Η―² –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―¹―²–Η –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η –Ζ–Α 3-4 –¥–Ϋ―è¬Μ [–¥–Ψ–Κ. ⳕ 217]. –£ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨ –≤–¥―É–Φ―΅–Η–≤–Ψ–Φ―É ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ―é. –ü―Ä–Η–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Κ –Κ–Ϋ–Η–≥–Β –†.–ê.–½―É–±–Κ–Ψ–≤ ¬Ϊ–Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤ –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α (–Α–≤–≥―É―¹―² - ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä―¨ 1941 –≥.)¬Μ –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―²
17.10.201311:0217.10.2013 11:02:23
0
17.10.201310:5117.10.2013 10:51:42
–ê –≤–Ψ―² –Β―â–Β –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä. –•–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α (–Ϋ–Β –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é ―³–Α–Φ–Η–Μ–Η–Η) –Ω–Η―à–Β―² –Ϋ–Α―à–Β–Φ―É –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―É –Ψ–± –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Η–Ζ –Φ–Ψ–Η―Ö –Ϋ―΄–Ϋ–Β―à–Ϋ–Η―Ö ―¹–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η–≤―Ü–Β–≤: ¬Ϊ–û–Ϋ –Ϋ–Β–¥―É―Ä–Β–Ϋ ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι, –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―΄–Ι, ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι, –Μ–Β–≥–Κ–Ψ –Φ–Β–Ϋ―è –Ζ–Α–≤–Ψ–Β–≤–Α–Μ...¬Μ –£―΄ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―²–Β? βÄî –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ –Λ―Ä–Ψ–Μ –Ω–Α–Μ–Β―Ü.βÄî ¬Ϊ–½–Α–≤–Ψ–Β–≤–Α–Μ¬Μ. –ß–Η―²–Α―é –¥–Α–Μ―¨―à–Β: ¬Ϊ–ù–Ψ –≤―¹–Κ–Ψ―Ä–Β ―è –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ–Α, –Κ–Α–Κ –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Ψ –Ψ―à–Η–±–Μ–Α―¹―¨. –· ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Η–Μ–Α ―Ä–Ψ–Κ–Ψ–≤―É―é –Ψ―à–Η–±–Κ―É. –û–Ϋ –Ϋ–Β –±―΄–Μ –Η―¹–Κ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Φ, –Ω–Ψ–≥―É–±–Η–Μ –Φ–Ψ―é ―é–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –· –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥―É –Ω–Ψ–Ϋ―è―²―¨, –Κ–Α–Κ –≤ ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–Φ –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―΄–Β ―²–Η–Ω―΄... –û–Ϋ–Η –Ω―Ä–Β―¹―²―É–Ω–Ϋ–Ψ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹―è―²―¹―è –Κ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η; –Η–Ζ–¥–Β–≤–Α―é―²―¹―è –Ϋ–Α–¥ ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ ―¹–≤―è―²–Ψ... –ù–Α–Κ–Α–Ε–Η―²–Β –Β–≥–Ψ, –Η –Κ–Α–Κ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―¹―²―Ä–Ψ–Ε–Β!¬Μ –€―΄ –Ζ–Α–Ϋ―è–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α―à–Η–Φ –Μ–Β–≥–Κ–Ψ–Φ―΄―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Β–Φ, βÄî –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ –Λ―Ä–Ψ–Μ. βÄî –û–Ϋ –Κ–Μ―è–Μ―¹―è, ―΅―²–Ψ –≤―¹–Β–≥–Ψ –¥–≤–Α ―Ä–Α–Ζ–Α ―¹―Ö–Ψ–¥–Η–Μ ―¹ –Ϋ–Β–Ι –Ϋ–Α ―²–Α–Ϋ―Ü―΄, –¥–Α ―²―Ä–Η ―Ä–Α–Ζ–Α βÄî –≤ –Κ–Η–Ϋ–Ψ. –ü–Ψ―²–Ψ–Φ ―É–Ζ–Ϋ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Η–Φ–Β–Β―² ―¹–Ψ–Ω–Β―Ä–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Η ―Ä–Β―à–Η–Μ ―¹―΄–≥―Ä–Α―²―¨ –Ψ―²–±–Ψ–Ι. –·, –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α―²―¨―¹―è, –Β–Φ―É –Ϋ–Β –Ω–Ψ–≤–Β―Ä–Η–Μ. –û–±–Η–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ω–Ψ–±―΄–≤–Α–Μ–Α ―É–Ε–Β ―É –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è, –≤ –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Ψ―²–¥–Β–Μ–Β, ―É –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α. –Θ –Ϋ–Β–≥–Ψ-―²–Ψ ―è –Β–Β –Η –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ. –ù–Β –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ι –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―¹―²–Η, ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥–Κ―Ä–Α―à–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è, –Ψ–Ζ–Μ–Ψ–±–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è... –û–Ϋ–Α –Ψ–±–≤–Η–Ϋ―è–Μ–Α –Φ–Ψ–Β–≥–Ψ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η–≤―Ü–Α –≤–Ψ –≤―¹–Β―Ö ―¹–Φ–Β―Ä―²–Ϋ―΄―Ö –≥―Ä–Β―Ö–Α―Ö. ¬Ϊ–ê –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –≤―΄ –±―΄–Μ–Η –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―΄?¬Μ βÄî ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ ―è –Β–Β. ¬Ϊ–€–Β―¹―è―Ü!¬Μ (–†–Β–Ω–Μ–Η–Κ–Α –Η–Ζ –Ζ–Α–Μ–Α: ¬Ϊ–ö–Ψ―¹–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –≤–Β–Κ!¬Μ) –î–Α, –Ζ–Α–≤–Ψ–Β–≤–Α―²―¨ ―ç―²―É –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ―É, –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ, –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―¹ –Κ–Ψ―¹–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²―¨―é! –‰ –≤–Ψ―² ―Ö–Ψ–¥–Η―² –Ψ–Ϋ–Α ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ω–Ψ –Η–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―è–Φ, –Ψ―²–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―² ―É –Ζ–Α–Ϋ―è―²―΄―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι –≤―Ä–Β–Φ―è, ―²―Ä–Β–±―É–Β―² –Ϋ–Α–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ ¬Ϊ–Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–≤―à–Η―Ö ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤―É―é―â–Η―Ö –Φ–Β―Ä¬Μ, –Ε–Α–Μ―É–Β―²―¹―è, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α―à –≥–Β―Ä–Ψ–Ι ¬Ϊ–Ψ–±–Β―¹―΅–Β―¹―²–Η–Μ, –Ω–Ψ–≥―É–±–Η–Μ –Β–Β ―é–Ϋ–Ψ―¹―²―¨¬Μ. –· –Ω–Ψ–Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è: ¬Ϊ–ü―Ä–Ψ―¹―²–Η―²–Β, –Α ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤–Α–Φ –Μ–Β―²?¬Μ –û–Ϋ–Α –Ψ–±–Η–¥–Β–Μ–Α―¹―¨: ¬Ϊ–ö―É–Μ―¨―²―É―Ä–Ϋ―΄–Β –Μ―é–¥–Η –Ϋ–Β ―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α―é―² ―É –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ―΄ –Ψ –Β–Β –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²–Β!¬Μ (–£–Β―¹–Β–Μ–Ψ–Β –Ψ–Ε–Η–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –≤ –Ζ–Α–Μ–Β.) –ù–Ψ ―è-―²–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ–Η–Ϋ―É–Μ, ―΅―²–Ψ –Β–Φ―É βÄî –¥–≤–Α–¥―Ü–Α―²―¨ –¥–≤–Α, –Α –Β–Ι –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β, ―΅–Β–Φ ―²―Ä–Η–¥―Ü–Α―²―¨... βÄî –≠―²–Ψ –Ϋ–Α–≥–Μ–Α―è –Μ–Ψ–Ε―¨! βÄî –Ϋ–Β―Ä–≤–Ϋ–Ψ –≤―΄–Κ―Ä–Η–Κ–Ϋ―É–Μ –Ε–Β–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹ –Η–Ζ –Ζ–Α–¥–Ϋ–Η―Ö ―Ä―è–¥–Ψ–≤. –£―¹–Β –≤ –Ζ–Α–Μ–Β –Ψ–≥–Μ―É―à–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ζ–Α―Ö–Ψ―Ö–Ψ―²–Α–Μ–Η.  βÄî –Γ―Ö–Ψ–¥―è―¹―¨ ―¹ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Φ, –Β–¥–≤–Α ―É―¹–Ω–Β–≤ ―¹ –Ϋ–Η–Φ –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Η―²―¨―¹―è, βÄî ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Λ―Ä–Ψ–Μ, –Ψ–±―Ä–Α―â–Α―è―¹―¨ ―²―É–¥–Α, –Ψ―²–Κ―É–¥–Α –Ω–Ψ―¹–Μ―΄―à–Α–Μ―¹―è –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹, βÄî –≤―΄ ―Ä–Ψ–Ϋ―è–Β―²–Β ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Η–Ϋ―¹―²–≤–Ψ. –ü–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ–Ι ¬Ϊ ¬Μ –Ϋ–Β –Ψ–Ϋ –≤–Α―¹, –≤―΄ ―¹–Α–Φ–Η ―¹–Β–±―è –Ψ–±–Β―¹―΅–Β―¹―²–Η–Μ–Η!.. βÄî –· –±―É–¥―É –Ε–Α–Μ–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è! –•–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α –≤―΄―¹–Κ–Ψ―΅–Η–Μ–Α –Η–Ζ –Ζ–Α–Μ–Α –Κ–Α–Κ –Φ–Β―²–Β–Ψ―Ä –Η ―Ö–Μ–Ψ–Ω–Ϋ―É–Μ–Α –¥–≤–Β―Ä―¨―é. –£―¹–Β –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η ―É―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Η―²―¨―¹―è. –ü–Ψ―²–Ψ–Φ –Κ―²–Ψ-―²–Ψ ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ: βÄî –ê –≤―΄ ―¹–Α–Φ–Η –Ε–Β–Ϋ–Α―²―΄, ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ ―²―Ä–Β―²―¨–Β–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α? βÄî –£–Ψ―¹―¨–Φ–Ψ–Ι –≥–Ψ–¥. βÄî –½–Ϋ–Α―΅–Η―², –Ψ–Ω―΄―² –Η–Φ–Β–Β―²–Β... –†–Β–¥–Κ–Η–Ι –Α–Κ―²–Β―Ä ―¹―Ä―΄–≤–Α–Μ ―¹―²–Ψ–Μ―¨ –¥―Ä―É–Ε–Ϋ―΄–Β –Α–Ω–Μ–Ψ–¥–Η―¹–Φ–Β–Ϋ―²―΄. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Λ―Ä–Ψ–Μ ―¹–Β–Μ ―Ä―è–¥–Ψ–Φ ―¹–Ψ –Γ―²―ç–Μ–Μ–Ψ–Ι, –Ψ–Ϋ–Α ―²–Η―Ö–Ψ ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Α: βÄî –Λ―Ä–Ψ–Μ, –Α –Κ―²–Ψ –Ψ–Ϋ, ―²―΄ ―¹–Κ–Α–Ε–Β―à―¨? –Λ―Ä–Ψ–Μ –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ: βÄî –€–Η–Μ–Α―è, ―è ―¹–Ω–Μ–Β―²–Ϋ―è–Φ–Η –Ϋ–Β –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α―é―¹―¨. βÄî –ù–Ψ –Ψ―²–Κ―É–¥–Α ―²―΄ –Ζ–Ϋ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Α –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α –Ζ–¥–Β―¹―¨? βÄî –· –±―΄–Μ ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ, ―΅―²–Ψ –Β–Β –Ζ–Α–Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹―É–Β―² –¥–Η―¹–Ω―É―² –Ϋ–Α ―²–Β–Φ―É ¬Ϊ–†–Ψ–Κ–Ψ–≤―΄–Β –Ψ―à–Η–±–Κ–Η¬Μ. –ù–Ψ –¥–Α–≤–Α–Ι –Ω–Ψ―¹–Μ―É―à–Α–Β–Φ, –Γ―²―ç–Μ–Μ–Α. –Γ–Ψ ―¹―Ü–Β–Ϋ―΄ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Ι –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²:  βÄî –Ξ–Ψ―Ä–Ψ―à–Α―è, –¥―Ä―É–Ε–Ϋ–Α―è ―¹–Β–Φ―¨―è –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α–Β―² ―¹–Μ―É–Ε–Η―²―¨. –ê –Ϋ–Β–¥―Ä―É–Ε–Ϋ–Α―è? –û―³–Η―Ü–Β―Ä –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―² –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ ―¹ –Η―¹–Ω–Ψ―Ä―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ϋ–Α―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ, –Η ―ç―²–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è –Ϋ–Α –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Η –Β–≥–Ψ –Κ –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ. –†–Β―à–Α―²―¨ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –≤–Α–Ε–Ϋ―΄–Ι –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹, –Κ–Α–Κ –±―Ä–Α–Κ, –≤ –¥–≤–Β –Ϋ–Β–¥–Β–Μ–Η, –≤ –Φ–Β―¹―è―Ü βÄî –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è! (¬Ϊ–ü―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ!¬Μ βÄî –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ –Ζ–Α–Μ ―Ä–Α―¹–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Β–≤―à–Β–≥–Ψ―¹―è –Ψ―² –≤–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è ―é–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―Ä–Α―²–Ψ―Ä–Α.) –û―à–Η–±–Κ–Α, ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥―É, –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ω―Ä–Η–≤–Β―¹―²–Η –Κ –Ϋ–Β–Η―¹–Ω―Ä–Α–≤–Η–Φ―΄–Φ –Ω―Ä–Ψ–Φ–Α―Ö–Α–Φ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β. –ê –Β―¹–Μ–Η –Ψ―à–Η–±–Α―²―¨―¹―è –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β βÄî –Μ―É―΅―à–Β ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β ―¹–Μ―É–Ε–Η―²―¨... –î–Η―¹–Ω―É―² –Ψ ¬Ϊ―Ä–Ψ–Κ–Ψ–≤―΄―Ö –Ψ―à–Η–±–Κ–Α―Ö¬Μ –Ζ–Α―²―è–Ϋ―É–Μ―¹―è –¥–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–¥–Ϋ–Β–≥–Ψ –≤–Β―΅–Β―Ä–Α. –ù–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è―Ö –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –Ψ –Ϋ–Β–Φ –Β―â–Β –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Μ–Η; –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β ―¹–Φ–Β―è–Μ–Η―¹―¨ –¥–Ψ ―¹–Μ–Β–Ζ, –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―è –Ζ–Μ–Ψ–±–Ϋ―΄–Ι –≤―΄–Κ―Ä–Η–Κ: ¬Ϊ–ù–Α–≥–Μ–Α―è –Μ–Ψ–Ε―¨!¬Μ ¬Ϊ–¦–Ψ–≤–Κ–Ψ –Β–Β –Ψ―²―΅–Η―²–Α–Μ –•–Η–≤―Ü–Ψ–≤, –≤–Β–Κ –Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¨ –±―É–¥–Β―², –¥–Α –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Ω–Ψ–Ψ―¹―²–Β―Ä–Β–≥―É―²―¹―è, βÄî –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η –≤ –Κ–Α―é―²-–Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η―è―Ö. βÄî –ê –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β, –Η –Ω―Ä–Η–¥―Ä–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è: –≤―΄―¹―²―É–Ω–Α–Μ, –Ϋ–Β –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α―è ―³–Α–Φ–Η–Μ–Η–Ι!¬Μ –Λ―Ä–Ψ–Μ ―É–Φ–Β–Μ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η―²―¨ ―²–Α–Ι–Ϋ―΄ βÄî –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Μ―É–Ε–Β–±–Ϋ―΄–Β. –‰ –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Ψ―² –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β ―É―¹–Μ―΄―à–Α–Μ –Ϋ–Η ―¹–Μ–Ψ–≤–Α, –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β –ü–Β―²―Ä–Α –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–Α, –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –Η ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –≥–Β―Ä–Ψ―è ―ç―²–Ψ–Ι –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η βÄî ―²–Ψ–Φ―É –Λ―Ä–Ψ–Μ ―É―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à―É―é –≤–Ζ–±―É―΅–Κ―É. 8–Λ―Ä–Ψ–Μ –≤―΄―à–Β–Μ –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β –†–Ψ―¹―²–Η―¹–Μ–Α–≤–Α –Η –Φ–Ψ–Μ―΅–Α–Μ–Η–≤–Ψ –Ψ–¥–Ψ–±―Ä―è–Μ –Ω–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Β –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ–Α―à–Ϋ–Η–Κ–Α –Ω–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â―É. –ö―Ä–Α–Φ―¹–Κ–Ψ–Ι –Η –Ϋ–Β –Ζ–Α–Η–Κ–Ϋ―É–Μ―¹―è –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –±―΄ –≤–Β―Ä–Ϋ―É―²―¨―¹―è –≤ –±–Α–Ζ―É; –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –±―É―à–Β–≤–Α–Μ ―à―²–Ψ―Ä–Φ, –Η, ―Ö–Ψ―²―è ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η βÄî –Ϋ–Β ―΅–Β―²–Α –Ω―Ä–Β–Ε–Ϋ–Η–Φ –¥–Β―Ä–Β–≤―è–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ¬Ϊ–Ψ―Ö–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ¬Μ, ―à―²–Ψ―Ä–Φ –≤―¹–Β-―²–Α–Κ–Η ―à–≤―΄―Ä―è–Β―² –Η―Ö ―¹ –≤–Ψ–Μ–Ϋ―΄ –Ϋ–Α –≤–Ψ–Μ–Ϋ―É. –¦―é–¥–Η –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Η –≤ ―²–Β―¹–Ϋ―΄―Ö –¥―É―à–Ϋ―΄―Ö –Ψ―²―¹–Β–Κ–Α―Ö, ―¹–Κ–Α―²―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Ζ–Κ–Ψ–Ι –Ω–Α–Μ―É–±–Β –Κ –Ω–Β―Ä–Β–±–Ψ―Ä–Κ–Α–Φ, βÄî –Ϋ–Ψ ―²–Β–Φ –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ–Η –≤―¹–Β, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ψ, –Η –Ϋ–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ψ―²―΅–Α–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨.  –†–Ψ―¹―²–Η―¹–Μ–Α–≤―É –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –≤–Ψ–Β–≤–Α―²―¨, –Α –Λ―Ä–Ψ–Μ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ, –Κ–Α–Κ –≤ –≤–Ψ–Ι–Ϋ―É –Η –Ϋ–Α –¥–Β―Ä–Β–≤―è–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Κ–Α―²–Β―Ä–Α―Ö, –±–Ψ―Ä–Ψ–≤―à–Η―Ö―¹―è ―¹–Ψ ―à―²–Ψ―Ä–Φ–Ψ–≤―΄–Φ–Η –≤–Ψ–Μ–Ϋ–Α–Φ–Η, –Μ―é–¥–Η –≤―¹–Β –Ε–Β –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ–Η –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ; ―¹–Ε–Η–Φ–Α–Β–Φ―΄–Β –Μ―¨–¥–Α–Φ–Η, –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ–Η –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ; –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ–Η –Β–≥–Ψ –Η –Ω–Ψ–¥ –Ψ–≥–Ϋ–Β–Φ –≤―Ä–Α–Ε–Β―¹–Κ–Η―Ö ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Ψ–≤ –Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι. –Λ―Ä–Ψ–Μ –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Η–≤–Α–Μ: ¬Ϊ–€–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β―Ü, –Γ–Μ–Α–≤–Α!¬Μ –≠―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –≤―΄―¹―à–Β–Ι –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ―Ö–≤–Α–Μ–Ψ–Ι. –ù―Ä–Α–≤–Η–Μ―¹―è –Β–Φ―É –Η –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ–Α―à–Ϋ–Η–Κ –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â―É βÄî –ë–Α―Ä―΄―à–Β–≤, ―â―É–Ω–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Η–Ι, –≤ ―΅–Β–Φ –¥―É―à–Α –¥–Β―Ä–Ε–Η―²―¹―è, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Η–Ι –Φ–Ψ―Ä―è–Κ. –ü―Ä–Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Κ–Α –Κ―É―Ä―¹–Α –±―΄–Μ–Α –±–Β–Ζ―É–Ω―Ä–Β―΅–Ϋ–Α. –†–Ψ―¹―²–Η―¹–Μ–Α–≤ –Η –Β–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Α –≤―΄–¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ–Η –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η–Β ―¹ ―΅–Β―¹―²―¨―é. ¬Ϊ–€–Α―Ä―¹–Ψ―³–Μ–Ψ―²―΄¬Μ, βÄî ―¹ ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–Φ –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Η–Μ –Λ―Ä–Ψ–Μ. –‰―Ö –Ψ–¥–Ψ–±―Ä–Η–Μ –±―΄ –Η –ö―Ä–Α–Φ―¹–Κ–Ψ–Ι, –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Λ―Ä–Ψ–Μ–Α, –Ψ–¥–Ψ–±―Ä–Η–Μ –±―΄ –Η –†―É―¹―¨–Β–≤, –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Η–Β–Φ–Ϋ―΄–Ι –Ψ―²–Β―Ü. –ö–Α–Κ –Ε–Α–Μ―¨, ―΅―²–Ψ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Β―² –Ϋ–Α ―¹–≤–Β―²–Β, –£–Η―²–Α–Μ–Η―è –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Β–≤–Η―΅–Α! ...–ù–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Μ–Β―² –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥ –Λ―Ä–Ψ–Μ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –Ω–Η―¹―¨–Φ–Ψ ―¹ ―é–≥–Α: ¬Ϊ–Λ―Ä–Ψ–Μ―É―à–Κ–Α, –Φ–Η–Μ―΄–Ι ―²―΄ –Φ–Ψ–Ι, –Β―¹–Μ–Η ―¹–Φ–Ψ–Ε–Β―à―¨, –Ω―Ä–Η–Β–Ζ–Ε–Α–Ι –Ω–Ψ–≤–Η–¥–Α―²―¨―¹―è. –‰ –Ϋ–Β –Ζ–Α–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Ι―¹―è...¬Μ –ë―΄–Μ–Α –Ω–Ψ―Ä–Α –Ψ―¹–Β–Ϋ–Ϋ–Η―Ö ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Ι, –Ϋ–Ψ –Λ―Ä–Ψ–Μ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ: ―Ä–Α–Ζ –£–Η―²–Α–Μ–Η–Ι –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Β–≤–Η―΅ –Ζ–Ψ–≤–Β―², –Ϋ–Α–¥–Ψ –Β―Ö–Α―²―¨ –≤–Ψ ―΅―²–Ψ –±―΄ ―²–Ψ –Ϋ–Η ―¹―²–Α–Μ–Ψ. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Ψ―²–Ω―É―¹―²–Η–Μ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Ϋ–Β–Ι. –Γ―²―ç–Μ–Μ–Α –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Α –¥–Ψ –Α―ç―Ä–Ψ–Ω–Ψ―Ä―²–Α. –£ ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Β –Λ―Ä–Ψ–Μ –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Μ, –Κ–Α–Κ –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ―¹―è ―¹ –†―É―¹―¨–Β–≤―΄–Φ. –Γ–Ψ―Ä–Ψ–Κ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –≥–Ψ–¥, –±–Α―²―É–Φ―¹–Κ–Α―è –Ϋ–Α–±–Β―Ä–Β–Ε–Ϋ–Α―è, –Η –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Ι βÄî –Ψ―²―¹―²–Α–≤―à–Η–Ι –Ψ―² ¬Ϊ–™―Ä–Ψ–Ζ―΄¬Μ –≤–Β―¹–Ϋ―É―à―΅–Α―²―΄–Ι ―Ä―΄–Ε–Η–Ι –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η―à–Κ–Α –≤ –Ψ―²―Ü–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Ι ―²–Β–Μ―¨–Ϋ―è―à–Κ–Β. –£–Β–Β―Ä–Α –Ω–Α–Μ―¨–Φ, –Ζ–Β–Μ–Β–Ϋ―΄–Β ―¹―²–Ψ–Μ–±–Η–Κ–Η –Κ–Η–Ω–Α―Ä–Η―¹–Ψ–≤, ―¹–Η–Ϋ–Β–Β, ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Β–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä–Β, –Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η ―É –Ω―Ä–Η―΅–Α–Μ–Ψ–≤ βÄî –Ψ–¥–Η–Ϋ ―¹ –Ψ―²–Ψ―Ä–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ―Ä–Φ–Ψ–Ι, –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι ―¹ –Ψ―²–Ψ―Ä–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ϋ–Ψ―¹–Ψ–Φ βÄî –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Μ–Η –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Η–¥–Β―² –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Α. –Λ―Ä–Ψ–Μ –±―΄–Μ ―²–Α–Κ –Ψ–¥–Η–Ϋ–Ψ–Κ –Η ―²–Α–Κ –≥–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β–Ϋ –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –Ε–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ –ë–Α―²―É–Φ–Η! –û–Ϋ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ψ–±―Ä–Α–¥–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―É―¹–Α―²―΄–Ι –±–Ψ―Ü–Φ–Α–Ϋ ―¹ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α―²–Β―Ä–Α ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –Β–≥–Ψ, –Κ―²–Ψ –Ψ–Ϋ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι. –Θ–Ζ–Ϋ–Α–≤, ―΅―²–Ψ –Λ―Ä–Ψ–Μ βÄî ―¹–Β–≤–Α―¹―²–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Β―Ü, –Λ–Ψ–Κ–Η–Ι –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤–Η―΅ (―²–Α–Κ –Ζ–≤–Α–Μ–Η –±–Ψ―Ü–Φ–Α–Ϋ–Α) –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –Ψ –Ϋ–Β–Φ –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²―É. –¦–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –†―É―¹―¨–Β–≤ –±―΄–Μ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥, –±–Β–Μ–Ψ–±―Ä–Ψ–≤, ―¹–≤–Β―²–Μ–Ψ―É―¹ βÄî ―É―¹–Η–Κ–Η ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –±―΄–Μ–Η –Κ―Ä–Ψ―Ö–Ψ―²–Ϋ―΄–Β, –Ω–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Η–Β –Ϋ–Α –Ζ―É–±–Ϋ―É―é ―â–Β―²–Κ―É. –ö–Α―²–Β―Ä –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ―¹―è –Κ –≤―΄―Ö–Ψ–¥―É, –Η ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Α―Ä–Η–≤–Α―²―¨ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β–Κ–Ψ–≥–¥–Α. –†―É―¹―¨–Β–≤ –≤―΄―¹–Μ―É―à–Α–Μ –±–Ψ―Ü–Φ–Α–Ϋ–Α, –Ψ–Κ–Η–Ϋ―É–Μ –±―΄―¹―²―Ä―΄–Φ –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥–Ψ–Φ –Λ―Ä–Ψ–Μ–Α, ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ: ¬Ϊ–£ ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –¥–Β–Μ–Β, –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–Ω–Α–¥–Α―²―¨ –Ε–Β ―¹–Β–≤–Α―¹―²–Ψ–Ω–Ψ–Μ―¨―Ü―É! –™―Ä―É–Ζ–Η―¹―¨!¬Μ  –£–Α–Μ―¨–Κ–Α (–Λ―Ä–Ψ–Μ) –Η –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Ι –ï―³–Η–Φ–Ψ–≤–Η―΅ –ß–Β―Ä―Ü–Ψ–≤ (–†―É―¹―¨–Β–≤). - –¦–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –±―΄–Μ ―¹–Μ–Η―à–Κ–Ψ–Φ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²―¨ –Λ―Ä–Ψ–Μ―É –Ψ―²―Ü–Α, –Α –Λ―Ä–Ψ–Μ –±―΄–Μ –Β―â–Β –Φ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―¹―²–Α―²―¨ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Ω―Ä–Α–≤–Ϋ―΄–Φ –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Ψ–Φ. –‰ –≤―¹–Β –Ε–Β –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ―è–Μ ―Ä―É–Μ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Β –Κ―Ä–Β―â–Β–Ϋ–Η–Β, –Ω–Ψ–Ω–Α–≤ –Ω–Ψ–¥ –Ψ–±―¹―²―Ä–Β–Μ. –†―É―¹―¨–Β–≤―É –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Ψ –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Β–Ϋ –Ζ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ ―²–Ψ―² –≤―΄–Ζ–≤–Ψ–Μ–Η–Μ –Β–≥–Ψ –Η–Ζ –≥–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Ζ―è–±–Α–Ϋ–Η―è –≤ –ë–Α―²―É–Φ–Η; –Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–±–Α–Η–≤–Α–Μ―¹―è –Η ―É–≤–Α–Ε–Α–Μ –Λ―Ä–Ψ–Μ –Ϋ–Β –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α, –Α –±–Ψ―Ü–Φ–Α–Ϋ–Α. –ë–Ψ―Ü–Φ–Α–Ϋ –Γ–Ψ–Φ–Ψ–≤ –±―΄–Μ ―¹―²–Α―Ä―΄–Φ, –Ζ–Α―¹–Μ―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–Φ, –Κ –Β–≥–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―²–Α–Φ –Ω―Ä–Η―¹–Μ―É―à–Η–≤–Α–Μ―¹―è –¥–Α–Ε–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä. –Θ –†―É―¹―¨–Β–≤–Α ―¹ –Λ―Ä–Ψ–Μ–Ψ–Φ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è –¥―Ä―É–Ε–Β―¹–Κ–Η–Β, –Κ–Α–Κ ―É ―¹―²–Α―Ä―à–Β–≥–Ψ –±―Ä–Α―²–Α ―¹ –Φ–Μ–Α–¥―à–Η–Φ. –†―É―¹―¨–Β–≤―É –Η –≤ ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –¥–Β–Μ–Β –Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ –Λ―Ä–Ψ–Μ βÄî –Β–≥–Ψ –Φ–Μ–Α–¥―à–Η–Ι –±―Ä–Α―² (–Φ–Μ–Α–¥―à–Η–Ι –±―Ä–Α―²–Η―à–Κ–Α –†―É―¹―¨–Β–≤–Α, –‰–≥–Ψ―Ä―¨, –Ω–Ψ–≥–Η–± –Ω–Ψ–¥ –±–Ψ–Φ–±–Β–Ε–Κ–Ψ–Ι –≤ –†–Ψ―¹―²–Ψ–≤–Β). –‰ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η–Ι –Λ―Ä–Ψ–Μ –≤―΄–≤–Β–Μ –Κ–Α―²–Β―Ä –Η–Ζ ¬Ϊ–≤–Η–Μ–Κ–Η¬Μ –Η –Ω―Ä–Η–≤–Β–Μ –Β–≥–Ψ –≤ –±–Α–Ζ―É ―¹ ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –†―É―¹―¨–Β–≤―΄–Φ –Η –±–Ψ―Ü–Φ–Α–Ϋ–Ψ–Φ, –†―É―¹―¨–Β–≤, ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ ―Ö–Ψ–Μ–Ψ―¹―²–Ψ–Ι, ―Ä–Β―à–Η–Μ ―É―¹―΄–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¨ –Λ―Ä–Ψ–Μ–Α –Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Α―²―¨ ―É―΅–Η―²―¨―¹―è. –ù–Β–Μ―¨–Ζ―è ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Λ―Ä–Ψ–Μ―É ―É―¹―΄–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ –¥―É―à–Β. –û–Ϋ –Ϋ–Β –Ζ–Α–±―΄–Μ –Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Β–≥–Ψ –Ψ―²―Ü–Α –Η –Ω–Ψ–Ε–Β–Μ–Α–Μ –Ψ―¹―²–Α―²―¨―¹―è –•–Η–≤―Ü–Ψ–≤―΄–Φ. –Λ―Ä–Ψ–Μ ―²–Α–Κ –Η –Ϋ–Β ―¹―²–Α–Μ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α―²―¨ –†―É―¹―¨–Β–≤–Α –Ψ―²―Ü–Ψ–Φ, –Α –Ψ–±―Ä–Α―â–Α–Μ―¹―è –Κ –Ϋ–Β–Φ―É –Ω–Ψ –Η–Φ–Β–Ϋ–Η-–Ψ―²―΅–Β―¹―²–≤―É. –û–Ϋ ―΅―É―²―¨ –Ϋ–Β –≤–Ζ–±―É–Ϋ―²–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ω–Ψ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η―é –£–Η―²–Α–Μ–Η―è –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Β–≤–Η―΅–Α –Β–≥–Ψ –Ψ―²–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η –≤ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β. –ï―â–Β –±―΄, –Ψ–Ϋ ―Ö–Ψ―²–Β–Μ –≤–Ψ–Β–≤–Α―²―¨! –ù–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Α–Ω―Ä–Β―²–Η–Μ –±―Ä–Α―²―¨ –Λ―Ä–Ψ–Μ–Α –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β: ¬Ϊ–•–Η–≤―Ü–Ψ–≤―É –Β―â–Β –Ε–Η―²―¨ –¥–Α –Ε–Η―²―¨, –Α –≤ –±–Ψ―é ―É―Ö–Μ–Ψ–Ω–Α―é―², –≥–Μ―è–¥–Η―à―¨, –Ϋ–Β–Ϋ–Α―Ä–Ψ–Κ–Ψ–Φ –Ω–Α―Ä–Ϋ–Η―à–Κ―É¬Μ. –‰ –Λ―Ä–Ψ–Μ –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ–Η–Μ―¹―è. –£ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–Β―Ö–Α–Μ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ ―¹―΄–Ϋ–Ψ–Φ –¥―Ä―É–≥–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α―²–Β―Ä–Ϋ–Η–Κ–Α βÄî –ù–Η–Κ–Η―²–Ψ–Ι –†―΄–Ϋ–¥–Η–Ϋ―΄–Φ. –û–Ϋ–Η ―¹―²–Α–Μ–Η –¥―Ä―É–Ζ―¨―è–Φ–Η.  –Δ–±–Η–Μ–Η―¹―¹–Κ–Η–Β –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü―΄ - ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Ψ–≤–Η–Κ–Η. - –£–Ψ–Ι–Ϋ–Α –Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ–Α―¹―¨. –Λ―Ä–Ψ–Μ –Η –ù–Η–Κ–Η―²–Α ―É―΅–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ βÄî –≤ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Η–Φ–Β–Ϋ–Η –Λ―Ä―É–Ϋ–Ζ–Β. –Γ –Ω―Ä–Η–Β–Φ–Ϋ―΄–Φ –Ψ―²―Ü–Ψ–Φ, –Ω―Ä–Η―¹―΄–Μ–Α–≤―à–Η–Φ –Λ―Ä–Ψ–Μ―É –Ω–Ψ–¥–Α―Ä–Κ–Η –Η –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η, –Ψ–Ϋ –Ω–Β―Ä–Β–Ω–Η―¹―΄–≤–Α–Μ―¹―è, –Η–Ζ―Ä–Β–¥–Κ–Α –Ψ–Ϋ–Η –≤–Η–¥–Β–Μ–Η―¹―¨. –Λ―Ä–Ψ–Μ –Φ―É–Ε–Α–Μ, –†―É―¹―¨–Β–≤ ―¹―²–Α―Ä–Β–Μ –Η –±–Ψ–Μ–Β–Μ βÄî –±–Β―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Η–Μ–Η ―¹―²–Α―Ä―΄–Β ―Ä–Α–Ϋ―΄. –Λ–Ψ–Κ–Η–Ι –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤–Η―΅ –Γ–Ψ–Φ–Ψ–≤ –≤―΄―à–Β–Μ –≤ –Ψ―²―¹―²–Α–≤–Κ―É –Η –Ε–Η–Μ –≤ –ë–Α―²―É–Φ–Η, –Ζ–Α–≤–Β–¥―É―è –Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Β–Ι. –®–Μ–Η –≥–Ψ–¥―΄. –Λ―Ä–Ψ–Μ –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β―¹―²–Α–Μ –±―Ä–Α―²―¨ ―É –†―É―¹―¨–Β–≤–Α –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η βÄî –Β―â–Β –±―΄, ―¹–Α–Φ ―¹―²–Α–Μ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–Φ! –û–Ϋ–Η –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤―¹–Β ―Ä–Β–Ε–Β; –†―É―¹―¨–Β–≤ ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ –Ϋ–Α –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β, –Λ―Ä–Ψ–Μ βÄî –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Β. –†―É―¹―¨–Β–≤ ―¹―²–Α–Μ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Κ–Α―²–Β―Ä–Ψ–≤, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Ω–Ψ –±–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Η –≤―΄―à–Β–Μ –≤ –Ψ―²―¹―²–Α–≤–Κ―É. –ü–Ψ―¹–Β–Μ–Η–Μ―¹―è –Ψ–Ϋ ―²–Ψ–Ε–Β –≤ –ë–Α―²―É–Φ–Η, –Ω–Ψ–±–Μ–Η–Ε–Β –Κ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É ―¹―²–Α―Ä–Ψ–Φ―É –±–Ψ―Ü–Φ–Α–Ϋ―É. –£–Η―²–Α–Μ–Η–Ι –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Β–≤–Η―΅ –Ψ―¹―²–Α–Μ―¹―è ―¹―²–Α―Ä―΄–Φ ―Ö–Ψ–Μ–Ψ―¹―²―è–Κ–Ψ–Φ. –Λ―Ä–Ψ–Μ―É –Ψ–Ϋ –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Μ –Κ–Α–Κ-―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Β–≥–Ψ ¬Ϊ–Ψ–±–Η–¥–Β–Μ–Η –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ―΄¬Μ... –£–Η―²–Α–Μ–Η–Ι –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Β–≤–Η―΅ –Ϋ–Α―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ –Λ―Ä–Ψ–Μ–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―²–Ψ―² –±―΄–Μ –Β―â–Β –≤ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ: ¬Ϊ–Θ―΅–Η―¹―¨, –Λ―Ä–Ψ–Μ, ―²–Α–Κ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β –Ψ―¹―Ä–Α–Φ–Η―²―¨ ―΅–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ–Ψ―Ä―Ü–Β–≤. –ë―É–¥―¨ –Η –≤ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –≥–≤–Α―Ä–¥–Β–Ι―Ü–Β–Φ¬Μ; –Ω–Η―¹–Α–Μ –≤ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Η–Φ–Β–Ϋ–Η –Λ―Ä―É–Ϋ–Ζ–Β: ¬Ϊ–Γ–Κ–Ψ―Ä–Ψ –Η ―²―΄, –Κ–Α–Κ ―è, –Λ―Ä–Ψ–Μ―É―à–Κ–Α, ―¹―²–Α–Ϋ–Β―à―¨ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Φ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–Φ, –Η ―è –±―É–¥―É ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤: –≤―΄–≤–Β–Μ ―²–Β–±―è –≤ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä–Β!¬Μ –ê –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Λ―Ä–Ψ–Μ –Ω―Ä–Η―à–Β–Μ –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Κ―É –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Ψ–Φ, –†―É―¹―¨–Β–≤ –Ψ–≥–Ψ―Ä―΅–Η–Μ―¹―è: ¬Ϊ–· –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ε–Α–Μ–Β―é, ―΅―²–Ψ ―²―΄ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ –Ϋ–Α –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, βÄî –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Μ –Ψ–Ϋ. βÄî –ù–Ψ –Η –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Α ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Α. –ù–Α–¥–Β―é―¹―¨, ―΅―²–Ψ ―²―΄, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―΅–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ–Ψ―Ä–Β―Ü, ―¹―²–Α–Ϋ–Β―à―¨ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Φ –±–Α–Μ―²–Η–Ι―Ü–Β–Φ!¬Μ –û–Ϋ –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Μ―è–Μ –Λ―Ä–Ψ–Μ–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―²–Ψ―² ―¹―²–Α–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ ―²―Ä–Α–Μ―¨―â–Η–Κ–Α: ¬Ϊ–Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ ―²―΄ ―²–≤–Β―Ä–¥–Ψ –≤―¹―²–Α–Μ –Ϋ–Α –Ϋ–Ψ–≥–Η, –Λ―Ä–Ψ–Μ―É―à–Κ–Α. –®–Α–≥–Α–Ι –¥–Α–Μ―¨―à–Β, –Φ–Η–Μ―΄–Ι...¬Μ –ê –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Λ―Ä–Ψ–Μ –Ε–Β–Ϋ–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Γ―²―ç–Μ–Μ–Β, –£–Η―²–Α–Μ–Η–Ι –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Β–≤–Η―΅ ―Ä–Α–¥–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è: ¬Ϊ–Δ―΄ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β―Ü, –Φ–Ψ–Ι –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η–Κ, –Ψ–Ω–Β―Ä–Β–¥–Η–Μ –Φ–Β–Ϋ―è, –¥–Α –Φ–Ϋ–Β ―É–Ε–Β ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Η –Ω–Ψ–Ζ–¥–Ϋ–Ψ –Ψ ―¹–Β–Φ―¨–Β –¥―É–Φ–Α―²―¨. –ü―Ä–Ψ–Ε–Η–Μ –≤―¹―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –≤ –Ψ–¥–Η–Ϋ–Ψ―΅–Β―¹―²–≤–Β. –Δ―è–Ε–Β–Μ–Ψ –±―΄–≤–Α–Β―², –Λ―Ä–Ψ–Μ―É―à–Κ–Α, ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–≤–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Ϋ–Β –Ε–¥–Β―² ―²–Β–±―è –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥―É...¬Μ ¬Ϊ–î–Α, –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ, –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β –Λ–Ψ–Κ–Η―è –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤–Η―΅–Α, –¥–Α –¥―Ä―É–Ζ–Β–Ι-–Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤ –Ϋ–Β –Ϋ–Α–≤–Β―¹―²–Η―² –£–Η―²–Α–Μ–Η―è –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Β–≤–Η―΅–Α –Η –≤ –±–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Η―Ü–Β. –ù–Η―΅―¨―è –Ε–Β–Ϋ―¹–Κ–Α―è ―Ä―É–Κ–Α, –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β ―΅―É–Ε–Ψ–Ι ―Ä―É–Κ–Η ―¹–Α–Ϋ–Η―²–Α―Ä–Κ–Η, –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ω―Ä–Α–≤–Η―² –Β–Φ―É –Ω–Ψ–¥―É―à–Κ–Η –Ω–Ψ–¥ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ι...¬Μ βÄî ―¹ –≥―Ä―É―¹―²―¨―é –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α–Μ –Λ―Ä–Ψ–Μ. –û–Ϋ –Ζ–Α–¥―Ä–Β–Φ–Α–Μ –Η –Ω―Ä–Ψ―¹–Ϋ―É–Μ―¹―è, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―², –Ϋ–Α–Κ―Ä–Β–Ϋ–Η–≤―à–Η―¹―¨, ―¹–Α–¥–Η–Μ―¹―è –≤ –Δ–±–Η–Μ–Η―¹–Η.  –£ –Λ―Ä–Ψ–Μ ―Ä–Β―à–Η–Μ –Ω–Ψ–Β―Ö–Α―²―¨ –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥–Ψ–Φ. –ü–Ψ–Β–Ζ–¥ ―É―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –≤–Β―΅–Β―Ä–Ψ–Φ, –Η –≤ –Β–≥–Ψ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –±―΄–Μ –Ω–Ψ―΅―²–Η ―Ü–Β–Μ―΄–Ι –¥–Β–Ϋ―¨. –Λ―Ä–Ψ–Μ –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ ―É–Ε–Β –Ϋ–Β –±―΄–Μ –≤ –Δ–±–Η–Μ–Η―¹–Η –Η –Ω–Β―Ä–≤―΄–Φ –¥–Β–Μ–Ψ–Φ –Ω–Ψ―à–Β–Μ –Ϋ–Α ―É–Μ–Η―Ü―É –ö–Α–Φ–Ψ, ―Ö–Ψ―²―è ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–¥–Β―¹―¨ –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ ―É–Ε–Β –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ. –£ –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Ψ–Φ –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Φ –Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Η –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Κ–Α–Κ–Ψ–Β-―²–Ψ ―É―΅―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β. –Λ―Ä–Ψ–Μ –Ζ–Α–≥–Μ―è–Ϋ―É–Μ –≤ –Ψ–Κ–Ϋ–Α, –≤–Ψ –¥–≤–Ψ―Ä βÄî –Η –¥―É―Ö–Α –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ψ―¹―²–Α–Μ–Ψ―¹―¨! –£–Ψ―² –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ–Φ –Ω–Μ–Α―Ü―É, –±―΄–≤–Α–Μ–Ψ, –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η―è, ―É―΅–Η–Μ–Η―¹―¨ ―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ ―¹―²―Ä–Ψ–Β–≤―΄–Φ ―à–Α–≥–Ψ–Φ, –Α ―¹–Β–¥–Ψ–Ι –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –Ζ–Α―΅–Η―²―΄–≤–Α–Μ –Η–Φ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ―΄. –Γ –Μ–Β–≥–Κ–Ψ–Ι –≥―Ä―É―¹―²―¨―é –Λ―Ä–Ψ–Μ ―¹–≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ ―¹ ―ç―²–Ψ–Ι ―²–Η―Ö–Ψ–Ι ―É–Μ–Η―Ü―΄ –Ϋ–Α –¥―Ä―É–≥―É―é. –£–Ψ―à–Β–Μ –≤–Ψ –¥–≤–Ψ―Ä–Η–Κ ―¹ ―²―Ä–Β–Φ―è-―΅–Β―²―΄―Ä―¨–Φ―è –Κ–Α―à―²–Α–Ϋ–Α–Φ–Η, ―¹ –≤–Η―¹―è―â–Η–Φ–Η –Ϋ–Α–¥ –Ϋ–Η–Φ –≥–Α–Μ–Β―Ä–Β–Ι–Κ–Α–Φ–Η, ―É–≤–Β―à–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –±–Β–Μ―¨–Β–Φ. –½–¥–Β―¹―¨ ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β –Ε–Η–Μ–Η ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Η –Γ―²―ç–Μ–Μ―΄. –Λ―Ä–Ψ–Μ ―¹ –ù–Η–Κ–Η―²–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η ―¹―é–¥–Α –≤ ―É–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Η–Ζ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, –Η –€–Η―Ä–Α–± ―É–≥–Ψ―â–Α–Μ –Η―Ö –≤–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β ―Ä–Α–Ζ–±–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι, –Α –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ–Η –Ω–Ψ–¥―Ä–Ψ―¹–Μ–Η βÄî ―΅–Η―¹―²―΄–Φ –Κ–Α―Ö–Β―²–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ –≤–Η–Ϋ–Ψ–Φ. –£ ―ç―²–Ψ–Φ –¥–≤–Ψ―Ä–Η–Κ–Β, –≤ –¥–Β–Ϋ―¨ –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Α –Η–Ζ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, ―¹―²–Ψ―è–Μ –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η―΅–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Κ―Ä―΄―²―΄–Ι ―¹―²–Ψ–Μ. –ê–Ϋ―²–Ψ–Ϋ–Η–Ϋ–Α –Η –Γ―²―ç–Μ–Μ–Α –±―΄–Μ–Η –≤ –±–Β–Μ―΄―Ö –Ω–Μ–Α―²―¨―è―Ö, –Α –€–Η―Ä–Α–± –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ ―Ü–≤–Β―²–Η―¹―²―΄–Β ―²–Ψ―¹―²―΄, –≤–Ψ―¹―Ö–≤–Α–Μ―è–≤―à–Η–Β –±―É–¥―É―â–Η―Ö –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤. –™–Ψ―¹―²–Η –Ω–Β–Μ–Η –≥―Ä―É―¹―²–Ϋ―΄–Β –Η –≤–Β―¹–Β–Μ―΄–Β –Ω–Β―¹–Ϋ–Η, –Η –Ϋ–Α –≤―¹–Β―Ö –≥–Α–Μ–Β―Ä–Β–Ι–Κ–Α―Ö ―²–Ψ–Μ–Ω–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥. –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ε–Η–Μ–Η –Ϋ–Β–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―΄–Β –Μ―é–¥–Η. –ö―É―Ä–Α ―²–Α–Κ –Ε–Β, –Κ–Α–Κ –≤–Ψ―¹–Β–Φ–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²―¨ –Μ–Β―² –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥, –±―É―Ä–Μ–Η–Μ–Α –Ω–Ψ–¥ –Φ–Ψ―¹―²–Ψ–Φ, –±–Β―à–Β–Ϋ–Ψ ―¹―²―Ä–Β–Φ―è―¹―¨ –Κ –Φ–Ψ―Ä―é. –Λ―Ä–Ψ–Μ –Ζ–Α―à–Β–Μ –≤ –Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ–Ϋ―É―é –≥–Α–Μ–Β―Ä–Β―é –≤–Ζ–≥–Μ―è–Ϋ―É―²―¨ –Ϋ–Α –Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ―É, –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ϋ―É―é –ê–Ϋ―²–Ψ–Ϋ–Η–Ϋ–Η–Ϋ―΄–Φ –¥–Β–¥–Ψ–Φ. –ö–Ψ–≥–¥–Α-―²–Ψ ―ç―²–Α –Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ–Α –Ω–Ψ―²―Ä―è―¹–Μ–Α –Β–≥–Ψ. –ù–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ψ–Ϋ–Α: ¬Ϊ–‰―Ö –Ϋ–Β –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―² –Ϋ–Η―΅―²–Ψ¬Μ. –‰ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –Ψ–Ϋ –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ ―¹―²–Ψ―è–Μ –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Ϋ–Β―é. –‰–Ζ –Κ―Ä―É–Ε–Β–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Β–Ϋ―΄ –Ζ–Β–Μ–Β–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è, –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–≤ –≤–Η–Ϋ―²–Ψ–≤–Κ–Η –Η –Α–≤―²–Ψ–Φ–Α―²―΄, –Κ ―¹–Κ–Α–Μ–Η―¹―²–Ψ–Φ―É –±–Β―Ä–Β–≥―É ―É―¹―²―Ä–Β–Φ–Η–Μ–Η―¹―¨ –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹―΄. –€–Α―²―Ä–Ψ―¹―΄ –±―΄–Μ–Η –Ω–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Η –Ϋ–Α ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Β–Ι –Λ―Ä–Ψ–Μ–Α. –û–Ϋ ―²–Ψ–Ε–Β –≤―΄―¹–Α–Ε–Η–≤–Α–Μ―¹―è ―¹ –¥–Β―¹–Α–Ϋ―²–Ψ–Φ. –†–Ψ―¹―²–Ψ–Φ –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ ―²–Ψ–≥–¥–Α –Φ–Α–Μ –Η ―΅―É―²―¨ –Ϋ–Β –Ζ–Α―Ö–Μ–Β–±–Ϋ―É–Μ―¹―è βÄî –Φ–Ψ―Ä–Β –Ϋ–Α–Κ―Ä―΄–Μ–Ψ –Β–≥–Ψ ―¹ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ι. –Γ―²–Α―Ä―à–Η–Β –≤–Ζ―è–Μ–Η –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥ ―Ä―É–Κ–Η –Η –≤―΄–Ϋ–Β―¹–Μ–Η –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥. –ö–Α–Κ –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ!  –£―΄–Ι–¥―è –Η–Ζ –≥–Α–Μ–Β―Ä–Β–Η, –Λ―Ä–Ψ–Μ –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ―¹―è –Ω–Ψ ―É–Μ–Η―Ü–Β –®–Η–Ψ –ß–Η―²–Α–¥–Ζ–Β βÄî –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Κ–Ψ–≥–¥–Α-―²–Ψ –Ε–Η–Μ–Α –ê–Ϋ―²–Ψ–Ϋ–Η–Ϋ–Α. –‰ –Λ―Ä–Ψ–Μ ―¹ –ù–Η–Κ–Η―²–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Κ –Ϋ–Β–Ι –≤ –≥–Ψ―¹―²–Η; –≤ –Κ―Ä–Β―¹–Μ–Β ―É –Ψ–Κ–Ϋ–Α ―¹–Η–¥–Β–Μ ―¹―²–Α―Ä–Η–Κ ―¹ ―¹–Β―Ä–Β–±―Ä―è–Ϋ–Ψ–Ι –≥―Ä–Η–≤–Ψ–Ι βÄî –Ψ―¹–Μ–Β–Ω―à–Η–Ι ―Ö―É–¥–Ψ–Ε–Ϋ–Η–Κ, –¥–Β–¥ –ê–Ϋ―²–Ψ–Ϋ–Η–Ϋ―΄. ¬Ϊ–®―É–Φ–Η―²–Β, –¥–Β―²–Η, ―à―É–Φ–Η―²–Β, βÄî –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ –®–Α–Μ–≤–Α –Ξ―Ä–Η―¹―²–Ψ―³–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η―΅,βÄî –Μ―é–±–Μ―é, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤ –¥–Ψ–Φ –≤―Ö–Ψ–¥–Η―² –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―¹―²―¨¬Μ. –û–Ϋ ―²–Ψ–Ε–Β ―É–Φ–Β―Ä. –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Η ―²―É―² –Ε–Η–Μ–Η –Ϋ–Β–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―΄–Β –Μ―é–¥–Η; ―¹ –Ϋ–Β–¥–Ψ―É–Φ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ψ–≥–Μ―è–¥―΄–≤–Α–Μ–Η –Ψ–Ϋ–Η –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Α. –Γ–Β–Ι―΅–Α―¹ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ βÄî ―Ä–Β–¥–Κ–Ψ―¹―²―¨, –Α –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –Ϋ–Α ―É–Μ–Η―Ü–Β –®–Η–Ψ –ß–Η―²–Α–¥–Ζ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ ―΅–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ–Ψ―Ä―Ü–Β–≤: –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Ι ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ –±―΄–Μ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –≥–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ―¨. –Λ―Ä–Ψ–Μ –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ―¹―è –Ϋ–Α ―³―É–Ϋ–Η–Κ―É–Μ–Β―Ä–Β –Ϋ–Α –≥–Ψ―Ä―É –€―²–Α―Ü–Φ–Η–Ϋ–¥―É, ―¹―ä–Β–Μ –≤ ―Ä–Β―¹―²–Ψ―Ä–Α–Ϋ–Β ―à–Α―à–Μ―΄–Κ, –Ω–Ψ–Μ―é–±–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è ―Ü–Β–Ω–Ψ―΅–Κ–Ψ–Ι ―è―Ä–Κ–Η―Ö –Ψ–≥–Ϋ–Β–Ι, ―¹–≤–Β―Ä–Κ–Α–≤―à–Η―Ö –≤–Ϋ–Η–Ζ―É, –Ω–Ψ '–±–Β―Ä–Β–≥–Α–Φ –±―΄―¹―²―Ä–Ψ–Ι –ö―É―Ä―΄; –≤–Ζ–≥–Μ―è–Ϋ―É–Μ –Ϋ–Α ―΅–Α―¹―΄. –ü–Ψ―Ä–Α –±―΄–Μ–Ψ –Η–¥―²–Η –Ϋ–Α –≤–Ψ–Κ–Ζ–Α–Μ... –·―Ä–Κ–Η–Φ ―¹–Ψ–Μ–Ϋ–Β―΅–Ϋ―΄–Φ ―É―²―Ä–Ψ–Φ –Λ―Ä–Ψ–Μ, –Ω–Ψ–¥―Ö–≤–Α―²–Η–≤ ―΅–Β–Φ–Ψ–¥–Α–Ϋ―΅–Η–Κ, –≤―΄―à–Β–Μ –Η–Ζ –≤–Α–≥–Ψ–Ϋ–Α –≤ –ë–Α―²―É–Φ–Η. –û–Ϋ ―à–Β–Μ –Ω–Ψ ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Η–Φ ―É–Μ–Η―Ü–Α–Φ, –Ψ–±―¹–Α–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ω–Α–Μ―¨–Φ–Α–Φ–Η, ―¹―Ä–Β–¥–Η ―Ü–≤–Β―²–Ψ–≤ –Η ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤―΄―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι, ―¹–Ω–Β―à–Η–≤―à–Η―Ö –Ϋ–Α –Ω–Μ―è–Ε, –Ϋ–Α ―²–Β–Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ–¥, ―É―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Η–Ι –≤ –û–¥–Β―¹―¹―É, –Ϋ–Α ―¹–≤–Η–¥–Α–Ϋ–Η–Β ―¹ –¥–Β–≤―É―à–Κ–Ψ–Ι, –Η –Β–Φ―É –Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Β–Φ―΄―¹–Μ–Η–Φ―΄–Φ, ―΅―²–Ψ –≤ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―΅―É–¥–Β―¹–Ϋ―΄–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ ―¹–Φ–Β―Ä―²―¨ –≤―Ö–Ψ–¥–Η―² –≤ –Ω–Α–Μ–Α―²―É, –≥–¥–Β –Μ–Β–Ε–Η―² –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Η–Β–Φ–Ϋ―΄–Ι –Ψ―²–Β―Ü, ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –±―Ä–Α―², –¥―Ä―É–≥ –Η –Ϋ–Α―¹―²–Α–≤–Ϋ–Η–Κ... –£ –≤–Β―¹―²–Η–±―é–Μ–Β –±–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Η―Ü―΄ –Λ―Ä–Ψ–Μ –Ϋ–Α―²–Κ–Ϋ―É–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Λ–Ψ–Κ–Η―è –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤–Η―΅–Α. –ë–Ψ―Ü–Φ–Α–Ϋ –Ψ―¹―É–Ϋ―É–Μ―¹―è, –Ω–Ψ―¹―²–Α―Ä–Β–Μ, –Κ–Α–Κ-―²–Ψ –≤–Β―¹―¨ ―¹―ä–Β–Ε–Η–Μ―¹―è –Η ―É―¹–Ψ―Ö: ―¹―²–Α―Ä–Ψ―¹―²―¨ βÄî –Ϋ–Β –Κ―Ä–Α―¹–Η―²... βÄî –Θ–Φ–Η―Ä–Α–Β―² –Ϋ–Α―à –£–Η―²–Α–Μ–Η–Ι –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Β–≤–Η―΅,βÄî ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Λ–Ψ–Κ–Η–Ι –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤–Η―΅, –≤―΄―²–Η―Ä–Α―è –≥–Μ–Α–Ζ–Α. βÄî –Δ–Ψ–≥–¥–Α, –Λ―Ä–Ψ–Μ―É―à–Κ–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α, –Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―à―¨, ―²―΄ –Ϋ–Α―¹ –≤―΄–≤–Β–Μ –Η–Ζ –≤–Η–Μ–Κ–Η, –Β–Φ―É –Μ–Β–≥–Κ–Ψ–Β –Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ–Κ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ–±–Η–Μ–Ψ. –†–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –≤ ―Ä–Α–Κ –Ω–Β―Ä–Β―à–Μ–Ψ... –ö–Α–Κ–Ψ–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Ω–Ψ–≥–Η–±–Α–Β―²! βÄî –Λ–Ψ–Κ–Η–Ι –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤–Η―΅ –≤―¹―Ö–Μ–Η–Ω–Ϋ―É–Μ –Η –Ψ―²–≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ―¹―è –Κ –Ψ–Κ–Ϋ―É.  –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―².  –£–Β―Ä―é–Ε―¹–Κ–Η–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–£–ù–ê), –™–Ψ―Ä–Μ–Ψ–≤ –û–Μ–Β–≥ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–û–ê–™), –€–Α–Κ―¹–Η–Φ–Ψ–≤ –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–€–£–£), –ö–Γ–£. 198188. –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥, ―É–Μ. –€–Α―Ä―à–Α–Μ–Α –™–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α, –¥–Ψ–Φ 11/3, –Κ–≤. 70. –ö–Α―Ä–Α―¹–Β–≤ –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅, –Α―Ä―Ö–Η–≤–Α―Ä–Η―É―¹. karasevserg@yandex.ru
17.10.201310:5117.10.2013 10:51:42
0
16.10.201310:2916.10.2013 10:29:13
–ü–Β―Ä–≤―΄–Β ―à–Α–≥–Η! –û–Ϋ–Η –Ζ–Α–Ω–Ψ–Φ–Ϋ―è―²―¹―è –Ϋ–Α –≤―¹―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨. –Λ–Β–¥–Ψ―Ä –±―΄–Μ –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ ―¹ –Φ–Ψ―Ä–Β–Φ, –Ϋ–Ψ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –±―É–¥―É―â–Β–Φ―É –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Β –Ζ–Ϋ–Α―²―¨, –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Φ―É ―É―΅–Η―²―¨―¹―è. –‰ –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ ―É―΅–Η―²―¨―¹―è –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Ι―΅–Η–≤–Ψ, ―É–Ω–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ. –£–Φ–Β―¹―²–Β ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η –¥―Ä―É–Ζ―¨―è–Φ–Η –·―Ä–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Ψ–Φ –‰–Ψ―¹―¹–Β–Μ–Η–Α–Ϋ–Η –Η –€–Η―Ö–Α–Η–Μ–Ψ–Φ –Γ–Β–Φ–Β–Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ –Λ–Β–¥–Ψ―Ä –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η ―¹ ―É–≤–Μ–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―²―¹―è ―à–Μ―é–Ω–Κ–Ψ–Ι, –Ψ–≤–Μ–Α–¥–Β–≤–Α–Β―² –Η―¹–Κ―É―¹―¹―²–≤–Ψ–Φ ―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α –≤–Β―¹–Μ–Α―Ö –Η –Ω–Ψ–¥ –Ω–Α―Ä―É―¹–Ψ–Φ. –ö–Α–Ε–¥―΄–Ι –Μ–Β―²–Ϋ–Η–Ι –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ –Λ–Β–¥–Ψ―Ä –Ω―Ä–Η–Β–Ζ–Ε–Α–Μ –≤ –€―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ –Η, –Κ–Α–Κ –≤―¹–Β–≥–¥–Α, –Ϋ–Β –Ψ–¥–Η–Ϋ, –Α ―¹ –Κ–Β–Φ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Η–Ζ –¥―Ä―É–Ζ–Β–Ι. –î–Ψ–Φ –Ψ–Ε–Η–≤–Α–Μ. –Γ–Β―¹―²―Ä–Β–Ϋ–Κ–Η –Ϋ–Β –Ψ―²―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Ψ―² –±―Ä–Α―²–Α, ―¹–Μ―É―à–Α―è –Β–≥–Ψ ―É–≤–Μ–Β–Κ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄ –Ψ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β, –Ψ –Φ–Ψ―Ä–Β, –Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è―Ö. –£ 1935 –≥–Ψ–¥―É ―É–Φ–Β―Ä –Ψ―²–Β―Ü. –ù–Α –Λ–Β–¥–Ψ―Ä–Α, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α ―¹―²–Α―Ä―à–Β–≥–Ψ, –Μ–Β–≥–Μ–Η –Ζ–Α–±–Ψ―²―΄ –Ω–Ψ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η―é ―¹–Β―¹―²―Ä–Β–Ϋ–Ψ–Κ, –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α―²―¨ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η. –ö–Α–Ε–¥―΄–Ι –Φ–Β―¹―è―Ü –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Η―¹―΄–Μ–Α–Μ –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η –Η–Ζ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―¹–Κ―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Κ–Η. –£ ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä–Β 1937 –≥–Ψ–¥–Α –Λ–Β–¥–Ψ―Ä ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ ―¹–¥–Α–Μ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―ç–Κ–Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ, –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Η –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ –½–Α–Μ–Β –†–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Η –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Ϋ―΄–Ι –Ω–Α―Ä–Α–¥. –†―è–¥–Ψ–Φ ―¹ –Λ–Β–¥–Ψ―Ä–Ψ–Φ ―¹―²–Ψ―è–Μ–Η –Β–≥–Ψ –¥―Ä―É–Ζ―¨―è –Ω–Ψ ―É―΅–Β–±–Β βÄî –£.–£.–ü―Ä–Α–≤–¥―é–Κ, –ê.–‰.–ü–Β―²–Β–Μ–Η–Ϋ, –£.–‰.–ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤, –¦.–£.–ï–≥–Ψ―Ä–Ψ–≤. –ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Ζ–Α―΅–Η―²–Α–Μ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ –Ψ –Ω―Ä–Η―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Η–Η –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η―è ¬Ϊ–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²¬Μ. –½–Α―²–Β–Φ –≤―Ä―É―΅–Η–Μ–Η –¥–Η–Ω–Μ–Ψ–Φ―΄. –ö–Α–Κ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ–Η–Κ ―É―΅–Β–±―΄, –Λ–Β–¥–Ψ―Ä –Η–Φ–Β–Μ –Ω―Ä–Α–≤–Ψ –≤―΄–±–Ψ―Ä–Α ―³–Μ–Ψ―²–Α –Η, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ –Ε–Β, –≤―΄–±―Ä–Α–Μ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι ―³–Μ–Ψ―². –£―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ –¥–Β–Μ–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α ―Ä―É–Μ–Β–≤–Ψ–Ι –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ¬Ϊ–î-2¬Μ.  –ù–Α―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Η ―²―Ä–Β–≤–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Β –≥–Ψ–¥―΄. –€–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Α –Ψ–±–Ψ―¹―²―Ä―è–Μ–Α―¹―¨, ―³–Α―à–Η–Ζ–Φ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―É. –ù–Α ―³–Μ–Ψ―²–Β ―à–Μ–Α –Ϋ–Α–Ω―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –±–Ψ–Β–≤–Α―è ―É―΅–Β–±–Α. –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Α–Μ–Η –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥―΄, –Ψ―¹–≤–Α–Η–≤–Α–Μ–Η –Ψ―Ä―É–Ε–Η–Β, ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ―É, ―²–Β–Α―²―Ä, –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Β –≤ –Μ–Β–¥–Ψ–≤―΄―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö. –Γ–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤ 1933 –≥–Ψ–¥―É –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Ι –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι ―³–Μ–Ψ―² –Ϋ–Α―Ä–Α―â–Η–≤–Α–Μ ―²–Β–Φ–Ω―΄ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―É―΅–Β–±―΄. –£ ―³–Β–≤―Ä–Α–Μ–Β 1938 –≥–Ψ–¥–Α –Λ–Β–¥–Ψ―Ä –£–Η–¥―è–Β–≤ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β –≤ –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²–Ψ–Φ –Μ–Β–¥–Ψ–≤–Ψ–Φ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ¬Ϊ–î-3¬Μ (–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –£.–ù.–ö–Ψ―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤) –¥–Μ―è ―¹–Ϋ―è―²–Η―è ―¹ –¥―Ä–Β–Ι―³―É―é―â–Β–Ι –Μ―¨–¥–Η–Ϋ―΄ –≥–Β―Ä–Ψ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―΅–Β―²–≤–Β―Ä–Κ–Η ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ βÄî –ü–Α–Ω–Α–Ϋ–Η–Ϋ–Α, –ö―Ä–Β–Ϋ–Κ–Β–Μ―è, –Λ–Β–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α –Η –®–Η―Ä―à–Ψ–≤–Α. –£―΄–Ι–¥―è –Η–Ζ –ö–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α 5 ―³–Β–≤―Ä–Α–Μ―è, ¬Ϊ–î-3¬Μ –≤–Ζ―è–Μ–Α –Κ―É―Ä―¹ –Ϋ–Α –Ζ–Α–Ω–Α–¥. –Θ –Φ―΄―¹–Α –ù–Ψ―Ä–¥–Κ–Α–Ω –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ–Η –≤ –¥–Β–≤―è―²–Η–±–Α–Μ–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―à―²–Ψ―Ä–Φ. –û―² –ù–Ψ―Ä–¥–Κ–Α–Ω–Α –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Κ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤―É –·–Ϋ-–€–Α–Ι–Β–Ϋ. –ö–Ψ–≥–¥–Α –≤–Β―²–Β―Ä –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹―²–Η―Ö, ―¹ ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ψ-–Ζ–Α–Ω–Α–¥–Α –Ϋ–Α–¥–≤–Η–Ϋ―É–Μ―¹―è ―²―É–Φ–Α–Ϋ. –£–Η–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨ ―É―Ö―É–¥―à–Η–Μ–Α―¹―¨. –£–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –Λ–Β–¥–Ψ―Ä –£–Η–¥―è–Β–≤ –Ϋ–Β―¹ ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ―É―é –≤–Α―Ö―²―É, ―²―â–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤–Β–Μ ―¹―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ω―É―²–Η. –ù–Α―΅–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ–±–Μ–Β–¥–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η. –®―²–Ψ―Ä–Φ–Ψ–≤–Ψ–Ι –≤–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Ψ―Ä–≤–Α–Μ–Ψ ―¹―Ö–Ψ–¥–Ϋ―é, ―¹–Ω–Α―¹–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Κ―Ä―É–≥–Η. –£ ―²–Α–Κ–Η―Ö ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ―΄―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―΄ –≤–Ψ―¹–Β–Φ―¨ ―¹―É―²–Ψ–Κ –≤–Β–Μ–Η –Μ–Ψ–¥–Κ―É ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ ―¹―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Η―é. –ö –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤―É –·–Ϋ-–€–Α–Ι–Β–Ϋ –≤―΄―à–Μ–Η ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ. –û―² –·–Ϋ-–€–Α–Ι–Β–Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Η –Κ―É―Ä―¹ –Κ –™―Ä–Β–Ϋ–Μ–Α–Ϋ–¥–Η–Η, –Κ―É–¥–Α –≤―΄–Ϋ–Β―¹–Μ–Ψ –Μ―¨–¥–Η–Ϋ―É ―¹ –≥–Β―Ä–Ψ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―΅–Β―²–≤–Β―Ä–Κ–Ψ–Ι. –ü–Α–Ω–Α–Ϋ–Η–Ϋ―Ü―΄ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η –¥―Ä–Β–Ι―³ 21 –Φ–Α―è 1937 –≥–Ψ–¥–Α. –ù–Β–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ –Ψ―² ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ε–Α―²–Η―è ―Ä–Α―¹–Κ–Α–Μ―΄–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Η―Ö –Μ―¨–¥–Η–Ϋ–Α, –Η –≤–Ψ―² –Ϋ–Α –Ψ―¹―²–Α―²–Κ–Β –Κ–Ψ–≥–¥–Α-―²–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–≥–Ψ –Μ–Β–¥―è–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ―è –Η―Ö –≤―΄–Ϋ–Β―¹–Μ–Ψ –≤ –™―Ä–Β–Ϋ–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä–Β. –ö –Ϋ–Η–Φ –Ϋ–Α –≤―΄―Ä―É―΅–Κ―É ―¹–Ω–Β―à–Η–Μ–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η, –≥–Η–¥―Ä–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ ¬Ϊ–€―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Β―Ü¬Μ, –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―¹―É–¥–Α ¬Ϊ–Δ–Α–Ι–Φ―΄―Ä¬Μ –Η ¬Ϊ–€―É―Ä–Φ–Α–Ϋ¬Μ. –‰–Ζ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Α –≤―΄―à–Β–Μ –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ ¬Ϊ–ï―Ä–Φ–Α–Κ¬Μ. –ü–Β―Ä–≤―΄–Φ –Ω–Ψ–¥–Ψ―à–Β–Μ –Κ –Κ―Ä–Ψ–Φ–Κ–Β –Μ―¨–¥–Α ¬Ϊ–€―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Β―Ü¬Μ, –Ϋ–Ψ –Μ―¨–¥―΄ –Ω―Ä–Β–Ψ–¥–Ψ–Μ–Β―²―¨ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥ –Η –Ω–Ψ―à–Β–Μ –≤–¥–Ψ–Μ―¨ –Κ―Ä–Ψ–Φ–Κ–Η –Μ―¨–¥–Α, –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–≤–Α―è ―¹–≤–Ψ–Η –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η―è –≤ –Θ–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Γ–Β–≤–Φ–Ψ―Ä–Ω―É―²–Η ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ¬Ϊ–î-3¬Μ, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η ¬Ϊ–€―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―Ü–Α¬Μ –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ –Ϋ–Β ―É–¥–Α–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹–≤―è–Ζ–Α―²―¨―¹―è ―¹ –Ζ–Β–Φ–Μ–Β–Ι.  –£―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –Η ¬Ϊ–î-3¬Μ –Ω–Ψ–¥–Ψ―à–Μ–Α –Κ –Κ―Ä–Ψ–Φ–Κ–Β –¥―Ä–Β–Ι―³―É―é―â–Β–≥–Ψ –Μ―¨–¥–Α. –ü–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ψ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Ψ―΅―¨―é. –¦–Α–≤–Η―Ä―É―è –Φ–Β–Ε–¥―É –Μ–Β–¥―è–Ϋ―΄–Φ–Η –≥–Μ―΄–±–Α–Φ–Η, –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –≤―¹–Β –±–Μ–Η–Ε–Β –Η –±–Μ–Η–Ε–Β –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α –Κ –Μ―¨–¥–Η–Ϋ–Β –Ω–Α–Ω–Α–Ϋ–Η–Ϋ―Ü–Β–≤. –ù–Ψ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Φ–Η –Ω–Ψ–¥–Ψ―à–Μ–Η ¬Ϊ–Δ–Α–Ι–Φ―΄―Ä¬Μ –Η ¬Ϊ–€―É―Ä–Φ–Α–Ϋ¬Μ –Η ―¹–Ϋ―è–Μ–Η –Ψ―²–≤–Α–Ε–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤¬Μ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Η―Ö 274-–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≥–Β―Ä–Ψ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –¥―Ä–Β–Ι―³–Α –≤ –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –ê―Ä–Κ―²–Η–Κ–Β. ¬Ϊ–î-3¬Μ –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Α―¹―¨ –≤ –±–Α–Ζ―É. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Η–Μ–Ψ –Φ–Α―¹―²–Β―Ä―¹―²–≤–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –≤ ―ç―²–Ψ–Φ ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ–Φ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Η. –û―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Η–Μ–Η―¹―¨ ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―΄. –£ –Η―é–Ϋ–Β 1938 –≥–Ψ–¥–Α –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –£–Η–¥―è–Β–≤ –±―΄–Μ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ¬Ϊ–î-2¬Μ, –Α 24 –Ψ–Κ―²―è–±―Ä―è –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ–Η –Κ–Α–Ϋ–¥–Η–¥–Α―²–Ψ–Φ –≤ ―΅–Μ–Β–Ϋ―΄ –£–ö–ü(–±). –ö–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η―¹―²―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Η–Ϋ―¹―²–≤―É –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Η–Μ–Η ―²―Ä―É–¥–Ψ–Μ―é–±–Η–≤–Ψ–≥–Ψ, –≤–Μ―é–±–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤ ―¹–≤–Ψ―é ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–≥–Ψ ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Α –Η –≤–Β―Ä–Η–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Ψ–Ω―Ä–Α–≤–¥–Α–Β―² –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–Β –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η―¹―²–Α. –¦–Β―²–Ψ–Φ 1939 –≥–Ψ–¥–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α ¬Ϊ–î-2¬Μ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Η–Μ–Α –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥ –Η–Ζ –ö–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥ –¥–Μ―è –Ω–Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Η –≤ ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―². –Λ–Β–¥–Ψ―Ä –£–Η–¥―è–Β–≤ ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―é–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –ù–Α ―ç―²–Ψ―² ―Ä–Α–Ζ –Ω―Ä–Β–±―΄–≤–Α–Ϋ–Η–Β –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Α–Φ―΄–Φ ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Ϋ―΄–Φ. –£ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Η―é–Μ―è –¥―Ä―É–Ζ―¨―è –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η –Λ–Β–¥–Ψ―Ä–Α ―¹ –Ω―Ä–Η―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Β–Φ―É –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η―è ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²; –Α –Ψ–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Η–Μ–Η –Β–≥–Ψ ―¹ –Φ–Η–Μ–Ψ–≤–Η–¥–Ϋ–Ψ–Ι –±–Β–Μ–Ψ–Κ―É―Ä–Ψ–Ι –¥–Β–≤―É―à–Κ–Ψ–Ι –€–Α―à–Β–Ι. –£–Η–¥–Η–Φ–Ψ, –≥–Ψ–¥ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤―΄–Φ –¥–Μ―è –Λ–Β–¥–Ψ―Ä–Α: –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄–Β –Μ―é–¥–Η –≥–Ψ―Ä―è―΅–Ψ –Ω–Ψ–Μ―é–±–Η–Μ–Η –¥―Ä―É–≥ –¥―Ä―É–≥–Α –Η –≤―¹–Κ–Ψ―Ä–Β ―¹―²–Α–Μ–Η –Φ―É–Ε–Β–Φ –Η –Ε–Β–Ϋ–Ψ–Ι. –û―¹–Β–Ϋ―¨―é ―¹―²–Α―Ä―à–Β–≥–Ψ –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α –£–Η–¥―è–Β–≤–Α –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η ―É―΅–Η―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –£―΄―¹―à–Η–Β ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Κ–Μ–Α―¹―¹―΄ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è. –ù–Α―΅–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Α ―¹ –Λ–Η–Ϋ–Μ―è–Ϋ–¥–Η–Β–Ι. –Λ–Β–¥–Ψ―Ä –Ζ–Ϋ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Β–≥–Ψ –¥―Ä―É–Ζ―¨―è –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Β –Η –Γ–Β–≤–Β―Ä–Β ―É―Ö–Ψ–¥―è―² –≤ –±–Ψ–Β–≤―΄–Β –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥―΄, –Ϋ–Β―¹―É―² –¥–Ψ–Ζ–Ψ―Ä–Ϋ―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É –≤ ―¹―É―Ä–Ψ–≤–Ψ–Φ –Ζ–Η–Φ–Ϋ–Β–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β. –Γ―²–Α–Μ –Ω―Ä–Ψ―¹–Η―²―¨―¹―è –Ϋ–Α ―³–Μ–Ψ―². –ù–Β –Ω―É―¹―²–Η–Μ–Η. –Γ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ ―¹–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –≤―΄―É―΅–Η―²―¨―¹―è, –Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–Ω–Α–¥―É―² –¥–Α―Ä–Ψ–Φ. –£ –Ψ–Κ―²―è–±―Ä–Β 1940 –≥–Ψ–¥–Α –Λ–Β–¥–Ψ―Ä –£–Η–¥―è–Β–≤ ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Κ–Α–Ϋ―΅–Η–≤–Α–Β―² –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―¹–Κ–Η–Β –Κ–Μ–Α―¹―¹―΄ –Η –Β–¥–Β―² –Ϋ–Α –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι ―³–Μ–Ψ―² –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ¬Ϊ–©-421¬Μ. –£ ―³–Η–Ϋ―¹–Κ―É―é –Κ–Α–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η―é –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α ¬Ϊ–©-421¬Μ –Ϋ–Β―¹–Μ–Α –¥–Ψ–Ζ–Ψ―Ä–Ϋ―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É –≤ ―¹―É―Ä–Ψ–≤–Ψ–Φ –Ζ–Η–Φ–Ϋ–Β–Φ –ë–Α―Ä–Β–Ϋ―Ü–Β–≤–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β, –Ζ–Α ―΅―²–Ψ –≤―¹–Β–Φ―É –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Φ―É ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤―É –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –£.–ü.–î―Ä–Ψ–Ζ–¥ –Ψ–±―ä―è–≤–Η–Μ –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –Λ–Β–¥–Ψ―Ä –±―΄–Μ ―Ä–Α–¥, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ –≤ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Ι, ―¹–Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε.  –ü–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α ¬Ϊ–©-421¬Μ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –Λ.–ê. –£–Η–¥―è–Β–≤ –ù–Α –½–Α–Ω–Α–¥–Β –Ω–Ψ–Μ―΄―Ö–Α–Μ–Α –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Α, ―Ä–Α–Ζ–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è ―³–Α―à–Η―¹―²―¹–Κ–Ψ–Ι –™–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ–Η–Β–Ι, –Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –Γ–Β–≤–Β―Ä–Α –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ–Η –Ϋ–Β―É―¹―²–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ ―¹–≤–Ψ―é –≤―΄―É―΅–Κ―É, –Ω–Ψ–≤―΄―à–Α―²―¨ –±–Ψ–Β–≤―É―é –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –ù–Α –Ω–Μ–Β―΅–Η –Λ–Β–¥–Ψ―Ä–Α –Μ–Β–≥–Μ–Η –≤―¹–Β –≤–Ψ–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ ―É―¹―²–Α–≤–Ψ–Φ –Ϋ–Β–Μ–Β–≥–Κ–Η–Β –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η. –û–Ϋ ―É―΅–Η―² –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Η ―É―΅–Η―²―¹―è ―¹–Α–Φ, –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β ―¹―²–Β―¹–Ϋ―è―è―¹―¨ –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Η―²―¨ –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Α –Η–Μ–Η ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ―É –Ω–Ψ–Φ–Ψ―΅―¨ –Β–Φ―É ―Ä–Α–Ζ–Ψ–±―Ä–Α―²―¨―¹―è –≤ ―²–Ψ–Φ –Η–Μ–Η –Η–Ϋ–Ψ–Φ ―É–Ζ–Μ–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η. –Γ–Κ―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Ι –Η –Ζ–Α–±–Ψ―²–Μ–Η–≤―΄–Ι, ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –≤ –¥–Β–Μ–Α―Ö, –Ψ–Ϋ ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ ―¹―²–Α–Μ –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ ―É–≤–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―É –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η. –Λ–Β–¥–Ψ―Ä –≤–Β―¹―¨ –Ψ―²–¥–Α–≤–Α–Μ―¹―è ―¹–Μ―É–Ε–±–Β, ―¹―΅–Η―²–Α―è ―ç―²–Ψ –Ϋ–Ψ―Ä–Φ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η. –€–Α–Ι―¹–Κ–Η–Β –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η 1941 –≥–Ψ–¥–Α –Λ–Β–¥–Ψ―Ä –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–Μ –≤ ―¹–Β–Φ―¨–Β –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β. –Ξ–Ψ–¥–Η–Μ ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤―΄–Ι: ―Ä–Α–¥–Ψ–≤–Α–Μ ―¹―΄–Ϋ –ö–Ψ―¹―²―è, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ―É ―à–Β–Μ –¥–Β–≤―è―²―΄–Ι –Φ–Β―¹―è―Ü. –û―²–Ω―É―¹–Κ –Ω―Ä–Ψ–Μ–Β―²–Β–Μ –Ϋ–Β–Ζ–Α–Φ–Β―²–Ϋ–Ψ. –ù–Α –Ω―Ä–Ψ―â–Α–Ϋ―¨–Β –Λ–Β–¥–Ψ―Ä –Κ―Ä–Β–Ω–Κ–Ψ –Ω―Ä–Η–Ε–Α–Μ ―¹―΄–Ϋ–Α –Κ –≥―Ä―É–¥–Η: ¬Ϊ–î–Ψ ―¹–≤–Η–¥–Α–Ϋ―¨―è, ―¹―΄–Ϋ. –Γ–Κ–Ψ―Ä–Ψ –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Φ―¹―è!¬Μ –Γ –Ε–Β–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η―¹―¨, ―΅―²–Ψ –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Η―é–Ϋ―è –Ψ–Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Β–Β–¥–Β―² –Ε–Η―²―¨ –≤ –€―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ. –ù–Ψ –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η―²―¨―¹―è –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨. 25 –Φ–Α―è 1941 –≥–Ψ–¥–Α, ―É–Β–Ζ–Ε–Α―è –Ϋ–Α –Γ–Β–≤–Β―Ä, –Λ–Β–¥–Ψ―Ä –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι ―Ä–Α–Ζ –≤–Η–¥–Β–Μ ―¹–≤–Ψ―é ―¹–Β–Φ―¨―é... –£–Ψ–Ι–Ϋ–Α –Ϋ–Α –Γ–Β–≤–Β―Ä–Β –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α–Μ–Β―²–Ψ–Φ ―³–Α―à–Η―¹―²―¹–Κ–Ψ–Ι –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Η 22 –Η―é–Ϋ―è –Ϋ–Α –€―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ, –ü–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ―΄–Ι, –ö–Ψ–Μ―É. –£ ―ç―²–Ψ―² –Ε–Β –¥–Β–Ϋ―¨ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α ¬Ϊ–©-421¬Μ –≤―΄―à–Μ–Α –≤ ―¹–≤–Ψ–Ι –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥. –ù–Α –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Β –Κ –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –ù.–ê.–¦―É–Ϋ–Η–Ϋ –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –±–Β―¹–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ. –û–±―¹―É–Ε–¥–Α–Μ–Η, –Ω―Ä–Η–Κ–Η–¥―΄–≤–Α–Μ–Η, –Κ–Α–Κ –±―É–¥―É―² –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Η ―¹ –≤―Ä–Α–≥–Ψ–Φ. ¬Ϊ–£ –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Β –Φ―΄ ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ―΄, βÄî –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ –¦―É–Ϋ–Η–Ϋ, βÄî ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α–¥–Α―΅–Η –Ψ―²―Ä–Α–±–Α―²―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ, –¥–Ψ–Ζ–Ψ―Ä–Ϋ―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É –Ϋ–Β―¹–Μ–Η, –Ϋ–Ψ –≤–Β–¥―¨ ―¹ –≤―Ä–Α–≥–Ψ–Φ –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Φ―¹―è –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β. –ù–Α–¥–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―¹ –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö –¥–Ϋ–Β–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –Ω–Ψ–≤–Β―Ä–Η–Μ–Η –≤ ―¹–≤–Ψ–Η ―¹–Η–Μ―΄. –û―² –Ϋ–Α―¹ ―¹ –≤–Α–Φ–Η, –Λ–Β–¥–Ψ―Ä –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅, –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Β –Ζ–Α–≤–Η―¹–Η―². –ù–Α–Φ –Ζ–Α–≤–Β―Ä―à–Α―²―¨ ―É―¹–Η–Μ–Η―è –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –Ω―Ä–Η –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Β –≤ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―É―é –Α―²–Α–Κ―É. –ü―Ä–Ψ–Φ–Α―Ö–Η –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η―²―¨ –Ζ–Α ―¹–≤–Ψ–Ι ―¹―΅–Β―², –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Ϋ–Β –≤–Η–Ϋ–Η―²―¨!¬Μ –û–¥–Η–Ϋ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥ ―¹–Φ–Β–Ϋ―è–Μ―¹―è –¥―Ä―É–≥–Η–Φ. –î–Β―Ä–Ζ–Κ–Η–Β, ―²–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –≥―Ä–Α–Φ–Ψ―²–Ϋ―΄–Β –Α―²–Α–Κ–Η –¦―É–Ϋ–Η–Ϋ–Α –Ω―Ä–Η–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η –Ψ–¥–Ϋ―É –Ω–Ψ–±–Β–¥―É –Ζ–Α –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι. –ö –¥–Β–Κ–Α–±―Ä―é 1941 –≥–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α ―¹―΅–Β―²―É ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α –±―΄–Μ–Ψ 3 ―³–Α―à–Η―¹―²―¹–Κ–Η―Ö ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Α –Ψ–±―â–Η–Φ –≤–Ψ–¥–Ψ–Η–Ζ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η–Β–Φ 20 000 ―²–Ψ–Ϋ–Ϋ. –¦–Η―΅–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –±―΄–Μ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ –Κ –Ω―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥–Α–Φ. –Λ–Β–¥–Ψ―Ä –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅ –£–Η–¥―è–Β–≤ –±―΄–Μ –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Ψ–Φ –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –½–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η. –£–Β―΅–Β―Ä–Ψ–Φ –≤ –¥–Β–Ϋ―¨ –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –≤ –Κ―Ä―É–≥―É –¥―Ä―É–Ζ–Β–Ι –Λ–Β–¥–Ψ―Ä –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ: ¬Ϊ–· ―Ä–Α–¥ –Ζ–Α ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε. –Ξ–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Β –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Η. –ê –Ϋ–Α―à –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä? –Θ –Ϋ–Β–≥–Ψ –Β―¹―²―¨ ―΅–Β–Φ―É –Ω–Ψ―É―΅–Η―²―¨―¹―è¬Μ. –‰ –Ψ–Ϋ ―É―΅–Η–Μ―¹―è –Φ–Α―¹―²–Β―Ä―¹―²–≤―É ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄―Ö –Α―²–Α–Κ ―É –¦―É–Ϋ–Η–Ϋ–Α.  –£ ―è–Ϋ–≤–Α―Ä–Β 1942 –≥–Ψ–¥–Α ¬Ϊ ¬Μ –≤―΄―à–Μ–Α –≤ ―à–Β―¹―²–Ψ–Ι –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥. –ü–Ψ–Η―¹–Κ –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –≤–Β―¹―²–Η ―É –Η–Ζ―Ä–Β–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―³―¨–Ψ―Ä–¥–Α–Φ–Η –Ϋ–Ψ―Ä–≤–Β–Ε―¹–Κ–Η―Ö –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤. –™–Η―²–Μ–Β―Ä–Ψ–≤―Ü―΄ –Ψ―²–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ψ―² –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è –≤ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β –Η ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ω―Ä–Ψ–±–Η―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –Κ –Ω–Ψ―Ä―²–Α–Φ –Η–Ζ–≤–Η–Μ–Η―¹―²―΄–Φ–Η ―à―Ö–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω―É―²―è–Φ–Η. –ù–Ψ―΅―¨―é –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–Μ–Η ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―² –≤–Ψ–¥–Ψ–Η–Ζ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η–Β–Φ 8000 ―²–Ψ–Ϋ–Ϋ –≤ –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η ―΅–Β―²―΄―Ä–Β―Ö –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι. –€–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Β–Ϋ–Ψ―¹–Ϋ–Α―è –Α―²–Α–Κ–Α –Ζ–Α–≤–Β―Ä―à–Η–Μ–Α―¹―¨ ―²–Ψ―΅–Ϋ―΄–Φ –Ζ–Α–Μ–Ω–Ψ–Φ, –Η ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―² –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –Ω–Ψ―à–Β–Μ –Ϋ–Α –¥–Ϋ–Ψ. –î–Ϋ–Β–Φ –Η –Ϋ–Ψ―΅―¨―é –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ–Η –Ω–Ψ–Η―¹–Κ. –û―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α―è –≤ –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω –≥–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ψ–Ϋ―², –£–Η–¥―è–Β–≤ –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–Μ –≥―Ä―É–Ω–Ω―É –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι. ¬Ϊ–ë–Ψ–Β–≤–Α―è ―²―Ä–Β–≤–Ψ–≥–Α!¬Μ –ü–Ψ―¹–Μ–Β –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É –Ψ ―Ü–Β–Μ–Η –Λ–Β–¥–Ψ―Ä –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅ –¥–Ψ–±–Α–≤–Η–Μ: ¬Ϊ–û–¥–Η–Ϋ ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―² ―΅–Β―²―΄―Ä–Β―Ö–Φ–Α―΅―²–Ψ–≤―΄–Ι, –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β 10 000 ―²–Ψ–Ϋ–Η. –€–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≥―Ä―É–Ζ–Α –≤–Β–Ζ–Β―² –≥–Α–¥–Α–Φ. –ï–≥–Ψ –±―΄ –Η ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨, ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä!¬Μ –¦–Ψ–¥–Κ–Α –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –Φ–Α–Ϋ–Β–≤―Ä–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –¥–Μ―è –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Α –≤ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―É―é –Α―²–Α–Κ―É. –Λ–Α―à–Η―¹―²―΄ ―¹–Ω–Β―à–Η–Μ–Η –±―΄―¹―²―Ä–Β–Β –Ω―Ä–Ψ―¹–Κ–Ψ―΅–Η―²―¨ –Ζ–Α –±–Μ–Η–Ε–Α–Ι―à–Η–Ι –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤ –Η –Ζ–Α–Φ–Β―²–Ϋ–Ψ ―É–≤–Β–Μ–Η―΅–Η–Μ–Η ―Ö–Ψ–¥. –£–Ψ―² ―É–Ε–Β –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―² ―¹–Κ―Ä―΄–Μ―¹―è –Ζ–Α ―¹–Ω–Α―¹–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Ψ–Φ. ¬Ϊ–ê–Ω–Ω–Α―Ä–Α―²―΄! –ü–Μ–Η!¬Μ –£ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Β –Ζ–Α―²–Α–Η–Μ–Η –¥―΄―Ö–Α–Ϋ–Η–Β. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Μ―΄―à–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ, –Κ–Α–Κ –£–Η–¥―è–Β–≤ –Ψ―²―¹―΅–Η―²―΄–≤–Α–Β―² ―¹–Β–Κ―É–Ϋ–¥―΄. –€–Ψ―â–Ϋ―΄–Ι –≤–Ζ―Ä―΄–≤ –Ψ―²―Ä–Α–Ζ–Η–Μ―¹―è –≤ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Α―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –≥―Ä–Ψ–Φ–Ψ–≤―΄–Φ ¬Ϊ―É―Ä–Α¬Μ! –¦―É–Ϋ–Η–Ϋ –Ϋ–Α –Φ–≥–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω –Η ―É–≤–Η–¥–Β–Μ, –Κ–Α–Κ ―΅–Β―²―΄―Ä–Β―Ö–Φ–Α―΅―²–Ψ–≤–Α―è –≥―Ä–Ψ–Φ–Α–¥–Α ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Α –Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤ ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –≤–Ψ–Μ–Ϋ―΄ –ù–Ψ―Ä–≤–Β–Ε―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è. –ö–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –±―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ω―Ä–Β―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ –Μ–Ψ–¥–Κ―É, –Ϋ–Ψ –±–Β–Ζ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ. –Λ–Β–≤―Ä–Α–Μ―¨―¹–Κ–Η–Φ ―É―²―Ä–Ψ–Φ –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–Μ–Η ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―² –≤ ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Η –Ω―è―²–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è. ¬Ϊ–Γ―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ, βÄî –Ψ–±―Ä–Α―²–Η–Μ―¹―è –¦―É–Ϋ–Η–Ϋ –Κ –£–Η–¥―è–Β–≤―É, –Ψ―²–Ψ―Ä–≤–Α–≤―à–Η―¹―¨ –Ψ―² –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω–Α,βÄî –≤–Η–¥–Α―²―¨, ―²―É–≥–Ψ ―¹―²–Α–Μ–Ψ ―³–Α―à–Η―¹―²–Α–Φ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α –Ψ–¥–Η–Ϋ ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―² –Ω―è―²―¨ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –≤―΄–¥–Β–Μ―è―é―²¬Μ. –ß–Β―Ä–Β–Ζ –Ω―è―²―¨ –Φ–Η–Ϋ―É―² ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―², ―Ä–Α–Ζ–Ψ―Ä–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤–Ζ―Ä―΄–≤–Ψ–Φ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥, –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –Ω–Ψ―à–Β–Μ –Κ–Ψ –¥–Ϋ―É. –û―¹―²–Α–≤―à–Η―¹―¨ –±–Β–Ζ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ψ–Ω–Β―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η ―è―Ä–Ψ―¹―²–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Β―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―É―é –Μ–Ψ–¥–Κ―É, –Ϋ–Ψ –¦―É–Ϋ–Η–Ϋ –Η―¹–Κ―É―¹–Ϋ―΄–Φ –Φ–Α–Ϋ–Β–≤―Ä–Ψ–Φ –Ψ―²–Ψ―Ä–≤–Α–Μ―¹―è –Ψ―² –Ω―Ä–Β―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ–Β–Ι. 24 000 ―²–Ψ–Ϋ–Ϋ βÄî ―²–Α–Κ–Ψ–≤ ―²–Ψ–Ϋ–Ϋ–Α–Ε –≤―Ä–Α–Ε–Β―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι, –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Μ―É–Ϋ–Η–Ϋ―Ü–Α–Φ–Η –Ζ–Α –Ψ–¥–Η–Ϋ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥. –ê –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Φ ―¹―΅–Β―²―É ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Β–Φ―¨ –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤―Ä–Α–Ε–Β―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Ψ–±―â–Η–Φ –≤–Ψ–¥–Ψ–Η–Ζ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ 50 000 ―²–Ψ–Ϋ–Ϋ. –£ –±–Α–Ζ–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Η –¥―Ä―É–Ζ―¨―è ―É―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –≤―¹―²―Ä–Β―΅―É. –ü―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨ –€―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±–Κ–Ψ–Φ–Α –Ω–Α―Ä―²–Η–Η –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Η–Μ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―¹ –Ω–Ψ–±–Β–¥–Ψ–Ι –Η –Ζ–Α―΅–Η―²–Α–Μ –Ω―Ä–Η–≤–Β―²―¹―²–≤–Η–Β –Ψ―² –Ψ–±–Μ–Α―¹―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Η―²–Β―²–Α. –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―² –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η–Μ –Μ–Ψ–¥–Κ―É –Κ –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―é –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Ψ–Φ –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –½–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η, –Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ù.–ê.–¦―É–Ϋ–Η–Ϋ–Α βÄî –Κ –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η―é –™–Β―Ä–Ψ―è –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α.  –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ¬Ϊ–ö-21>; –™–Β―Ä–Ψ–Ι –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α, –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 2-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ù. –ê. –¦―É–Ϋ–Η–Ϋ –£ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ ―É―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ –™–Β―Ä–Ψ―è –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ù.–ê.–¦―É–Ϋ–Η–Ϋ–Α –Ϋ–Α –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä―¹–Κ―É―é –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―É―é –Μ–Ψ–¥–Κ―É ¬Ϊ–ö-21¬Μ 4 –Φ–Α―Ä―²–Α 1942 –≥–Ψ–¥–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ¬Ϊ–©-421¬Μ –±―΄–Μ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –Λ–Β–¥–Ψ―Ä –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅ –£–Η–¥―è–Β–≤.  –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ¬Ϊ–©-421¬Μ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –Λ.–ê. –£–Η–¥―è–Β–≤ –£―Ä–Α–≥ ―²–Ψ–Ω―²–Α–Μ –Ζ–Β–Φ–Μ―é –†–Ψ–¥–Η–Ϋ―΄, ―É–±–Η–≤–Α–Μ –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ, –¥–Β―²–Β–Ι, ―¹―²–Α―Ä–Η–Κ–Ψ–≤. –ö–Ψ–Μ―¨―Ü–Ψ –±–Μ–Ψ–Κ–Α–¥―΄ –¥―É―à–Η–Μ–Ψ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥. –Δ–Α–Φ –Ψ―¹―²–Α–Μ–Α―¹―¨ ―¹–Β–Φ―¨―è –Λ–Β–¥–Ψ―Ä–Α. –ß―²–Ψ ―¹ –Ϋ–Η–Φ–Η? –•–Η–≤―΄ –Μ–Η? –ù–Β–Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ–Η ―²–Η―¹–Κ–Α–Φ–Η ―¹–Ε–Η–Φ–Α–Μ–Α ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Β. –Γ–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Μ–Β–Ζ –Η –≥–Ψ―Ä―è –Ω―Ä–Η–Ϋ–Β―¹ –≤―Ä–Α–≥ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥―É! –Λ–Β–¥–Ψ―Ä ―¹―²―Ä–Β–Φ–Η–Μ―¹―è –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β. –Ξ–Ψ―²–Β–Μ–Ψ―¹―¨ –Η―¹–Κ–Α―²―¨ –Η –±–Η―²―¨ –≤―Ä–Α–≥–Α. –‰―¹–Κ–Α―²―¨ –¥–Ϋ–Β–Φ –Η –Ϋ–Ψ―΅―¨―é, –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α―è ―É―¹―²–Α–Μ–Ψ―¹―²–Η, –±–Η―²―¨ –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ―è–Κ–Α, –Ω–Β―Ä–Β–Κ―Ä―΄―²―¨ –≤―Ä–Α–≥―É –≤―¹–Β –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Η –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β. 19 –Φ–Α―Ä―²–Α –¥―Ä―É–Ζ―¨―è ―²–Β–Ω–Μ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Λ–Β–¥–Ψ―Ä–Α –≤ –Β–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥. –£–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –£–Η–¥―è–Β–≤―΄–Φ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β ―É―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α –™–Β―Ä–Ψ–Ι –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 2-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –‰.–ê.–ö–Ψ–Μ―΄―à–Κ–Η–Ϋ. –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ψ–Ϋ ―¹―²–Α–Μ –¥–Μ―è –Λ–Β–¥–Ψ―Ä–Α ―É―΅–Η―²–Β–Μ–Β–Φ –Η –Ϋ–Α―¹―²–Α–≤–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ. –ê ―É –ö–Ψ–Μ―΄―à–Κ–Η–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Ψ ―΅–Β–Φ―É –Ω–Ψ―É―΅–Η―²―¨―¹―è: –Ϋ–Α –Γ–Β–≤–Β―Ä –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ –Β―â–Β –≤ 1933 –≥–Ψ–¥―É –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β ¬Ϊ–î-1¬Μ. –Γ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ –Η–Ζ –ö–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ–Η –≤ ―à―²–Ψ―Ä–Φ. –¦–Β–¥―è–Ϋ―΄–Β –≤–Α–Μ―΄ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Ζ–Α –¥―Ä―É–≥–Η–Φ –Μ–Β–≥–Κ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β―¹–Κ–Α–Κ–Η–≤–Α–Μ–Η ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ―Ä―É–±–Κ―É, ―¹ ―à―É–Φ–Ψ–Φ –Ψ–±―Ä―É―à–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ. 28 –Φ–Α―Ä―²–Α –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –¦–Α–Κ―¹–Β-―³―¨–Ψ―Ä–¥–Α –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–Μ–Η ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―² –≤ –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η –¥–≤―É―Ö ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β–≤–Η–Κ–Ψ–≤. –ö–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η ―à–Μ–Η –Ζ–Η–≥–Ζ–Α–≥–Ψ–Φ, –Ω―Ä–Η–Ε–Η–Φ–Α―è―¹―¨ –Κ ―¹–Κ–Α–Μ–Η―¹―²–Ψ–Φ―É –±–Β―Ä–Β–≥―É. –ü–Β―Ä–≤–Α―è ―¹–Α–Φ–Ψ―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Α―²–Α–Κ–Α! –ù–Ψ –Λ–Β–¥–Ψ―Ä –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅ –Ϋ–Β –¥―É–Φ–Α–Β―² –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ. –û–Ϋ –Κ–Α–Κ-―²–Ψ –≤–Β―¹―¨ –Ω–Ψ–¥–Ψ–±―Ä–Α–Μ―¹―è, –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹ ―¹―²–Α–Μ –≤–Μ–Α―¹―²–Ϋ―΄–Φ, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄ ―΅–Β―²–Κ–Η–Β, –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Η–Β. –£ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ―¹―²―É –Φ–≥–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤–Ψ―Ü–Α―Ä–Η–Μ–Α―¹―¨ ―²–Η―à–Η–Ϋ–Α. –û–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Η–≤ –¥–Η―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―é, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Μ–Β–≥ –Ϋ–Α –Κ―É―Ä―¹ ―¹–±–Μ–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è, ―΅―²–Ψ–±―΄ –¥–Ψ –≤―Ö–Ψ–¥–Α –≤ ―³―¨–Ψ―Ä–¥ –Ω–Β―Ä–Β―Ö–≤–Α―²–Η―²―¨ ―Ü–Β–Μ―¨. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Α ―¹–±–Μ–Η–Ζ–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α –¥–Η―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―é –Ζ–Α–Μ–Ω–Α, –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η ―Ä–Β–Ζ–Κ–Ψ –Ω–Ψ–≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Η –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ―É. ¬Ϊ–ê―²–Α–Κ―É―é –Κ–Ψ―Ä–Φ–Ψ–≤―΄–Φ–Η¬Μ,βÄî –Φ–≥–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―Ä–Β―à–Η–Μ –£–Η–¥―è–Β–≤. –¦–Ψ–¥–Κ–Α –Ϋ―΄―Ä–Ϋ―É–Μ–Α –Ω–Ψ–¥ –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Ι –Η –Ζ–Α–Ϋ―è–Μ–Α –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η―é –¥–Μ―è –Α―²–Α–Κ–Η ―¹ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±–Ψ―Ä―²–Α. ¬Ϊ–ö–Ψ―Ä–Φ–Ψ–≤―΄–Β ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄–Β –Α–Ω–Ω–Α―Ä–Α―²―΄... ―²–Ψ–≤―¹―¨¬Μ!  –ù–Ψ –≤ ―²–Ψ―² –Ε–Β –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―² –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Ι ―Ä–Β–Ζ–Κ–Ψ –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Η–Μ –Κ―É―Ä―¹, –≤―΄―Ö–Ψ–¥―è –Η–Ζ ―É–≥–Μ–Α –Α―²–Α–Κ–Η. ¬Ϊ–ù–Β―², –Ϋ–Β ―É–Ι–¥–Β―à―¨!¬Μ βÄî –Ω―Ä–Ψ―à–Β–Ω―²–Α–Μ ―¹–Κ–≤–Ψ–Ζ―¨ ―¹―²–Η―¹–Ϋ―É―²―΄–Β –Ζ―É–±―΄. –û―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Β―â–Β –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ω–Β―Ä–Β―Ö–≤–Α―²–Η―²―¨ –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Ι ―É –≤―Ö–Ψ–¥–Α –≤ ―³―¨–Ψ―Ä–¥. –‰ –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Μ–Ψ–Ε–Η―²―¹―è –Κ―É―Ä―¹–Ψ–Φ –≤ –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Β–Φ―É―é ―²–Ψ―΅–Κ―É –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Η. –ü–Ψ―΅―²–Η ―Ü–Β–Μ―΄–Ι ―΅–Α―¹ –Η–¥–Β―² –Ω–Ψ–≥–Ψ–Ϋ―è –Ζ–Α –≤―Ä–Α–Ε–Β―¹–Κ–Η–Φ –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Β–Φ. –¦–Η―Ü–Ψ –£–Η–¥―è–Β–≤–Α –Ω–Ψ–Κ―Ä―΄–Μ–Ψ―¹―¨ –Κ–Α–Ω–Μ―è–Φ–Η –Ω–Ψ―²–Α, –Ϋ–Ψ –≤–Ϋ–Β―à–Ϋ–Β –Ψ–Ϋ ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Β–Ϋ. –ù–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –≤ –Η–Ζ–±―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Ψ―΅–Κ–Β. –£ –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―², –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ –Ϋ–Α –≤―Ö–Ψ–¥ –≤ ―³―¨–Ψ―Ä–¥, –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Μ–Β–≥–Μ–Α –Ϋ–Α –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Κ―É―Ä―¹. ¬Ϊ–ù–Ψ―¹–Ψ–≤―΄–Β ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄–Β –Α–Ω–Ω–Α―Ä–Α―²―΄... ―²–Ψ–≤―¹―¨¬Μ! –Λ–Ψ―Ä―à―²–Β–≤–Β–Ϋ―¨ ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Α –Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ζ –Ϋ–Α –Ϋ–Η―²―¨ –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω–Α. ¬Ϊ–ê–Ω–Ω–Α―Ä–Α―²―΄! –ü–Μ–Η!¬Μ βÄî –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É–Β―² –£–Η–¥―è–Β–≤, –Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –≤–Ζ–¥―Ä–Α–≥–Η–≤–Α–Β―², –Ω–Ψ―¹―΄–Μ–Α―è –≤ –±–Ψ―Ä―² ―³–Α―à–Η―¹―²–Α–Φ ―΅–Β―²―΄―Ä–Β ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥―΄. –€–Ψ―â–Ϋ―΄–Β –≤–Ζ―Ä―΄–≤―΄ –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–¥–Η–Μ–Η –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―² –Α―²–Α–Κ–Η. –Δ―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―² –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –Ω–Ψ―à–Β–Μ –Κ–Ψ –¥–Ϋ―É. –ù–Β ―É–Ω―É―¹–Κ–Α―è –Ϋ–Η ―¹–Β–Κ―É–Ϋ–¥―΄, –£–Η–¥―è–Β–≤ ―É–≤–Ψ–¥–Η―² –Μ–Ψ–¥–Κ―É –Ϋ–Α –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―É –Η ―Ä–Β–Ζ–Κ–Ψ –Ψ―²–≤–Ψ―Ä–Α―΅–Η–≤–Α–Β―² –Ψ―² –±–Ψ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ –Κ―É―Ä―¹–Α. –½–Α –Κ–Ψ―Ä–Φ–Ψ–Ι –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α―é―² ―Ä–≤–Α―²―¨―¹―è –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Β –±–Ψ–Φ–±―΄. –‰–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –Μ–Ψ–¥–Κ―É ―¹–Ψ–Μ–Η–¥–Ϋ–Ψ –≤―¹―²―Ä―è―Ö–Η–≤–Α–Β―², –Ϋ–Ψ ―ç―²–Ψ ―É–Ε–Β –¥–Α–Μ–Β–Κ–Η–Β –≤–Ζ―Ä―΄–≤―΄. –Γ–±―Ä–Ψ―¹–Η–≤ ―¹–Ψ―Ä–Ψ–Κ ―΅–Β―²―΄―Ä–Β –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Β –±–Ψ–Φ–±―΄, ―³–Α―à–Η―¹―²―΄ –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―²–Η–Μ–Η –Ω―Ä–Β―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β. –ü–Β―Ä–≤―΄–Φ –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Η–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 2-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –‰.–ê.–ö–Ψ–Μ―΄―à–Κ–Η–Ϋ. –ü–Ψ―²―è–Ϋ―É–Μ–Η―¹―¨ –¥–Ϋ–Η –Ω–Ψ–Η―¹–Κ–Α. –£–Η–¥―è–Β–≤ ―¹―É―²–Κ–Α–Φ–Η –±–Ψ–¥―Ä―¹―²–≤―É–Β―² –≤ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ―¹―²―É, ―΅–Α―¹–Α–Φ–Η ―¹―²–Ψ–Η―² ―É –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω–Α. –ù–Η―΅–Β–Φ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–Φ–Β―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ 4 –Α–Ω―Ä–Β–Μ―è –Ω―Ä–Β–≤―Ä–Α―²–Η–Μ―¹―è –¥–Μ―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –≤ ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ: –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―² –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Η–Μ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε ―¹ –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ¬Ϊ–©-421¬Μ –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Ψ–Φ –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –½–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Η ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η–Β, ―΅―²–Ψ –ù.–ê.–¦―É–Ϋ–Η–Ϋ―É, –‰.–‰.–Λ–Η―¹–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅―É –Η –£.–™.–Γ―²–Α―Ä–Η–Κ–Ψ–≤―É –Ω―Ä–Η―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ψ –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –™–Β―Ä–Ψ―è –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α.  –™–Β―Ä–Ψ–Η –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –ù.–ê. –¦―É–Ϋ–Η–Ϋ, –‰.–‰. –Λ–Η―¹–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅, –‰. –ê. –ö–Ψ–Μ―΄―à–Κ–Η–Ϋ, –£. –™. –Γ―²–Α―Ä–Η–Κ–Ψ–≤ –£―΄―¹–Ψ–Κ–Α―è –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Κ–Α –†–Ψ–¥–Η–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²―Ä―É–¥–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –≤–Ζ–≤–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–≤–Α–Μ–Α –≤―¹–Β―Ö. –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥–Α ―ç―²–Α –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ζ–Α –Ω―Ä–Ψ―à–Μ―΄–Β –Ω–Ψ–±–Β–¥―΄, –Ϋ–Ψ –Η –Ζ–Α –±―É–¥―É―â–Η–Β. –‰ –Β―â–Β –Ζ–Ψ―Ä―΅–Β ―¹―²–Α–Μ–Η ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨ –≥–Μ–Α–Ζ–Α ―¹–Η–≥–Ϋ–Α–Μ―¨―â–Η–Κ–Ψ–≤, ―²–≤–Β―Ä–Ε–Β –Μ–Β–≥–Μ–Α –Ϋ–Α ―Ä―É―΅–Κ―É –Ω–Η―¹―²–Ψ–Μ–Β―²–Α ―Ä―É–Κ–Α ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Η―¹―²–Α, –Ϋ–Α–Ω―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Β–Β –≤―¹–Μ―É―à–Η–≤–Α–Μ―¹―è –Α–Κ―É―¹―²–Η–Κ –≤ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Β–Φ―΄–Β ―à―É–Φ―΄ –Ω–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è. –£–Β―΅–Β―Ä–Ψ–Φ 8 –Α–Ω―Ä–Β–Μ―è ―Ä–Β―à–Η–Μ–Η –Ψ―²–Ψ–Ι―²–Η –Ω–Ψ–¥–Α–Μ―¨―à–Β –Ψ―² ―É―¹―²―¨―è –ü–Ψ―Ä―¹–Α–Ϋ–≥–Β―Ä-―³―¨–Ψ―Ä–¥–Α –¥–Μ―è –Ζ–Α―Ä―è–¥–Κ–Η –Α–Κ–Κ―É–Φ―É–Μ―è―²–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –±–Α―²–Α―Ä–Β–Η. –¦–Ψ–¥–Κ–Α ―à–Μ–Α –≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤ 20 ―΅–Α―¹–Ψ–≤ 58 –Φ–Η–Ϋ―É―² ―Ä–Α–Ζ–¥–Α–Μ―¹―è –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Η–Μ―΄ –≤–Ζ―Ä―΄–≤. –¦–Ψ–¥–Κ―É –Ω–Ψ–¥–±―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Ψ –≤–≤–Β―Ä―Ö, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ –Ψ–Ϋ–Α ―¹―Ä–Α–Ζ―É ―¹―²–Α–Μ–Α –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Α―²―¨―¹―è ―¹ –¥–Η―³―³–Β―Ä–Β–Ϋ―²–Ψ–Φ –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Φ―É. –£ –Κ–Ψ―Ä–Φ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ψ―²―¹–Β–Κ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Α―²―¨ –≤–Ψ–¥–Α. –£ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ―¹―²―É –≤ –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―² –≤–Ζ―Ä―΄–≤–Α –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –ê.–€.–ö–Α―É―²―¹–Κ–Η–Ι –Η –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä-–Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ –ê.–¦.–Γ–Μ–Α–≤–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι. –£ –Κ–Ψ―Ä–Φ―É –Ϋ–Β–Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Α –Ψ –≥–Β―Ä–Φ–Β―²–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η –Ψ―²―¹–Β–Κ–Α, –Α –≤ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ―¹―²―É –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η –Α–≤–Α―Ä–Η–Ι–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Ψ–¥―É–≤–Α–Ϋ–Η–Β –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±–Α–Μ–Μ–Α―¹―²–Α. –ü―Ä–Ψ–¥―É–≤ –±–Α–Μ–Μ–Α―¹―², –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –≤―¹–Ω–Μ―΄–Μ–Α –≤ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Η –Ψ―΅―É―²–Η–Μ–Α―¹―¨ –≤ –Ω–Μ–Ψ―²–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Β–Μ–Β–Ϋ–Β ―¹–Ϋ–Β–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α―Ä―è–¥–Α βÄî ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α ―Ä―É–Κ―É –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ. –û―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ–Η―¹―¨. –£–Ζ―Ä―΄–≤–Ψ–Φ –Φ–Η–Ϋ―΄ –Ψ―²–Ψ―Ä–≤–Α–Μ–Ψ –Ψ–±–Α –≤–Η–Ϋ―²–Α, ―¹–Ψ―Ä–≤–Α–Μ–Ψ –≤–Β―Ä―Ö–Ϋ―é―é –Κ―Ä―΄―à–Κ―É –Κ–Ψ―Ä–Φ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Μ―é–Κ–Α, ―¹–¥–≤–Η–Ϋ―É–Μ–Ψ ―¹ –Φ–Β―¹―²–Α ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–Ω–Β―Ä–Β–¥–Α―²―΅–Η–Κ, ―Ä–Α–Ζ–±–Η–Μ–Ψ –≤―¹―é –Κ–Ψ―Ä–Φ―É.  ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ω―Ä–Ψ–±–Ψ–Η–Ϋ―΄ –≤ –Ω―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Β –Η –Κ–Ψ―Ä–Φ–Ψ–≤―΄–Β ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄–Β –Α–Ω–Ω–Α―Ä–Α―²―΄ ―Ö–Μ–Β―¹―²–Α–Μ–Α –≤–Ψ–¥–Α. –£ –Ζ–Α–≥–Β―Ä–Φ–Β―²–Η–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Β, –Ψ―²―Ä–Β–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ψ―² –≤―¹–Β–≥–Ψ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α, –Ψ―¹―²–Α–Μ–Η―¹―¨ ―à–Β―¹―²―¨ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ. –ü–Ψ–¥ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Ψ―²―¹–Β–Κ–Α ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ―΄ –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Η―¹―²–Ψ–≤ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ―΄ 1-–Ι ―¹―²–Α―²―¨–Η –î―Ä―è–Ω–Η–Κ–Ψ–≤–Α –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ―³–Μ–Ψ―²―Ü―΄ –‰.–Γ.–Γ–Η–Ζ–Φ–Η–Ϋ, –£.–Γ.–ö–Α―΅―É―Ä–Α, –‰.–ê.–•–Α–≤–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Κ–Ψ–≤, –ê.–‰.–ù–Ψ–≤–Η–Κ–Ψ–≤ –Η –ü.–‰.–Λ–Β–≤―Ä–Α–Μ–Β–≤ –Φ―É–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –±–Ψ―Ä–Ψ–Μ–Η―¹―¨ ―¹ –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Α―é―â–Β–Ι –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι, –Ζ–Α–¥–Β–Μ―΄–≤–Α―è –Ψ–¥–Ϋ―É –Ω―Ä–Ψ–±–Ψ–Η–Ϋ―É –Ζ–Α –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι. –£ ―Ö–Ψ–¥ –Ω–Ψ―à–Β–Μ –Α–≤–Α―Ä–Η–Ι–Ϋ―΄–Ι –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ, –≤–Α―²–Ϋ–Η–Κ–Η, –Ψ–¥–Β―è–Μ–Α. –û–Ϋ–Η –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ ―¹―É–¥―¨–±–Α ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α –≤ –Η―Ö ―Ä―É–Κ–Α―Ö. –î–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β ―¹―É–Φ–Β–Ι –Ψ–Ϋ–Η –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –Ζ–Α–≥–Β―Ä–Φ–Β―²–Η–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ψ―²―¹–Β–Κ –Η –Ζ–Α–¥–Β–Μ–Α―²―¨ –Ω―Ä–Ψ–±–Ψ–Η–Ϋ―΄, –Ω―Ä–Ψ―Ä–≤–Α–≤―à–Α―è―¹―è –≤–Ψ–¥–Α ―Ö–Μ―΄–Ϋ―É–Μ–Α –±―΄ –≤ ―¹–Ψ―¹–Β–¥–Ϋ–Η–Ι –Ψ―²―¹–Β–Κ, –Η ―²–Ψ–≥–¥–Α ―É–Ε–Β –Ϋ–Η―΅―²–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Μ–Ψ –±―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ, –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α―¹―¨ –±―΄ –Ϋ–Α –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Β, –≥–¥–Β –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―²–Ψ–Ϋ–Ϋ–Α―è –Φ–Α―¹―¹–Α –≤–Ψ–¥―΄ –±–Β–Ζ–Ε–Α–Μ–Ψ―¹―²–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–Ζ–¥–Α–≤–Η–Μ–Α –±―΄ –Β–Β, –Κ–Α–Κ ―è–Η―΅–Ϋ―É―é ―¹–Κ–Ψ―Ä–Μ―É–Ω―É. –ù–Ψ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨ –Ψ ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Η–Η –±―΄–Μ–Ψ –Β―â–Β ―Ä–Α–Ϋ–Ψ: –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Μ–Η―à–Η–Μ–Α―¹―¨ ―Ö–Ψ–¥–Α, –Α –≤―Ä–Α–Ε–Β―¹–Κ–Η–Ι –±–Β―Ä–Β–≥ ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ ―Ä―è–¥–Ψ–Φ. –ü–Ψ–Κ–Α –Β–Β ―¹–Κ―Ä―΄–≤–Α―é―² ―¹–Ϋ–Β–Ε–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α―Ä―è–¥―΄ –Η –Ϋ–Ψ―΅―¨. –ê ―΅―²–Ψ –±―É–¥–Β―² –¥–Ϋ–Β–Φ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―¹–Ϋ–Β–≥–Ψ–Ω–Α–¥ ―É―²–Η―Ö–Ϋ–Β―² –Η –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨ ―É–≤–Β–Μ–Η―΅–Η―²―¹―è? ¬Ϊ–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä, –Ϋ–Β ―¹–Ψ–Ψ―Ä―É–¥–Η―²―¨ –Μ–Η –Ϋ–Α–Φ –Ϋ–Β―΅―²–Ψ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Β–Β –Ϋ–Α –Ω–Α―Ä―É―¹, βÄî –Ϋ–Β ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –‰.–ê.–ö–Ψ–Μ―΄―à–Κ–Η–Ϋ, βÄî –≤–Β–¥―¨ –≤–Β―²–Β―Ä –Κ―Ä–Β–Ω–Κ–Η–Ι –Η –¥―É–Β―² ―¹ –±–Β―Ä–Β–≥–Α?¬Μ ¬Ϊ–ü–Ψ–Ε–Α–Μ―É–Ι, ―ç―²–Ψ –≤―΄―Ö–Ψ–¥¬Μ, βÄî –Ε–Η–≤–Ψ –Ψ―²–Κ–Μ–Η–Κ–Ϋ―É–Μ―¹―è –£–Η–¥―è–Β–≤. –½–Α –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –≤–Β–Κ–Α –≤―¹–Β–≥–Ψ –¥–Ψ–≤–Β–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ–≤–Η–¥–Α―²―¨ –ë–Α―Ä–Β–Ϋ―Ü–Β–≤―É –Φ–Ψ―Ä―é, –Ϋ–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –≤–Η–¥–Β―²―¨ –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β. –‰–Ζ―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è, ―¹ ―Ä–Α–Ζ–±–Η―²–Ψ–Ι –Κ–Ψ―Ä–Φ–Ψ–Ι –Η –Ψ―²–Ψ―Ä–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –≤–Η–Ϋ―²–Α–Φ–Η, ―¹–Κ–≤–Ψ–Ζ―¨ –±–Β–Μ―É―é –Ω–Β–Μ–Β–Ϋ―É ―¹–Ϋ–Β–Ε–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α―Ä―è–¥–Ψ–≤ –Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ―²―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α –Ψ―² –±–Β―Ä–Β–≥–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α. –Γ–≤–Β–Ε–Η–Ι –≤–Β―²–Β―Ä ―É–Ω―Ä―É–≥–Ψ –±–Η–Μ –≤ –Ϋ–Β―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Ψ ―¹―à–Η―²―΄–Ι –Η–Ζ –¥–Η–Ζ–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―΅–Β―Ö–Μ–Ψ–≤ ―Ä―É–Μ–Β–≤―΄–Φ–Η –Ω–Ψ–¥ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ –±–Ψ―Ü–Φ–Α–Ϋ–Α –ê.–Δ.–½–Η–Φ–Η–Ϋ–Α –Η ―Ä–Α―¹―²―è–Ϋ―É―²―΄–Ι –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è―²–Ψ–Φ –¥–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Α –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω–Β ―¹–Α–Φ–Ψ–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ω–Α―Ä―É―¹. –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Ω–Ψ–¥ –Ω–Α―Ä―É―¹–Ψ–Φ! –‰–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Α –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ βÄî –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ψ―²–Ψ―Ä–≤–Α―²―¨―¹―è –Ψ―² –±–Β―Ä–Β–≥–Α –Η ―É–Ι―²–Η –Ω–Ψ–¥–Α–Μ―¨―à–Β –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β. –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―²
16.10.201310:2916.10.2013 10:29:13
–Γ―²―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü―΄:
–ü―Ä–Β–¥.
|
1
|
...
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
...
|
14
|
–Γ–Μ–Β–¥.
|
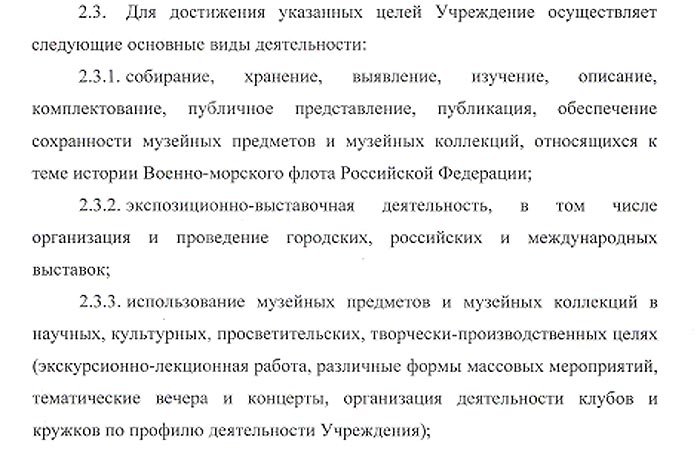


























.jpg)


