–ë–Α–Ϋ–Ϋ–Β―Ä

–£–Η–±―Ä–Ψ–Η―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ –Ϋ–Α –≥―É―¹–Β–Ϋ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö ―²–Β–Μ–Β–Ε–Κ–Α―Ö
|
–£―¹–Κ–Ψ―Ä–Φ–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹ –Κ–Ψ–Ω―¨―è - –Γ–Ψ–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Α –Φ–Α–Ι 2014 –≥–Ψ–¥–Α
0
20.05.201410:5220.05.2014 10:52:40
–Γ–Ψ–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ –Ω―Ä–Β–±―΄–≤–Α–Ϋ–Η–Η –≤ –≥. –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Β –¥–Β–Μ–Β–≥–Α―Ü–Η–Η –†–Β―¹–Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Η –ë–Β–Μ–Α―Ä―É―¹―¨ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η 69-–Ψ–Ι –≥–Ψ–¥–Ψ–≤―â–Η–Ϋ―΄ –ü–Ψ–±–Β–¥―΄ –≤ –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Β–ü–Ψ –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―à–Β–Ϋ–Η―é –ö–Ψ–Φ–Η―²–Β―²–Α –Ω–Ψ –≤–Ϋ–Β―à–Ϋ–Η–Φ ―¹–≤―è–Ζ―è–Φ –ü―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Α 8-10 –Φ–Α―è 2014 –≥–Ψ–¥–Α –¥–Β–Μ–Β–≥–Α―Ü–Η―è –†–Β―¹–Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Η –ë–Β–Μ–Α―Ä―É―¹―¨ –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Β ¬Ϊ–•–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –±–Μ–Ψ–Κ–Α–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Α¬Μ: –¦–Η–±–Β–Ϋ―¹–Ψ–Ϋ–Α –ê―Ä–Κ–Α–¥–Η―è –ë–Ψ―Ä–Η―¹–Ψ–≤–Η―΅–Α, ―΅–Μ–Β–Ϋ–Α –ö–Ψ–Ψ―Ä–¥–Η–Ϋ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―²–Α –û–û ¬Ϊ–ë–Β–Μ–Ψ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–Ι ―¹–Ψ―é–Ζ –±–Μ–Ψ–Κ–Α–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Α¬Μ (–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ –€–Η–Ϋ―¹–Κ) –Η –ö–Α―¹–Α―²–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Α –£–Α–Μ–Β―Ä–Η―è –Λ–Β–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Α, –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α (–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ –ë―Ä–Β―¹―²), –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ–Α ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β –≤ –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η―è―Ö, –Ω–Ψ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―é 69-–Ψ–Ι –≥–Ψ–¥–Ψ–≤―â–Η–Ϋ―΄ –ü–Ψ–±–Β–¥―΄ –≤ –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Β.
–ü–Ψ –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―à–Β–Ϋ–Η―é –ö–Ψ–Φ–Η―²–Β―²–Α –Ω–Ψ –≤–Ϋ–Β―à–Ϋ–Η–Φ ―¹–≤―è–Ζ―è–Φ –≤ –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥ –¥–Μ―è ―É―΅–Α―¹―²–Η―è –≤ –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η –î–Ϋ―è –ü–Ψ–±–Β–¥―΄ –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ–Η –Ζ–Α―â–Η―²–Ϋ–Η–Κ–Η –Η –Ε–Η―²–Β–Μ–Η –±–Μ–Ψ–Κ–Α–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Α –≤ –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Β 79 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –Ω―Ä–Ψ–Ε–Η–≤–Α―é―â–Η–Β –≤ 24-―Ö –Ζ–Α―Ä―É–±–Β–Ε–Ϋ―΄―Ö ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Α―Ö: –ê–±―Ö–Α–Ζ–Η―è, –ê–≤―¹―²―Ä–Η―è, –ê–Ζ–Β―Ä–±–Α–Ι–¥–Ε–Α–Ϋ, –ê―Ä–Φ–Β–Ϋ–Η―è, –ë–Β–Μ–Ψ―Ä―É―¹―¨, –™–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ–Η―è, –™―Ä―É–Ζ–Η―è, –‰–Ζ―Ä–Α–Η–Μ―¨, –‰―²–Α–Μ–Η―è, –ö–Α–Ζ–Α―Ö―¹―²–Α–Ϋ, –ö–Η―Ä–≥–Η–Ζ–Η―è, –ö–Α–Ϋ–Α–¥–Α, –¦–Α―²–≤–Η―è, –¦–Η―²–≤–Α, –€–Ψ–Μ–¥–Ψ–≤–Α, –Γ–®–ê, –Δ–Α–¥–Ε–Η–Κ–Η―¹―²–Α–Ϋ, –Θ–Ζ–±–Β–Κ–Η―¹―²–Α–Ϋ, –Θ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ–Α, –Λ–Η–Ϋ–Μ―è–Ϋ–¥–Η―è, –Λ―Ä–Α–Ϋ―Ü–Η―è, –ß–Β―Ö–Η―è, –®–≤–Β―Ü–Η―è, –≠―¹―²–Ψ–Ϋ–Η―è. –£―¹–Β –Ω―Ä–Η–±―΄–≤―à–Η–Β –±―΄–Μ–Η ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―â–Β–Ϋ―΄ –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ–Β―¹―²–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä–Α―Ö –Ω―è―²–Η–Ζ–≤–Β–Ζ–¥–Ϋ–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Ψ―¹―²–Η–Ϋ–Η―Ü―΄ ¬Ϊ–ê–Φ–±–Α―¹―¹–Α–¥–Ψ―Ä¬Μ. –û–±–Β–¥―΄ –Η ―É–Ε–Η–Ϋ―΄ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –≤ ―Ä–Β―¹―²–Ψ―Ä–Α–Ϋ–Β ¬Ϊ–ù–Β–≤―¹–Κ–Η–Ι¬Μ.–ü―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Α –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η–Ι –≤–Κ–Μ―é―΅–Α–Μ–Α:–£―¹―²―Ä–Β―΅―É –Ω―Ä–Β–¥―¹–Β–¥–Α―²–Β–Μ―è –ö–Ψ–Φ–Η―²–Β―²–Α –Ω–Ψ –≤–Ϋ–Β―à–Ϋ–Η–Φ ―¹–≤―è–Ζ―è–Φ –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Α –™―Ä–Η–≥–Ψ―Ä―¨–Β–≤–Α –ï.–î. ―¹ –Ζ–Α―â–Η―²–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η –Η –Ε–Η―²–Β–Μ―è–Φ–Η –±–Μ–Ψ–Κ–Α–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Α, –≤―Ä―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ―΄―Ö ―¹―É–≤–Β–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤ –Ψ―² –Η–Φ–Β–Ϋ–Η –ü―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Α;
–Δ–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-―²―Ä–Α―É―Ä–Ϋ―É―é ―Ü–Β―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ–Η―é –≤–Ψ–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è –≤–Β–Ϋ–Κ–Ψ–≤ –Η ―Ü–≤–Β―²–Ψ–≤ –Ϋ–Α –ü–Η―¹–Κ–Α―Ä–Β–≤―¹–Κ–Ψ–Φ –Φ–Β–Φ–Ψ―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Μ–Α–¥–±–Η―â–Β;
–ü―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η―΅–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β―Ä―², –Ω–Ψ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –î–Ϋ―é –ü–Ψ–±–Β–¥―΄ ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Α –≤ –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Β 1941-1945 –≥–Ψ–¥–Ψ–≤, –≤ –ë–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –Ζ–Α–Μ–Β ¬Ϊ–û–Κ―²―è–±―Ä―¨―¹–Κ–Η–Ι¬Μ;
–ü–Α―Ä–Α–¥ –≤–Ψ–Ι―¹–Κ –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≥–Α―Ä–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–Ϋ–Α –½–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Κ―Ä―É–≥–Α –Ϋ–Α –î–≤–Ψ―Ä―Ü–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Η;
–ü―Ä–Ψ–Β–Ζ–¥ –≤ –Ω–Α―Ä–Α–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Μ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Β –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ–Ψ–≤ –Η –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ω–Ψ –ù–Β–≤―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Ψ―¹–Ω–Β–Κ―²―É –Ψ―² –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Η –£–Ψ―¹―¹―²–Α–Ϋ–Η―è –¥–Ψ –î–≤–Ψ―Ä―Ü–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Η;
–ü–Ψ―¹–Β―â–Β–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β―Ä―²–Α ―¹–Η–Φ―³–Ψ–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―Ä–Κ–Β―¹―²―Ä–Α ¬Ϊ–€–Α―ç―¹―²―Ä–Ψ¬Μ –≤ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Φ –Ζ–Α–Μ–Β –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥―¹–Κ–Ψ–Ι –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―³–Η–Μ–Α―Ä–Φ–Ψ–Ϋ–Η–Η –Η–Φ. –î.–î. –®–Ψ―¹―²–Α–Κ–Ψ–≤–Η―΅–Α;
–ü–Ψ―¹–Β―â–Β–Ϋ–Η–Β ―Ä–Ψ–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Η –¥―Ä―É–Ζ–Β–Ι (–Ω–Ψ –Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Φ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Α–Φ).–£–Ψ―² –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Ι –Ψ –Ω―Ä–Β–±―΄–≤–Α–Ϋ–Η–Η –¥–Β–Μ–Β–≥–Α―Ü–Η–Η –†–Β―¹–Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Η –ë–Β–Μ–Α―Ä―É―¹―¨ –≤ –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Β: –£ –ë–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β―Ä―²–Ϋ–Ψ–Φ –Ζ–Α–Μ–Β ¬Ϊ–û–Κ―²―è–±―Ä―¨―¹–Κ–Η–Ι¬Μ –Ζ–≤―É―΅–Η―² –≥–Η–Φ–Ϋ –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –Λ–Β–¥–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η. –ù–Α –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η―΅–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β―Ä―² –±―΄–Μ–Η –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―à–Β–Ϋ―΄ 3000 –Ε–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –Η –Ζ–Α―â–Η―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Α. –£ –ë–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β―Ä―²–Ϋ–Ψ–Φ –Ζ–Α–Μ–Β ¬Ϊ–û–Κ―²―è–±―Ä―¨―¹–Κ–Η–Ι¬Μ –Ζ–≤―É―΅–Η―² –≥–Η–Φ–Ϋ –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –Λ–Β–¥–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η. –ù–Α –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η―΅–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β―Ä―² –±―΄–Μ–Η –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―à–Β–Ϋ―΄ 3000 –Ε–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –Η –Ζ–Α―â–Η―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Α. –ù–Α―¹―²―É–Ω–Η–Μ –¥–Β–Ϋ―¨ 9 –Φ–Α―è. –£―¹–Β –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ψ –Κ –Ω–Α―Ä–Α–¥―É! –ù–Α―¹―²―É–Ω–Η–Μ –¥–Β–Ϋ―¨ 9 –Φ–Α―è. –£―¹–Β –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ψ –Κ –Ω–Α―Ä–Α–¥―É! ¬Ϊ–•–Β–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –±–Α―²–Α–Μ―¨–Ψ–Ϋ¬Μ –Ω―Ä–Ψ–Φ–Α―Ä―à–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ –Μ―É―΅―à–Β –≤―¹–Β―Ö –Ω–Ψ–¥ –Α–Ω–Μ–Ψ–¥–Η―¹–Φ–Β–Ϋ―²―΄ ―²―Ä–Η–±―É–Ϋ. ¬Ϊ–•–Β–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –±–Α―²–Α–Μ―¨–Ψ–Ϋ¬Μ –Ω―Ä–Ψ–Φ–Α―Ä―à–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ –Μ―É―΅―à–Β –≤―¹–Β―Ö –Ω–Ψ–¥ –Α–Ω–Μ–Ψ–¥–Η―¹–Φ–Β–Ϋ―²―΄ ―²―Ä–Η–±―É–Ϋ. –ù–Ψ–≤–Β–Ι―à–Α―è ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Α –Ϋ–Α –Ω–Α―Ä–Α–¥–Β. –ù–Ψ–≤–Β–Ι―à–Α―è ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Α –Ϋ–Α –Ω–Α―Ä–Α–¥–Β. –î–≤–Ψ―Ä―Ü–Ψ–≤–Α―è –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥―¨ –Ω–Ψ–Κ–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Α –±–Β–Μ–Ψ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–Ι –¥–Β–Μ–Β–≥–Α―Ü–Η–Β–Ι. –î–≤–Ψ―Ä―Ü–Ψ–≤–Α―è –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥―¨ –Ω–Ψ–Κ–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Α –±–Β–Μ–Ψ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–Ι –¥–Β–Μ–Β–≥–Α―Ü–Η–Β–Ι. –≠―²–Η –¥–≤–Α –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄―Ö –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Α-–Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Α–Κ―²–Ϋ–Η–Κ–Α ―¹ ¬Ϊ–€–Η―¹―²―Ä–Α–Μ―è¬Μ, –≥–Ψ―²–Ψ–≤―è―² –Β–≥–Ψ –¥–Μ―è –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α. –≠―²–Η –¥–≤–Α –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄―Ö –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Α-–Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Α–Κ―²–Ϋ–Η–Κ–Α ―¹ ¬Ϊ–€–Η―¹―²―Ä–Α–Μ―è¬Μ, –≥–Ψ―²–Ψ–≤―è―² –Β–≥–Ψ –¥–Μ―è –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α. –Γ–Η–Φ―³–Ψ–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Ψ―Ä–Κ–Β―¹―²―Ä ¬Ϊ–€–Α―ç―¹―²―Ä–Ψ¬Μ - ―Ö―É–¥–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―¨ –Η –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι –¥–Η―Ä–Η–Ε–Β―Ä –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–±–Α–Β–≤ βÄ™ –≤–Β―¹―¨ –≤–Β―΅–Β―Ä –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Ω–Ψ–Ζ–Η―²–Ψ―Ä–Α –¦–Β–Ψ–Ϋ–Η–¥–Α –¦–Β–≤–Α―à–Κ–Β–≤–Η―΅–Α, –±–Β–Μ–Ψ―Ä―É―¹–Α –Η–Ζ –€–Η–Ϋ―¹–Κ–Α. –Γ–Η–Φ―³–Ψ–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Ψ―Ä–Κ–Β―¹―²―Ä ¬Ϊ–€–Α―ç―¹―²―Ä–Ψ¬Μ - ―Ö―É–¥–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―¨ –Η –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι –¥–Η―Ä–Η–Ε–Β―Ä –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–±–Α–Β–≤ βÄ™ –≤–Β―¹―¨ –≤–Β―΅–Β―Ä –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Ω–Ψ–Ζ–Η―²–Ψ―Ä–Α –¦–Β–Ψ–Ϋ–Η–¥–Α –¦–Β–≤–Α―à–Κ–Β–≤–Η―΅–Α, –±–Β–Μ–Ψ―Ä―É―¹–Α –Η–Ζ –€–Η–Ϋ―¹–Κ–Α. –ü–Β―Ä–≤–Α―è ―¹–Κ―Ä–Η–Ω–Κ–Α –Ϋ–Α–Φ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ω–Ψ–Ϋ―Ä–Α–≤–Η–Μ–Α―¹―¨. –Δ―Ä–Β―²―¨―è ―²–Ψ–Ε–Β ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Α. –‰ –Η–≥―Ä–Α―é―² –Ϋ–Β–Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ.–ù–Α –ü–Η―¹–Κ–Α―Ä–Β–≤―¹–Κ–Ψ–Φ –Φ–Β–Φ–Ψ―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Μ–Α–¥–±–Η―â–Β, –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β―Ä―²–Β, –Ω–Α―Ä–Α–¥–Β –≤–Ψ–Ι―¹–Κ –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≥–Α―Ä–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–Ϋ–Α –Η ―à–Β―¹―²–≤–Η–Η –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ–Ψ–≤ –Ω–Ψ –ù–Β–≤―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Ψ―¹–Ω–Β–Κ―²―É ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η –™―É–±–Β―Ä–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Α –™–Β–Ψ―Ä–≥–Η–Ι –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Η―΅ –ü–Ψ–Μ―²–Α–≤―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ, –ü―Ä–Β–¥―¹–Β–¥–Α―²–Β–Μ―¨ –½–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–¥–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η―è –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Α –£―è―΅–Β―¹–Μ–Α–≤ –Γ–Β―Ä–Α―³–Η–Φ–Ψ–≤–Η―΅ –€–Α–Κ–Α―Ä–Ψ–≤, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –½–Α–Ω–Α–¥–Ϋ―΄–Φ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ψ–Κ―Ä―É–≥–Ψ–Φ –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ –Γ–Η–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤ –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ–Η–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅ –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Η –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α. –ü―Ä–Η–±―΄–≤―à–Η―Ö –≤ –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥ –Η–Ζ –Ζ–Α―Ä―É–±–Β–Ε–Ϋ―΄―Ö ―¹―²―Ä–Α–Ϋ –Ζ–Α―â–Η―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Η –±–Μ–Ψ–Κ–Α–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Α –Ϋ–Α –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –î–Ϋ―è –ü–Ψ–±–Β–¥―΄ –Ϋ–Α –≤―¹–Β―Ö –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η―è―Ö ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Α–Μ–Η ―¹–Ψ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –ö–Ψ–Φ–Η―²–Β―²–Α –Ω–Ψ –≤–Ϋ–Β―à–Ϋ–Η–Φ ―¹–≤―è–Ζ―è–Φ –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –Φ―΄ –≤―΄―Ä–Α–Ζ–Η–Μ–Η ―¹–Β―Ä–¥–Β―΅–Ϋ―É―é –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ζ–Α ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à―É―é –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―é –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ ―É―΅–Α―¹―²–Η―è –≤–Ψ –≤―¹–Β―Ö –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η―è―Ö.–ï―â–Β –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―³–Ψ―²–Ψ –Ϋ–Α –Ω–Α–Φ―è―²―¨ –ü–Β―Ä–≤–Α―è ―¹–Κ―Ä–Η–Ω–Κ–Α –Ϋ–Α–Φ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ω–Ψ–Ϋ―Ä–Α–≤–Η–Μ–Α―¹―¨. –Δ―Ä–Β―²―¨―è ―²–Ψ–Ε–Β ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Α. –‰ –Η–≥―Ä–Α―é―² –Ϋ–Β–Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ.–ù–Α –ü–Η―¹–Κ–Α―Ä–Β–≤―¹–Κ–Ψ–Φ –Φ–Β–Φ–Ψ―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Μ–Α–¥–±–Η―â–Β, –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β―Ä―²–Β, –Ω–Α―Ä–Α–¥–Β –≤–Ψ–Ι―¹–Κ –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≥–Α―Ä–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–Ϋ–Α –Η ―à–Β―¹―²–≤–Η–Η –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ–Ψ–≤ –Ω–Ψ –ù–Β–≤―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Ψ―¹–Ω–Β–Κ―²―É ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η –™―É–±–Β―Ä–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Α –™–Β–Ψ―Ä–≥–Η–Ι –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Η―΅ –ü–Ψ–Μ―²–Α–≤―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ, –ü―Ä–Β–¥―¹–Β–¥–Α―²–Β–Μ―¨ –½–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–¥–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η―è –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Α –£―è―΅–Β―¹–Μ–Α–≤ –Γ–Β―Ä–Α―³–Η–Φ–Ψ–≤–Η―΅ –€–Α–Κ–Α―Ä–Ψ–≤, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –½–Α–Ω–Α–¥–Ϋ―΄–Φ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ψ–Κ―Ä―É–≥–Ψ–Φ –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ –Γ–Η–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤ –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ–Η–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅ –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Η –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α. –ü―Ä–Η–±―΄–≤―à–Η―Ö –≤ –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥ –Η–Ζ –Ζ–Α―Ä―É–±–Β–Ε–Ϋ―΄―Ö ―¹―²―Ä–Α–Ϋ –Ζ–Α―â–Η―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Η –±–Μ–Ψ–Κ–Α–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Α –Ϋ–Α –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –î–Ϋ―è –ü–Ψ–±–Β–¥―΄ –Ϋ–Α –≤―¹–Β―Ö –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η―è―Ö ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Α–Μ–Η ―¹–Ψ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –ö–Ψ–Φ–Η―²–Β―²–Α –Ω–Ψ –≤–Ϋ–Β―à–Ϋ–Η–Φ ―¹–≤―è–Ζ―è–Φ –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –Φ―΄ –≤―΄―Ä–Α–Ζ–Η–Μ–Η ―¹–Β―Ä–¥–Β―΅–Ϋ―É―é –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ζ–Α ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à―É―é –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―é –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ ―É―΅–Α―¹―²–Η―è –≤–Ψ –≤―¹–Β―Ö –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η―è―Ö.–ï―â–Β –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―³–Ψ―²–Ψ –Ϋ–Α –Ω–Α–Φ―è―²―¨ –£–Ψ―² –Ψ–Ϋ–Η, –™–Β―Ä–Ψ–Η –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Α –£–Ψ―² –Ψ–Ϋ–Η, –™–Β―Ä–Ψ–Η –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Α –•–Η―²–Β–Μ–Η –±–Μ–Ψ–Κ–Α–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Α –•–Η―²–Β–Μ–Η –±–Μ–Ψ–Κ–Α–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Α –€―΄ –Η–Ζ –Γ–Γ–Γ–† –€―΄ –Η–Ζ –Γ–Γ–Γ–† –Γ-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥. –î–Β–Ϋ―¨ –ü–Ψ–±–Β–¥―΄-2014. –ö–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –£.–Λ.–ö–Α―¹–Α―²–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –Γ-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥. –î–Β–Ϋ―¨ –ü–Ψ–±–Β–¥―΄-2014. –ö–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –£.–Λ.–ö–Α―¹–Α―²–Ψ–Ϋ–Ψ–≤
20.05.201410:5220.05.2014 10:52:40
0
19.05.201412:2919.05.2014 12:29:16
–Δ–Β–Φ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Β–Φ –Η–Ζ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Μ–Β―²–Ϋ–Β–≥–Ψ –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Α (–Κ–Α–Ϋ–Η–Κ―É–Μ) –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α―²―¨―¹―è –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η –Η –¥―Ä―É–≥–Η―Ö ―à–Β―¹―²–Η ―Ä–Ψ―². –Θ―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Κ–Α–Κ –±―΄ –≤–Φ–Η–≥ –Ψ–Ε–Η–Μ–Ψ, –Ω–Ψ–≤―¹―é–¥―É –±―΄–Μ–Η ―¹–Μ―΄―à–Ϋ―΄ ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Ϋ―΄–Β –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹–Α, –≤–Η–¥–Ϋ―΄ ―¹–Η―è―é―â–Η–Β ―Ä–Β–±―è―΅―¨–Η –Μ–Η―Ü–Α. –‰―Ö –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ–Η –Η ―É―΅–Η―²–Β–Μ―è ―²–Α–Κ–Ε–Β –Η―¹–Ω―΄―²―΄–≤–Α–Μ–Η ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ ―É–¥–Ψ–≤–Μ–Β―²–≤–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Η―è ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η –Ω–Η―²–Ψ–Φ―Ü–Α–Φ–Η. –€–Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ ―É–Ε–Α―¹–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨ –Ϋ–Α ―ç―²―É –≤–Α―²–Α–≥―É, –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Β―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Ϋ–Ψ –±―É―Ä–Μ―è―â―É―é.
–ê –≤–Ψ―² –Η 1 ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä―è - –¥–Β–Ϋ―¨ ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Α –≥―É–Φ–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ–Α, –Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Ι. –£–Β―¹―¨ –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–Κ―²–Η–≤ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –≤―΄―à–Β–Μ –Ϋ–Α –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Φ―É ―¹–±–Ψ―Ä―É. –£―΄–Ϋ–Ψ―¹ –Ζ–Ϋ–Α–Φ―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Α–≥–Α –Η ―Ä–Β―΅–Η ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Ι. –ü–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¹―è, –Η ―è, –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Η–≤ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Β–≤, –Η―Ö ―É―΅–Η―²–Β–Μ–Β–Ι, –Κ–Μ–Α―¹―¹–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α―¹―²–Α–≤–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―¹ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄–Φ –≥–Ψ–¥–Ψ–Φ, ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Η–Φ ―¹–≤–Ψ―ë –Ϋ–Α–Ω―É―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ: ¬Ϊ–î–Ψ―Ä–Ψ–≥–Η–Β ―Ä–Β–±―è―²–Α! –Θ―΅–Η―²–Β―¹―¨ –Η –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Μ―é–±–Η―²–Β –û―²―΅–Η–Ζ–Ϋ―É, –Κ–Α–Κ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Ι, ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Η –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Η―Ö. –•–Η–≤–Η―²–Β ―΅–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –±–Β–Ζ –±–Ψ–Μ–Η –Η ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Ϋ–Η―è –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Η –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Β –≥–Ψ–¥―΄, ―¹–≤–Ψ―ë ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β, ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―É―΅–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –Η –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ–Β–Ι¬Μ.
–ü–Ψ―¹–Μ–Β –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Φ–Α―Ä―à–Β–Φ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü―΄ –±―΄–Μ–Η ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Β–Ϋ―΄ –Ω–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α–Φ. –Δ–Α–Κ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Ψ–≤―΄–Ι ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄–Ι –≥–Ψ–¥.
–ê –¥–Μ―è –Φ–Β–Ϋ―è ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –Ω–Ψ―à–Μ–Η –Φ–Ψ–Η ―¹–Μ―É–Ε–Β–±–Ϋ―΄–Β –±―É–¥–Ϋ–Η.
–Γ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é ¬Ϊ–≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ―è¬Μ ―è ―¹–≤―΄–Κ―¹―è –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –±―΄―¹―²―Ä–Ψ. –ü–Ψ-–Ψ―²―Ü–Ψ–≤―¹–Κ–Η –Ω–Ψ–Μ―é–±–Η–Μ –≤―¹–Β―Ö ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–Ψ–Ω–Β―΅–Ϋ―΄―Ö, –≤ –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Φ–Μ–Α–¥―à–Η―Ö –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤. –Ξ–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ –Η ―É―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Β–Μ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü―΄ - ―ç―²–Ψ ―²–Α–Κ–Η–Β ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Κ–Η, –Κ–Α–Ε–¥–Α―è –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α ―¹ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ–Η –Φ–Ϋ–Β –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―² –Ψ―â―É―â–Β–Ϋ–Η–Β –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Η. –‰ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ ―²–Β–Φ –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –Ψ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Η―Ö ―Ä–Β–±―è―΅―¨―è ―¹―É―â–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ - –Ϋ–Β –Β–Φ–Κ–Ψ―¹―²―¨ ―¹–Ψ―¹―É–¥–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ϋ–Α–¥–Ψ –Ζ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è―²―¨ ―΅–Β–Φ –Ϋ–Η –Ω–Ψ–Ω–Α–¥―è, –Α –Ϋ–Β―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ–Β ―É–¥–Η–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ―É ―¹–≤–Β―²–Η–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ―É, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Ε–Β―΅―¨ –≤ –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ψ–Ϋ ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ –≤―΄―Ä–Α–±–Ψ―²–Κ–Β ―É –Ϋ–Η―Ö ―΅―É–≤―¹―²–≤–Α –Μ―é–±–≤–Η –Κ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –†–Ψ–¥–Η–Ϋ–Β, –≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Φ–Β―΅―²–Β ―¹―²–Α―²―¨ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Α, –±―΄―²―¨ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Φ ―΅–Β―¹―²–Η –Η –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Η–Ϋ―¹―²–≤–Α.
–ù–Α―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ ―ç―²–Ψ ―É–¥–Α–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ - ―¹―É–¥–Η―²―¨ ―É–Ε–Β –Ϋ–Β –Φ–Ϋ–Β...  –ü–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Α –Κ –Ω–Α―Ä–Α–¥―É. –ü–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Α –Κ –Ω–Α―Ä–Α–¥―É.
–£―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ–¥–Α, ―¹–Ψ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ―΄ ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä―è, –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Α –±–Α―²–Α–Μ―¨–Ψ–Ϋ–Α, ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ ―É–Ε–Β –Η–Ζ ―¹―²–Α―Ä―à–Β–Κ–Μ–Α―¹―¹–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Κ –û–Κ―²―è–±―Ä―¨―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Ω–Α―Ä–Α–¥―É –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β. –≠―²–Η –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü―΄ - –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥ –±―΄–≤–Α–Μ―΄–Ι, ―É–Ε–Β –Ϋ–Β –Β–¥–Η–Ϋ–Ψ–Ε–¥―΄ –¥–Β–Φ–Ψ–Ϋ―¹―²―Ä–Η―Ä–Ψ–≤–Α–≤―à–Η–Ι ―¹–≤–Ψ―é –≤―΄―É―΅–Κ―É –Ϋ–Α –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Η. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Η –¥–Μ―è –Ϋ–Η―Ö ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ω―Ä–Β–¥–≤–Α―Ä–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è ―¹―²―Ä–Ψ–Β–≤–Α―è ―²―Ä–Β–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Α. –û–Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, ―Ä–Β–Ε–Β –Η –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β, ―΅–Β–Φ –≤ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ―΄–Ι ―Ä–Α–Ζ –Ω―Ä–Η –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Β –Κ –ü–Β―Ä–≤–Ψ–Φ–Α–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Ω–Α―Ä–Α–¥―É –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Β–≤ –Φ–Μ–Α–¥―à–Η―Ö –Κ–Μ–Α―¹―¹–Ψ–≤. –ü–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―É–Ε–Β –≤ –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö ―΅–Η―¹–Μ–Α―Ö –Ψ–Κ―²―è–±―Ä―è –±–Α―²–Α–Μ―¨–Ψ–Ϋ –±―΄–Μ –≥–Ψ―²–Ψ–≤ –Κ –≤―΄–Β–Ζ–¥―É, –Η –Φ―΄ ―²–Β–Φ –Ε–Β –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ–Η –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤―É.
–ü–Ψ-–Ω―Ä–Β–Ε–Ϋ–Β–Φ―É ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―¹―²–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ω―Ä–Β―¹–Ϋ–Β–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Α–Ζ–Α―Ä–Φ–Α―Ö. –î–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–≤―à–Η―¹―¨ ―¹ –Ω–Ψ–¥―à–Β―³–Ϋ–Ψ–Ι ―à–Κ–Ψ–Μ–Ψ–Ι –Ψ–± –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η –Κ–Μ–Α―¹―¹–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η–Ι –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Β–≤, –Ϋ–Α ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –Ω―Ä–Η―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Η –Κ –Ψ―²―Ä–Α–±–Ψ―²–Κ–Β ―¹―²―Ä–Ψ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ ―à–Α–≥–Α –Ϋ–Α –Α―ç―Ä–Ψ–¥―Ä–Ψ–Φ–Β.
–û–±―΄―΅–Ϋ–Α―è –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Α―è –Φ―É―à―²―Ä–Α ―¹ –Ω–Ψ–≤―΄―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ϋ―²–Β–Ϋ―¹–Η–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ ―¹ ―É―²―Ä–Α, –Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ–±–Β–¥–Α - ―É―Ä–Ψ–Κ–Η –≤ ―à–Κ–Ψ–Μ–Β. –Θ―¹–Ω–Β―Ö –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η―è –Ω–Ψ ―à–Α–≥–Η―¹―²–Η–Κ–Β –≤–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Φ –Ζ–Α–≤–Η―¹–Β–Μ –Ψ―² –Ϋ–Α―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Η―²–Ψ–Φ―Ü–Β–≤. –Θ―΅–Η―²―΄–≤–Α―è ―ç―²–Ψ –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ, –Φ―΄ –≤―¹―è―΅–Β―¹–Κ–Η –Ω–Ψ–¥–±–Α–¥―Ä–Η–≤–Α–Μ–Η –¥–Ψ–±―Ä―΄–Φ–Η ―¹–Μ–Ψ–≤–Α–Φ–Η, –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η –¥―É―Ö ―¹–Ψ―¹―²―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Φ–Β–Ε–¥―É ―à–Β―Ä–Β–Ϋ–≥–Α–Φ–Η –Ω–Α―Ä–Α–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α―¹―΅―ë―²–Α –Η –Η―Ö –Ω―Ä–Α–≤–Ψ―³–Μ–Α–Ϋ–≥–Ψ–≤―΄–Φ–Η. –€–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö, –Κ –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä―É, –°―Ä–Α –£–Β–Μ–Η–Κ–Η–Ι, –Λ–Β–Μ–Η–Κ―¹ –ï–≤―¹―²–Α―³―¨–Β–≤, –ë–Ψ―Ä–Η―¹ –®–Β―Ä–Β–Φ–Β―²―¨–Β–≤, –Ω–Ψ-―Ä–Β–±―è―΅―¨–Η ―Ä–Α–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―¹ –Ω–Ψ―Ö–≤–Α–Μ–Ψ–Ι –Ψ–±―ä―è–≤–Μ―è–Μ–Η―¹―¨ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Β –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Κ–Η –Ζ–Α ―΅―ë―²–Κ–Ψ–Β ―Ä–Α–≤–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Η ―²–≤–Β―Ä–¥―΄–Ι ―à–Α–≥ –Ω―Ä–Η –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Η –Φ–Α―Ä―à–Β–Φ. –£ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Η–Β –Ψ―² –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Β–≤-–Φ–Α–Μ―΄―à–Β–Ι ―¹―²–Α―Ä―à–Β–Κ–Μ–Α―¹―¹–Ϋ–Η–Κ–Η –Κ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄–Φ –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η―è–Φ –≤ ―à–Κ–Ψ–Μ–Β –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Β ―¹ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ―²–¥–Α―΅–Β–Ι ―¹–Η–Μ, –Α –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö –¥–Α–Ε–Β ―¹ ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Κ–Ψ–Φ. –‰ –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Η―¹–Κ–Α―²―¨ ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±―΄ –≤–Μ–Η―è–Ϋ–Η―è –Η –≤–Ψ–Ζ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –Ϋ–Α –Ϋ–Β―Ä–Α–¥–Η–≤―΄―Ö –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤.  –ü–Α―Ä–Α–¥–Ϋ―΄–Ι –±–Α―²–Α–Μ―¨–Ψ–Ϋ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Β–≤. –ü–Α―Ä–Α–¥–Ϋ―΄–Ι –±–Α―²–Α–Μ―¨–Ψ–Ϋ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Β–≤.
–ü–Ψ ―¹―É–±–±–Ψ―²–Α–Φ –Η –≤–Ψ―¹–Κ―Ä–Β―¹–Β–Ϋ―¨―è–Φ –¥–Μ―è –Ω―Ä–Η–Μ–Β–Ε–Ϋ―΄―Ö –Η ―É―¹–Ω–Β–≤–Α―é―â–Η―Ö –≤ –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η―è―Ö –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Β–≤ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤―΄–≤–Α–Μ–Η ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Ψ–¥–Α ―ç–Κ―¹–Κ―É―Ä―¹–Η–Η, –Ω–Ψ―¹–Β―â–Β–Ϋ–Η―è ―²–Β–Α―²―Ä–Ψ–≤. –ü―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ ―²–Β―Ö –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö, ―É –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β –±―΄–Μ–Η ―Ä–Ψ–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η, –≤ –≤–Η–¥–Β –Ω–Ψ–Ψ―â―Ä–Β–Ϋ–Η―è –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Α–Μ–Η ―¹ –Ϋ–Ψ―΅―ë–≤–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Α –¥–Ψ–Φ. –‰ –Ψ–Ϋ–Η, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ, –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η, –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α–Μ–Η―¹―¨ –Η–Ζ ―É–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è ―¹–≤–Ψ–Β–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –≤ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–Φ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –¥―É―Ö–Α.
–½–Α –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Ϋ–Β–Ι –¥–Ψ –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ –û–Κ―²―è–±―Ä―è –Φ―΄ ―¹–Ψ –≤―¹–Β–Φ–Η –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Α–Φ–Η –Ω–Α―Ä–Α–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±–Α―²–Α–Μ―¨–Ψ–Ϋ–Α –Ψ–±―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―¹–Β―â–Α–Μ–Η –ö―Ä–Α―¹–Ϋ―É―é –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥―¨, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤–Ψ–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨ –Κ –€–Α–≤–Ζ–Ψ–Μ–Β―é –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–Α-–Γ―²–Α–Μ–Η–Ϋ–Α ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤–Β–Ϋ–Ψ–Κ, –≤–Ψ–Ζ–¥–Α–≤–Α―è –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ–Β –Η―Ö –Ζ–Α―¹–Μ―É–≥–Α–Φ. –ê –Β―â―ë, –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É―è―¹―¨ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β–Φ, –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Ψ―²–¥–Β–Μ–Α –ê.–ê.–Γ―²–Β–Ϋ–Η–Ϋ―΄–Φ –≤―Ä―É―΅–Α–Μ–Η –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Η–Β –±–Η–Μ–Β―²―΄ –Η –Ζ–Ϋ–Α―΅–Κ–Η –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ, –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²―΄–Φ –≤ ―Ä―è–¥―΄ –£–¦–ö–Γ–€. –Δ–Α–Κ–Ψ–Ι –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Η―²―É–Α–Μ –≤–¥–Ψ―Ö–Ϋ–Ψ–≤–Μ―è–Μ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö, –Ψ–Ϋ–Η ―¹ ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–Φ –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Η–Ϋ―¹―²–≤–Α –≤–Ψ―¹–Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η –Ϋ–Α―à–Η –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Η –Ω–Ψ–Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η―è.
–£ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ ―ç―²–Η–Φ –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―é –Β―â―ë ―²–Α–Κ–Ψ–Β –Ω―Ä–Η–Φ–Β―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Β, –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Β–¥―à–Β–Β ―¹ –Ϋ–Α–Φ–Η 31 –Ψ–Κ―²―è–±―Ä―è 1961 –≥–Ψ–¥–Α. –ü―Ä–Η–±―΄–≤ –Ω–Ψ–Ζ–¥–Ϋ–Ψ –≤–Β―΅–Β―Ä–Ψ–Φ –Ϋ–Α –ö―Ä–Α―¹–Ϋ―É―é –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥―¨ –¥–Μ―è –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è ―Ä–Β–Ω–Β―²–Η―Ü–Η–Η –Ω–Ψ ―¹―²―Ä–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Β, –Φ―΄ –≤–¥―Ä―É–≥ ―É–≤–Η–¥–Β–Μ–Η –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―É―é –Φ–Α―¹―¹―É –Μ―é–¥–Β–Ι. –ë–Η―²―΄–Ι ―΅–Α―¹ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ϋ–Α―΅–Α―²―¨ ―¹–≤–Ψ―é ―²―Ä–Β–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Κ―É. –ö–Α–Κ –≤―΄―è―¹–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≤―¹–Κ–Ψ―Ä–Β, ―ç―²–Ψ –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –≤―΄–Ζ–≤–Α–Ϋ–Ψ ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –≤ ―²–Ψ―² –¥–Β–Ϋ―¨ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Β–Φ XXII ―¹―ä–Β–Ζ–¥–Β –Ω–Α―Ä―²–Η–Η –¥–Β–Μ–Β–≥–Α―²―΄ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ–Η ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ –≤―΄–Ϋ–Ψ―¹–Β –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Κ–Ψ–≤ –Γ―²–Α–Μ–Η–Ϋ–Α –Η–Ζ –€–Α–≤–Ζ–Ψ–Μ–Β―è. –Δ–Ψ–Μ–Ω―΄ –Ζ–Β–≤–Α–Κ –Ϋ–Α –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Η ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Η –≤–Ψ–Ψ―΅–Η―é ―É–≤–Η–¥–Β―²―¨ ―ç―²–Ψ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ, –¥–Α –Ω―Ä–Ψ―¹―΅–Η―²–Α–Μ–Η―¹―¨ - –Ϋ–Α –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―²–Ϋ―΄―Ö –Ω–Μ–Η―²–Α―Ö –≤―¹―ë –Β―â―ë ―¹–Η―è–Μ–Α –Ϋ–Α–¥–Ω–Η―¹―¨ ¬Ϊ–¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ-–Γ―²–Α–Μ–Η–Ϋ¬Μ.
–€―΄, –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ―΄ –Η –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―΄, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ –Ω–Α―Ä–Α–¥–Ϋ―΄―Ö –±–Α―²–Α–Μ―¨–Ψ–Ϋ–Ψ–≤, –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Κ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–¥–Α–Ϋ―²–Ψ–Φ –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄ –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Ψ–Φ –‰.–Γ.–ö–Ψ–Μ–Β―¹–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤―΄–Φ ―¹―²–Ψ―è–Μ–Η ―É –€–Α–≤–Ζ–Ψ–Μ–Β―è, –≤–Ζ–Η―Ä–Α―è –Ϋ–Α –Φ–Ψ–Μ―΅–Α–Μ–Η–≤–Ψ-―É–≥―Ä―é–Φ–Ψ–Β –Μ―é–¥―¹–Κ–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä–Β, –Ψ–Ε–Η–¥–Α―è, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Φ–Η–Μ–Η―Ü–Η―è –Ψ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Η―² –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥―¨ –Ψ―² ―¹―²–Η―Ö–Η–Ι–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ–±―Ä–Α–≤―à–Β–Ι―¹―è –Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Η –Η –Φ―΄ ―¹–Φ–Ψ–Ε–Β–Φ –Ω―Ä–Η―¹―²―É–Ω–Η―²―¨ –Κ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―¹―²―Ä–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―²―Ä–Β–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Β. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―¨–±―΄ –Φ–Η–Μ–Η―Ü–Β–Ι―¹–Κ–Η―Ö ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ψ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Η―²―¨ –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥―¨ –Η –Ψ―²–Ψ–Ι―²–Η –Κ –™–Θ–€―É –Ϋ–Β –≤–Ψ–Ζ―΄–Φ–Β–Μ–Η –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è. –¦―é–¥–Η –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ–Η ―¹―²–Ψ―è―²―¨ –Η–Μ–Η –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η ―¹ –Φ–Β―¹―²–Α –Ϋ–Α –Φ–Β―¹―²–Ψ. –ë–Ψ–Μ–Β–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –Φ―΄ ―É–≤–Η–¥–Β–Μ–Η, –Κ–Α–Κ ―΅–Β―²–≤–Β―Ä–Ψ –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ, –Ψ―΅–Β–≤–Η–¥–Ϋ–Ψ, –≥―Ä―É–Ζ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, ―É–Ω–Α–≤ –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η –Ω–Β―Ä–Β–¥ –€–Α–≤–Ζ–Ψ–Μ–Β–Β–Φ, –Φ–Ψ–Μ―΅–Α –Φ–Ψ–Μ–Η–Μ–Η―¹―¨ –¥–Ψ ―²–Β―Ö –Ω–Ψ―Ä, –Ω–Ψ–Κ–Α –±–Μ―é―¹―²–Η―²–Β–Μ–Η –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Α, –≤–Ζ―è–≤ –Η―Ö –Ω–Ψ–¥ ―Ä―É–Κ–Η –Η –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–≤ –Ϋ–Α –Ϋ–Ψ–≥–Η, –Ϋ–Β –Ψ―²–≤–Β–Μ–Η –Κ –‰―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Φ―É–Ζ–Β―é. –û–Ϋ–Η –±–Β―¹–Ω―Ä–Β–Κ–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ–Η–Μ–Η―¹―¨, –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ –≤―΄―Ä–Α–Ε–Α―è ―¹–≤–Ψ―ë –Ϋ–Β–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –Η–Φ, ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ–Α–Φ, –Ϋ–Β –¥–Α–Μ–Η –Κ–Α–Κ ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―², ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Ϋ–Ψ ―Ä–Β–Μ–Η–≥–Η–Ψ–Ζ–Ϋ―΄–Φ –Κ–Α–Ϋ–Ψ–Ϋ–Α–Φ, –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Η―²―¨―¹―è ―¹ –Ω―Ä–Α―Ö–Ψ–Φ –Γ―²–Α–Μ–Η–Ϋ–Α.  –ù–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü-―²–Ψ –Κ –Ω–Ψ–Μ―É–Ϋ–Ψ―΅–Η ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Η –±―΄–Μ –Ψ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–Ε–¥―ë–Ϋ –Ψ―² ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Ϋ–Η―Ö –Ζ–Β–≤–Α–Κ –Η –Φ―΄ –Ω―Ä–Η―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Η –Κ ―¹―²―Ä–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―²―Ä–Β–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Β. –ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ –Ε–Β, ―Ä–Β–Ω–Β―²–Η―Ü–Η―è –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Α –≤ ―É―Ä–Β–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –≤–Η–¥–Β –Η –Ϋ–Β –Ϋ–Α –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Α―Ä–Α–¥–Ϋ–Ψ–Φ ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Β. –û―²–Ω―Ä–Α–≤–Η–≤ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Β–≤ –≤–Ψ―¹–≤–Ψ―è―¹–Η, ―è –Β―â―ë –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ζ–Α–¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ―¹―è –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ–Η –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ–Α–Φ–Η ―É . –ù–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü-―²–Ψ –Κ –Ω–Ψ–Μ―É–Ϋ–Ψ―΅–Η ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Η –±―΄–Μ –Ψ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–Ε–¥―ë–Ϋ –Ψ―² ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Ϋ–Η―Ö –Ζ–Β–≤–Α–Κ –Η –Φ―΄ –Ω―Ä–Η―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Η –Κ ―¹―²―Ä–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―²―Ä–Β–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Β. –ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ –Ε–Β, ―Ä–Β–Ω–Β―²–Η―Ü–Η―è –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Α –≤ ―É―Ä–Β–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –≤–Η–¥–Β –Η –Ϋ–Β –Ϋ–Α –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Α―Ä–Α–¥–Ϋ–Ψ–Φ ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Β. –û―²–Ω―Ä–Α–≤–Η–≤ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Β–≤ –≤–Ψ―¹–≤–Ψ―è―¹–Η, ―è –Β―â―ë –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ζ–Α–¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ―¹―è –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ–Η –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ–Α–Φ–Η ―É .
–ü–Β―Ä–Β–¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è –≤–Ψ–Ι―¹–Κ –Η ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Η –Ϋ–Α –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Η –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Β. –ù–Η–Κ–Α–Κ–Ψ–Ι ―¹―É–Β―²―΄ –≤–Ψ–Ζ–Μ–Β –€–Α–≤–Ζ–Ψ–Μ–Β―è –Ω–Ψ-–Ω―Ä–Β–Ε–Ϋ–Β–Φ―É –Ϋ–Β –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨. –Δ–Ψ–Μ–Ω―΄ –Μ―é–¥–Β–Ι, ―¹―²–Ψ―è–≤―à–Η―Ö ―É –™–Θ–€–Α, –Ω–Ψ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹―²–Α–Μ–Η ―Ä–Α―¹―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨―¹―è –Η –Ϋ–Α –≥–Μ–Α–Ζ–Α―Ö ―²–Α―è―²―¨. –Θ–Β―Ö–Α–Μ –Η ―è –Κ ―¹–Β–±–Β –≤ –≥–Ψ―¹―²–Η–Ϋ–Η―Ü―É.
–ê –Ϋ–Α ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Ι –¥–Β–Ϋ―¨, ―É―²―Ä–Ψ–Φ, –Κ–Α–Κ –Φ–Ϋ–Β ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η –Ψ―¹–≤–Β–¥–Ψ–Φ–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Μ–Η―Ü–Α, –Ϋ–Α ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Ψ–Ϋ–Β –€–Α–≤–Ζ–Ψ–Μ–Β―è –≤ –≥–Ψ―Ä–¥–Ψ–Φ –Ψ–¥–Η–Ϋ–Ψ―΅–Β―¹―²–≤–Β –Κ―Ä–Α―¹–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Μ–Η―à―¨ –Η–Φ―è ¬Ϊ–¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ¬Μ.
...–‰ –≤–Ψ―² –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Η–Μ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ –Γ―²―Ä–Α–Ϋ―΄ –Γ–Ψ–≤–Β―²–Ψ–≤: 44-―è –≥–Ψ–¥–Ψ–≤―â–Η–Ϋ–Α –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ –û–Κ―²―è–±―Ä―è. –ü–Α―Ä–Α–¥–Ψ–Φ –≤–Ψ–Ι―¹–Κ –Η –¥–Β–Φ–Ψ–Ϋ―¹―²―Ä–Α―Ü–Η–Β–Ι ―²―Ä―É–¥―è―â–Η―Ö―¹―è –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄ –Ϋ–Α –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Η –±―΄–Μ –Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ –Ϋ–Α―à –Ω–Ψ–Η―¹―²–Η–Ϋ–Β –≤–Β–Μ–Η–Κ–Η–Ι –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ. –ö–Α–Κ –Η –ü–Β―Ä–≤–Ψ–Φ–Α–Ι―¹–Κ–Η–Ι, –û–Κ―²―è–±―Ä―¨―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Α―Ä–Α–¥ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ –€–Α―Ä―à–Α–Μ –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –†.–·.–€–Α–Μ–Η–Ϋ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι. –½–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―΄–Ι –Φ–Ϋ–Β –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Ψ–Κ –Ω–Α―Ä–Α–¥–Α –Η –≤―¹–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄, –Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α–Β–Φ―΄–Β –Ϋ–Α –Ϋ―ë–Φ, ―è –≤–Ψ―¹–Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ –Ϋ–Β –±–Β–Ζ –≤–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è. –ë–Ψ–¥―Ä―΄–Ι –Η –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―Ü–Β–≤–Α―²―΄–Ι –≤–Η–¥ –Φ–Ψ–Η―Ö –Ω–Η―²–Ψ–Φ―Ü–Β–≤ –≤―¹–Β–Μ―è–Μ –≤ –Φ–Β–Ϋ―è ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨: –Ψ–Ϋ–Η –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Ι–¥―É―² –Ω–Ψ –±―Ä―É―¹―΅–Α―²–Κ–Β –Φ–Α―Ä―à–Β–Φ. –Δ–Α–Κ –Ψ–Ϋ–Ψ –Η –≤―΄―à–Μ–Ψ!
–‰ –Ψ–Ω―è―²―¨ ―è –±―΄–Μ –Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―à–Β–Ϋ –≤ –ö―Ä–Β–Φ–Μ―¨ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä–Η―ë–Φ. –£ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Ψ–Φ –Φ–Ϋ–Β –î–≤–Ψ―Ä―Ü–Β ―¹―ä–Β–Ζ–¥–Ψ–≤ –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ ―É–≤–Η–¥–Β–Μ –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ψ―¹–Ψ–±, ―É―¹–Μ―΄―à–Α–Μ –Ω–Ψ―΅―²–Η ―²–Β –Ε–Β ―Ä–Β―΅–Η –Η ―²–Ψ―¹―²―΄ –ù.–Γ.–Ξ―Ä―É―â―ë–≤–Α. –ù–Ψ –Ψ―²–Φ–Β―²–Η–Μ –Ω―Ä–Ψ ―¹–Β–±―è –Η –¥―Ä―É–≥–Ψ–Β: –Ϋ–Β–¥–Ψ–±―Ä–Ψ–Ε–Β–Μ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―Ä–Β–Ω–Μ–Η–Κ–Η –Η –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α–Ϋ–Η―è ―¹–Ψ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ–Ψ–≤ –≤ –Α–¥―Ä–Β―¹ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –Μ–Η―Ü–Α –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Α.
–ü–Ψ―¹–Μ–Β –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η―Ö –Ζ–¥―Ä–Α–≤–Η―Ü –≤ –Κ―Ä―É–≥―É ―¹–Ψ–±―Ä–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è –Ζ–Α ―¹―²–Ψ–Μ–Α–Φ–Η –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –±–Ψ–¥―Ä–Ψ–Β –Ϋ–Α―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η–Β. –Γ―²–Α–Μ–Η –≥―Ä–Ψ–Φ―΅–Β –Η ―à―É–Φ–Ϋ–Β–Β –≤―΄–Ω–Μ―ë―¹–Κ–Η–≤–Α―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Η ―ç–Φ–Ψ―Ü–Η–Η, –≤ ―΅–Α―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ϋ–Β–Ψ–¥–Ψ–±―Ä–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ―²–Ζ―΄–≤–Α―²―¨―¹―è –Ψ –≤―΄–Ϋ–Ψ―¹–Β –Η–Ζ –€–Α–≤–Ζ–Ψ–Μ–Β―è –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Κ–Ψ–≤ –Γ―²–Α–Μ–Η–Ϋ–Α. –€–Ψ–Μ, ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ –±―΄ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η―²―¨ –Η –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²―¨ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Α―Ä―²–Η–Η –Η –Ω―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α, –≤―΄–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –≤ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹–Ψ ―¹–Φ–Β―Ä―²―¨―é –Γ―²–Α–Μ–Η–Ϋ–Α –≤ 1953 –≥–Ψ–¥―É, –Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η–Η –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Κ–Ψ–≤ –Γ―²–Α–Μ–Η–Ϋ–Α –≤ –€–Α–≤–Ζ–Ψ–Μ–Β–Β –¥–Ψ –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ–Η –ü–Α–Ϋ―²–Β–Ψ–Ϋ–Α –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄. –Δ–Ψ–≥–¥–Α –Β―â―ë –±―΄–Μ–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ –Ω―Ä–Η–≤–Β―Ä–Ε–Β–Ϋ―Ü–Β–≤ –‰–Ψ―¹–Η―³–Α –£–Η―¹―¹–Α―Ä–Η–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–Α, –≤ –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―¹―Ä–Β–¥–Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö.
–ï–≥–Ψ –≤–Β–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι ―¹–≤–Β–Μ –Φ–Β–Ϋ―è ―¹ –≥–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ–Ψ–Φ –™–Ψ―Ä―à–Κ–Ψ–≤―΄–Φ –Ζ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–Φ, –Η ―è –Ϋ–Β ―É–Ω―É―¹―²–Η–Μ ―à–Α–Ϋ―¹ –Ω–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨ ―¹ –Ϋ–Η–Φ. –ù–Α―Ö–Ψ–¥―è―¹―¨ –≤ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–Φ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –¥―É―Ö–Α, –Ψ–Ϋ –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–Ε–Β–Μ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ―²–Ϋ–Β―¹―¹―è –Κ–Ψ –Φ–Ϋ–Β, –≤―΄―Ä–Α–Ζ–Η–≤ –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ ―¹–≤–Ψ―ë ―É–¥–Ψ–≤–Μ–Β―²–≤–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α–¥–Μ–Β–Ε–Α―â–Β–Ι ―¹―²―Ä–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Β–≤. –£–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ ―²–Β–Φ –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ (–Α –Ω―Ä–Ψ―¹―¨–±–Α –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α ―Ä–Α–≤–Ϋ–Α –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―é), ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è―â–Η–Ι –≤ 1962 –≥–Ψ–¥―É –ü–Β―Ä–≤–Ψ–Φ–Α–Ι―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Α―Ä–Α–¥ ―è –Ψ–Ω―è―²―¨ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ –Η –Ω―Ä–Η–≤–Β–Ζ –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤―É –Φ–Μ–Α–¥―à–Η–Β ―Ä–Ψ―²―΄ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Β–≤. –· –Η ―¹–Α–Φ –±―΄–Μ –≥–Ψ―²–Ψ–≤ –Η―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η―²―¨ –Ϋ–Α ―²–Ψ –Β–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β, –Ϋ–Ψ –Ψ–Ϋ ―É–Ω―Ä–Β–¥–Η–Μ –Φ–Β–Ϋ―è. –£–Ψ―² –Ψ–±―Ä–Α–¥―É―é―²―¹―è ―ç―²–Ψ–Φ―É –Φ–Ψ–Η –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η―à–Κ–Η!..  –Δ–Β–Φ –Ε–Β –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Η –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β, –Ϋ–Α―à –Ω–Α―Ä–Α–¥–Ϋ―΄–Ι –±–Α―²–Α–Μ―¨–Ψ–Ϋ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―²–Η–Μ―¹―è –Η–Ζ –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄ –≤ ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Ω–Β–Ϋ–Α―²―΄. –ü–Β―Ä–Β–¥ ―²–Β–Φ –Κ–Α–Κ ―Ä–Α―¹–Ω―É―¹―²–Η―²―¨ ―¹―²―Ä–Ψ–Ι, ―è –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤–Α–Μ –≤–Ψ –≤―¹–Β―É―¹–Μ―΄―à–Α–Ϋ–Η–Β –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≥–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ–Α –£–€–Λ, –≤–Ψ―¹–Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²―É―é –≤―¹–Β–Φ–Η –Ϋ–Α ―É―Ä–Α. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö –¥–Ϋ–Β–Ι –≤―¹–Β –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü―΄ –Ω―Ä–Η―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Η –Κ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄–Φ –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η―è–Φ. –Δ–Β–Φ –Ε–Β –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Η –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β, –Ϋ–Α―à –Ω–Α―Ä–Α–¥–Ϋ―΄–Ι –±–Α―²–Α–Μ―¨–Ψ–Ϋ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―²–Η–Μ―¹―è –Η–Ζ –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄ –≤ ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Ω–Β–Ϋ–Α―²―΄. –ü–Β―Ä–Β–¥ ―²–Β–Φ –Κ–Α–Κ ―Ä–Α―¹–Ω―É―¹―²–Η―²―¨ ―¹―²―Ä–Ψ–Ι, ―è –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤–Α–Μ –≤–Ψ –≤―¹–Β―É―¹–Μ―΄―à–Α–Ϋ–Η–Β –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≥–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ–Α –£–€–Λ, –≤–Ψ―¹–Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²―É―é –≤―¹–Β–Φ–Η –Ϋ–Α ―É―Ä–Α. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö –¥–Ϋ–Β–Ι –≤―¹–Β –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü―΄ –Ω―Ä–Η―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Η –Κ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄–Φ –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η―è–Φ.
...–£ –Κ–Α–Ϋ―É–Ϋ –ù–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ, 1962 –≥–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η―¹―¨ –¥–Β―¹―è―²–Η–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ―΄–Β –Ζ–Η–Φ–Ϋ–Η–Β –Κ–Α–Ϋ–Η–Κ―É–Μ―΄. –Γ―²–Α―Ä―à–Β–Κ–Μ–Α―¹―¹–Ϋ–Η–Κ–Η –Η ―²–Β –Φ–Α–Μ―΄―à–Η, –Ζ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ–Η –Ω―Ä–Η–Β―Ö–Α–Μ–Η ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β, –±―΄–Μ–Η –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ―΄ –Ω–Ψ –¥–Ψ–Φ–Α–Φ. –€–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö –Η ―¹–Η―Ä–Ψ―²―΄ –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β. –ß―²–Ψ–±―΄ –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –Η–Φ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ–¥–Ϋ―é―é ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²―¨, –Ψ–Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η―²―¨, ―è ―Ä–Β―à–Η–Μ –Ϋ–Α –≤―Ä–Β–Φ―è –Κ–Α–Ϋ–Η–Κ―É–Μ –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η―²―¨ –Η―Ö –≤ –Μ–Α–≥–Β―Ä―¨, –Ζ–Α–±–Μ–Α–≥–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–≤ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²―¨ –Ε–Η–Μ―΄–Β –Η –±―΄―²–Ψ–≤―΄–Β –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η―è –¥–Μ―è –Ϋ–Α–¥–Μ–Β–Ε–Α―â–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Β–±―΄–≤–Α–Ϋ–Η―è ―²–Α–Φ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Β–≤. –Θ―¹–Η–Μ–Η―è–Φ–Η ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Η ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –î.–™.–û–Ζ–Β―Ä–Ψ–≤–Α –≤―¹―ë –±―΄–Μ–Ψ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Ϋ–Ψ –Μ―É―΅―à–Η–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ: ―É―²–Β–Ω–Μ–Β–Ϋ―΄ –Η –Ϋ–Α―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ―΄ ―¹–Ω–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β, –Η–≥―Ä–Ψ–≤―΄–Β –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η―è, –Ψ–±–Ψ―Ä―É–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Α ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–≤–Α―è, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Κ―Ä–Α―¹–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ–¥–Ϋ–Η–Β ―¹―²–Ψ–Μ―΄, –Α –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η―Ö –Κ–Ψ–Φ–Ϋ–Α―² ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Α –Ϋ–Α―Ä―è–¥–Ϋ–Α―è ―ë–Μ–Κ–Α, –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Α―è, –Ω–Ψ–¥ –Ω–Ψ―²–Ψ–Μ–Ψ–Κ. –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Ι –™―Ä–Η–≥–Ψ―Ä―¨–Β–≤–Η―΅ –≥–¥–Β-―²–Ψ –Α―Ä–Β–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ –Ω–Α―Ä―É –¥–Ψ–±―Ä–Ψ―²–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ―à–Α–¥–Β–Ι ―¹ ―¹–Α–Ϋ―è–Φ–Η –¥–Μ―è –Κ–Α―²–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Β–≤ –Ω–Ψ –Μ–Β―¹–Ϋ―΄–Φ –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Α–Φ, –Ζ–Α–Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Β ―è―¹―²–≤–Α –¥–Μ―è ―É–≥–Ψ―â–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Β–≤ –≤ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ–¥–Ϋ–Η–Ι –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ. –Γ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Φ, –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Ψ –≤―¹―ë, ―΅―²–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ.  –û–Ζ–Β―Ä–Ψ–≤ –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Ι –™―Ä–Η–≥–Ψ―Ä―¨–Β–≤–Η―΅, –Δ–Α―Ä―à–Η–Ϋ –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –™―Ä–Η–≥–Ψ―Ä―¨–Β–≤–Η―΅ –û–Ζ–Β―Ä–Ψ–≤ –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Ι –™―Ä–Η–≥–Ψ―Ä―¨–Β–≤–Η―΅, –Δ–Α―Ä―à–Η–Ϋ –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –™―Ä–Η–≥–Ψ―Ä―¨–Β–≤–Η―΅
–û―²–Ω―Ä–Α–≤–Κ–Ψ–Ι –Ψ―²―ä–Β–Ζ–Ε–Α―é―â–Η―Ö –Ω–Ψ –¥–Ψ–Φ–Α–Φ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Β–≤ –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Φ–Ψ–Ι –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―¨ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –Γ.–ü.–Δ–Α―Ä―à–Η–Ϋ, –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ –Ω–Ψ ―¹―²―Ä–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 2 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ù.–ü.–ï–Ω–Η―Ö–Η–Ϋ –Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ ―Ä–Ψ―² ―¹ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Ψ―²–¥–Β–Μ–Α –ê.–ê.–Γ―²–Β–Ϋ–Η–Ϋ―΄–Φ.
–ü–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¹―è, 30 –¥–Β–Κ–Α–±―Ä―è –≤―΄–Β―Ö–Α–Μ–Η –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Ψ―¹―²–Α―é―â–Η–Φ–Η―¹―è –Ϋ–Α –Κ–Α–Ϋ–Η–Κ―É–Μ―΄ –≤ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Α–Φ–Η –≤ –Μ–Α–≥–Β―Ä―¨. –û―¹―²–Α―²–Ψ–Κ ―²–Ψ–≥–Ψ –¥–Ϋ―è –Η –Ω–Ψ―΅―²–Η –≤–Β―¹―¨ –¥–Β–Ϋ―¨ 31 –¥–Β–Κ–Α–±―Ä―è –Φ―΄ –±―΄–Μ–Η –Ζ–Α–Ϋ―è―²―΄ –Ψ–±―É―¹―²―Ä–Ψ–Ι―¹―²–≤–Ψ–Φ –Ω–Η―²–Ψ–Φ―Ü–Β–≤ –Η –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Ψ–Ι –Κ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Β –ù–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ–¥–Α. –ö –Ϋ–Α–Φ –≤ –Μ–Α–≥–Β―Ä―¨ –Ω―Ä–Η–Β―Ö–Α–Μ–Η –Η –Ϋ–Α―à–Η –Ε–Β–Ϋ―΄, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Η –Φ–Ψ―è –ù–Η–Ϋ–Α –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Β–≤–Ϋ–Α. –ù–Α―¹―²―É–Ω–Η–Μ –Η –Ω―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ–¥–Ϋ–Η–Ι –≤–Β―΅–Β―Ä. –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü―΄ –Η –Η―Ö –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ–Η ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ζ–Α –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η―΅–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Κ―Ä―΄―²―΄–Φ–Η ―¹―²–Ψ–Μ–Α–Φ–Η. –· –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Η–Μ –Η―Ö ―¹ –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Α―é―â–Η–Φ –ù–Ψ–≤―΄–Φ –≥–Ψ–¥–Ψ–Φ
–Η –Ω–Ψ–Ε–Β–Μ–Α–Μ –Η–Φ –≤–Β―¹–Β–Μ–Ψ –Η –¥―Ä―É–Ε–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―¹―²–Η ―¹–≤–Ψ–Η –Κ–Α–Ϋ–Η–Κ―É–Μ―΄, –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–Φ –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Η –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Η―Ö, –±―΄―²―¨ –Ω–Ψ-―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Η –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―΄–Φ–Η –Η, –Ϋ–Α–Κ–Ψ–Ω–Η–≤ ―¹–Η–Μ―΄, –Ω―Ä–Η―¹―²―É–Ω–Η―²―¨ –Κ ―É―΅–Β–±–Β –≤ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Φ, 1962 –≥–Ψ–¥―É.
–ö–Ψ–≥–¥–Α ―è –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ ―Ä–Β―΅―¨ –Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ζ–≥–Μ–Α―¹–Η–Μ ―²–Ψ―¹―² –Ζ–Α –Η―Ö ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤―É―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨, –≤―¹–Β –±―É―Ä–Ϋ–Ψ ―Ö–Μ–Ψ–Ω–Α–Μ–Η –≤ –Μ–Α–¥–Ψ―à–Η –Η ―΅―²–Ψ –Β―¹―²―¨ –¥―É―Ö―É –Κ―Ä–Η―΅–Α–Μ–Η ¬Ϊ―É―Ä–Α!¬Μ. –û–¥–Ϋ–Η –Ω–Η–Μ–Η –Η–Ζ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Κ―Ä―É–Ε–Β―΅–Β–Κ ―¹–Μ–Α–¥–Κ―É―é ―³―Ä―É–Κ―²–Ψ–≤―É―é –≤–Ψ–¥―É, –Β–Μ–Η ―¹ –Α–Ω–Ω–Β―²–Η―²–Ψ–Φ ―²–Ψ―Ä―²―΄, –Κ–Ψ–Ϋ―³–Β―²―΄, –Α–Ω–Β–Μ―¨―¹–Η–Ϋ―΄, –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Ψ―²–≤–Β–¥―΄–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β –≤–Κ―É―¹–Ϋ―΄–Β ―É–≥–Ψ―â–Β–Ϋ–Η―è, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω―Ä–Η–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ –¥–Μ―è –Ϋ–Η―Ö ―Ä–Α–Ζ–≤–Ψ―Ä–Ψ―²–Μ–Η–≤―΄–Ι –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Ι –™―Ä–Η–≥–Ψ―Ä―¨–Β–≤–Η―΅ –Η –Ϋ–Α―à ―à–Β―³-–Ω–Ψ–≤–Α―Ä –ö–Ψ–Φ–Α―Ä–Ψ–≤ –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –€–Α―²–≤–Β–Β–≤–Η―΅. –½–Α―²–Β–Φ ―Ä–Α―¹–Κ―Ä―΄–Μ–Η ¬Ϊ–Ω–Ψ―²–Α―ë–Ϋ–Ϋ―É―é¬Μ –Κ–Ψ–Φ–Ϋ–Α―²―É, –≥–¥–Β –Κ―Ä–Α―¹–Ψ–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ ―¹ –≥–Η―Ä–Μ―è–Ϋ–¥–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ―Ü–≤–Β―²–Ϋ―΄―Ö –Μ–Α–Φ–Ω–Ψ―΅–Β–Κ –Ϋ–Α―Ä―è–¥–Ϋ–Α―è ―ë–Μ–Κ–Α, –Η –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―¹–Η–Μ–Η ―²―É–¥–Α –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Β–≤. –‰―Ö –≤–Β―¹–Β–Μ―¨–Β ―É ―ë–Μ–Κ–Η –¥–Μ–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ –¥–Ψ 22 ―΅–Α―¹–Ψ–≤. –€―΄ ―¹ ―É–Φ–Η–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ–Η –Ϋ–Α –Η―Ö ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Ϋ―΄–Β –Μ–Η―Ü–Α.
–Θ–Μ–Ψ–Ε–Η–≤ ―¹–Ω–Α―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Ω–Η―²–Ψ–Φ―Ü–Β–≤, –Φ―΄, –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄, ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ―΄ –Η ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Η –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η―è, –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ζ–Α –Ϋ–Α–Κ―Ä―΄―²―΄–Φ–Η ―¹―²–Ψ–Μ–Α–Φ–Η. –ü–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Μ―è–Μ–Η –¥―Ä―É–≥ –¥―Ä―É–≥–Α ―¹ –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Α―é―â–Η–Φ –ù–Ψ–≤―΄–Φ –≥–Ψ–¥–Ψ–Φ, –Ϋ–Β ―¹–Κ―É–Ω―è―¹―¨ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η―è –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―¨―è, ―¹―΅–Α―¹―²―¨―è –Η ―É―¹–Ω–Β―Ö–Ψ–≤ –≤ –¥–Β–Μ–Β –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Β–≤ - ¬Ϊ–±―É–¥―É―â–Η―Ö –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Ψ–≤¬Μ. –Θ –Ϋ–Α―¹ –±―΄–Μ–Ψ –≤–Ψ–Η―¹―²–Η–Ϋ―É ―¹–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ–Ψ–Β –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ–¥–Ϋ–Β–Β –Ζ–Α―¹―²–Ψ–Μ―¨–Β. –£–Β―¹―ë–Μ–Ψ–Β –Η –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η–Ϋ―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ϋ–Α―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η–Β ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –≤–Ψ –≤―¹―ë–Φ –Η ―É –≤―¹–Β―Ö. –ü–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¹―è, –Ω–Ψ―΅―²–Η –¥–Ψ ―²―Ä―ë―Ö ―΅–Α―¹–Ψ–≤ –Ϋ–Ψ―΅–Η –Ω–Β–Μ–Η, ―²–Α–Ϋ―Ü–Β–≤–Α–Μ–Η –Ω–Ψ–¥ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–Μ―É –Η –Ω–Ψ–¥ –Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü ―è –Ω–Ψ–Ε–Β–Μ–Α–Μ –≤―¹–Β–Φ ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Ψ―΅–Η –Η –Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ―΄―Ö ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Η–¥–Β–Ϋ–Η–Ι, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―¹–≤–Ψ–Β–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤―¹―²–Α―²―¨ –Η –Ζ–Α–Ϋ―è―²―¨―¹―è –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ–Η ―Ä–Α–Ζ–≤–Μ–Β―΅–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤.  –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤–Β―Ü 1966 –≥. –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Α –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –î–Β–Ϋ–Η―¹–Β–Ϋ–Κ–Ψ: –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―Ü―΄ –Η –Φ–Ψ―¹–Κ–≤–Η―΅–Η ―É–±―΄–Μ–Η –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι, –Α –Φ―΄, –Η–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Η–Β, –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Ψ–Ζ–Β―Ä–Ψ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Β –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α―²―¨ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Ι –≥–Ψ–¥ –≤ –Μ–Α–≥–Β―Ä–Β. –£ –Ϋ–Ψ―΅―¨ –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Β ―è–Ϋ–≤–Α―Ä―è 1960 –≥–Ψ–¥–Α –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ü―Ä–Ψ–Κ–Ψ―³―¨–Β–≤–Η―΅ –ë–Ψ–Ι–Κ–Ψ, –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ―è –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –≤–Ζ–≤–Ψ–¥–Α –Ω–Β―Ä–Β–Ψ–¥–Β–Μ―¹―è –î–Β–¥–Ψ–Φ –€–Ψ―Ä–Ψ–Ζ–Ψ–Φ, –Ϋ–Α ―¹–Α–Ϋ―è―Ö, –Ζ–Α–Ω―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Μ–Α–≥–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ―à–Α–¥–Κ–Ψ–Ι, –Ω–Ψ–¥―ä–Β―Ö–Α–Μ –Κ –Ϋ–Α―à–Β–Ι –≥–Ψ–Μ―É–±–Ψ–Ι –¥–Α―΅–Β, –≥–¥–Β –Φ―΄ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Η―¹―¨. –ù–Α―΅–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è, –≤―Ä―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ–¥–Α―Ä–Κ–Ψ–≤, –Ω―É―¹–Κ ―Ä–Α–Κ–Β―². –£ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ–¥–Ϋ–Η–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü―΄ –Κ–Α―²–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α ―¹–Α–Ϋ–Κ–Α―Ö, –Ζ–Α–Ω―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ―à–Α–¥―¨–Φ–Η, –Ϋ–Α –Μ―΄–Ε–Α―Ö –Η –Ϋ–Α ―¹–Α–Μ–Α–Ζ–Κ–Α―Ö ―¹ –Μ–Β–¥―è–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Ψ―Ä–Κ–Η, ―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ–Η –Η–Ζ ―¹–Ϋ–Β–≥–Α –Κ―Ä–Β–Ω–Ψ―¹―²–Η. –Γ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Φ, ―Ä–Β–Ζ–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Κ–Α–Κ –Φ–Ψ–≥–Μ–Η, –±–Μ–Α–≥–Ψ –¥–Β–Ϋ―¨ ―²–Ψ–≥–¥–Α –≤―΄–¥–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α ―Ä–Β–¥–Κ–Ψ―¹―²―¨ ―¹–Ψ–Μ–Ϋ–Β―΅–Ϋ―΄–Ι, ―²―ë–Ω–Μ―΄–Ι. –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤–Β―Ü 1966 –≥. –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Α –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –î–Β–Ϋ–Η―¹–Β–Ϋ–Κ–Ψ: –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―Ü―΄ –Η –Φ–Ψ―¹–Κ–≤–Η―΅–Η ―É–±―΄–Μ–Η –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι, –Α –Φ―΄, –Η–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Η–Β, –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Ψ–Ζ–Β―Ä–Ψ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Β –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α―²―¨ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Ι –≥–Ψ–¥ –≤ –Μ–Α–≥–Β―Ä–Β. –£ –Ϋ–Ψ―΅―¨ –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Β ―è–Ϋ–≤–Α―Ä―è 1960 –≥–Ψ–¥–Α –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ü―Ä–Ψ–Κ–Ψ―³―¨–Β–≤–Η―΅ –ë–Ψ–Ι–Κ–Ψ, –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ―è –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –≤–Ζ–≤–Ψ–¥–Α –Ω–Β―Ä–Β–Ψ–¥–Β–Μ―¹―è –î–Β–¥–Ψ–Φ –€–Ψ―Ä–Ψ–Ζ–Ψ–Φ, –Ϋ–Α ―¹–Α–Ϋ―è―Ö, –Ζ–Α–Ω―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Μ–Α–≥–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ―à–Α–¥–Κ–Ψ–Ι, –Ω–Ψ–¥―ä–Β―Ö–Α–Μ –Κ –Ϋ–Α―à–Β–Ι –≥–Ψ–Μ―É–±–Ψ–Ι –¥–Α―΅–Β, –≥–¥–Β –Φ―΄ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Η―¹―¨. –ù–Α―΅–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è, –≤―Ä―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ–¥–Α―Ä–Κ–Ψ–≤, –Ω―É―¹–Κ ―Ä–Α–Κ–Β―². –£ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ–¥–Ϋ–Η–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü―΄ –Κ–Α―²–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α ―¹–Α–Ϋ–Κ–Α―Ö, –Ζ–Α–Ω―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ―à–Α–¥―¨–Φ–Η, –Ϋ–Α –Μ―΄–Ε–Α―Ö –Η –Ϋ–Α ―¹–Α–Μ–Α–Ζ–Κ–Α―Ö ―¹ –Μ–Β–¥―è–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Ψ―Ä–Κ–Η, ―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ–Η –Η–Ζ ―¹–Ϋ–Β–≥–Α –Κ―Ä–Β–Ω–Ψ―¹―²–Η. –Γ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Φ, ―Ä–Β–Ζ–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Κ–Α–Κ –Φ–Ψ–≥–Μ–Η, –±–Μ–Α–≥–Ψ –¥–Β–Ϋ―¨ ―²–Ψ–≥–¥–Α –≤―΄–¥–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α ―Ä–Β–¥–Κ–Ψ―¹―²―¨ ―¹–Ψ–Μ–Ϋ–Β―΅–Ϋ―΄–Ι, ―²―ë–Ω–Μ―΄–Ι.
–î–Ϋ―è ―²―Ä–Η ―è –Ϋ–Α―¹–Μ–Α–Ε–¥–Α–Μ―¹―è –Ψ―²–¥―΄―Ö–Ψ–Φ ―¹ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Α–Φ–Η. –ù–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α―²―¨―¹―è –≤ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β, –≥–¥–Β –Φ–Β–Ϋ―è –Ψ–Ε–Η–¥–Α–Μ–Η –¥–Β–Μ–Α ―¹–Μ―É–Ε–±―΄.
–Γ –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ 1962 –≥–Ψ–¥–Α –Ω–Ψ―à–Β–Μ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –≥–Ψ–¥ –Φ–Ψ–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Β–±―΄–≤–Α–Ϋ–Η―è –≤ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Η, –Κ–Α–Κ –Κ–Ψ–≥–¥–Α-―²–Ψ ―è –≤ ―à―É―²–Κ―É –Ψ–Κ―Ä–Β―¹―²–Η–Μ ―¹–Β–±―è, ¬Ϊ–≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Η–Ψ–Ϋ–Β―Ä–≤–Ψ–Ε–Α―²–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α¬Μ.  –ö–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –ù.–€.–ë–Α―΅–Κ–Ψ–≤ –≤―Ä―É―΅–Α–Β―² –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Η–Β –±–Η–Μ–Β―²―΄ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Α–Φ –Ϋ–Α –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Η. - –ê.–ê.–†–Α–Ζ–¥–Ψ–Μ–≥–Η–Ϋ. –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Β –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β. βÄî –Γ–ü–±.: –‰–Ζ–¥–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ-―Ö―É–¥–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä ¬Ϊ–®―²–Α–Ϋ–¥–Α―Ä―²¬Μ, –‰–Ζ–¥–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η–Ι –¥–Ψ–Φ ¬Ϊ–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥¬Μ, 2009. –ö–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –ù.–€.–ë–Α―΅–Κ–Ψ–≤ –≤―Ä―É―΅–Α–Β―² –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Η–Β –±–Η–Μ–Β―²―΄ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Α–Φ –Ϋ–Α –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Η. - –ê.–ê.–†–Α–Ζ–¥–Ψ–Μ–≥–Η–Ϋ. –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Β –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β. βÄî –Γ–ü–±.: –‰–Ζ–¥–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ-―Ö―É–¥–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä ¬Ϊ–®―²–Α–Ϋ–¥–Α―Ä―²¬Μ, –‰–Ζ–¥–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η–Ι –¥–Ψ–Φ ¬Ϊ–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥¬Μ, 2009.
–Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ε–Β ―è ―¹―²–Α–Μ ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨ –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ―ë –Ω―Ä–Β–¥–Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Η–Ϋ―΄–Φ–Η –≥–Μ–Α–Ζ–Α–Φ–Η, ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ-–Η–Ϋ–Ψ–Φ―É –≤–Ψ―¹–Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Η –≤–Β―¹―¨–Φ–Α –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―è –≤ –¥–Β–Μ–Β –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η―è –Η –Ψ–±―É―΅–Β–Ϋ–Η―è –¥–Ψ–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α–Φ ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―è–Φ–Η ―Ä–Β–±―è―²–Η―à–Β–Κ. –ù–Β –Η–Φ–Β―è ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –¥–Β―²–Β–Ι, ―è –Ϋ–Β–Ζ–Α–Φ–Β―²–Ϋ–Ψ –¥–Μ―è ―¹–Β–±―è ―É–≤–Μ―ë–Κ―¹―è ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ψ―²―Ü–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Ψ–Μ―¨―é –Η –Ω–Ψ-―Ä–Ψ–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Η–≤―è–Ζ–Α–Μ―¹―è –Κ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Α–Φ, –≤ –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Κ –Φ–Μ–Α–¥―à–Η–Φ –Ω–Η―²–Ψ–Φ―Ü–Α–Φ. –‰ –Ψ–Ϋ–Η –Ψ―²–≤–Β―΅–Α–Μ–Η –Φ–Ϋ–Β ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―¹―΄–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Β–Ι –Ω―Ä–Η–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Η –¥–Α–Ε–Β –Μ―é–±–Ψ–≤―¨―é. –· –¥–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Η–Μ ―²–Α–Κ–Η–Φ –Η―Ö –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Κ–Ψ –Φ–Ϋ–Β –Η –±–Ψ―è–Μ―¹―è, –Κ–Α–Κ –±―΄ ―΅–Β–Φ-–Μ–Η–±–Ψ –Ϋ–Β –≤―΄–Ζ–≤–Α―²―¨ ―É –Ϋ–Η―Ö ―Ä–Α–Ζ–Ψ―΅–Α―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β. –Γ–Α–Φ ―¹―²–Α―Ä–Α–Μ―¹―è –Η ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ –Ψ―² –≤―¹–Β―Ö ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ψ–Ϋ–Η –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η―¹―¨ –Κ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ, –Κ–Α–Κ –Κ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ ―¹―΄–Ϋ–Ψ–≤―¨―è–Φ. –ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β –≤―¹–Β–Φ –Ϋ―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Φ–Ψ–Η ―²–Α–Κ–Η–Β ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è, –Ψ–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Ψ –Ϋ–Β –≤―΄―Ä–Α–Ε–Α–Μ –Η–Ϋ―΄–Β –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥―΄ –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ ―¹–≤―è―²–Ψ–Β –¥–Β–Μ–Ψ.
–‰―²–Α–Κ, –Ω–Ψ―à―ë–Μ –Φ–Ψ–Ι –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –≥–Ψ–¥ –≤ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β. –Θ–Ε–Β –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―è –≤–Ψ―à–Β–Μ –≤ –Κ―É―Ä―¹ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι. –Δ–Α–Κ –Ε–Β ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ, –Β―¹–Μ–Η –Ϋ–Β –Μ―É―΅―à–Β, –Φ–Ψ–Η –Φ–Μ–Α–¥―à–Η–Β –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Η –Ϋ–Α –ü–Β―Ä–≤–Ψ–Φ–Α–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω–Α―Ä–Α–¥–Β –Ω–Ψ –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Η –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β. –Δ–Α–Κ―É―é –Ε–Β –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Φ–Ϋ–Β –≤―΄–Ϋ–Β―¹ –Ϋ–Β ―â–Β–¥―Ä―΄–Ι –Ϋ–Α –Ω–Ψ―Ö–≤–Α–Μ―΄ –≥–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ –£–€–Λ –Γ.–™.–™–Ψ―Ä―à–Κ–Ψ–≤, –≤―΄―Ä–Α–Ζ–Η–≤ ―¹–≤–Ψ―ë ―É–¥–Ψ–≤–Μ–Β―²–≤–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Η–Β ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ ―è –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Μ –Β–≥–Ψ ¬Ϊ–Ω―Ä–Ψ―¹―¨–±―É¬Μ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–Φ –û–Κ―²―è–±―Ä―¨―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω–Α―Ä–Α–¥–Β.
–ù–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β–¥―ë–Ϋ –Ω―Ä–Η –Φ–Ϋ–Β –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–Ι, 14-–Ι –≤―΄–Ω―É―¹–Κ –Η–Ζ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α. –û―¹–Ψ–±–Ψ –Ζ–Α–Ω–Α–Μ–Η –Φ–Ϋ–Β –≤ –¥―É―à―É –°―Ä–Α –£–Β–Μ–Η–Κ–Η–Ι, –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä –ë–Α―Ä–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι, –€–Η―à–Α –‰―¹–Α―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ–≤, –€–Η―à–Α –ö–Α―²―É–Ϋ–Η–Ϋ, –•–Β–Ϋ―è –ö–Α―Ä–¥–Α–Η–Μ―¨―¹–Κ–Η–Ι, –ë–Ψ―Ä–Η―¹ –Γ–Β―Ä–¥―é–Κ–Ψ–≤. –· –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Β–Ϋ, ―΅―²–Ψ –≤ ―¹―²–Β–Ϋ–Α―Ö –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤–Κ–Η ―¹―É–¥―¨–±–Α ―¹–≤–Β–Μ–Α –Φ–Β–Ϋ―è ―¹ –ë–Ψ―Ä–Η―¹–Ψ–Φ –®–Β―Ä–Β–Φ–Β―²―¨–Β–≤―΄–Φ, –Ϋ―΄–Ϋ–Β –Ζ–Α―¹–Μ―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä―΄ –†–Λ, –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ–Β–Φ-–Φ–Α―Ä–Η–Ϋ–Η―¹―²–Ψ–Φ; ―¹ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–Φ –ë–Ψ–≥–Α―²―΄―Ä―ë–≤―΄–Φ –Η –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–Φ –™–Μ―΄–±, ―¹―²–Α–≤―à–Η–Φ–Η –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α–Φ–Η; ―¹ –û–Μ–Β–≥–Ψ–Φ –ö―É–Ω―Ä–Η―è–Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ, –£–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β–Ι –¦–Β–±–Β–¥–Β–≤―΄–Φ –Η –‰–≥–Ψ―Ä–Β–Φ –½–Α–≥―Ä–Α–¥–Κ–Α; ―¹ –ê―Ä–Κ–Α–¥–Η–Β–Φ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Β–Φ –ï―³―Ä–Β–Φ–Ψ–≤―΄–Φ, –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ –Η–Ζ –Μ―É―΅―à–Η―Ö –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ–Β–Ι –Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ ―Ä–Ψ―², –Η ―¹–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Φ–Η-–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Φ–Η –¥―Ä―É–≥–Η–Φ–Η, –≤―¹–Β―Ö –Ϋ–Β –Ω–Β―Ä–Β―΅–Β―¹―²―¨, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ζ–Α–Ϋ―è–Μ–Η –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –≤ ―¹–Η―¹―²–Β–Φ–Β –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α.  –ë―΄–≤―à–Η–Β –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü―΄ –Ϋ–Α ―³–Ψ–Ϋ–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α. –ë―΄–≤―à–Η–Β –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü―΄ –Ϋ–Α ―³–Ψ–Ϋ–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α.
–£―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η―è ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ–¥–Α –Η –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Κ–Η –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Β–≤ –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ―É –Η–Μ–Η –Ϋ–Α –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Β –Ψ–Ζ–Β―Ä–Ψ –Φ–Ϋ–Β ―É–Μ―΄–±–Ϋ―É–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹―΅–Α―¹―²―¨–Β. –ù–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü-―²–Ψ –±―΄–Μ–Α –Ω―Ä–Β–¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Α ―²―Ä–Β―Ö–Κ–Ψ–Φ–Ϋ–Α―²–Ϋ–Α―è –Κ–≤–Α―Ä―²–Η―Ä–Α –Ϋ–Α –ü–Β―²―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β, –≤–±–Μ–Η–Ζ–Η –Ψ―² ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α. –ö–≤–Α―Ä―²–Η―Ä–Α –Η–Ζ―Ä―è–¥–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Ω―É―â–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è, ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Α –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Α. –ê ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―² ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Η - –¥–Β–Μ–Ψ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ–Β. –‰ –≤―¹―ë –Ε–Β, –Ϋ–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Η–Φ–Ψ–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Β ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―¹ –Ω–Ψ–Η―¹–Κ–Ψ–Φ –Φ–Α―¹―²–Β―Ä–Ψ–≤, ¬Ϊ―à–Α–±–Α―à–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤¬Μ, –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄―Ö –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ–Ψ–≤, –Φ–Β―¹―è―Ü–Α ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –¥–≤–Α ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―² –Κ–≤–Α―Ä―²–Η―Ä―΄ –±―΄–Μ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Β–Ϋ. –€―΄ ―¹ –ù–Η–Ϋ–Ψ–Ι –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Β–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ-―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Η ―É―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Ε–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ.
–û―²–Ω―É―¹–Κ –Φ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ―à–Β–Μ –Κ―É–≤―΄―Ä–Κ–Ψ–Φ. –ê ―¹ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Α –Η―é–Μ―è –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¹―è –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Α–±–Ψ―Ä ―Ä–Β–±―è―²–Η―à–Β–Κ –≤ –Ω―è―²―΄–Ι –Κ–Μ–Α―¹―¹ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α. –ü―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–≥–Ψ–¥–Ϋ–Η–Ι –Ψ–Ω―΄―² –Ω–Ψ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η –Ψ―²–±–Ψ―Ä–Α –Ω―Ä–Η–≥–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ–Α–Ϋ–¥–Η–¥–Α―²–Ψ–≤ –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ–Η–Μ –Φ–Ϋ–Β –±–Ψ–Μ–Β–Β –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤–Β―¹―²–Η ―Ä–Α–±–Ψ―²―É. –Δ–Α–Κ –Ε–Β, –Κ–Α–Κ –Η –≤ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–Φ –≥–Ψ–¥―É, –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ –Η―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Β–≤ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η –≤ –Μ–Α–≥–Β―Ä―¨ –Ϋ–Α –Ψ―²–¥―΄―Ö. –‰ ―¹ 1 ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä―è –≤ ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Β –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Ψ–≤―΄–Ι ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄–Ι –≥–Ψ–¥.
–‰ –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ϋ–Β –Η–Φ–Β―é –Ω―Ä–Α–≤–Α ―É―²–Α–Η―²―¨ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Ϋ–Β―²–Η–Ω–Η―΅–Ϋ―΄–Ι ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι –¥–Μ―è –£–€–Θ–½–Ψ–≤, –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―à–Β–¥―à–Η–Ι –Ψ―¹–Β–Ϋ―¨―é. –†–Β―΅―¨ –Φ–Ψ―è –Ω–Ψ–Ι–¥–Β―² –Ψ–± –Α–±–Η―²―É―Ä–Η–Β–Ϋ―²–Β, ―²–Α–Κ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ–Ψ–Φ ¬Ϊ–Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Ϋ–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ–Β¬Μ, –Ζ–Α―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –≤ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Ω–Ψ –Ζ–≤–Ψ–Ϋ–Κ―É ―¹–≤―΄―à–Β.
–ê –¥–Β–Μ–Ψ –Ψ–±―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ ―²–Α–Κ. –€–Β―¹―è―Ü ―¹–Ω―É―¹―²―è –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η–Ι –Κ–Ψ –Φ–Ϋ–Β –Ω–Ψ ―²–Β–Μ–Β―³–Ψ–Ϋ―É, –Ψ―² –Η–Φ–Β–Ϋ–Η –≥–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ–Α –£–€–Λ –Γ.–™.–™–Ψ―Ä―à–Κ–Ψ–≤–Α, –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Η–Μ ―¹–Η–≥–Ϋ–Α–Μ –Ψ –Ζ–Α―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –≤ 7-–Ι –Κ–Μ–Α―¹―¹ 16-–Μ–Β―²–Ϋ–Β–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–Β―Ä–Ψ―¹―²–Κ–Α –™–Β–Ψ―Ä–≥–Η―è –•–Η–Φ–Β―Ä–Η–Ϋ–Α –Η–Ζ ―²–Α–Κ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ–Ψ–Ι –Μ–Β―¹–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Ω–Β―Ü―à–Κ–Ψ–Μ―΄, ―¹―΄–Ϋ–Α –Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä–Α ―ç–Ϋ–Β―Ä–≥–Β―²–Η–Κ–Η. –ö–Α–Κ –Ϋ–Η –Ψ–±–Β―Ä–Β–≥–Α–Μ ―è ―¹–Β–±―è –Ψ―² ―É–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≤ ―¹–Ψ–≤–Β―¹―²–Η, –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Ψ–≤ –Η–Ζ–¥–Α–Μ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ –Κ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―é. –‰ –≤―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ω–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Μ –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ.
–ù–Β–¥–Ψ―Ä–Ψ―¹–Μ―¨ –Η–Ζ ¬Ϊ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η―Ö –¥–≤–Ψ―Ä―è–Ϋ¬Μ ―¹ –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö –¥–Ϋ–Β–Ι –Ω―Ä–Β–±―΄–≤–Α–Ϋ–Η―è –≤ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β ―É–¥–Η–≤–Η–Μ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―Ä–Α―¹–Ω―É―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é, –Ϋ–Β―Ä―è―à–Μ–Η–≤–Ψ―¹―²―¨―é –Η –±–Β―¹–Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Β–Ϋ―¨―é. –û–Ϋ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤―΄–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ –Ϋ–Β–±―Ä–Β–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Κ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ–Μ–Α―¹―¹–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ, –Ϋ–Ψ –Η –Ϋ–Α –≤―¹–Β―Ö ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ ―¹–≤―΄―¹–Ψ–Κ–Α. –ù–Β –Β–¥–Η–Ϋ–Ψ–Ε–¥―΄ ―¹–Α–Φ–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―É―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Ζ–Α–Μ –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥, ―²–Α–Κ ―΅―²–Ψ ―΅–Α―¹–Α–Φ–Η –Β–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ―΄―¹–Κ–Η–≤–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ε–Η–≤―΄–Φ –Η –Ϋ–Β–≤―Ä–Β–¥–Η–Φ―΄–Φ –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –≤ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β. –€–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η―è –Η –Ζ–Α–±–Ψ―²―΄ –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ―è–Μ–Η –Κ –Ϋ–Β–Φ―É –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ–Η –Η ―É―΅–Η―²–Β–Μ―è, –¥–Α –Η –Φ―΄ ―¹ –ê―Ä―²–Β–Φ–Η–Β–Φ –ê―Ä―²–Β–Φ–Ψ–≤–Η―΅–Β–Φ –Ϋ–Β–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ –±–Β―¹–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Η, ―É–≤–Β―â–Β–≤–Α–Μ–Η - –Κ–Α–Κ –Ψ–± ―¹―²–Β–Ϋ–Κ―É –≥–Ψ―Ä–Ψ―Ö. –Γ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Φ, –¥–Ψ –ù–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ–¥–Α –Ϋ―è–Ϋ―΅–Η–Μ–Η―¹―¨ ―¹ –Ϋ–Η–Φ, –Κ–Α–Κ ―¹ –Φ–Α–Μ―΄–Φ –¥–Η―²―è.  –û―²–Β―Ü –™–Β–Ψ―Ä–≥–Η―è - . –û―²–Β―Ü –™–Β–Ψ―Ä–≥–Η―è - .
–‰ –≤–Ψ―² –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Β–≥–Ψ –Ψ―²―ä–Β–Ζ–¥–Ψ–Φ –Ϋ–Α –Ζ–Η–Φ–Ϋ–Η–Β –Κ–Α–Ϋ–Η–Κ―É–Μ―΄ ―É –Ϋ–Α―¹ ―¹ –Ϋ–Η–Φ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ―¹―è ―¹–Β―Ä―¨―ë–Ζ–Ϋ―΄–Ι –Η –Ψ―²–Κ―Ä–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä. –ö–Ψ–Φ–Ω―Ä–Ψ–Φ–Η―¹―¹ –±―΄–Μ –Ϋ–Α–Ι–¥–Β–Ϋ: –Κ–Α–Κ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―è–≤–Η―²―¹―è –≤ ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η–Ι –¥–Ψ–Φ, –Ζ–Α―è–≤–Η―² ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―è–Φ –Ψ ―¹–≤–Ψ―ë–Φ –Ϋ–Β–Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η–Η ―É―΅–Η―²―¨―¹―è –≤ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ –≤–≤–Η–¥―É ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ –Ϋ–Β ―¹–≤―è–Ζ―΄–≤–Α–Β―² ―¹–≤–Ψ―ë –±―É–¥―É―â–Β–Β ―¹ ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ. –î―É–¥–Κ–Η! –Γ–Ω―É―¹―²―è –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Ϋ–Β–Ι –Φ–Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Ϋ–Η–Μ–Α –Β–≥–Ψ –Φ–Α–Φ–Α –Η –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Ι―΅–Η–≤–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Α –Ϋ–Β –Ψ―²―΅–Η―¹–Μ―è―²―¨ ―¹―΄–Ϋ–Α –Η–Ζ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α. –‰–Ζ –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Α ―è ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Α –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ –±–Β―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Η―²―¹―è –Ζ–Α –Ϋ–Β–≥–Ψ - –Κ–Α–Κ –±―΄ ¬Ϊ–Ϋ–Β ―¹–≤–Η―Ö–Ϋ―É–Μ―¹―è ―¹ ―É–Φ–Α¬Μ –Η –≤―¹–Β ―¹–≤–Ψ–Η ―É–Ω–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Η ―΅–Α―è–Ϋ–Η―è –≤–Ψ–Ζ–Μ–Α–≥–Α–Β―² –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α. –ü–Ψ –Β―ë ―¹–Μ–Ψ–≤–Α–Φ, ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ε–Β –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Η ―²–Α–Κ―É―é –Ε–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―¨–±―É –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Β―² –Β―ë –Φ―É–Ε - –Ψ―²–Β―Ü –™–Β–Ψ―Ä–≥–Η―è.
–ù–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–Β–Μ–Α―²―¨. –Γ–Κ―Ä–Β–Ω―è ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Β ―è –≤―΄–Ϋ―É–Ε–¥–Β–Ϋ –±―΄–Μ ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η―²―¨―¹―è –¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨ –Η―Ö ―΅–Α–¥―É―à–Κ–Ψ –≤ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β. –Δ–Β–Φ –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β –≤ ―¹–≤–Ψ―é –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥―¨ –Ω―Ä–Β–¥―É–Ω―Ä–Β–¥–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –Β―¹–Μ–Η –Η―Ö ―¹―΄–Ϋ –Ϋ–Β –±―É–¥–Β―² –≤–Β―¹―²–Η ―¹–Β–±―è ―¹ –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Α―é―â–Β–Ι ―΅–Β―¹―²―¨―é, –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ ―É―΅–Η―²―¨―¹―è, ―²–Ψ –≤―΄–Ϋ―É–Ε–¥–Β–Ϋ –±―É–¥―É –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η―²―¨ –Β–≥–Ψ –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι.
–ù–Α ―²–Ψ–Φ –Η –Ω–Ψ―Ä–Β―à–Η–Μ–Η –¥–Β–Μ–Ψ.
–û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Η–Β –Ϋ–Β–Ω―Ä–Β–¥–≤–Η–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è ―Ä–Α–Ζ–≤–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ―É–Φ―É –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―²–Η–Ε–Η–Φ–Ψ. –ü―Ä–Η–Β―Ö–Α–≤ –Η–Ζ –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄ –≤ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Ζ–Α –¥–≤–Α –¥–Ϋ―è –¥–Ψ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η―è –Κ–Α–Ϋ–Η–Κ―É–Μ, –™–Β–Ψ―Ä–≥–Η–Ι ―¹ –Κ–Ψ―Ä–Ψ–±–Κ–Ψ–Ι –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Η―Ö –Κ–Ψ–Ϋ―³–Β―² –Η... –±―É―²―΄–Μ–Κ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Ϋ―¨―è–Κ–Α –Ζ–Α―à–Β–Μ –≤ –Κ–Α–±–Η–Ϋ–Β―² –Α–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―è–Ζ―΄–Κ–Α –Κ –Μ–Α–±–Ψ―Ä–Α–Ϋ―²–Κ–Β –·–Κ–Ψ–≤–Μ–Β–≤–Ψ–Ι –Η ―¹ ―É–Ω–Ψ―Ä―¹―²–≤–Ψ–Φ ―¹―²–Α–Μ –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Α–≥–Α―²―¨ –Β–Ι, –Ϋ–Β –±–Β–Ζ –Ζ–Α–¥–Ϋ–Β–Ι –Φ―΄―¹–Μ–Η, ―¹–Ψ–≤–Φ–Β―¹―²–Ϋ―É―é –≤―΄–Ω–Η–≤–Κ―É. –•–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α –Ψ―² ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Ι―΅–Η–≤–Ψ―¹―²–Η –Ψ–Ω–Β―à–Η–Μ–Α, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β ―Ä–Α―¹―²–Β―Ä―è–Μ–Α―¹―¨. –Γ–Κ–Α–Ζ–Α–≤ –Β–Φ―É, ―΅―²–Ψ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―²–Η―²―¹―è, –Ω―Ä―è–Φ―΄–Φ ―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ –Κ–Η–Ϋ―É–Μ–Α―¹―¨ –Κ –¥–Β–Ε―É―Ä–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―É, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―²―É―² –Ε–Β –Ψ–±–Ψ –≤―¹―ë–Φ –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –Φ–Ϋ–Β. –‰ –≤–Ψ―² –Φ―΄ –≤―²―Ä–Ψ―ë–Φ –≤–Ψ―à–Μ–Η –≤ –Κ–Α–±–Η–Ϋ–Β―² –Α–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―è–Ζ―΄–Κ–Α. –ù–Ψ –™–Β–Ψ―Ä–≥–Η―è ―²–Α–Φ –Ϋ–Β –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨. –û―΅–Β–≤–Η–¥–Ϋ–Ψ, –Ψ–Ϋ –¥–Ψ–≥–Α–¥–Α–Μ―¹―è, ―΅―²–Ψ –Μ–Α–±–Ψ―Ä–Α–Ϋ―²–Κ–Α –≤―΄–¥–Α―¹―² –Β–≥–Ψ, –≤―΄–Μ–Β–Ζ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ψ–Κ–Ϋ–Ψ –Η ―É–±–Β–Ε–Α–Μ –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥.
–ü–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–Β―Ä―¨―ë–Ζ–Ϋ–Ψ–Β: –≤–Β–¥―¨ –Ψ–Ϋ –Φ–Ψ–≥ –Ϋ–Α―²–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨ –≤―¹–Β ―΅―²–Ψ ―É–≥–Ψ–¥–Ϋ–Ψ. –· –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ϋ–Β–Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–Ζ―΄―¹–Κ–Α―²―¨ –Β–≥–Ψ –Η –Ω―Ä–Η–≤–Β―¹―²–Η –Κ–Ψ –Φ–Ϋ–Β, –Α ―¹–Α–Φ –≤―΄―à–Β–Μ –Ϋ–Α –Ϋ–Α–±–Β―Ä–Β–Ε–Ϋ―É―é, –Ω–Β―Ä–Β–Ε–Η–≤–Α―è –Ζ–Α –Β–≥–Ψ –±–Β―¹–Ω―É―²–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Ψ–Κ. –‰ –≤–¥―Ä―É–≥ –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–Μ –™–Β–Ψ―Ä–≥–Η―è –Ϋ–Α –Ψ–Ε–Η–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Β―Ä–Β–Κ―Ä–Β―¹―²–Κ–Β ―É–Μ–Η―Ü―΄ –ö―É–Ι–±―΄―à–Β–≤–Α, –Ω–Ψ–¥―¹–Μ–Β–Ω–Ψ–≤–Α―²–Ψ –Ψ–Ζ–Η―Ä–Α―é―â–Β–≥–Ψ―¹―è (–Ψ–Ϋ –±―΄–Μ –±–Μ–Η–Ζ–Ψ―Ä―É–Κ –Η –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ –Ψ―΅–Κ–Η). –ö–Ψ–≥–¥–Α –Φ―΄ ―¹ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ–Β–Φ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Κ –Ϋ–Β–Φ―É, –Ψ–Ϋ, –Ζ–Α–≤–Η–¥–Β–≤ –Ϋ–Α―¹, –±―Ä–Ψ―¹–Η–Μ―¹―è ―É–±–Β–≥–Α―²―¨ –Η ―΅―É–¥–Ψ–Φ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ –Ω–Ψ–¥ –Κ–Ψ–Μ―ë―¹–Α –≥―Ä―É–Ζ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Α–≤―²–Ψ–Φ–Α―à–Η–Ϋ―΄. –ü―Ä–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Η–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α–Μ–Η –Ζ–Α ―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Ι, ―¹–Ψ –Ζ–Μ–Ψ–±–Ψ–Ι ―¹―²–Α–Μ–Η –Ψ―¹―É–Ε–¥–Α―²―¨ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―è, –Ϋ–Ψ –Η –Ϋ–Α―¹: –≤–Ψ―², –Φ–Ψ–Μ, –¥–Ψ–≤–Β–Μ–Η –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Α –¥–Ψ ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Κ–Η–Ϋ―É–Μ―¹―è –Ψ―² –Ϋ–Η―Ö –Ω–Ψ–¥ –Φ–Α―à–Η–Ϋ―É.
–ß―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β ―É―¹―²―Ä–Α–Η–≤–Α―²―¨ –Ψ–±―¹―²―Ä―É–Κ―Ü–Η―é, ―è –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –™–Β–Ψ―Ä–≥–Η―é ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –Ε–Β –Η–¥―²–Η –≤ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β. –‰ ―¹–Ω―É―¹―²―è ―΅–Α―¹, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ ―É―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Η–Μ―¹―è, –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―¹–Η–Μ –Κ ―¹–Β–±–Β –Η –Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι. –£–Φ–Β―¹―²–Ψ ―Ä–Α―¹–Κ–Α―è–Ϋ–Η―è –≤ ―¹–≤–Ψ―ë–Φ –Ω―Ä–Ψ―¹―²―É–Ω–Κ–Β –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–≤―ë–Μ ―¹–Β–±―è ―Ä–Α–Ζ–≤―è–Ζ–Ϋ–Ψ, –¥–Β―Ä–Ζ–Κ–Ψ –Ψ―²–≤–Β―΅–Α–Μ –Ϋ–Α –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹―΄, ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α―è, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Η–Μ. –ê –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –±–Β―¹–Β–¥―΄ –Ζ–Μ–Ψ–±–Ϋ–Ψ –Ζ–Α―è–≤–Η–Μ: ¬Ϊ–· –Ω―Ä–Ψ–Κ–Μ–Η–Ϋ–Α―é ―¹–Β–±―è –Ζ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Η–Μ ―É―΅–Η―²―¨―¹―è –≤ ―ç―²―É –±–Ψ–≥–Α–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―é!¬Μ –‰ ―²–Ψ–≥–¥–Α ―è, –Ϋ–Β ―¹–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α―è ―¹–Β–±―è, –Ψ–±―ä―è–≤–Η–Μ –Ψ –Ϋ–Β–Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Β–≥–Ψ –Ψ―²―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –Η–Ζ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Η –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Κ–Β –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤―É –Κ ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―è–Φ. –‰ ―΅―²–Ψ –Ε–Β ―É―¹–Μ―΄―à–Α–Μ –≤ –Ψ―²–≤–Β―²? ¬Ϊ–· ―¹–Α–Φ ―É–Β–¥―É, –±–Β–Ζ –≤–Α―à–Β–Ι –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Η!¬Μ 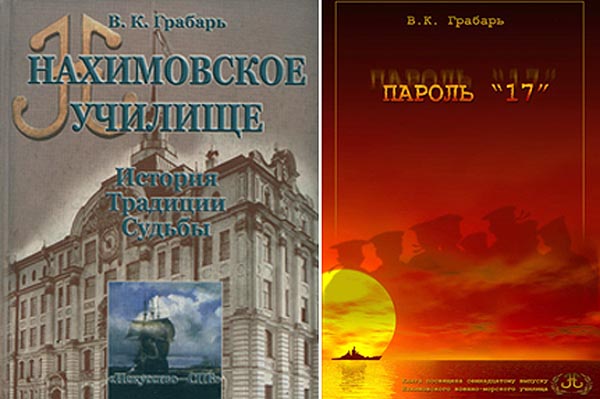 –û–¥–Ϋ–Ψ–Κ–Α―à–Ϋ–Η–Κ –•–Η–Φ–Β―Ä–Η–Ϋ–Α –Φ–Μ–Α–¥―à–Β–≥–Ψ, –Μ–Β―²–Ψ–Ω–Η―¹–Β―Ü ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Α –Η –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö ―É―΅–Η–Μ–Η―â –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –™―Ä–Α–±–Α―Ä―¨: –Γ–Α–Φ –™–Β–Ψ―Ä–≥–Η–Ι βÄ™ –Ω–Α―Ä–Β–Ϋ―¨ –Ϋ–Β–Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ–Ι, –Η –±―΄–Μ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―² –Ϋ–Α–Φ–Η –Κ–Α–Κ ―¹–≤–Ψ–Ι. –ù–Ψ –≤―¹–Β-―²–Α–Κ–Η –Ψ–Ϋ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ –Ϋ–Β―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ ―¹–Ψ–±–Μ―é–¥–Α―²―¨ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Ψ–Κ, –Η –≤ ―É―΅–Β–±–Β –Ψ―²–Φ–Β―²–Η–Μ―¹―è ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ –Ψ―²―¹―²–Ψ―è–Μ ―Ü–Β–Μ―΄–Ι ―É―Ä–Ψ–Κ ―΅–Β―Ä―΅–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ―è―Ö –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Δ–Η–Φ–Ψ―³–Β–Η―΅–Β–Φ, –≤―΄–Κ–Μ―è–Ϋ―΅–Η–≤–Α―è ―¹–Β–±–Β ―²―Ä–Ψ–Β―΅–Κ―É. –û–Ϋ –Ω―Ä–Ψ–±―΄–Μ –≤ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β –≥–Ψ–¥–Α –Η –±―΄–Μ –Ψ―²―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ. –†–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Η, –Ψ–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ, –Ω―Ä–Η―¹–Μ–Α–Μ–Η –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Ω–Η―¹―¨–Φ–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―é ―¹ –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é βÄ™ ―¹―΄–Ϋ, –Ϋ–Α –Η―Ö –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥, –≤ –Κ–Ψ―Ä–Ϋ–Β –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Η–Μ―¹―è –≤ –Μ―É―΅―à―É―é ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―É. –û–¥–Ϋ–Ψ–Κ–Α―à–Ϋ–Η–Κ –•–Η–Φ–Β―Ä–Η–Ϋ–Α –Φ–Μ–Α–¥―à–Β–≥–Ψ, –Μ–Β―²–Ψ–Ω–Η―¹–Β―Ü ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Α –Η –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö ―É―΅–Η–Μ–Η―â –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –™―Ä–Α–±–Α―Ä―¨: –Γ–Α–Φ –™–Β–Ψ―Ä–≥–Η–Ι βÄ™ –Ω–Α―Ä–Β–Ϋ―¨ –Ϋ–Β–Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ–Ι, –Η –±―΄–Μ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―² –Ϋ–Α–Φ–Η –Κ–Α–Κ ―¹–≤–Ψ–Ι. –ù–Ψ –≤―¹–Β-―²–Α–Κ–Η –Ψ–Ϋ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ –Ϋ–Β―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ ―¹–Ψ–±–Μ―é–¥–Α―²―¨ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Ψ–Κ, –Η –≤ ―É―΅–Β–±–Β –Ψ―²–Φ–Β―²–Η–Μ―¹―è ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ –Ψ―²―¹―²–Ψ―è–Μ ―Ü–Β–Μ―΄–Ι ―É―Ä–Ψ–Κ ―΅–Β―Ä―΅–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ―è―Ö –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Δ–Η–Φ–Ψ―³–Β–Η―΅–Β–Φ, –≤―΄–Κ–Μ―è–Ϋ―΅–Η–≤–Α―è ―¹–Β–±–Β ―²―Ä–Ψ–Β―΅–Κ―É. –û–Ϋ –Ω―Ä–Ψ–±―΄–Μ –≤ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β –≥–Ψ–¥–Α –Η –±―΄–Μ –Ψ―²―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ. –†–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Η, –Ψ–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ, –Ω―Ä–Η―¹–Μ–Α–Μ–Η –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Ω–Η―¹―¨–Φ–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―é ―¹ –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é βÄ™ ―¹―΄–Ϋ, –Ϋ–Α –Η―Ö –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥, –≤ –Κ–Ψ―Ä–Ϋ–Β –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Η–Μ―¹―è –≤ –Μ―É―΅―à―É―é ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―É.
–€–Ϋ–Β –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –¥–Β–Μ–Α―²―¨, –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Ϋ–Η―²―¨ –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤―É –Η ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Η―²―¨ –Β–≥–Ψ –Φ–Α–Φ–Β –Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―à–Β–¥―à–Β–Φ ―¹ –Β―ë ―¹―΄–Ϋ–Ψ–Φ –Η –Ψ–± –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Κ–Β –Β–≥–Ψ –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι. –ù–Α ―ç―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Α ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–±―É―Ä―΅–Α–Μ–Α –Ϋ–Β–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹–Ψ–Φ –Η –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Α ―²–Β–Μ–Β―³–Ψ–Ϋ–Ϋ―É―é ―²―Ä―É–±–Κ―É. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―Ä–Α–Ζ–¥―É–Φ–Η–Ι ―è –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ―é ―¹–Ψ–±―Ä–Α―²―¨ –™–Β–Ψ―Ä–≥–Η―è –Η –Ψ―²–≤–Β–Ζ―²–Η –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤―É, –≤―Ä―É―΅–Η–≤ –Β–≥–Ψ –≤ ¬Ϊ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―Ä―É–Κ–Η¬Μ –Φ–Α–Φ―΄.
–£–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ―¨ –≤ ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Μ –Φ–Ψ―ë ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Η, –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―²–Η–≤―à–Η―¹―¨ –Η–Ζ –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄, –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α–¥–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤–Ψ―¹–Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ–Α –Β–≥–Ψ –Φ–Η―¹―¹–Η―é –Φ–Α―²―¨ –™–Β–Ψ―Ä–≥–Η―è, ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–≤, ―΅―²–Ψ ¬Ϊ―¹ –Μ–Η―Ö–≤–Ψ–Ι –Ψ―²–Ω–Μ–Α―²–Η―² –ë–Α―΅–Κ–Ψ–≤―É –Ζ–Α ―¹–Ψ–¥–Β―è–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β¬Μ.
–‰ ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ ―¹–≤–Ψ―ë ―¹–¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ–Α. –ë―΄―¹―²―Ä―΄–Ι –Ϋ–Α ―Ä–Α―¹–Ω―Ä–Α–≤―É, –≥–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ –£–€–Λ –™–Ψ―Ä―à–Κ–Ψ–≤ –Ω–Ψ –Β―ë ―É–Κ–Α–Ζ–Κ–Β –Ϋ–Β –Ζ–Α–Φ–Β–¥–Μ–Η–Μ –Ω―Ä–Η–Κ–Α―²–Η―²―¨ –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥. –û―² –Ϋ–Β–≥–Ψ –Φ–Ϋ–Β ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Α–≥–Ψ–Ϋ―è–Ι –±―΄–Μ, ―΅―²–Ψ ―è –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Μ, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Ψ–≥–Η ―É–Ϋ–Β―¹―²–Η. –ê –≤―¹–Μ–Β–¥ ―²–Ψ–Φ―É –Κ–Α–¥―Ä–Ψ–≤–Η–Κ–Η –Ω―Ä–Η―¹–Μ–Α–Μ–Η ¬Ϊ–Ω–Ψ–≤―΄―à–Β–Ϋ–Η–Β¬Μ: –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –£―΄―¹―à–Β–≥–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Η–Φ–Β–Ϋ–Η –Γ.–€. –ö–Η―Ä–Ψ–≤–Α. –ù–Β–¥–Ψ–Μ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ–¥―É–Φ―΄–≤–Α―è, ―è –Ψ―²–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è. –Γ–Ϋ–Ψ–≤–Α –Ω–Α–Κ–Ψ–≤–Α―²―¨ ―΅–Β–Φ–Ψ–¥–Α–Ϋ―΄ –Η –Β―Ö–Α―²―¨ –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ –ë–Α–Κ―É –≤ ―É–≥–Ψ–¥―É –≤–Μ–Η―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω–Α–Ω–Β –•–Η–Φ–Β―Ä–Η–Ϋ–Α –Φ–Ϋ–Β –Ω―Ä–Β―²–Η–Μ–Ψ. –ö ―²–Ψ–Φ―É –Ε–Β ―è ―É–Ε–Β –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω―Ä–Η–≤―è–Ζ–Α–Μ―¹―è –Η –Ω–Ψ–Μ―é–±–Η–Μ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Β–≤, ―΅―²–Ψ ―¹―΅–Η―²–Α–Μ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ–Φ –±―΄―²―¨ ―¹ –Ϋ–Η–Φ–Η –¥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Α ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄.
–€–Ψ–Ι –Ψ―²–Κ–Α–Ζ –Ψ―² –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≤ –ë–Α–Κ―É –Ζ–Α–¥–Β–Μ –≤–Μ–Α―¹―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Γ.–™.–™–Ψ―Ä―à–Κ–Ψ–≤–Α. –‰ –Ψ–Ϋ –±–Β–Ζ –Φ–Ψ–Β–≥–Ψ ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η―è –≤ –Φ–Α―Ä―²–Β ―²–Ψ–≥–Ψ –Ε–Β 1963 –≥–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–Μ ―¹ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –≤ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η - –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ ―³–Α–Κ―É–Μ―¨―²–Β―²–Α ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Η–Φ–Β–Ϋ–Η –€.–£.–Λ―Ä―É–Ϋ–Ζ–Β. –· –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ, ―΅―²–Ψ –Φ–Ψ―è ―¹–Μ―É–Ε–Β–±–Ϋ–Α―è –Κ–Α―Ä―¨–Β―Ä–Α –Ω―É―â–Β–Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥ –Ψ―²–Κ–Ψ―¹, ―¹–Μ―É–Ε–Β–±–Ϋ–Α―è –Ω–Β―Ä―¹–Ω–Β–Κ―²–Η–≤–Α ―¹–Μ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–Α.
–‰―¹–Ω―΄―²―΄–≤–Α―è ―²―è–Ε–Β–Μ―΄–Ι –Ψ―¹–Α–¥–Ψ–Κ –≤ –¥―É―à–Β, ―è ―²–Β–Ω–Μ–Ψ ―Ä–Α―¹–Ω―Ä–Ψ―â–Α–Μ―¹―è ―¹ –Ω–Ψ–Μ―é–±–Η–≤―à–Η–Φ–Η―¹―è –Φ–Ϋ–Β –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Α–Φ–Η –Η ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Ϋ―΄–Φ –¥–Ψ–Φ–Ψ–Φ, ―¹ ¬Ϊ–ê–≤―Ä–Ψ―Ä–Ψ–Ι¬Μ. –î–Β–Μ–Α –Η –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–Μ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É ―¹–Ψ–Κ―É―Ä―¹–Ϋ–Η–Κ―É –Ω–Ψ –Γ–Β–≤–Α―¹―²–Ψ–Ω–Ψ–Μ―é –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―É –ë–Α–Κ–Α―Ä–¥–Ε–Η–Β–≤―É. –£―è―΅–Β―¹–Μ–Α–≤ –™–Β–Ψ―Ä–≥–Η–Β–≤–Η―΅ –±–Β–Ζ –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ–≥–Ψ ―ç–Ϋ―²―É–Ζ–Η–Α–Ζ–Φ–Α –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ –Ψ―² –Φ–Β–Ϋ―è –Φ–Ψ―ë –¥–Β―²–Η―â–Β –Η –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω–Ψ–Μ―É―΅–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β–Φ –Ω–Ψ―΅―²–Η –≤–Ψ―¹–Β–Φ―¨ –Μ–Β―².–ü–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ –ë–Ψ―Ä–Η―¹ –®–ï–†–ï–€–ï–Δ–§–ï–£, ―΅–Μ–Β–Ϋ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ–Β–Ι –†–Ψ―¹―¹–Η–Η –ü―Ä–Η–Φ–Β―΅–Α–Ϋ–Η―è 1. –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Β ―¹–Ω–Α―¹–Η–±–Ψ –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ―É 1973 –≥. –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ―É 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –‰–≥–Ψ―Ä―é –†―é―Ä–Η–Κ–Ψ–≤–Η―΅―É –Λ–Β–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ―É, –Ω―Ä–Β–¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–≤―à–Β–Φ―É ―¹–Κ–Α–Ϋ―΄ ―¹―²–Α―²―¨–Η.
2. –Ξ–Α―Ä–Κ―É―²–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Ι –¦–Β–Ψ–Ϋ–Η–¥–Ψ–≤–Η―΅ - –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ 1968 –≥., –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥ ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤ –Ω–Α―Ä–Α–¥–Β –≤ 1961 –≥., –Α ―É –™–Ψ―Ä–Β–Μ–Η–Κ–Α, –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Α 1965 –≥., –Η–Φ―è –ë–Ψ―Ä–Η―¹.
3. –Γ―²–Α―²―¨―è –¥–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Α ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―è–Φ–Η –Η–Ζ –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –Α―Ä―Ö–Η–≤–Α.

19.05.201412:2919.05.2014 12:29:16
0
17.05.201400:1117.05.2014 00:11:10
–ï―¹–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ–Β―Ö–Α―²―¨ ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨, –≤ ―à–Β―¹―²–Η–¥–Β―¹―è―²―΄–Β –≥–Ψ–¥―΄, –Φ–Η–Φ–Ψ –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Α, –≤–Η–¥–Β–Ϋ –Κ―Ä–Α―¹–Η–≤―΄–Ι –≤–Η–Α–¥―É–Κ –Ϋ–Α–¥ –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–¥–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω―É―²―è–Φ–Η. –€–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β–Ε―¨, ―΅―²–Ψ –≤―΄―Ä–Ψ―¹–Μ–Α –Ζ–Α ―²―Ä–Η–¥―Ü–Α―²―¨ –Μ–Β―² –Ω―Ä–Η–≤―΄–Κ–Μ–Α –Κ –Ϋ–Β–Φ―É. –ù–Ψ ―¹―²–Α―Ä―à–Β–Β –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ζ–Ϋ–Α–Β―² ―ç―²–Η –Φ–Β―¹―²–Α –¥―Ä―É–≥–Η–Φ–Η, –Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²: –Ω―Ä–Ψ–Ι–¥–Β―², –±―΄–≤–Α–Μ–Ψ, –Ω–Ψ –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–¥–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω―É―²–Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤, –Η –Ϋ–Α –≤―¹–Β–Φ ―²―Ä–Α–Φ–≤–Α–Ι–Ϋ–Ψ–Φ –Ω―É―²–Η –¥–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι –ù–Α―Ä–≤―¹–Κ–Ψ–Ι –Ζ–Α―¹―²–Α–≤―΄ –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Α–≤–Μ–Η–≤–Α―é―²―¹―è ―²―Ä–Α–Φ–≤–Α–Η, –Μ―é–¥–Η –Η–¥―É―² –Ω–Β―à–Κ–Ψ–Φ. –ü–Ψ–Φ–Ϋ―é, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α―à–Η ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η–Β –Ζ–Α–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ ―¹ –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–Φ –€–Η―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–Β–Φ, –Η –ö–Η―Ä–Ψ–≤ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ:
βÄî –î–Α–≤–Α–Ι―²–Β –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Η–Φ ―²―É―² –Φ–Ψ―¹―², ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥–Α ―à–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Η–Φ ―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ, –Α ―²―Ä–Α–Φ–≤–Α–Η βÄî ―¹–≤–Ψ–Η–Φ. –‰ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Ψ. –û―² –ü–Β―²–Β―Ä–≥–Ψ―³―¹–Κ–Ψ–Ι, –Δ―Ä–Β―³–Ψ–Μ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–≤–Β–Μ–Η ―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ―É.
βÄî –ö–Η―Ä–Ψ–≤ –Ψ–Ω―è―²―¨ –±―΄–Μ –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ϋ–Ψ―΅―¨―é, βÄî –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η –Ϋ–Α –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Β. βÄî –Γ–Μ–Β–¥–Η–Μ, –Κ–Α–Κ ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²―¹―è. . .
–‰ ―É–Ε–Β –Ϋ–Β –Ε–Α–Μ–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α ―²―Ä―É–¥–Ϋ―΄–Ι –Ω―É―²―¨ –Ω–Β―à–Κ–Ψ–Φ, –≤–Β―Ä–Η–Μ–Η, ―΅―²–Ψ ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ –≤―¹–Β –Ϋ–Α–Μ–Α–¥–Η―²―¹―è: ¬Ϊ–ö–Η―Ä–Ψ–≤ ―²–Α–Φ...¬Μ
–†–Β–¥–Κ–Ψ –Κ―²–Ψ –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β –Ϋ–Β –≤–Η–¥–Β–Μ, –Ϋ–Β ―¹–Μ―΄―à–Α–Μ –ö–Η―Ä–Ψ–≤–Α –Η–Μ–Η –¥–Α–Ε–Β –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –±–Β―¹–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ ―¹ –Ϋ–Η–Φ. –ë–Β―¹–Β–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ψ–Ϋ –Φ–Ψ–≥ ―¹ –Μ―é–±―΄–Φ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ, –Ζ–Α–¥―É―à–Β–≤–Ϋ–Ψ, –Κ–Α–Κ ―¹ –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Η–Φ –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―΄–Φ.
–Γ―²–Ψ–Η–Μ–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ψ–Ι―²–Η:
βÄî –ù―É–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄ –Φ–Ϋ–Β –Ω–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨ ―¹ –≤–Α–Φ–Η, –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –€–Η―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅.
βÄî –ê ―²―΄ –Ζ–Α―Ö–Ψ–¥–Η, βÄî –Ψ―²–≤–Β―΅–Α–Β―². –‰ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Β―² –≤―Ä–Β–Φ―è.
–ù–Α –Μ―é–±–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ –Ψ―²–≤–Β―²–Η―², –Κ–Ψ –≤―¹―è–Κ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ―¹―¨–±–Β –Ψ―²–Ϋ–Β―¹–Β―²―¹―è ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ–Ψ, –Α –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β, –Β―¹–Μ–Η –Ω–Ψ–Ψ–±–Β―â–Α–Β―² ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨, ―¹–¥–Β–Μ–Α–Β―², –Β―¹–Μ–Η ―¹–Κ–Α–Ε–Β―², ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―², –Ψ–±―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ–Η―² –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É. ¬Ϊ–ù–Α―à –ö–Η―Ä–Ψ–≤¬Μ βÄî –Ζ–≤–Α–Μ–Η –Β–≥–Ψ ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η–Β. –î―Ä―É–≥–Α, ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Α –≤–Η–¥–Β–Μ–Η –≤ –Ϋ–Β–Φ.
–½–Ϋ–Α–Μ–Η –Η –≥–Ψ―Ä–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ω―É―²–Η–Μ–Ψ–≤―Ü―΄:
βÄî –ö–Η―Ä–Ψ–≤ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Μ―é–±–Η―² –Ϋ–Α―à –Ζ–Α–≤–Ψ–¥. ¬Ϊ–ü―É―²–Η–Μ–Ψ–≤―Ü―΄ ―²–Ψ–Ϋ –Ζ–Α–¥–Α―é―² ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β¬Μ, βÄî –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―². –‰ –≤ –Μ–Η―Ö―É―é, –Η –≤ ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Ϋ―É―é –Φ–Η–Ϋ―É―²―É –Μ―é–±–Η―² –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä―è―²―¨: ¬Ϊ–ù–Α ―²–Ψ –≤―΄ –Η –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ω―É―²–Η–Μ–Ψ–≤―Ü―΄¬Μ.
–‰ –Μ―é–¥–Η –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η: –Ϋ–Α ―²–Ψ –Η –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ω―É―²–Η–Μ–Ψ–≤―Ü―΄, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤―¹–Β –Ω―Ä–Β–Ψ–¥–Ψ–Μ–Β―²―¨, –¥–Ψ–±–Η―²―¨―¹―è –Ω–Ψ–±–Β–¥―΄, –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β ―¹–Ω–Α―¹–Ψ–≤–Α―²―¨, –Ϋ–Β ―¹–±–Η―²―¨―¹―è ―¹ –Ω―É―²–Η, –Ϋ–Β ―É―¹―²―É–Ω–Η―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Φ–Β―¹―²–Α –≤ –Ω–Β―Ä–Β–¥–Ψ–≤–Ψ–Ι ―à–Β―Ä–Β–Ϋ–≥–Β –±–Ψ―Ä―¨–±―΄ –Ζ–Α ―¹―΅–Α―¹―²―¨–Β –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Β, –Ζ–Α –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η–Ζ–Φ. –Γ–€–Ϊ–£–ê–° –Γ –Γ–ï–†–î–Π–ê –ù–ê–ö–‰–ü–§...  1931 –≥–Ψ–¥. –£―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Ψ ―¹–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Β ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι―¹―²–≤–Ψ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄ –≤ –Ω–Ψ–Μ–Ψ―¹―É ―¹–Ω–Μ–Ψ―à–Ϋ–Ψ–Ι . –€―΄ –Ζ–Ϋ–Α–Β–Φ ―É–Ε–Β ―Ü–Β–Μ―΄–Β –Κ–Ψ–Μ―Ö–Ψ–Ζ–Ϋ―΄–Β –Ψ–Κ―Ä―É–≥–Α. 1931 –≥–Ψ–¥. –£―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Ψ ―¹–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Β ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι―¹―²–≤–Ψ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄ –≤ –Ω–Ψ–Μ–Ψ―¹―É ―¹–Ω–Μ–Ψ―à–Ϋ–Ψ–Ι . –€―΄ –Ζ–Ϋ–Α–Β–Φ ―É–Ε–Β ―Ü–Β–Μ―΄–Β –Κ–Ψ–Μ―Ö–Ψ–Ζ–Ϋ―΄–Β –Ψ–Κ―Ä―É–≥–Α.
βÄî –Γ–Μ―΄―Ö–Α–Μ–Η, ―É –¥―è–¥–Η –Γ–Α―à–Η –†―΄–±–Α–Κ–Ψ–≤–Α, –¥–≤–Α–¥―Ü–Α―²–Η–Ω―è―²–Η―²―΄―¹―è―΅–Ϋ–Η–Κ–Α-―²–Ψ –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ, –≤ –€–Δ–Γ –Ϋ–Α –î–Ψ–Ϋ―É –¥–Β–Μ–Α –Η–¥―É―² –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ?! βÄî ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―² –û―¹―²–Α―Ö–Ψ–≤.
–™–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―², ―΅―²–Ψ –Η –Ω–Ψ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ ―¹–Μ―΄―à–Α–Μ, –Η ―¹–Α–Φ ―΅–Η―²–Α–Μ.
–€–Β–Ϋ―è–Β―² –Η –Φ–Β–Ϋ―è–Β―² ―¹–≤–Ψ–Β –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α―à–Α –≥–Α–Ζ–Β―²–Α. –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è ―É–Ε–Β ¬Ϊ–ù–Α ―à―²―É―Ä–Φ 32000¬Μ. –û–Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ψ –≤ –Ϋ–Β–Ι ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –≤–Β―¹–Β–Μ–Ψ–Β, –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β ¬Ϊ–ü–Η―¹―¨–Φ–Ψ –ö–Α―Ä–Η–Φ–Ψ–≤–Α –≤ ―Ä–Β–¥–Α–Κ―Ü–Η―é –Ζ–Α–≤–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–Ι –≥–Α–Ζ–Β―²―΄ ―²―Ä–Α–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ–Β–Ι¬Μ:–‰–Ζ –Γ―²–Α–Φ–±―É–Μ–Α, –™–Α–Φ–±―É―Ä–≥–Α, –Δ―É―Ä–Η–Ϋ–Α
–Γ–Α–Φ―΄–Ι ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –≤–Α―à ―¹–Ω–Β―Ü–Κ–Ψ―Ä
–‰ –Ϋ–Β–±–Β–Ζ―΄–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄–Ι –≤–Α–Φ –ö–Α―Ä–Η–Φ–Ψ–≤
–ù–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β―² ―ç―²–Ψ―² ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä.
–€–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η–≤–Β―², ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Η –Η–Ζ ―Ü–Β―Ö–Α!
–ö–Α–Κ –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Α? –£―¹–Β –Μ―¨ –≤ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Β ―¹ –Ϋ–Β–Ι?
–· –Ω–Η―à―É, ―²―Ä–Η–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²―¨ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ –Ψ–±―ä–Β―Ö–Α–≤,
–ü–Ψ–≤–Η–¥–Α–≤―à–Η –Φ–Ϋ–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ –Φ–Ψ―Ä–Β–Ι...–Γ―΄–Ϋ –±–Α―à–Κ–Η―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Β―΅–Ϋ–Η–Κ–Α, –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ–Β―Ü, –≤–Ψ–Β–≤–Α–≤―à–Η–Ι ―¹ –î―É―²–Ψ–≤―΄–Φ, ―¹–Μ–Β―¹–Α―Ä–Β–Φ-―²―Ä–Α–Κ―²–Ψ―Ä–Η―¹―²–Ψ–Φ –Ω―Ä–Η―à–Β–¥―à–Η–Ι –Η–Ζ –Α―Ä–Φ–Η–Η –Ϋ–Α –ü―É―²–Η–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι –Ζ–Α–≤–Ψ–¥, –ö–Α―Ä–Η–Φ–Ψ–≤ βÄî –¥–Β–Ω―É―²–Α―² –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ–≤–Β―²–Α, ―¹–Β–Κ―Ä–Β―²–Α―Ä―¨ –Ω–Α―Ä―²–Η–Ι–Ϋ–Ψ–Ι ―è―΅–Β–Ι–Κ–Η –Ϋ–Α ―¹–±–Ψ―Ä–Κ–Β. –†–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ ―è―΅–Β–Ι–Κ–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ―¹–≤–Α–Η–≤–Α–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ―É –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Α 3 ―²―΄―¹―è―΅ ―²―Ä–Α–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–≤ –≤ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Φ –≥–Ψ–¥―É –Ω―è―²–Η–Μ–Β―²–Κ–Η. –½–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Ψ―²–≤–Β―Ä–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―²―Ä―É–¥ –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Β 320 –Μ―É―΅―à–Η―Ö ―É–¥–Α―Ä–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –Ω―Ä–Β–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ –ö–Ψ―¹―²―è –ö–Α―Ä–Η–Φ–Ψ–≤ –Ω―É―²–Β–≤–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥–Κ―É –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥ –ï–≤―Ä–Ψ–Ω―΄. ...1931 –≥–Ψ–¥. –£―΄―à–Μ–Α –Κ–Ϋ–Η–≥–Α –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Β–≥–Ψ βÄî . –ù–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è ¬Ϊ–¦–Η–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α–Η–±–Ψ–Μ―¨―à–Β–≥–Ψ ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è¬Μ. –ü–Ψ―¹–≤―è―â–Α–Β―²―¹―è ―É–¥–Α―Ä–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ ―²―Ä–Α–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ―¹–±–Ψ―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Α―¹―²–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―²―Ä–Α–Κ―²–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Α ¬Ϊ–ö―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Ι –Ω―É―²–Η–Μ–Ψ–≤–Β―Ü¬Μ. –£–Ψ –≤―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Η ―¹–≤–Ψ–Β–Φ –Α–≤―²–Ψ―Ä –Ω–Η―à–Β―²: ...1931 –≥–Ψ–¥. –£―΄―à–Μ–Α –Κ–Ϋ–Η–≥–Α –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Β–≥–Ψ βÄî . –ù–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è ¬Ϊ–¦–Η–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α–Η–±–Ψ–Μ―¨―à–Β–≥–Ψ ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è¬Μ. –ü–Ψ―¹–≤―è―â–Α–Β―²―¹―è ―É–¥–Α―Ä–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ ―²―Ä–Α–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ―¹–±–Ψ―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Α―¹―²–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―²―Ä–Α–Κ―²–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Α ¬Ϊ–ö―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Ι –Ω―É―²–Η–Μ–Ψ–≤–Β―Ü¬Μ. –£–Ψ –≤―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Η ―¹–≤–Ψ–Β–Φ –Α–≤―²–Ψ―Ä –Ω–Η―à–Β―²:
¬Ϊ–ë―΄–Μ–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–±–Β–¥ –Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Ι –Ϋ–Α –Ϋ–Α―à–Β–Φ –Ω―É―²–Η. –ë―΄–Μ–Η –¥–Ϋ–Η, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –¥–Α–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²―Ä–Α–Κ―²–Ψ―Ä–Α, –Η –Ω–Ψ―΅–≤–Α –≤―΄―¹–Κ–Α–Μ―¨–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Α –Η–Ζ-–Ω–Ψ–¥ –Ϋ–Ψ–≥ ―Ä–Α―¹―²–Β―Ä―è–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Α–¥–Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä–Α―²–Ψ―Ä–Ψ–≤. –ù–Ψ –≤–Ζ―è―²–Α―è –Ω–Α―Ä―²–Η–Β–Ι –Μ–Η–Ϋ–Η―è βÄî –Μ–Η–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α–Η–±–Ψ–Μ―¨―à–Β–≥–Ψ ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è βÄî ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Α –Ϋ–Α–Φ–Η –Η –Φ―΄ –Ω–Ψ–±–Β–Ε–¥–Α–Μ–Η.
–Θ―΅―²–Η―²–Β –Ϋ–Α―à–Η –Ψ―à–Η–±–Κ–Η, ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Η!
–ü―É―¹―²―¨ ―É―΅–Η―²―¹―è –Ϋ–Α –Ϋ–Η―Ö ―²–Ψ―², –Κ―²–Ψ –Ϋ–Β–Κ―Ä–Β–Ω–Ψ–Κ, –Κ―²–Ψ –Ω–Α–¥–Α–Β―² –¥―É―Ö–Ψ–Φ –Ω–Β―Ä–Β–¥ ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ―¹―²―è–Φ–Η.
–ü―É―¹―²―¨ ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ―¨, –Ω―Ä–Ψ―΅―²―è ―ç―²–Η ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü―΄, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―² ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à―É―é –Ζ–Α―Ä―è–¥–Κ―É –¥–Μ―è –Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö –±–Ψ–Β–≤ –Ϋ–Α ―²―Ä―É–¥–Ψ–≤–Ψ–Φ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Β ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ–Η.
–Δ―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―¹―É―â–Β―¹―²–≤―É―é―² –¥–Μ―è ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Η―Ö –Ω―Ä–Β–Ψ–¥–Ψ–Μ–Β―²―¨¬Μ.
–€–Ϋ–Ψ–Ε–Α―²―¹―è –¥–Ψ–±―Ä―΄–Β –≤–Β―¹―²–Η –Ψ –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ω―É―²–Η–Μ–Ψ–≤―Ü–Α―Ö –Ω–Ψ –≤―¹–Β–Ι ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β. 10 –Η―é–Ϋ―è 1931 –≥–Ψ–¥–Α –Φ―΄ ―Ä–Α–Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Ψ –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Β 25 ―²―΄―¹―è―΅ ―²―Ä–Α–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–≤. –ê –≤―¹–Β–≥–Ψ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Β―¹―è―Ü–Β–≤, –≤ –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Ψ–Β 13 –Ϋ–Ψ―è–±―Ä―è 1931 –≥–Ψ–¥–Α, –Ω–Ψ―à–Β–Μ –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Μ―Ö–Ψ–Ζ–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ–Μ―è ―É–Ε–Β –Ϋ–Α―à 34-―²―΄―¹―è―΅–Ϋ―΄–Ι ―²―Ä–Α–Κ―²–Ψ―Ä, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι –≤ ―¹―΅–Β―² –Ω―è―²–Η–Μ–Β―²–Ϋ–Β–≥–Ψ –Ζ–Α–¥–Α–Ϋ–Η―è. –½–Α 2 –≥–Ψ–¥–Α –Η 7 –Φ–Β―¹―è―Ü–Β–≤ –Ϋ–Α ¬Ϊ–ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Φ –Ω―É―²–Η–Μ–Ψ–≤―Ü–Β¬Μ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Α –Ω―è―²–Η–Μ–Β―²–Κ–Α . –≠―²–Ψ –¥–Ψ―¹―²–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Β –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α, –Ϋ–Β –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ –Μ―é–¥–Β–Ι βÄî –≤―¹–Β–≥–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―²―΄―¹―è―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–Κ―²–Η–≤–Α. –ö–Α–Ε–¥―΄–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η–Ι ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Α ―²―Ä―É–¥–Η―²―¹―è –Ζ–Α –¥–≤–Ψ–Η―Ö. –‰–¥–Β―² –Κ –Ω–Ψ–±–Β–¥–Ϋ–Ψ–Φ―É –¥–Ψ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ζ–Α–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Η―é –Ω―è―²–Η–Μ–Β―²–Κ–Α –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Α. –£ –Ϋ–Α―à–Β–Φ ―Ü–Β―Ö–Β, –Κ–Α–Κ –Η –Ϋ–Α –≤―¹–Β–Φ –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Β, –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η―¹―²―΄ –Ζ–Α–¥–Α―é―² ―²–Ψ–Ϋ –≤ ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Β―¹―¹–Β. –Γ–Α–Φ–Η –Φ–Α―¹―²–Β―Ä–Α, –Ψ–Ϋ–Η –±–Ψ―Ä―é―²―¹―è –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ ―Ä–Α―¹―Ö–Μ―è–±–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄. –•–Η–≤–Β―² –≤ ―Ü–Β―Ö–Α―Ö ―¹―É―Ä–Ψ–≤–Α―è –Ϋ–Α―à–Α ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Α―è –Κ―Ä–Η―²–Η–Κ–Α, –Ϋ–Β ―â–Α–¥–Η―² –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ. –Γ–Ω–Ψ―²–Κ–Ϋ―É–Μ―¹―è βÄî –Ψ―²–≤–Β―΅–Α–Ι. –û―²–Κ―Ä–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―²–Β–±–Β –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ ―¹–Κ–Α–Ε―É―², –Ω―Ä―è–Φ–Ψ –≤ –≥–Μ–Α–Ζ–Α, –Ω–Β―Ä–Β–¥ –≤―¹–Β–Φ –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–Κ―²–Η–≤–Ψ–Φ, –Ψ―¹―²―Ä–Ψ, –Ω–Ψ-―Ä–Α–±–Ψ―΅–Β–Φ―É. –£ –Ϋ–Α―à–Β–Φ ―Ü–Β―Ö–Β, –Κ–Α–Κ –Η –Ϋ–Α –≤―¹–Β–Φ –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Β, –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η―¹―²―΄ –Ζ–Α–¥–Α―é―² ―²–Ψ–Ϋ –≤ ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Β―¹―¹–Β. –Γ–Α–Φ–Η –Φ–Α―¹―²–Β―Ä–Α, –Ψ–Ϋ–Η –±–Ψ―Ä―é―²―¹―è –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ ―Ä–Α―¹―Ö–Μ―è–±–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄. –•–Η–≤–Β―² –≤ ―Ü–Β―Ö–Α―Ö ―¹―É―Ä–Ψ–≤–Α―è –Ϋ–Α―à–Α ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Α―è –Κ―Ä–Η―²–Η–Κ–Α, –Ϋ–Β ―â–Α–¥–Η―² –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ. –Γ–Ω–Ψ―²–Κ–Ϋ―É–Μ―¹―è βÄî –Ψ―²–≤–Β―΅–Α–Ι. –û―²–Κ―Ä–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―²–Β–±–Β –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ ―¹–Κ–Α–Ε―É―², –Ω―Ä―è–Φ–Ψ –≤ –≥–Μ–Α–Ζ–Α, –Ω–Β―Ä–Β–¥ –≤―¹–Β–Φ –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–Κ―²–Η–≤–Ψ–Φ, –Ψ―¹―²―Ä–Ψ, –Ω–Ψ-―Ä–Α–±–Ψ―΅–Β–Φ―É.
–ö–Α–Κ-―²–Ψ –ï―³―Ä–Β–Φ –ö―É―²–Β–Ι–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –≤―¹―²―É–Ω–Η–Μ―¹―è –±―΄–Μ–Ψ –Ζ–Α –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–≥–Ψ ―²–Ψ–Κ–Α―Ä―è, –Ω–Ψ–Ω―Ä–Β–Κ–Ϋ―É–Μ –£–Α―¹–Η–Μ–Η―è –î–Η–Ι–Κ–Ψ–≤–Α:
βÄî –ß―²–Ψ ―ç―²–Ψ ―²―΄ ―²–Α–Κ –Ϋ–Α –Ω–Α―Ä–Ϋ―è –Ψ–Ω–Ψ–Μ―΅–Η–Μ―¹―è? –Γ–Α–Φ –Ζ–Ϋ–Α–Β―à―¨, ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η–Ι –Ψ–Ϋ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Ι. –ù―É –Ψ―à–Η–±―¹―è, ―¹ –Κ–Α–Ε–¥―΄–Φ –±―΄–≤–Α–Β―². –ö–Ψ–Ϋ―¨ –Ψ ―΅–Β―²―΄―Ä–Β―Ö –Ϋ–Ψ–≥–Α―Ö, –Η ―²–Ψ―² ―¹–Ω–Ψ―²―΄–Κ–Α–Β―²―¹―è.
βÄî –£–Β―Ä–Ϋ–Ψ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―à―¨, ―É–Φ–Β–Β―² –Ψ–Ϋ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨. –ü–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―¹ –Ϋ–Β–≥–Ψ –Η ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹. –ê ―Ä―É–≥–Α–Μ–Η –Β–≥–Ψ –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ζ–Α –Ψ―à–Η–±–Κ–Η, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―¹–Α–Φ –Ψ–Ϋ –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Μ―é–¥–Η –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ–Φ ―É―΅–Η–Μ–Η―¹―¨. –½–Α ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–Β βÄî ―¹–Ω–Α―¹–Η–±–Ψ, –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ–Β βÄî –Ϋ–Β ―¹–Ω―É―¹―²–Η–Φ. –Γ–Ψ–≤―¹–Β–Φ –±–Β–Ζ –±―Ä–Α–Κ–Α –Ω–Ψ―Ä–Α ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨.
–Θ –£–Α―¹–Η–Μ–Η―è –Γ–Β–Φ–Β–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–Α –î–Η–Ι–Κ–Ψ–≤–Α –Β―¹―²―¨ –Ω―Ä–Α–≤–Ψ ―²–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨. –Γ –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Φ ―É–≤–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à―É―¹―¨ –Κ –Ϋ–Β–Φ―É: –Ζ–Α –≤―¹–Β ―¹―΅–Η―²–Α–Β―² ―¹–Β–±―è ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –≤ –Ψ―²–≤–Β―²–Β, –≥–¥–Β ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ―¹―²–Η βÄî –Ω–Β―Ä–≤―΄–Φ –Ψ–±―ä―è–≤–Η―²―¹―è, –Ω–Μ–Β―΅–Ψ –Ω–Ψ–¥―¹―²–Α–≤–Η―². –‰ ―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ ―É–≥–Α–¥―΄–≤–Α–Β―², –≥–¥–Β –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥–Φ–Ψ–≥–Α –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Α.
–ù―Ä–Α–≤–Η―²―¹―è –Φ–Ϋ–Β –î–Η–Ι–Κ–Ψ–≤ –Β―â–Β –Η –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Ω―Ä―è–Φ–Ψ–Ι, –Ϋ–Β –Μ―é–±–Η―² ―¹–Κ―Ä―΄–≤–Α―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Η ―΅―É–Ε–Η―Ö –Ψ―à–Η–±–Ψ–Κ. –ù–Β ―Ä–Α–Ζ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ:
βÄî –Δ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Φ–Β―à–Α–Β―², ―¹ –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Α –≤–Ψ–Ϋ. –Θ–Ι―²–Η –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ. –‰ –¥–Ψ–±–Η–≤–Α–Β―²―¹―è ―ç―²–Ψ–≥–Ψ. –ë–Β–Ζ ―à―É–Φ–Α, –±–Β–Ζ –Κ―Ä–Η–Κ–Α βÄî –¥–Β–Μ–Ψ–Φ. –ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ ―É―΅–Α―¹―²–Κ–Α, –Ψ–Ϋ –≤–Ψ –≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Α―Ä–Α–≤–Ϋ–Β ―¹ ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η–Φ–Η. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ϋ–Α ―¹–Β–±―è –±–Β―Ä–Β―² –Ϋ–Α–Η–±–Ψ–Μ―¨―à―É―é. –û –Ϋ–Β–Φ –≤―¹–Β–≥–¥–Α –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―²: –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Η–Ι –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η―¹―².
...–£–Β―¹–Ϋ–Α 1932 –≥–Ψ–¥–Α. –€―΄ –¥–Β–Μ–Α–Β–Φ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –Φ–Ψ―â–Ϋ―΄–Β, –≤ 100 –Μ–Ψ―à–Α–¥–Η–Ϋ―΄―Ö ―¹–Η–Μ, ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Β –Μ–Β–≥–Κ–Ψ–≤―΄–Β –Α–≤―²–Ψ–Φ–Ψ–±–Η–Μ–Η –¦-1. –ü―è―²―¨ ¬Ϊ–Λ–Ψ―Ä–¥–Ζ–Ψ–Ϋ–Ψ–≤¬Μ –≤ –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Ι –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Β –Η –Ϋ–Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Ζ–Α–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Α–Ι–Κ–Η. . .
–Γ―²–Α―Ä―à–Η–Φ –Φ–Α―¹―²–Β―Ä–Ψ–Φ βÄî –ö–Ψ―¹―²―è –·–Κ–Ψ–≤–Μ–Β–≤. –‰–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ―΄–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ. –Γ–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, ―¹―²–Α―Ä―΄–Ι –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―΄–Ι, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―è ―¹–Ω―É―¹―²―è –≥–Ψ–¥―΄ ―É–Ζ–Ϋ–Α–Μ –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ: ―ç―²–Ψ –Ε–Β –Ψ–Ϋ, –ö–Ψ―¹―²―è –·–Κ–Ψ–≤–Μ–Β–≤, –≤–Β–Μ ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι ¬Ϊ–Λ–Ψ―Ä–¥–Ζ–Ψ–Ϋ¬Μ –Ϋ–Α –¥–Β–Φ–Ψ–Ϋ―¹―²―Ä–Α―Ü–Η–Η. –ö–Α–Κ-–Ϋ–Η–Κ–Α–Κ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Ι ―²―Ä–Α–Κ―²–Ψ―Ä–Η―¹―²! –û–Ϋ –Ϋ–Β–¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Η–Ζ-–Ζ–Α –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü―΄ –Ω―Ä–Η–Β―Ö–Α–Μ. –£ –ê–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Β –±―΄–Μ, –Ϋ–Α –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Α―Ö ―²–Α–Φ –≤ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η―Ö ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Ψ–≤ –Η–Ζ―É―΅–Α–Μ –Α–≤―²–Ψ―²―Ä–Α–Κ―²–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Β –¥–Β–Μ–Ψ.
–¦–Η―Ü–Ψ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Β, –Α ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ ―¹–Β–¥–Ψ–Ι. –· –Ω–Ψ–Φ–Ϋ―é, ―É–¥–Η–≤–Η–Μ―¹―è –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤–Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ι –Φ–Ϋ–Β –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η.
βÄî –≠―²–Ψ –Ψ―² –°–¥–Β–Ϋ–Η―΅–Α –Ω–Α–Φ―è―²―¨ ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ψ―¹―²–Α–Μ–Α―¹―¨, βÄî ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η –Φ–Ϋ–Β. βÄî –€–Α–Μ―¨―΅–Η―à–Κ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ζ–Η–Μ ―¹–Ϋ–Α―Ä―è–¥―΄ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Η, –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ –Κ –±–Β–Μ―è–Κ–Α–Φ –≤ –Ζ–Α―¹–Α–¥―É. –î–Α–Μ–Η –Μ–Ψ–Ω–Α―²―É, –Φ–Ψ–≥–Η–Μ―É ―¹–Β–±–Β ―Ä―΄–Μ, –¥–Α ―΅―É–¥–Ψ–Φ ―¹–Ω–Α―¹―¹―è. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ä―É–Κ–Α –Ω―Ä–Ψ–±–Η―²–Α.
–î–Μ―è –¦-1, –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Α–≤―²–Ψ–Φ–Ψ–±–Η–Μ―è, –Ϋ–Α–Φ –Ω–Ψ―Ä―É―΅–Β–Ϋ–Ψ –Ψ―¹–≤–Α–Η–≤–Α―²―¨ –Κ–Ψ―Ä–Ψ–±–Κ–Η ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²–Β–Ι, ―à–Β―¹―²–Β―Ä–Β–Ϋ–Κ–Η, –Ζ–Α–¥–Ϋ–Η–Ι –Φ–Ψ―¹―², –Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ―΅–Α―²―΄–Ι –≤–Α–Μ. –ù–Ψ–≤–Ψ–Β, ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ–Β –¥–Β–Μ–Ψ...
–ö–Α–Κ-―²–Ψ –Ϋ–Β–¥–Ψ–≥–Μ―è–¥–Β–Μ ―è –Ζ–Α ―¹―²–Α–Ϋ–Κ–Ψ–Φ, –≤–Ψ–≤―Ä–Β–Φ―è –Ϋ–Β –Ψ―²–Μ–Α–¥–Η–Μ –Β–≥–Ψ. –£ –±―Ä–Α–Κ –Ω–Ψ―à–Β–Μ –Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ―΅–Α―²―΄–Ι –≤–Α–Μ! –Γ–Μ―É―΅–Α–Ι –≤ –Φ–Ψ–Β–Ι –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ–Β ―Ä–Β–¥–Κ–Η–Ι –Η ―²―è–Ε–Β–Μ―΄–Ι. –û―΅–Β–Ϋ―¨ –Ω–Β―Ä–Β–Ε–Η–≤–Α―é ―¹–Μ―É―΅–Η–≤―à–Β–Β―¹―è. –ê ―²―É―² –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―¹ –Ψ―²–Μ–Α–¥–Κ–Ψ–Ι ―¹―²–Α–Ϋ–Κ–Ψ–≤ –¥–Μ―è –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―Ü–Η–Η.
–ü–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥―è―² –Φ–Α–Ι―¹–Κ–Η–Β –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η. –€–Ψ–Ι ―²―Ä–Β―²–Η–Ι –ü–Β―Ä–≤–Ψ–Φ–Α–Ι –Ϋ–Α –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Β. –Δ―Ä–Β―²–Η–Ι –≥–Ψ–¥ –Ϋ–Β ―¹–Ψ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –≥–Μ―è–Ε―É βÄî ―à–Α–≥–Α―é –≤ ―Ä―è–¥–Α―Ö –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ω―É―²–Η–Μ–Ψ–≤―Ü–Β–≤. –ü―É―²―¨, –Κ–Α–Κ –≤―¹–Β–≥–¥–Α, –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ–Ι –Ϋ–Α–Φ–Β―²–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι: ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ω―Ä–Ψ―¹–Ω–Β–Κ―² –Η –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥―¨ –Γ―²–Α―΅–Β–Κ –Κ –î–≤–Ψ―Ä―Ü–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Η. –Λ–Μ–Α–≥–Η, ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Α―Ä–Α–Ϋ―²―΄, –Ω–Ψ―Ä―²―Ä–Β―²―΄ –Η –Μ–Ψ–Ζ―É–Ϋ–≥–Η. –ü–Β―¹–Ϋ–Η, ―²–Α–Ϋ―Ü―΄, –Η–≥―Ä―΄. –‰ –≤ –¥–≤–Η–Ε―É―â–Β–Ι―¹―è –Κ–Ψ–Μ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Β βÄî ―à―É―²–Κ–Η, ―¹–Φ–Β―Ö.
–™–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―², –≥–¥–Β-―²–Ψ ―É –ù–Α―Ä–≤―¹–Κ–Η―Ö –≤–Ψ―Ä–Ψ―² –Φ–Ψ–Ι –Ω–Ψ―Ä―²―Ä–Β―² –≤–Η―¹–Η―².
βÄî –·–Κ―É–Φ―΄―΅, –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ ―²―΄?βÄî―¹–Μ―΄―à―É.
βÄî –£–Ψ―² ―ç―²–Ψ –¥–Α! –½–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Ψ!
βÄî –£–Ψ–Μ–Ψ–¥―¨–Κ–Α, –£–Ψ–Μ–Ψ–¥―¨–Κ–Α, –≤–Η–¥–Η―à―¨, ―΅―²–Ψ –Μ–Η? , ―É –ù–Α―Ä–≤―¹–Κ–Η―Ö –≤–Ψ―Ä–Ψ―² –≤–Η–Ε―É –≥–Α–Μ–Β―Ä–Β―é –Ω–Ψ―Ä―²―Ä–Β―²–Ψ–≤. –· –Β―â–Β –Ϋ–Β ―É–Ζ–Ϋ–Α―é ―¹–Β–±―è. –‰ –Ω–Ψ–Κ–Α ―¹–Φ―É―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι, –Ϋ–Ψ –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Η―â―É –Ω–Ψ―Ä―²―Ä–Β―², –Ω–Ψ –≤–Β―¹–Β–Μ–Ψ –≤―¹–Ω―΄―Ö–Ϋ―É–≤―à–Β–Φ―É ―Ö–Ψ―Ö–Ψ―²―É ―²–Β―Ö, –Κ―²–Ψ –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥–Η, –≤–¥―Ä―É–≥ ―É–Μ–Α–≤–Μ–Η–≤–Α―é –Ϋ–Β–¥–Ψ–±―Ä–Ψ–Β. , ―É –ù–Α―Ä–≤―¹–Κ–Η―Ö –≤–Ψ―Ä–Ψ―² –≤–Η–Ε―É –≥–Α–Μ–Β―Ä–Β―é –Ω–Ψ―Ä―²―Ä–Β―²–Ψ–≤. –· –Β―â–Β –Ϋ–Β ―É–Ζ–Ϋ–Α―é ―¹–Β–±―è. –‰ –Ω–Ψ–Κ–Α ―¹–Φ―É―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι, –Ϋ–Ψ –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Η―â―É –Ω–Ψ―Ä―²―Ä–Β―², –Ω–Ψ –≤–Β―¹–Β–Μ–Ψ –≤―¹–Ω―΄―Ö–Ϋ―É–≤―à–Β–Φ―É ―Ö–Ψ―Ö–Ψ―²―É ―²–Β―Ö, –Κ―²–Ψ –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥–Η, –≤–¥―Ä―É–≥ ―É–Μ–Α–≤–Μ–Η–≤–Α―é –Ϋ–Β–¥–Ψ–±―Ä–Ψ–Β.
–ü–Β―Ä–≤―΄–Ι, –Κ–Ψ–≥–Ψ ―è –≤–Η–Ε―É –Ϋ–Α –Ω–Ψ―Ä―²―Ä–Β―²–Β, –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ –ù–Α―É–Φ–Ψ–≤–Η―΅ –™―É―Ä–Β–≤–Η―΅, –Ϋ–Α―à –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä. –û–Ϋ –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ –Κ–Α–Κ –‰–Η―¹―É―¹, –Ϋ–Β―¹―É―â–Η–Ι –≤ –Ω―Ä–Α–≤–Ψ–Ι ―Ä―É–Κ–Β... –Κ―Ä–Β―¹―²–Ψ–≤–Η–Ϋ―É, –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²―É―é –Κ―Ä–Β―¹―²–Ψ–≤–Η–Ϋ―É, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ –Ϋ–Β –Ϋ–Α–Μ–Α–¥―è―² –Ϋ–Α –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Β. –ü–Ψ―Ä―²―Ä–Β―² –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―²–Ψ―΅–Β–Ϋ, –Η ―è –Ϋ–Β–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―É–Μ―΄–±–Α―é―¹―¨. –‰ –≤ ―²―É –Ε–Β ―¹–Β–Κ―É–Ϋ–¥―É –≤–Η–Ε―É ―¹–Β–±―è: –Η–¥–Β―² –ö–Α―Ä–Α―¹–Β–≤, ―¹–≥–Ψ―Ä–±–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–¥ ―²―è–Ε–Β―¹―²―¨―é –Μ–Β–Ε–Α―â–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α –Ω–Μ–Β―΅–Β... –Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ―΅–Α―²–Ψ–≥–Ψ –≤–Α–Μ–Α! –ê –Ω–Ψ–¥ –Ω–Ψ―Ä―²―Ä–Β―²–Ψ–Φ –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ψ –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ–Ψ –Η ―è―¹–Ϋ–Ψ: ¬Ϊ–ü–Ψ –≤–Η–Ϋ–Β ―²–Ψ–≤. –ö–Α―Ä–Α―¹–Β–≤–Α ―¹―Ä―΄–≤–Α–Β―²―¹―è –≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ–Β –Ζ–Α–¥–Α–Ϋ–Η–Β¬Μ.
–· –Ϋ–Β ―¹–Μ―΄―à–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η ―Ä―è–¥–Ψ–Φ. –€–Ϋ–Β –Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –≤―¹―è –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥―¨ ―¹–Φ–Β–Β―²―¹―è –Φ–Ϋ–Β –≤―¹–Μ–Β–¥. –ü–Ψ–≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ –≤ –Ω–Β―Ä–Β―É–Μ–Ψ–Κ. –ù–Β –Ω–Ψ–Φ–Ϋ―é, –≥–¥–Β ―à–Β–Μ. –£–¥–Α–Μ–Η –Ζ–Α–Φ–Ψ–Μ–Κ–Α–Μ ―à―É–Φ –¥–Β–Φ–Ψ–Ϋ―¹―²―Ä–Α―Ü–Η–Η.
¬Ϊ–½–Ϋ–Α―΅–Η―², ―²–Α–Κ, βÄî –¥―É–Φ–Α―é, βÄî ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ, ―²―Ä―É–¥–Η–Μ―¹―è, ―¹―²–Α―Ä–Α–Μ―¹―è, –Η –≤―¹–Β –Ω–Ψ –±–Ψ–Κ―É? –ù–Β ―¹―É–Φ–Β–Μ ―Ä–Α–Ζ βÄî –Η –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Α –Κ–Α―Ä–Η–Κ–Α―²―É―Ä–Α, –¥–Α –Β―â–Β –Κ–Α–Κ–Α―è –Ζ–Μ–Α―è! –¦–Α–¥–Ϋ–Ψ –±―΄ –Ϋ–Α –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Β βÄî ―²–Α–Κ –Ϋ–Β―² –Ε–Β –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―à–Β―¹―²–≤–Η―è –≤―΄―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Η –Ω–Β―Ä–Β–¥ –≤―¹–Β–Ι –ù–Α―Ä–≤―¹–Κ–Ψ–Ι. –ù–Α –≤–Β―¹―¨ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥ –Ψ―¹–Φ–Β―è―²―¨!¬Μ
–Γ–Ψ ―¹―²―΄–¥–Α –≥–Ψ―Ä–Η―² –Μ–Η―Ü–Ψ. –ö–Α–Ε–Β―²―¹―è –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Η–Ι –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―² –Ϋ–Α –Φ–Β–Ϋ―è –Ω–Α–Μ―¨―Ü–Β–Φ. –î–Β―¹–Κ–Α―²―¨, –Ω–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Η―²–Β-–Κ–Α, ―ç―²–Ψ –Ε–Β –Η –Β―¹―²―¨ ―²–Ψ―² ―¹–Α–Φ―΄–Ι –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –ö–Α―Ä–Α―¹–Β–≤ βÄî –Ϋ–Α–Μ–Α–¥―΅–Η–Κ, –Ω–Ψ –≤–Η–Ϋ–Β –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–Κ –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Α–Β―² –±―Ä–Α–Κ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –¥–Β―²–Α–Μ–Η.
–ù–Β―΅–Β–≥–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η―΅–Ϋ–Α―è ―É –Φ–Β–Ϋ―è –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Α―¹―¨ –¥–Β–Φ–Ψ–Ϋ―¹―²―Ä–Α―Ü–Η―è! –‰ –Ψ–±–Η–¥–Α, –Ε–Β―¹―²–Ψ–Κ–Α―è, –≥–Ψ―Ä―¨–Κ–Α―è, ―É–Ε–Β ―Ä–Α–Ζ―ä–Β–¥–Α–Μ–Α –¥―É―à―É –Η ―Ä–Α―¹―²–≤–Ψ―Ä―è–Μ–Α ―¹―²―΄–¥. ¬Ϊ–ö–Α–Κ ―²–Α–Κ, βÄî –¥―É–Φ–Α―é, βÄî ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―΄–Ω–Α–Μ, –Β―¹―²―¨ –Ζ–Α–±―΄–≤–Α–Μ, ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ –Ϋ–Α ¬Ϊ–Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ¬Μ, –≤–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ ―Ä–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ–Η–Ζ–Α―²–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Β –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è, –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –≤ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Μ–Η ―¹ –ö―É―²–Β–Ι–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤―΄–Φ –Η –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Β–≤―΄–Φ –±―Ä–Η–≥–Α–¥―É –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Β―²–Α―²–Β–Μ–Β–Ι –Η ―Ä–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ–Η–Ζ–Α―²–Ψ―Ä–Ψ–≤, –Ϋ–Β–Ω–Μ–Ψ―Ö―É―é –±―Ä–Η–≥–Α–¥―É. –≠–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η―¹―²―΄ ―É―¹–Ω–Β–Μ–Η –Ω–Ψ–¥―¹―΅–Η―²–Α―²―¨ βÄî –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Φ–Η–Μ–Μ–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―É―é ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η―é –¥–Α–Β–Φ –Ζ–Α–≤–Ψ–¥―É. –Γ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Φ, ―É–Ε –Ϋ–Β –Φ―΄ –Μ–Η ―¹―²–Α―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨, ―¹–Η–Μ –Ϋ–Β –Ε–Α–Μ–Β–Μ–Η... –ê –≤―¹–Β, –Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è, –Ϋ–Β –≤ ―¹―΅–Β―². –û–Ϋ–Η, –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―², –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β ―Ü–Β–Ϋ―è―²¬Μ.
–ü–Ψ―à–Β–Μ –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι. –¦–Β–≥, –Φ–Ψ–Ζ–≥ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Β―² –Ϋ–Α–Ω―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, ―²―Ä–Β–≤–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ. –†–Β―à–Α―é: ―Ä–Α–Ζ ―²–Α–Κ, –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ι–¥―É –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Α ―Ä–Α–±–Ψ―²―É. –ù–Β ―Ü–Β–Ϋ―è―² βÄî –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―² –Ϋ–Β –Ϋ―É–Ε–Β–Ϋ. –ù―É –Η –Ω―É―¹―²―¨ –Η―â―É―² –¥―Ä―É–≥–Η―Ö, –Ω–Ψ–Μ―É―΅―à–Β. –‰ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α –Ϋ–Β –Ω–Ψ―à–Β–Μ –Ϋ–Α –Ζ–Α–≤–Ψ–¥. –ù―É–¥–Ϋ–Ψ, –Ω–Α–Κ–Ψ―¹―²–Ϋ–Ψ, ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ –Ϋ–Α ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Β. –£–Α–Μ―è―é―¹―¨ –Ϋ–Α –¥–Η–≤–Α–Ϋ–Β, ―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ . –ü―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η―² –¥–Β–Ϋ―¨ –≤ ―²―Ä–Β–≤–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ζ–¥―É–Φ―¨–Β. –€–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―²―è–Ϋ–Β―²―¹―è –±–Β―¹―¹–Ψ–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ϋ–Ψ―΅―¨... –£―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –¥–Β–Ϋ―¨... –‰ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α –Ϋ–Β –Ω–Ψ―à–Β–Μ –Ϋ–Α –Ζ–Α–≤–Ψ–¥. –ù―É–¥–Ϋ–Ψ, –Ω–Α–Κ–Ψ―¹―²–Ϋ–Ψ, ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ –Ϋ–Α ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Β. –£–Α–Μ―è―é―¹―¨ –Ϋ–Α –¥–Η–≤–Α–Ϋ–Β, ―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ . –ü―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η―² –¥–Β–Ϋ―¨ –≤ ―²―Ä–Β–≤–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ζ–¥―É–Φ―¨–Β. –€–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―²―è–Ϋ–Β―²―¹―è –±–Β―¹―¹–Ψ–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ϋ–Ψ―΅―¨... –£―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –¥–Β–Ϋ―¨...
–£–Β―΅–Β―Ä–Ψ–Φ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥―è―² –Κ–Ψ –Φ–Ϋ–Β –ö―É―²–Β–Ι–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Η –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Β–≤. –ü―Ä―è–Φ–Ψ ―¹ ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄.
–û–±–Α –≤―¹―²―Ä–Β–≤–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β, –≤–Ζ–≤–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β.
βÄî –ß―²–Ψ –Ε–Β ―²―΄ –≤ ―²–Α–Κ―É―é ―¹―²―Ä–Α–¥–Ϋ―É―é –Ω–Ψ―Ä―É –Ζ–Α–±–Ψ–Μ–Β–Μ? βÄî ―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α–Β―² –ï―³―Ä–Β–Φ –ö―É―²–Β–Ι–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤.
βÄî –ë–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ―¨ βÄî –Ϋ–Β –Φ–Α―²―¨ ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Α―è, –Ζ–Μ–Α―è –Φ–Α―΅–Β―Ö–Α –¥–Μ―è ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α, βÄî –Ω―Ä–Η–Φ–Η―Ä–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² –£–Α―¹―è –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Β–≤.
–€–Ψ–Μ―΅―É. –ü―Ä―è―΅―É –≥–Μ–Α–Ζ–Α –Ψ―² ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Β–Ι, –±–Ψ―é―¹―¨ –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η―²―¨―¹―è –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥–Ψ–Φ.
βÄî –Δ–Β–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Α-―²–Ψ –Κ–Α–Κ–Α―è? βÄî –¥–Ψ–Ω―΄―²―΄–≤–Α–Β―²―¹―è –£–Α―¹–Η–Μ–Η–Ι. –ù–Β –≤―΄–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α―é –Η –Ζ–Μ–Ψ –Ψ―²–≤–Β―΅–Α―é:
βÄî –ö–Α–Κ ―É –≤―¹–Β―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι. –ö–Ψ–Φ―É –¥–Ψ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –¥–Β–Μ–Ψ? –ï―³―Ä–Β–Φ ―¹ –£–Α―¹–Η–Μ–Η–Β–Φ –Ω–Β―Ä–Β–≥–Μ―è–Ϋ―É–Μ–Η―¹―¨. –ü–Ψ–Φ–Ψ–Μ―΅–Α–Μ–Η. –ü–Ψ―²–Ψ–Φ –ö―É―²–Β–Ι–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ:
βÄî –≠―²–Ψ –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨?
βÄî –ö–Α–Κ ―Ö–Ψ―²–Η―²–Β. –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―²
17.05.201400:1117.05.2014 00:11:10
0
16.05.201400:5416.05.2014 00:54:43

–Γ–Κ–Ψ―Ä–Ψ–Ω–Ψ―¹―²–Η–Ε–Ϋ–Ψ ―¹–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤–Β―Ü, –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ –£―΄―¹―à–Β–≥–Ψ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Η–Φ. –€.–£.–Λ―Ä―É–Ϋ–Ζ–Β, –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –£–€–Λ –Γ–Α―à–Α –ö–Μ–Β–≤–Η―Ü.
–û–¥–Ϋ–Ψ–Κ–Α―à–Ϋ–Η–Κ–Η - –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü―΄, –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Η –£―΄―¹―à–Β–≥–Ψ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Η–Φ. –€.–£.–Λ―Ä―É–Ϋ–Ζ–Β –≤―΄―Ä–Α–Ε–Α―é―² –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Ψ–Β ―¹–Ψ–±–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ –Η –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Η–Φ –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ–≥–Ψ.
–Γ–≤–Β―²–Μ–Α―è –Ω–Α–Φ―è―²―¨ –Ψ–± –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Β –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–Β –ö–Μ–Β–≤–Η―Ü–Β –Ϋ–Α–≤―¹–Β–≥–¥–Α ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η―²―¹―è –≤ –Ϋ–Α―à–Η―Ö ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Α―Ö.
16.05.201400:5416.05.2014 00:54:43
0
16.05.201400:3916.05.2014 00:39:57
–½–Α –¥–≤–Α –¥–Ϋ―è –¥–Ψ –Ω–Α―Ä–Α–¥–Α –Φ―΄ –≤–Β―΅–Β―Ä–Ψ–Φ ―¹―ä–Β–Ζ–¥–Η–Μ–Η –Ϋ–Α –ö―Ä–Α―¹–Ϋ―É―é –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥―¨, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―²–Α–Φ, –Ϋ–Α –±―Ä―É―¹―΅–Α―²–Ψ–Ι –Φ–Ψ―¹―²–Ψ–≤–Ψ–Ι, –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Η―²―¨―¹―è –Η –Ω–Ψ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ ―²–≤―ë―Ä–¥–Ψ―¹―²―¨ ―à–Α–≥–Α. –ü―Ä–Η –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Η ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Φ–Α―Ä―à–Β–Φ ―É –€–Α–≤–Ζ–Ψ–Μ–Β―è –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü―΄ –≤―΄–Ζ–≤–Α–Μ–Η –≤–Ψ―¹―Ö–Η―â–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ¬Ϊ–Φ–Ψ―Ä―è―Ü–Κ–Ψ–Ι¬Μ –≤―΄–Ω―Ä–Α–≤–Κ–Ψ–Ι ―É –≤―¹–Β―Ö –Ϋ–Β–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ζ―Ä–Η―²–Β–Μ–Β–Ι, –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è ―É –Ζ–¥–Α–Ϋ–Η―è –™–Θ–€–Α, –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É–Ϋ–Η–≤–Β―Ä–Φ–Α–≥–Α –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄. –ù–Α–Κ–Α–Ϋ―É–Ϋ–Β –ü–Β―Ä–≤–Ψ–Φ–Α―è –Φ―΄ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–Μ–Η ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Β–≤ –Η –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤. –ü–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é ―¹―²–Α–Μ–Ψ ―΅–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –≤ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ ―é–±–Η–Μ–Β–Ι–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Α―²–Ψ–Ι –Φ–Ψ–Β–≥–Ψ ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è. –Γ–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ψ―² ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Α –≤ –Φ–Ψ–Ι –Α–¥―Ä–Β―¹ ―¹–Μ–Ψ–≤–Α –Η –≤―¹―ë, ―΅―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ψ ―¹ ―ç―²–Η–Φ –≤–Β―΅–Β―Ä–Ψ–Φ, ―¹―²–Α–Μ–Ψ –¥–Μ―è –Φ–Β–Ϋ―è –Ω–Ψ-–Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–Φ―É –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ―΄–Φ –Η –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Η–Φ. –£ –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ω–Ψ–¥–Α―Ä–Ψ–Κ, –≤―Ä―É―΅―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Α–Φ–Η: –Φ–Α–Κ–Β―² –Π–Α―Ä―¨-–Ω―É―à–Κ–Η ―¹ –Ϋ–Α–¥–Ω–Η―¹―¨―é ¬Ϊ–ù.–€.–ë–Α―΅–Κ–Ψ–≤―É –≤ –¥–Β–Ϋ―¨ 50-–Μ–Β―²–Η―è –Ψ―² –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η―è¬Μ. –ù–Α–Κ–Α–Ϋ―É–Ϋ–Β –ü–Β―Ä–≤–Ψ–Φ–Α―è –Φ―΄ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–Μ–Η ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Β–≤ –Η –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤. –ü–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é ―¹―²–Α–Μ–Ψ ―΅–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –≤ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ ―é–±–Η–Μ–Β–Ι–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Α―²–Ψ–Ι –Φ–Ψ–Β–≥–Ψ ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è. –Γ–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ψ―² ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Α –≤ –Φ–Ψ–Ι –Α–¥―Ä–Β―¹ ―¹–Μ–Ψ–≤–Α –Η –≤―¹―ë, ―΅―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ψ ―¹ ―ç―²–Η–Φ –≤–Β―΅–Β―Ä–Ψ–Φ, ―¹―²–Α–Μ–Ψ –¥–Μ―è –Φ–Β–Ϋ―è –Ω–Ψ-–Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–Φ―É –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ―΄–Φ –Η –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Η–Φ. –£ –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ω–Ψ–¥–Α―Ä–Ψ–Κ, –≤―Ä―É―΅―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Α–Φ–Η: –Φ–Α–Κ–Β―² –Π–Α―Ä―¨-–Ω―É―à–Κ–Η ―¹ –Ϋ–Α–¥–Ω–Η―¹―¨―é ¬Ϊ–ù.–€.–ë–Α―΅–Κ–Ψ–≤―É –≤ –¥–Β–Ϋ―¨ 50-–Μ–Β―²–Η―è –Ψ―² –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η―è¬Μ.
–ù–Β ―É―¹–Ω–Β–Μ–Η –Ψ–≥–Μ―è–Ϋ―É―²―¨―¹―è, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Η–Μ –ü–Β―Ä–≤–Ψ–Φ–Α–Ι. –ü–Β―Ä–Β–¥ –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Α –ö―Ä–Α―¹–Ϋ―É―é –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥―¨ ―è –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Η–Μ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Β–≤ ―¹ ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Ϋ―΄–Φ –≤–Β―¹–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Φ –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ. –€―΄ –Ζ–Α–±–Μ–Α–≥–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–Β―Ö–Α–Μ–Η –≤ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ―É―é ―²–Ψ―΅–Κ―É –≤―΄―¹–Α–¥–Κ–Η –Η–Ζ –Α–≤―²–Ψ–±―É―¹–Ψ–≤ –≤ –ö–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Β―Ä–Β―É–Μ–Κ–Β. –û―²―²―É–¥–Α ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Φ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –ö―Ä–Α―¹–Ϋ―É―é –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥―¨, –Ζ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Ω–Α―Ä–Α–¥–Ϋ―΄–Φ–Η –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α–Φ–Η, –Η –≤―¹―²–Α–Μ–Η ―Ä―è–¥–Ψ–Φ ―¹ ―¹―É–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤―Ü–Α–Φ–Η –ö–Α–Μ–Η–Ϋ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α.
–ù–Α –Ϋ–Α―à–Β ―¹―΅–Α―¹―²―¨–Β, –≤―΄–¥–Α–Μ―¹―è ―²–Β–Ω–Μ―΄–Ι –Η ―¹–Ψ–Μ–Ϋ–Β―΅–Ϋ―΄–Ι –¥–Β–Ϋ―ë–Κ. –Γ―²–Β–Ϋ―΄ –ö―Ä–Β–Φ–Μ―è –Η –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Α―é―â–Η―Ö –Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Ι –Κ―Ä–Α―¹–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Φ ―É–±―Ä–Α–Ϋ―¹―²–≤–Β, ―Ä–Α–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Η –≥–Μ–Α–Ζ.
–†–Ψ–≤–Ϋ–Ψ –≤ –¥–Β―¹―è―²―¨, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –±–Ψ―è –Κ―É―Ä–Α–Ϋ―²–Ψ–≤, ―Ä–Α–Ζ–¥–Α–Μ―¹―è –Ζ―΄―΅–Ϋ―΄–Ι –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –Ω–Α―Ä–Α–¥–Ψ–Φ. –™―Ä―è–Ϋ―É–Μ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Ϋ―΄–Ι –Φ–Α―Ä―à –Ψ―Ä–Κ–Β―¹―²―Ä–Α. –‰–Ζ –Γ–Ω–Α―¹―¹–Κ–Η―Ö –≤–Ψ―Ä–Ψ―² –≤―΄–Β―Ö–Α–Μ –Α–≤―²–Ψ–Φ–Ψ–±–Η–Μ―¨ ―¹ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α―é―â–Η–Φ –Ω–Α―Ä–Α–¥, –Α –Β–Φ―É –Ϋ–Α–≤―¹―²―Ä–Β―΅―É –Ψ―² –‰―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ―É–Ζ–Β―è - –Α–≤―²–Ψ–Φ–Ψ–±–Η–Μ―¨ ―¹ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Φ –Ω–Α―Ä–Α–¥–Ψ–Φ. –ü―Ä–Η–Ϋ―è–≤ ―Ä–Α–Ω–Ψ―Ä―², –Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –†.–·.–€–Α–Μ–Η–Ϋ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι ―¹―²–Α–Μ –Ψ–±―ä–Β–Ζ–Ε–Α―²―¨ –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α –Η –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Μ―è―²―¨ ―¹ –ü–Β―Ä–≤–Ψ–Φ–Α–Β–Φ.
–Γ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –≤–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Η ―Ä–Ψ–±–Ψ―¹―²―¨―é –Ψ–Ε–Η–¥–Α–Μ–Η –Η –Φ―΄ –Ω―Ä–Η–±–Μ–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –€–Α–Μ–Η–Ϋ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ –Κ–Ψ–Μ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Β ―¹―É–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤―Ü–Β–≤ –Η –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Β–≤. –‰ –≤–Ψ―² –Β–≥–Ψ –Α–≤―²–Ψ–Φ–Α―à–Η–Ϋ–Α, ―Ä–Α–Ζ–≤–Β―Ä–Ϋ―É–≤―à–Η―¹―¨, –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Ϋ–Α―à–Η–Φ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Ψ–Φ. –· ―É–Μ–Ψ–≤–Η–Μ –Ψ–¥–Ψ–±―Ä–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é ―É–Μ―΄–±–Κ―É –Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―Ü–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ϋ―ë―¹: ¬Ϊ–½–¥―Ä–Α–≤―¹―²–≤―É–Ι―²–Β, ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Η ―¹―É–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤―Ü―΄ –Η –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü―΄!¬Μ –€―΄ ―΅―²–Ψ –Β―¹―²―¨ –¥―É―Ö―É –¥―Ä―É–Ε–Ϋ–Ψ –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ–Η: ¬Ϊ–½–¥―Ä–Α–≤–Η―è –Ε–Β–Μ–Α–Β–Φ, ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –€–Α―Ä―à–Α–Μ –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α!¬Μ –‰ ―²–Α–Κ –Ε–Β –Ζ–≤–Ψ–Ϋ–Κ–Ψ, –Ϋ–Ψ –Β―â―ë –≥―Ä–Ψ–Φ―΅–Β ―²―Ä–Η–Ε–¥―΄ –Ω―Ä–Ψ–Κ―Ä–Η―΅–Α–Μ–Η ¬Ϊ―É―Ä–Α!¬Μ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Α–≤―²–Ψ–Φ–Α―à–Η–Ϋ–Α ―É–¥–Α–Μ–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ψ―² –Ϋ–Α―¹, ―è –Ω―Ä–Ψ ―¹–Β–±―è –Ψ―²–Φ–Β―²–Η–Μ: ¬Ϊ–€–Ψ–Μ–Ψ–¥―Ü―΄ –Φ–Ψ–Η –Ω–Η―²–Ψ–Φ―Ü―΄!¬Μ
–€―΄ ―¹ –Ϋ–Β―²–Β―Ä–Ω–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ε–¥–Α–Μ–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄ ¬Ϊ–ö ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Φ–Α―Ä―à―ɬΜ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω―Ä–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ –Κ –‰―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Φ―É–Ζ–Β―é –Η –Ω―Ä–Ψ–Ι―²–Η –Ω–Α―Ä–Α–¥–Ϋ―΄–Φ ―à–Α–≥–Ψ–Φ –Φ–Η–Φ–Ψ –€–Α–≤–Ζ–Ψ–Μ–Β―è, –Ϋ–Α ―²―Ä–Η–±―É–Ϋ–Α―Ö –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ ―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ –Ω–Α―Ä―²–Η–Η –Η ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄, –≤―΄―¹―à–Β–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –£–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Γ–Η–Μ. –Γ―΅–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Φ–Η–Ϋ―É―²―΄ –¥–Μ–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Α―à–Β –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Ω―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β. –ù–Ψ ―è ―É―¹–Ω–Β–Μ ―Ä–Α―¹―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨ –Ϋ–Α ―²―Ä–Η–±―É–Ϋ–Β ―É–Μ―΄–±–Α―é―â–Β–≥–Ψ―¹―è –ù.–Γ.–Ξ―Ä―É―â–Β–≤–Α ―¹ –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è―²–Ψ–Ι –≤ ―Ä―É–Κ–Β ―à–Μ―è–Ω–Ψ–Ι, –†.–·.–€–Α–Μ–Η–Ϋ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, –Γ. –™.–™–Ψ―Ä―à–Κ–Ψ–≤–Α –Η –¥―Ä―É–≥–Η―Ö, –Ω―Ä–Η–≤–Β―²–Μ–Η–≤–Ψ –Ψ―²–¥–Α–≤―à–Η―Ö –Ϋ–Α–Φ ―΅–Β―¹―²―¨. –ê ―²–Α–Κ–Ε–Β ―É―¹–Μ―΄―à–Α–Μ –±―É―Ä–Ϋ―΄–Β –Α–Ω–Μ–Ψ–¥–Η―¹–Φ–Β–Ϋ―²―΄ –≤ –Ϋ–Α―à –Α–¥―Ä–Β―¹ –Η –≤–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≤―΄–Κ―Ä–Η–Κ–Η ―¹ –≥–Ψ―¹―²–Β–≤―΄―Ö . –î–Ψ–Ι–¥―è –¥–Ψ ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–¥–Α–Ϋ―²–Ψ–Φ –Φ–Β―¹―²–Α, ―è –≤―΄―à–Β–Μ –Η–Ζ ―¹―²―Ä–Ψ―è –Η –Ψ–Κ–Η–Ϋ―É–Μ –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥–Ψ–Φ –¥–≤–Η–Ε―É―â–Η–Β―¹―è, –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ –Μ–Η–Ϋ–Β–Β―΅–Κ–Β, ―à–Β―Ä–Β–Ϋ–≥–Η ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―É―¹–Β―Ä–¥–Ϋ–Ψ –≤―΄―à–Α–≥–Η–≤–Α―é―â–Η―Ö –Ω–Η―²–Ψ–Φ―Ü–Β–≤. –Γ–Β―Ä–¥―Ü–Β –Φ–Ψ―ë –Ψ–Κ–Α―²–Η–Μ–Ψ ―²―ë–Ω–Μ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ―² ―²–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Α–Κ, –Β–¥–≤–Α –Ω–Ψ―¹–Ω–Β–≤–Α―è, ―¹―²–Α―Ä–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –¥–Β―Ä–Ε–Α ―Ä–Α–≤–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β, ―à–Μ–Η –Ϋ–Α –Μ–Β–≤–Ψ–Φ ―³–Μ–Α–Ϋ–≥–Β ―¹–Α–Φ―΄–Β –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Η–Β - –ê–Μ–Η–Κ –Ξ–Α―Ä–Κ―É―²–Α –Η –€–Η―à–Α –™–Ψ―Ä–Β–Μ–Η–Κ. –î–Ψ–Ι–¥―è –¥–Ψ ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–¥–Α–Ϋ―²–Ψ–Φ –Φ–Β―¹―²–Α, ―è –≤―΄―à–Β–Μ –Η–Ζ ―¹―²―Ä–Ψ―è –Η –Ψ–Κ–Η–Ϋ―É–Μ –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥–Ψ–Φ –¥–≤–Η–Ε―É―â–Η–Β―¹―è, –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ –Μ–Η–Ϋ–Β–Β―΅–Κ–Β, ―à–Β―Ä–Β–Ϋ–≥–Η ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―É―¹–Β―Ä–¥–Ϋ–Ψ –≤―΄―à–Α–≥–Η–≤–Α―é―â–Η―Ö –Ω–Η―²–Ψ–Φ―Ü–Β–≤. –Γ–Β―Ä–¥―Ü–Β –Φ–Ψ―ë –Ψ–Κ–Α―²–Η–Μ–Ψ ―²―ë–Ω–Μ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ―² ―²–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Α–Κ, –Β–¥–≤–Α –Ω–Ψ―¹–Ω–Β–≤–Α―è, ―¹―²–Α―Ä–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –¥–Β―Ä–Ε–Α ―Ä–Α–≤–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β, ―à–Μ–Η –Ϋ–Α –Μ–Β–≤–Ψ–Φ ―³–Μ–Α–Ϋ–≥–Β ―¹–Α–Φ―΄–Β –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Η–Β - –ê–Μ–Η–Κ –Ξ–Α―Ä–Κ―É―²–Α –Η –€–Η―à–Α –™–Ψ―Ä–Β–Μ–Η–Κ.
–· –≤–Ψ―à–Β–Μ –Ϋ–Α ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Κ―É. –Δ–Α–Φ ―É–Ε–Β ―¹―²–Ψ―è–Μ–Η –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ―΄, –≤–Ψ–Ζ–≥–Μ–Α–≤–Μ―è–≤―à–Η–Β ―¹–≤–Ψ–Η –Ω–Α―Ä–Α–¥–Ϋ―΄–Β –±–Α―²–Α–Μ―¨–Ψ–Ϋ―΄. –Γ―Ä–Β–¥–Η –Ϋ–Η―Ö –±―΄–Μ –Η –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –Γ.–î.–Γ–Ψ–Μ–Ψ―É―Ö–Η–Ϋ, –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –£―΄―¹―à–Β–≥–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Η–Φ–Β–Ϋ–Η –€.–£. –Λ―Ä―É–Ϋ–Ζ–Β (–Ψ―à–Η–±–Κ–Α, –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –≤ ―ç―²–Ψ―² –≥–Ψ–¥ –±―΄–Μ –î.–™.–£–Α–Ϋ–Η―³–Α―²―¨–Β–≤). –€―΄ –Ω–Ψ–Ω―Ä–Η–≤–Β―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Η –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η –¥―Ä―É–≥ –¥―Ä―É–≥–Α ―¹ –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ, ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Φ–Α―Ä―à–Β–Φ. –½–¥–Β―¹―¨ –Ε–Β –Ϋ–Β–≤–¥–Α–Μ–Β–Κ–Β ―è ―É–≤–Η–¥–Β–Μ –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―¹–Φ–Ψ–Ϋ–Α–≤―²–Α –Φ–Α–Ι–Ψ―Ä–Α –°―Ä–Η―è –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅–Α –™–Α–≥–Α―Ä–Η–Ϋ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –¥–≤–Β –Ϋ–Β–¥–Β–Μ–Η –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Α –±―É―Ä–Ϋ–Ψ ―΅–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ―ë―²–Α –≤ –Κ–Ψ―¹–Φ–Ψ―¹. –ù–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Ψ–±–Η–Μ―¹―è –Κ–Ψ –Φ–Ϋ–Β –Η –≤―΄―Ä–Α–Ζ–Η–Μ ―¹–≤–Ψ―ë –≤–Ψ―¹―Ö–Η―â–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Α–Φ–Η. –€―΄ –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Η–Μ–Η―¹―¨, –Η ―è –Ϋ–Β ―É–Ω―É―¹―²–Η–Μ ―¹–Μ―É―΅–Α―è –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―¹–Η―²―¨ –™–Β―Ä–Ψ―è –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –≤ –Ϋ–Α―à–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Η –Ϋ–Α ¬Ϊ–ê–≤―Ä–Ψ―Ä―É¬Μ, ―è–≤–Μ―è–≤―à―É―é―¹―è –Ϋ–Α―à–Η–Φ ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―ë–Φ. –û–Ϋ ―¹ ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²―¨―é –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ –Φ–Ψ―ë –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―à–Β–Ϋ–Η–Β, –Ω–Ψ–Ψ–±–Β―â–Α–≤ –≤―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –Ϋ–Α–≤–Β―¹―²–Η―²―¨... –ü–Β―Ä–≤―΄–Ι –≤ –Φ–Η―Ä–Β –Μ–Β―²―΅–Η–Κ-–Κ–Ψ―¹–Φ–Ψ–Ϋ–Α–≤―² –Γ–Γ–Γ–† –™–Β―Ä–Ψ–Ι –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –°.–ê.–™–Α–≥–Α―Ä–Η–Ϋ ―¹―Ä–Β–¥–Η –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Β–≤ –Ϋ–Α ¬Ϊ–ê–≤―Ä–Ψ―Ä–Β¬Μ. –ü–Β―Ä–≤―΄–Ι –≤ –Φ–Η―Ä–Β –Μ–Β―²―΅–Η–Κ-–Κ–Ψ―¹–Φ–Ψ–Ϋ–Α–≤―² –Γ–Γ–Γ–† –™–Β―Ä–Ψ–Ι –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –°.–ê.–™–Α–≥–Α―Ä–Η–Ϋ ―¹―Ä–Β–¥–Η –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Β–≤ –Ϋ–Α ¬Ϊ–ê–≤―Ä–Ψ―Ä–Β¬Μ.
–½–Α–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α―²―¨―¹―è –≤ ―¹―²–Ψ–Μ–Η―Ü–Β –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²–Η. –£ –Ϋ–Ψ―΅―¨ –Ϋ–Α 2 –Φ–Α―è ―è –≤―΄–Β―Ö–Α–Μ –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥ –Ϋ–Α ¬Ϊ–ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Β–Μ–Β¬Μ, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―è―¹―¨ –Ω–Ψ–¥ –≤–Ψ–Μ–Ϋ―É―é―â–Η–Φ–Η –≤–Ω–Β―΅–Α―²–Μ–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η –Ω–Α―Ä–Α–¥–Α –Η ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³―É―Ä―à–Β―²–Α –≤ –ö―Ä–Β–Φ–Μ–Β.
–Θ―²―Ä–Ψ–Φ –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä―Ä–Ψ–Ϋ–Β –≤–Ψ–Κ–Ζ–Α–Μ–Α –Φ–Β–Ϋ―è ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Ϋ–Ψ –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –Δ–Α―Ä―à–Η–Ϋ. –Γ–Μ–Β–¥–Ψ–Φ –Ω–Ψ―¹–Ω–Β–Μ –Η ―¹–Ω–Β―Ü–Ω–Ψ–Β–Ζ–¥ ―¹ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Α–Φ–Η –Η–Ζ –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄. –ß–Β―Ä–Β–Ζ ―΅–Α―¹ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Β –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η ―¹ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α–Φ–Η, –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ―è–Φ–Η –Η ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―è–Φ–Η ―É―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ–Η –Ϋ–Α–Φ ―²―ë–Ω–Μ―΄–Ι –Η ―¹–Β―Ä–¥–Β―΅–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä–Η―ë–Φ –Ϋ–Α –ü–Β―²―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Α–±–Β―Ä–Β–Ε–Ϋ–Ψ–Ι. –•–Α–Μ―¨, ―΅―²–Ψ ―¹―Ä–Β–¥–Η –Ϋ–Η―Ö –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Φ–Ψ–Β–Ι –ù–Η–Ϋ―΄ –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Β–≤–Ϋ―΄.
...–û–Ω―è―²―¨ –Ω–Ψ―²–Β–Κ–Μ–Η ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ―΄–Β –Η ―É–Ω―Ä―è–Φ―΄–Β –¥–Ϋ–Η ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄―Ö ―Ö–Μ–Ψ–Ω–Ψ―² –Η –±―É–¥–Ϋ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄.
–£ ―¹–Β―Ä–Β–¥–Η–Ϋ–Β –Φ–Α―è, 19-–≥–Ψ ―΅–Η―¹–Μ–Α, –Φ–Ψ–Η –Ω–Η―²–Ψ–Φ―Ü―΄ –Ψ―²–Φ–Β―²–Η–Μ–Η –¥–Β–Ϋ―¨ ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Η–Ψ–Ϋ–Β―Ä–Η–Η. –£ ―΅–Β―¹―²―¨ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü―΄ 5-―Ö, 6-―Ö –Η 7-―Ö –Κ–Μ–Α―¹―¹–Ψ–≤ –Ω–Ψ–≤―è–Ζ–Α–Μ–Η –Ω–Ψ–¥ ―¹–≤–Ψ–Η ―³–Ψ―Ä–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―²–Β–Φ–Ϋ–Ψ-―¹–Η–Ϋ–Η–Β –≤–Ψ―Ä–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Η –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Β –≥–Α–Μ―¹―²―É–Κ–Η. –ù–Β–Ζ–Α–±―΄–≤–Α–Β–Φ―΄–Β –Φ–Η–Ϋ―É―²―΄ ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Η–Ψ–Ϋ–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Μ–Η–Ϋ–Β–Ι–Κ–Η. –· - –≤ ―Ä–Ψ–Μ–Η –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Η–Ψ–Ϋ–Β―Ä–≤–Ψ–Ε–Α―²–Ψ–≥–Ψ. –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤–Β―Ü –Ω―è―²–Ψ–≥–Ψ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α –£–Ψ–Μ–Ψ–¥―è –£–Η–Ϋ–Ψ–Κ―É―Ä–Ψ–≤, –≤―΄―¹–Ψ―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Β –Ω–Ψ –≥–Ψ–¥–Α–Φ –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ψ―¹–Β―Ü –Ϋ–Α―à–Β–Ι –Ω–Η–Ψ–Ϋ–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ψ –Η–Φ―è –™–Β―Ä–Ψ―è –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Α –ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η―è –ù–Η–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Α. –≠―²–Ψ –Ϋ–Α–¥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –≤–Η–¥–Β―²―¨, ―¹ –Κ–Α–Κ–Η–Φ ―ç–Ϋ―²―É–Ζ–Η–Α–Ζ–Φ–Ψ–Φ –Ϋ–Α –Φ–Α―Ä―à–Β ¬Ϊ–Ψ―²–±–Η–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Ψ–Ε–Κ―É¬Μ –Ϋ–Β–¥–Α–≤–Ϋ–Η–Β –Ω–Α―Ä–Α–¥–Ϋ–Η–Κ–Η. –ü–Ψ―¹–Μ–Β ―É–Ε–Η–Ϋ–Α –±―΄–Μ –±–Μ–Β―¹―²―è―â–Η–Ι –Ω–Η–Ψ–Ϋ–Β―Ä―¹–Κ–Η–Ι –±–Α–Μ, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ω―Ä–Η―à–Μ–Η ―É―΅–Α―â–Η–Β―¹―è –Η–Ζ –Ω–Ψ–¥―à–Β―³–Ϋ–Ψ–Ι ―à–Κ–Ψ–Μ―΄, ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Η –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Β–≤-–Μ–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―Ü–Β–≤. –°–Ϋ―΄–Β –Ω–Η–Ψ–Ϋ–Β―Ä―΄ ―Ä–Β–Ζ–≤–Η–Μ–Η―¹―¨, –Η–≥―Ä–Α–Μ–Η –≤ ―¹–≤–Ψ–Η –Μ―é–±–Η–Φ―΄–Β –Η–≥―Ä―΄ –Η –¥–Α–Ε–Β ―²–Α–Ϋ―Ü–Β–≤–Α–Μ–Η –Ω–Ψ–¥ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Ϋ―΄–Ι –Ψ―Ä–Κ–Β―¹―²―Ä. –ü―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤―É―é―â–Η–Β –≤―΄―Ä–Α–Ε–Α–Μ–Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ―É –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Ψ―²–¥–Β–Μ–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ―É 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ê.–ê.–Γ―²–Β–Ϋ–Η–Ϋ―É ―¹–≤–Ψ―ë –≤–Ψ―¹―Ö–Η―â–Β–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥―è―â–Η–Φ–Η ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è–Φ–Η –≤ –Κ–Μ―É–±–Β, –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η–Β ―¹―²–Β–Ϋ―΄ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –±―΄–Μ–Η –Ψ–±–Μ–Η―Ü–Ψ–≤–Α–Ϋ―΄ ―¹―²–Α―Ä–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹–Η–Ϋ–Β–≤–Α―²―΄–Φ–Η –Η–Ζ―Ä–Α–Ζ―Ü–Α–Φ–Η –Ϋ–Α ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ―É―é ―²–Β–Φ–Α―²–Η–Κ―É. –ü–Ψ―¹–Μ–Β ―É–Ε–Η–Ϋ–Α –±―΄–Μ –±–Μ–Β―¹―²―è―â–Η–Ι –Ω–Η–Ψ–Ϋ–Β―Ä―¹–Κ–Η–Ι –±–Α–Μ, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ω―Ä–Η―à–Μ–Η ―É―΅–Α―â–Η–Β―¹―è –Η–Ζ –Ω–Ψ–¥―à–Β―³–Ϋ–Ψ–Ι ―à–Κ–Ψ–Μ―΄, ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Η –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Β–≤-–Μ–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―Ü–Β–≤. –°–Ϋ―΄–Β –Ω–Η–Ψ–Ϋ–Β―Ä―΄ ―Ä–Β–Ζ–≤–Η–Μ–Η―¹―¨, –Η–≥―Ä–Α–Μ–Η –≤ ―¹–≤–Ψ–Η –Μ―é–±–Η–Φ―΄–Β –Η–≥―Ä―΄ –Η –¥–Α–Ε–Β ―²–Α–Ϋ―Ü–Β–≤–Α–Μ–Η –Ω–Ψ–¥ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Ϋ―΄–Ι –Ψ―Ä–Κ–Β―¹―²―Ä. –ü―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤―É―é―â–Η–Β –≤―΄―Ä–Α–Ε–Α–Μ–Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ―É –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Ψ―²–¥–Β–Μ–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ―É 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ê.–ê.–Γ―²–Β–Ϋ–Η–Ϋ―É ―¹–≤–Ψ―ë –≤–Ψ―¹―Ö–Η―â–Β–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥―è―â–Η–Φ–Η ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è–Φ–Η –≤ –Κ–Μ―É–±–Β, –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η–Β ―¹―²–Β–Ϋ―΄ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –±―΄–Μ–Η –Ψ–±–Μ–Η―Ü–Ψ–≤–Α–Ϋ―΄ ―¹―²–Α―Ä–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹–Η–Ϋ–Β–≤–Α―²―΄–Φ–Η –Η–Ζ―Ä–Α–Ζ―Ü–Α–Φ–Η –Ϋ–Α ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ―É―é ―²–Β–Φ–Α―²–Η–Κ―É.
...–‰―¹―²–Β–Κ–Α–Μ –Φ–Β―¹―è―Ü –Φ–Α–Ι. –Θ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Β–≤ ―¹–Β–Φ–Η –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²–Ϋ―΄―Ö –≥―Ä―É–Ω–Ω –Ζ–Α–Κ–Α–Ϋ―΅–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ―΄ ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ–¥–Α. –û–¥–Η–Ϋ–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²–Η–Κ–Μ–Α―¹―¹–Ϋ–Η–Κ–Η –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Κ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ―΄–Φ ―ç–Κ–Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ–Α–Φ –Ϋ–Α –Α―²―²–Β―¹―²–Α―² –Ζ―Ä–Β–Μ–Ψ―¹―²–Η. –Γ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Φ, ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η –Ψ–±―΄―΅–Ϋ―΄–Φ–Η –¥–Β–Μ–Α–Φ–Η –Η –Ζ–Α–±–Ψ―²–Α–Φ–Η.
–£ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –Φ–Α―è ―É –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Β–≤-–≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Κ–Α–Κ –Η –≤–Ψ –≤―¹–Β―Ö ―à–Κ–Ψ–Μ–Α―Ö ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄, –±―΄–Μ–Ψ ―ç–Κ–Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Ψ―΅–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–Φ―É ―è–Ζ―΄–Κ―É –Η –Μ–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Β. –£ –Κ–Ψ–Ϋ―³–Β―Ä–Β–Ϋ―Ü-–Ζ–Α–Μ–Β –Ζ–Α –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹―²–Ψ–Μ–Α–Φ–Η ―¹–Η–¥–Β–Μ–Η –Η –Ω–Ψ―²–Β–Μ–Η –Ϋ–Α–¥ –Η–Ζ–±―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Α–Ε–¥―΄–Φ ―ç–Κ–Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ―É―é―â–Η–Φ―¹―è ―²–Β–Φ–Ψ–Ι. –£―¹–Β, –Η –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü―΄, –Η –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ–Η, –Ψ–¥–Β―²―΄ –Ω–Ψ-–Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Φ―É, –Ϋ–Α ―¹―²–Ψ–Μ–Α―Ö –±―É–Κ–Β―²―΄ ―Ü–≤–Β―²–Ψ–≤. –Θ―΅–Η―²–Β–Μ―è –Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Α–Ε–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Φ–Β–Ε–¥―É ―¹―²–Ψ–Μ–Α–Φ–Η, –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α―è –Ζ–Α ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ψ–Ι ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–Ψ–Ω–Β―΅–Ϋ―΄―Ö. –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü―΄ ―²―Ä―É–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ ―¹―²–Α―Ä–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ, ―¹ ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –≤ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è―Ö. –Θ―΅–Η–Μ–Η―â–Β ―²–Ψ–≥–¥–Α –¥–Α–≤–Α–Μ–Ψ –≤–Β―¹―¨–Φ–Α –≤―΄―¹–Ψ–Κ―É―é –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ―É –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Α–Φ, –Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö –Ψ–Κ–Α–Ϋ―΅–Η–≤–Α–Μ–Η ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β ―¹ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Φ –Α―²―²–Β―¹―²–Α―²–Ψ–Φ –Ζ―Ä–Β–Μ–Ψ―¹―²–Η, –Α –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β - ―¹ –Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²―΄–Φ–Η –Φ–Β–¥–Α–Μ―è–Φ–Η. –£ ―²–Ψ–Φ, 1961 –≥–Ψ–¥―É –Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²―΄–Β –Φ–Β–¥–Α–Μ–Η –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Η –¥–≤–Ψ–Β –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Β–≤ - –€–Α―Ä―²―΄–Ϋ–Ψ–≤ –Η –ü–Η―â–Β–Ϋ–Κ–Ψ–≤. –ù–Α ―à–Μ―é–Ω–Κ–Β –Ω–Ψ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Ψ–Ζ–Β―Ä―É.–£ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β –Η―é–Ϋ―è, –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Μ–Β―²–Ϋ–Η–Φ–Η –Κ–Α–Ϋ–Η–Κ―É–Μ–Α–Φ–Η, –≤―¹–Β―Ö –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η –≤ –Ψ–Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Μ–Α–≥–Β―Ä―¨, ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Α –ö–Α―Ä–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω–Β―Ä–Β―à–Β–Ι–Κ–Β ―É –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤ ―΅―É–¥–Β―¹–Ϋ–Β–Ι―à–Β–≥–Ψ –Ψ–Ζ–Β―Ä–Α, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–≤―à–Β–≥–Ψ ―¹–≤–Ψ―ë –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Β –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β - –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Β. –Δ–Α–Φ –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Φ–Β―¹―è―Ü–Α –Ϋ–Α―à–Η –Ω–Η―²–Ψ–Φ―Ü―΄ –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η―¹―¨ ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Ψ–¥–Α ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Η–≤–Ϋ―΄–Φ–Η –Η–≥―Ä–Α–Φ–Η, –Ϋ–Α ―à–Μ―é–Ω–Κ–Α―Ö ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Ω–Ψ –Ψ–Ζ–Β―Ä―É –Ϋ–Α –≤―ë―¹–Μ–Α―Ö –Η –Ω–Ψ–¥ –Ω–Α―Ä―É―¹–Α–Φ–Η, –Κ―É–Ω–Α–Μ–Η―¹―¨ –Η ―¹–Ψ―Ä–Β–≤–Ϋ–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Η. –ê –Β―â―ë ―¹ ―É–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η–Β–Φ –Η–≥―Ä–Α–Μ–Η –≤ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Η–≥―Ä―΄ –Ϋ–Α –Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–Μ–Η ―è–≥–Ψ–¥―΄ –Η –≥―Ä–Η–±―΄ –≤ –Μ–Β―¹―É. –ù–Α ―à–Μ―é–Ω–Κ–Β –Ω–Ψ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Ψ–Ζ–Β―Ä―É.–£ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β –Η―é–Ϋ―è, –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Μ–Β―²–Ϋ–Η–Φ–Η –Κ–Α–Ϋ–Η–Κ―É–Μ–Α–Φ–Η, –≤―¹–Β―Ö –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η –≤ –Ψ–Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Μ–Α–≥–Β―Ä―¨, ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Α –ö–Α―Ä–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω–Β―Ä–Β―à–Β–Ι–Κ–Β ―É –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤ ―΅―É–¥–Β―¹–Ϋ–Β–Ι―à–Β–≥–Ψ –Ψ–Ζ–Β―Ä–Α, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–≤―à–Β–≥–Ψ ―¹–≤–Ψ―ë –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Β –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β - –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Β. –Δ–Α–Φ –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Φ–Β―¹―è―Ü–Α –Ϋ–Α―à–Η –Ω–Η―²–Ψ–Φ―Ü―΄ –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η―¹―¨ ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Ψ–¥–Α ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Η–≤–Ϋ―΄–Φ–Η –Η–≥―Ä–Α–Φ–Η, –Ϋ–Α ―à–Μ―é–Ω–Κ–Α―Ö ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Ω–Ψ –Ψ–Ζ–Β―Ä―É –Ϋ–Α –≤―ë―¹–Μ–Α―Ö –Η –Ω–Ψ–¥ –Ω–Α―Ä―É―¹–Α–Φ–Η, –Κ―É–Ω–Α–Μ–Η―¹―¨ –Η ―¹–Ψ―Ä–Β–≤–Ϋ–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Η. –ê –Β―â―ë ―¹ ―É–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η–Β–Φ –Η–≥―Ä–Α–Μ–Η –≤ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Η–≥―Ä―΄ –Ϋ–Α –Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–Μ–Η ―è–≥–Ψ–¥―΄ –Η –≥―Ä–Η–±―΄ –≤ –Μ–Β―¹―É.
–· ―΅–Α―¹―²–Β–Ϋ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α–Β–Ζ–Ε–Α–Μ –Κ –Ϋ–Η–Φ –≤ –Μ–Α–≥–Β―Ä―¨ –Η ―¹ ―É–≤–Μ–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α–Μ –Ζ–Α –Η―Ö ¬Ϊ–Ω―Ä–Ψ–¥–Β–Μ–Κ–Α–Φ–Η¬Μ. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Ψ–Β–Ι –Ζ–Α–±–Ψ―²–Ψ–Ι –≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è ―è–≤–Μ―è–Μ–Α―¹―¨ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―è –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Α –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Β–≤, –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–≤―à–Η―Ö ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β. –ü–Ψ―¹–Μ–Β ―¹–¥–Α―΅–Η –Η–Φ–Η ―ç–Κ–Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ψ–≤ –≤–Β―¹―¨ ―Ä–Η―²―É–Α–Μ –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Α –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –Ϋ–Α –Ω–Α–Μ―É–±–Β ¬Ϊ–ê–≤―Ä–Ψ―Ä―΄¬Μ. –Δ–Α–Φ –Η–Φ ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤―Ä―É―΅–Α–Μ–Η―¹―¨ –Α―²―²–Β―¹―²–Α―²―΄ –Ζ―Ä–Β–Μ–Ψ―¹―²–Η, –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²―¹–Κ–Η–Β –Ω–Ψ–≥–Ψ–Ϋ―΄ –Η –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β –Μ–Β–Ϋ―²―΄ –¥–Μ―è –±–Β―¹–Κ–Ψ–Ζ―΄―Ä–Ψ–Κ. –Δ–Α–Φ, ―É –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Α–≥–Α ¬Ϊ–ê–≤―Ä–Ψ―Ä―΄¬Μ, –Ψ–Ϋ–Η –Ω―Ä–Η―¹―è–≥–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –†–Ψ–¥–Η–Ϋ–Β. –Δ–Α–Φ –Η―Ö –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Μ―è–Μ–Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Ψ―²–¥–Β–Μ–Α –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –±–Α–Ζ―΄ –Η ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Ι –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –ù.–€.–ö―É–Μ–Α–Κ–Ψ–≤, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α, ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Η –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Η–Β. –ù–Α –Ω–Α–Μ―É–±–Β ¬Ϊ–ê–≤―Ä–Ψ―Ä―΄¬Μ. –ù–Α –Ω–Α–Μ―É–±–Β ¬Ϊ–ê–≤―Ä–Ψ―Ä―΄¬Μ.
–ü–Ψ―¹–Μ–Β –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±–Β–¥–Α –Φ–Ψ–Η –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η ―¹ –Ϋ–Α―à–Η–≤–Κ–Α–Φ–Η –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²–Ψ–≤ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –Κ―É―Ä―¹–Α –≤―΄―¹―à–Η―Ö –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö ―É―΅–Η–Μ–Η―â, –¥–Ψ―¹–Β–Μ–Β ―¹–Κ―Ä―΄―²–Ϋ―΄–Β –Κ―É―Ä–Η–Μ―¨―â–Η–Κ–Η, –Ζ–Α–¥―΄–Φ–Η–Μ–Η –Κ–Α–Κ –Ω–Α―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ζ―΄. –Δ―É―² ―É–Ε ―è –Η–Φ –±―΄–Μ –Ϋ–Β ―É–Κ–Α–Ζ―΅–Η–Κ. –ù–Β–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤―΄–Ϋ―É–Μ –Η–Ζ –Κ–Α―Ä–Φ–Α–Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Ι –Η–Ζ–Μ―é–±–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ¬Ϊ–ö–Α–Ζ–±–Β–Κ¬Μ –Η, ―΅―É–≤―¹―²–≤―É―è, ―΅―²–Ψ –¥–Β–Μ–Α―é ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –Ϋ–Β ―²–Α–Κ, –Κ–Α–Κ ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ –±―΄ –≤ ―²–Α–Κ–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β, –Ω―É―¹―²–Η–Μ –Ω–Ψ―Ä―²―¹–Η–≥–Α―Ä –Ω–Ψ –Κ―Ä―É–≥―É.
–£ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β –Η―é–Μ―è –≤―¹–Β –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü―΄ (–Κ―²–Ψ –Η–Ζ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ-–Ψ–Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ–Α–≥–Β―Ä―è, –Κ―²–Ψ ―¹ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α) –±―΄–Μ–Η –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ―΄ –≤ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –¥–Μ―è –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Κ–Η –Κ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ –Η –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Η–Φ –Ϋ–Α –Κ–Α–Ϋ–Η–Κ―É–Μ―΄. –¦–Η―à―¨ ―¹–Η―Ä–Ψ―²―΄ –Η ―²–Β –Φ–Α–Μ―΄―à–Η, –Ζ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ–Η –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ–Η –Η―Ö ―Ä–Ψ–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η, –Ψ―¹―²–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Η ―¹–≤–Ψ–Η –Κ–Α–Ϋ–Η–Κ―É–Μ―΄ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η ¬Ϊ–Ω–Ψ-–¥–Ψ–Φ–Α―à–Ϋ–Β–Φ―É¬Μ –Ϋ–Α –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ –Ψ–Ζ–Β―Ä–Β. –Γ –¥–Β―²―¹–Κ–Ψ–Ι –Ζ–Α–≤–Η―¹―²―¨―é –Ψ–Ϋ–Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–Α–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –¥―Ä―É–Ζ–Β–Ι-―¹–≤–Β―Ä―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ω–Ψ –¥–Ψ–Φ–Α–Φ. –€–Ϋ–Β –Η―¹–Κ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ε–Α–Μ–Κ–Ψ –Η―Ö, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ ―²―É―² –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–Β–Μ–Α–Β―à―¨: ―²–Α–Κ–Ψ–≤―΄ –Ω–Α―Ä–Α–¥–Ψ–Κ―¹―΄ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η. –‰ ―΅―²–Ψ–±―΄ –Κ–Α–Κ-―²–Ψ ―¹–≥–Μ–Α–¥–Η―²―¨ –Η―Ö ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ –Ω–Β―΅–Α–Μ–Η –Η –Μ–Β–≥–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É–Ϋ―΄–Ϋ–Η―è, ―è –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¹―è –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Ϋ–Η–Φ–Η –≤ –Ϋ–Α―à –Μ–Α–≥–Β―Ä―¨, –≥–¥–Β ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Μ–Η –¥–Μ―è –Ϋ–Η―Ö –≤―¹–Β ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è, –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Η–Β –Κ ―¹–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ―΄–Φ. –£―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –Ψ–Ϋ–Η ―¹–Φ–Η―Ä–Η–Μ–Η―¹―¨ ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Ω―Ä–Β–±―΄–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –≤ –Μ–Α–≥–Β―Ä–Β –Η –Κ–Α–Κ –Ϋ–Η –≤ ―΅―ë–Φ –Ϋ–Β –±―΄–≤–Α–Μ–Ψ –±–Ψ–Ι–Κ–Ψ ―Ä–Β–Ζ–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Μ–Ψ–Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–¥―΄.
–û–¥–Ϋ–Α ―΅–Α―¹―²―¨ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ –Η ―É―΅–Η―²–Β–Μ–Β–Ι, –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ψ―² ―²―Ä―É–¥–Ψ–≤ –Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Ϋ―΄―Ö, ―É–Ε–Β –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ –≤ –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Β, –¥―Ä―É–≥–Α―è ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ –Κ –Ϋ–Β–Φ―É. –‰ –Φ–Ϋ–Β –±―΄–Μ –Ω―Ä–Β–¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ –Μ–Β―²–Ϋ–Η–Ι –Ω–Β―Ä–Β―Ä―΄–≤ –≤ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Β.
–£–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Ε–Β–Ϋ–Ψ–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –¥–Ψ ―¹–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ–Α –Ε–Η―²―¨ –≤ –‰–Ζ–Φ–Α–Η–Μ–Β, –Φ―΄ –Ω–Ψ–Β―Ö–Α–Μ–Η ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –≤ –ö–Α―Ä–Μ–Ψ–≤―΄ –£–Α―Ä―΄, –≤ ―¹–Α–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä–Η–Ι ¬Ϊ–‰–Φ–Ω–Β―Ä–Η–Α–Μ¬Μ. –Δ–Α–Φ –≤ ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è, –Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è, –Μ–Β―΅–Η–Μ―¹―è –Η–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ψ―²–¥―΄―Ö–Α–Μ –Φ–Ψ–Ι –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –Γ.–™.–ö―É―΅–Β―Ä–Ψ–≤. –û–Ϋ –±―΄–Μ –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Β ―É–¥–Η–≤–Μ–Β–Ϋ –Φ–Ψ–Η–Φ –Ω–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –≤ ―ç―²–Η―Ö –Κ―Ä–Α―è―Ö, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―è –Β–Φ―É –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η–Μ―¹―è. –Δ–Α–Φ –Ε–Β ―è –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ–Α –ë–Α–±–Α–¥–Ε–Α–Ϋ―è–Ϋ–Α - –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –û–¥–Β―¹―¹–Κ–Η–Φ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ψ–Κ―Ä―É–≥–Ψ–Φ, ―Ä–Α–Ϋ–Β–Β –Φ–Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ ―¹–Μ―É–Ε–±–Β. –≠―²–Ψ―² –¥–Ψ–±―Ä–Β–Ι―à–Η–Ι –Η –Φ–Η–Μ–Β–Ι―à–Η–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Ζ–Α–Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Η–Μ –Φ–Β–Ϋ―è ―¹ –Ω―Ä–Η–±―΄―²–Η–Β–Φ –Ϋ–Α ―¹―²–Ψ–Μ―¨ –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―²–Ϋ―΄–Ι –Κ―É―Ä–Ψ―Ä―². –ü–Ψ ―¹–Ψ―¹–Β–¥―¹―²–≤―É ―¹ –Ϋ–Α―à–Η–Φ –Μ―é–Κ―¹–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―â–Α–Μ–Α―¹―¨ ―΅–Β―²–Α –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Α―Ä―²–Η―¹―²–Α –ß–Β―Ä–Κ–Α―¹–Ψ–≤–Α, –Α ―ç―²–Α–Ε–Ψ–Φ –Ϋ–Η–Ε–Β - ―΅–Β―²–Α –Κ–Ψ–Φ–Ω–Ψ–Ζ–Η―²–Ψ―Ä–Α –Γ–Ψ–Μ–Ψ–≤―¨–Β–≤–Α-–Γ–Β–¥–Ψ–≥–Ψ –Η –Η―Ö ―à―É―Ä–Η–Ϋ–Α –Κ–Ψ–Φ–Ω–Ψ–Ζ–Η―²–Ψ―Ä–Α –û―¹–Κ–Α―Ä–Α –Λ–Β–Μ―΄―Ü–Φ–Α–Ϋ–Α. –Γ –£–Α―¹–Η–Μ–Η–Β–Φ –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤–Η―΅–Β–Φ –Η –û―¹–Κ–Α―Ä–Ψ–Φ ―è ―΅–Α―¹―²–Β–Ϋ―¨–Κ–Ψ –Η–≥―Ä–Α–Μ –≤ –±–Η–Μ―¨―è―Ä–¥. –€―΄ ―²–Α–Κ–Η–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Η–Μ–Η―¹―¨, –Ϋ–Ψ –Η ―¹–±–Μ–Η–Ζ–Η–Μ–Η―¹―¨.
–ü–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¹―è, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―¹―²–Α–Μ–Ψ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ ―è –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α, –£–Α―¹–Η–Μ–Η–Ι –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤–Η―΅ –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –Φ–Ϋ–Β –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨ –¥–Μ―è –Ω–Η―²–Ψ–Φ―Ü–Β–≤ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β―Ä―²-–≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Β, ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹ ―³–Η–Μ―¨–Φ–Ψ–Φ –Ψ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Α―Ö ¬Ϊ–Γ―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è¬Μ. ¬Ϊ–£–Ψ―² –±―É–¥–Β―² –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Ψ! - ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ. - –€―΄ –Ψ–±―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―¹–Η–Φ –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ―² –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β―Ä―² –ß–Β―Ä–Κ–Α―¹–Ψ–≤–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―¹–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ―¹―è –≤ ―ç―²–Ψ–Φ ―³–Η–Μ―¨–Φ–Β –≤ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Ψ–Μ–Η¬Μ.

–ü–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―΄ ―¹ –ß–Β―Ä–Κ–Α―¹–Ψ–≤―΄–Φ –£–Α―¹–Η–Μ–Η–Ι –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤–Η―΅, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –≤–Ζ―è–Μ –Ϋ–Α ―¹–Β–±―è. –Δ–Ψ―² ―¹–Ψ ―¹–Κ―Ä–Η–Ω–Ψ–Φ ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η–Μ―¹―è –Η –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Ϋ–Η―²―¨ –Β–Φ―É –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Ψ–≤–Α―²―¨ –¥–Α―²―É –Η –≤―Ä–Β–Φ―è –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β―Ä―²–Α.
–Δ–Α–Κ –≤–Ψ―², –Ζ–Α–±–Β–≥–Α―è –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥, ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Α―é: ―è –≤―΄―à–Β–Μ –Ϋ–Α –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ψ―¹–Β–Ϋ―¨―é. –û–Ϋ –≤–Β―¹―¨–Φ–Α –Μ―é–±–Β–Ζ–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Α―Ä–Η–≤–Α–Μ ―¹–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ―é –Η –≤–¥―Ä―É–≥, –Κ–Α–Κ –±―΄ –Φ–Β–Ε–¥―É –Ω―Ä–Ψ―΅–Η–Φ, ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –Φ–Β–Ϋ―è –Ψ–± –Ψ–Ω–Μ–Α―²–Β, –Ζ–Α–Μ–Ψ–Φ–Η–≤ –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ ―¹―É–Φ–Φ―É, –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ―É―é –¥–Μ―è –±―é–¥–Ε–Β―²–Α ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α. –û –Ϋ–Α―à–Β–Φ ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Β ―è ―²―É―² –Ε–Β ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Η–Μ –Ω–Ψ ―²–Β–Μ–Β―³–Ψ–Ϋ―É –£–Α―¹–Η–Μ–Η―é –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤–Η―΅―É, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Φ–Ϋ–Β: ¬Ϊ–£–Ψ―² ―²–Β–±–Β, –±–Α–±―É―à–Κ–Α, –Η –°―Ä―¨–Β–≤ –¥–Β–Ϋ―¨!.. –· ―¹ –Ϋ–Η–Φ –Ω–Ψ―²–Ψ–Μ–Κ―É―é¬Μ. –ù–Α ―²–Ψ–Φ –≤―¹―ë –Η –Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨: –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β―Ä―² –Ϋ–Β ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ―¹―è.
–ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―²―¨, –Α ―²–Β–Φ –Ω–Α―΅–Β –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ ―²–Α–Κ–Η–Β –¥–Β–Μ–Η–Κ–Α―²–Ϋ―΄–Β –≤–Β―â–Η. –ù–Ψ ―ç―²–Ψ –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –≤–Ψ –≤―¹–Β―Ö –Β―ë –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è―Ö.
–Ξ–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ω–Ψ–¥–Μ–Β―΅–Η–≤ ―¹–≤–Ψ―é ―è–Ζ–≤―É –Ε–Β–Μ―É–¥–Κ–Α, ―è –≤ –Α–≤–≥―É―¹―²–Β –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―²–Η–Μ―¹―è –Η–Ζ –ö–Α―Ä–Μ–Ψ–≤―΄―Ö –£–Α―Ä –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥. –Δ–Β–Φ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Β–Φ –≤ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Ϋ–Ψ ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Α―Ä―è–¥–Κ–Β ―É–Ε–Β –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Β –Ω–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Φ–Α–Μ―΄―à–Β–Ι-–Κ–Α–Ϋ–¥–Η–¥–Α―²–Ψ–≤ ―¹ ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–≤ –Η ―³–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η–Ι, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Η–Ζ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Α –Η –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄. –ü―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²―¨ 80 ―Ä–Β–±―è―² –Η–Ζ –±–Ψ–Μ–Β–Β –¥–≤―É―Ö―¹–Ψ―² –Κ–Α–Ϋ–¥–Η–¥–Α―²–Ψ–≤, –Ε–Β–Μ–Α―é―â–Η―Ö ―¹―²–Α―²―¨ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Α–Φ–Η. –û―²–±–Η―Ä–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –Φ–Β―¹―²–Α―Ö, –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ ―¹–Η―Ä–Ψ―² - –¥–Β―²–Β–Ι –Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Η―Ö –Η ―É–Φ–Β―Ä―à–Η―Ö –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Α―â–Η―Ö, –Α ―É–Ε –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –¥–Β―²–Β–Ι –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤, –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ–Ψ–≤ –Η ―¹–Μ―É–Ε–Α―â–Η―Ö –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤–Β–¥–Ψ–Φ―¹―²–≤. –£ –Ζ–Α–¥–Α―΅―É –Ω―Ä–Η―ë–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η–Η –≤―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ –≤―΄―è–≤–Η―²―¨ –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β –≥–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η―é –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―¨―è ―Ä–Β–±―è―² –¥–Μ―è –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–Ι ―É―΅–Β–±―΄ –≤ –≤―΄―¹―à–Η―Ö –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α―Ö. –ö ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Ϋ–Η―é, –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö –Ω―Ä–Η–±―΄–≤―à–Η―Ö –¥–Μ―è –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Κ–Α–Ϋ–¥–Η–¥–Α―²–Ψ–≤ –Ω–Ψ –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―¨―é –Ψ―²―¹–Β―è–Μ–Η –Η –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι.
–ß–Β–≥–Ψ –≥―Ä–Β―Ö–Α ―²–Α–Η―²―¨, –±―΄–Μ–Η ―¹―Ä–Β–¥–Η –Ψ―²―΅–Η―¹–Μ―è–Β–Φ―΄―Ö –Η ―²–Α–Κ–Η–Β, ―΅―¨–Η –Ω―Ä–Ψ–±–Η–≤–Ϋ―΄–Β ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Η ―¹―²―Ä–Β–Φ–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤―¹–Β–Φ–Η –Ω―Ä–Α–≤–¥–Α–Φ–Η –Η –Ϋ–Β–Ω―Ä–Α–≤–¥–Α–Φ–Η ―¹–Ω–Η―Ö–Ϋ―É―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Β ―΅–Α–¥–Ψ ―¹ ―Ä―É–Κ, –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η–≥–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―¨―é –Η –Κ ―²–Ψ–Φ―É –Ε–Β –Ϋ–Β ―Ö–Ψ―²–Β–≤―à–Β–Β –±―΄―²―¨ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Β–Φ. –£ ―²–Α–Κ–Η―Ö ―¹–Μ―É―΅–Α―è―Ö –Ϋ–Α–Φ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―É–±–Β–Ε–¥–Α―²―¨ –Ϋ–Β –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η–Κ–Α, –Α –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α–Ω–Ψ―Ä–Η―¹―²―É―é ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Η―Ü―É, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ψ–Ϋ–Α –±–Μ–Α–≥–Ψ―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Ϋ–Ψ ―¹–Φ–Η―Ä–Η–Μ–Α―¹―¨ –Η –Ψ―²–≤–Β–Ζ–Μ–Α –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι –Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹―΄–Ϋ–Α. –û–¥–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Φ–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η–Η ―Ä–Β–±―è―²–Α –¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ–Η –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―É―Ä―¹–Ϋ―΄–Β –≤―¹―²―É–Ω–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―ç–Κ–Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ―΄ –Ω–Ψ ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–Φ―É ―è–Ζ―΄–Κ―É (–¥–Η–Κ―²–Α–Ϋ―²), –Α―Ä–Η―³–Φ–Β―²–Η–Κ–Β (–Ω–Η―¹―¨–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ). –ü―Ä–Ψ–≤–Β―Ä―è–Μ–Η―¹―¨ ―²–Α–Κ–Ε–Β ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≤ –Α–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ –≤ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Η–Ζ―É―΅–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –≤―΄―¹―à–Β–Φ ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―ç―²–Ψ―² –Η–Ϋ–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―è–Ζ―΄–Κ. –ö ―¹–Μ–Ψ–≤―É ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, –Ω–Ψ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η–Η ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü―΄ ―¹–¥–Α–≤–Α–Μ–Η ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―ç–Κ–Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Η―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Η–Β –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η―è –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–¥―΅–Η–Κ–Α –Α–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―è–Ζ―΄–Κ–Α –Η –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Μ–Η ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤―É―é―â–Η–Ι –¥–Η–Ω–Μ–Ψ–Φ.
–ü–Ψ―¹–Μ–Β –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―É―Ä―¹–Ϋ―΄―Ö ―ç–Κ–Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ψ–≤ –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ―²―¹–Β–≤ –Κ–Α–Ϋ–¥–Η–¥–Α―²–Ψ–≤, –Η –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ ―²–Β―Ö, –Κ―²–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –¥–≤–Ψ–Ι–Κ–Η. –£―¹–Β –Ζ–Α―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≤ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β, ―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Β–Β―²―¹―è, –Ϋ–Β―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Η –Ω–Ψ-–¥–Β―²―¹–Κ–Η –≤―΄―Ä–Α–Ε–Α–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Ι –Ϋ–Β–Ψ–Ω–Η―¹―É–Β–Φ―΄–Ι –≤–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–≥.
–†–Α–Ζ―É–Φ–Β–Β―²―¹―è, –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Ϋ–Η–Φ–Η –Μ–Η–Κ–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Η –Φ―΄. –ë―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ –≤–Η–¥–Β―²―¨ –Η―Ö ―¹–Η―è―é―â–Η–Β –Φ–Ψ―Ä–¥–Α―à–Κ–Η ―¹ –±–Μ–Β―¹―²―è―â–Η–Φ–Η –≥–Μ–Α–Ζ–Α–Φ–Η.

–ù–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü-―²–Ψ –Ω―Ä–Η―ë–Φ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Β–Ϋ. –û―²―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α–Ζ―ä–Β―Ö–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ –¥–Ψ–Φ–Α–Φ, –Α –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Η–≤―à–Η–Β, –Ω–Β―Ä–Β–Ψ–¥–Β―²―΄–Β –≤ –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹―¹–Κ―É―é ―³–Ψ―Ä–Φ―É, –Ϋ–Α ―²―Ä–Η –Ϋ–Β–¥–Β–Μ–Η –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ―΄ –≤ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι –Μ–Α–≥–Β―Ä―¨ –¥–Μ―è ¬Ϊ–Ψ–Φ–Ψ―Ä―è―΅–Η–≤–Α–Ϋ–Η―è¬Μ –Ϋ–Α –Ψ–Ζ–Β―Ä–Β. –Δ–Α–Φ –Ψ–Ϋ–Η –Ω―Ä–Η–Ψ–±―â–Α–Μ–Η―¹―¨ –Κ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –≤ –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–Κ―²–Η–≤–Β ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―¹–≤–Β―Ä―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ω–Ψ–¥ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤-–≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ–Β–Ι –Η –Η―Ö –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤-–Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ–Ψ–≤. –Γ―É―Ö–Η–Β –Α–≤–≥―É―¹―²–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Β –¥–Β–Ϋ―¨–Κ–Η –Η ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Β –Κ–Μ–Η–Φ–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–Μ–Η –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Η―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Α–Φ ―É–Κ―Ä–Β–Ω–Η―²―¨ –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―¨–Β, –Ψ–±―Ä–Β―¹―²–Η –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Η–Β –Ϋ–Α–≤―΄–Κ–Η. –ê –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ―è–Φ - –≤―΄―è–≤–Η―²―¨ –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–±–Ψ―²―Ä―è―¹–Ψ–≤ ―¹ –¥―É―Ä–Ϋ―΄–Φ–Η –Ϋ–Α–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―è–Φ–Η –Η –Ω―Ä–Η–≤―΄―΅–Κ–Α–Φ–Η, –±―É–¥–Ψ―Ä–Α–Ε–Α―â–Η―Ö –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–Κ―²–Η–≤. –£–Ψ―² –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É –Φ―΄ –Ψ―²–±–Η―Ä–Α–Μ–Η –Ϋ–Β 75 ―Ä–Β–±―è―², –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ ―à―²–Α―²―É ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α, –Α 80, ―¹ ―Ä–Α―¹―΅–Β―²–Ψ–Φ –Ψ―²―¹–Β–≤–Α –Ω–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Α–Φ –Η –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α–Φ.
–ö―¹―²–Α―²–Η ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―à―²–Α―²–Ϋ–Α―è ―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Β–≤ –≤ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Ω―Ä–Β–¥―É―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α–Μ–Α 525 –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –≤–Ψ –≤―¹–Β―Ö ―¹–Β–Φ–Η –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α―Ö (―Ä–Ψ―²–Α―Ö), –≤ –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Φ –Η–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ω–Ψ ―²―Ä–Η –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ (–≤–Ζ–≤–Ψ–¥–Α) –Ω–Ψ 25 –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Β–≤. –ü–Β―Ä–≤–Α―è ―Ä–Ψ―²–Α - –Ψ–¥–Η–Ϋ–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²–Η–Κ–Μ–Α―¹―¹–Ϋ–Η–Κ–Η, ―¹–Β–¥―¨–Φ–Α―è - –Ω―è―²–Η–Κ–Μ–Α―¹―¹–Ϋ–Η–Κ–Η. –Δ–Α–Κ–Ψ–≤–Α –±―΄–Μ–Α ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Α―è ―¹―²―Ä―É–Κ―²―É―Ä–Α –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α.
–£ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η―Ö ―΅–Η―¹–Μ–Α―Ö –Α–≤–≥―É―¹―²–Α ¬Ϊ–Ϋ–Ψ–≤–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ―Ü–Β–≤¬Μ –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Η –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥ –Κ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―É ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ–¥–Α. –‰―Ö ―É―¹―²―Ä–Α–Η–≤–Α–Μ–Η –≤ ―¹–Ω–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Η ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Α―Ö, –≤―΄–¥–Α–≤–Α–Μ–Η ―É―΅–Β–±–Ϋ–Η–Κ–Η, –Ω–Η―¹―¨–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ–Α–¥–Μ–Β–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –½–Α―²–Β–Φ –Ϋ–Α ¬Ϊ–ê–≤―Ä–Ψ―Ä–Β¬Μ –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Η–Β –≤ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü―΄. –†–Α–¥–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Α. –‰ ―è –≥–Ψ―Ä–¥–Η–Μ―¹―è –Η–Φ–Η. –£–Β–¥―¨ ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ –Φ–Ψ–Ι –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –Ψ–Ω―΄―² - –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü―΄ –Φ–Ψ–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α–±–Ψ―Ä–Α.

–ü–Ψ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Η–Β –≤ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü―΄ βÄî ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Ι –Μ–Β–Ϋ―²–Ψ―΅–Κ–Η. –ê.–ê.–†–Α–Ζ–¥–Ψ–Μ–≥–Η–Ϋ. –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Β –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β. βÄî –Γ–ü–±.: –‰–Ζ–¥–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ-―Ö―É–¥–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä ¬Ϊ–®―²–Α–Ϋ–¥–Α―Ä―²¬Μ, –‰–Ζ–¥–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η–Ι –¥–Ψ–Φ ¬Ϊ–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥¬Μ, 2009. –û–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―²
16.05.201400:3916.05.2014 00:39:57
–Γ―²―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü―΄:
–ü―Ä–Β–¥.
|
1
|
...
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
...
|
13
|
–Γ–Μ–Β–¥.
|
|
–™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β –Ζ–Α –Ϋ–Β–¥–Β–Μ―é
|























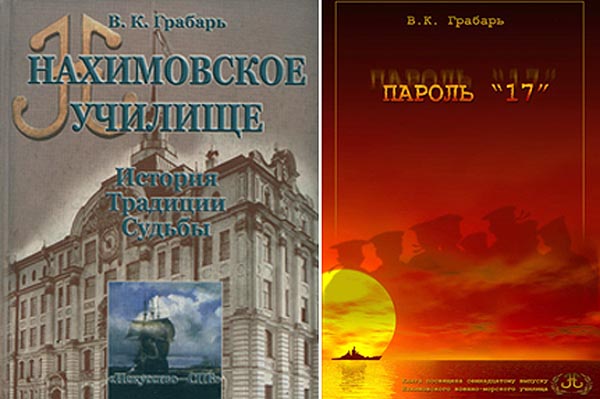


















.jpg)


