–ö–Α–Ε–¥―΄–Ι –Μ–Β―²–Ϋ–Η–Ι –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ –Λ–Β–¥–Ψ―Ä –Ω―Ä–Η–Β–Ζ–Ε–Α–Μ –≤ –€―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ –Η, –Κ–Α–Κ –≤―¹–Β–≥–¥–Α, –Ϋ–Β –Ψ–¥–Η–Ϋ, –Α ―¹ –Κ–Β–Φ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Η–Ζ –¥―Ä―É–Ζ–Β–Ι. –î–Ψ–Φ –Ψ–Ε–Η–≤–Α–Μ. –Γ–Β―¹―²―Ä–Β–Ϋ–Κ–Η –Ϋ–Β –Ψ―²―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Ψ―² –±―Ä–Α―²–Α, ―¹–Μ―É―à–Α―è –Β–≥–Ψ ―É–≤–Μ–Β–Κ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄ –Ψ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β, –Ψ –Φ–Ψ―Ä–Β, –Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è―Ö.
–£ 1935 –≥–Ψ–¥―É ―É–Φ–Β―Ä –Ψ―²–Β―Ü. –ù–Α –Λ–Β–¥–Ψ―Ä–Α, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α ―¹―²–Α―Ä―à–Β–≥–Ψ, –Μ–Β–≥–Μ–Η –Ζ–Α–±–Ψ―²―΄ –Ω–Ψ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η―é ―¹–Β―¹―²―Ä–Β–Ϋ–Ψ–Κ, –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α―²―¨ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η. –ö–Α–Ε–¥―΄–Ι –Φ–Β―¹―è―Ü –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Η―¹―΄–Μ–Α–Μ –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η –Η–Ζ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―¹–Κ―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Κ–Η. –£ ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä–Β 1937 –≥–Ψ–¥–Α –Λ–Β–¥–Ψ―Ä ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ ―¹–¥–Α–Μ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―ç–Κ–Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ, –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Η –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ –½–Α–Μ–Β –†–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Η –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Ϋ―΄–Ι –Ω–Α―Ä–Α–¥. –†―è–¥–Ψ–Φ ―¹ –Λ–Β–¥–Ψ―Ä–Ψ–Φ ―¹―²–Ψ―è–Μ–Η –Β–≥–Ψ –¥―Ä―É–Ζ―¨―è –Ω–Ψ ―É―΅–Β–±–Β βÄî –£.–£.–ü―Ä–Α–≤–¥―é–Κ, –ê.–‰.–ü–Β―²–Β–Μ–Η–Ϋ, –£.–‰.–ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤, –¦.–£.–ï–≥–Ψ―Ä–Ψ–≤. –ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Ζ–Α―΅–Η―²–Α–Μ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ –Ψ –Ω―Ä–Η―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Η–Η –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η―è ¬Ϊ–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²¬Μ. –½–Α―²–Β–Φ –≤―Ä―É―΅–Η–Μ–Η –¥–Η–Ω–Μ–Ψ–Φ―΄. –ö–Α–Κ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ–Η–Κ ―É―΅–Β–±―΄, –Λ–Β–¥–Ψ―Ä –Η–Φ–Β–Μ –Ω―Ä–Α–≤–Ψ –≤―΄–±–Ψ―Ä–Α ―³–Μ–Ψ―²–Α –Η, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ –Ε–Β, –≤―΄–±―Ä–Α–Μ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι ―³–Μ–Ψ―². –£―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ –¥–Β–Μ–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α ―Ä―É–Μ–Β–≤–Ψ–Ι –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ¬Ϊ–î-2¬Μ.

–ù–Α―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Η ―²―Ä–Β–≤–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Β –≥–Ψ–¥―΄. –€–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Α –Ψ–±–Ψ―¹―²―Ä―è–Μ–Α―¹―¨, ―³–Α―à–Η–Ζ–Φ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―É. –ù–Α ―³–Μ–Ψ―²–Β ―à–Μ–Α –Ϋ–Α–Ω―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –±–Ψ–Β–≤–Α―è ―É―΅–Β–±–Α. –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Α–Μ–Η –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥―΄, –Ψ―¹–≤–Α–Η–≤–Α–Μ–Η –Ψ―Ä―É–Ε–Η–Β, ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ―É, ―²–Β–Α―²―Ä, –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Β –≤ –Μ–Β–¥–Ψ–≤―΄―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö. –Γ–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤ 1933 –≥–Ψ–¥―É –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Ι –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι ―³–Μ–Ψ―² –Ϋ–Α―Ä–Α―â–Η–≤–Α–Μ ―²–Β–Φ–Ω―΄ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―É―΅–Β–±―΄.
–£ ―³–Β–≤―Ä–Α–Μ–Β 1938 –≥–Ψ–¥–Α –Λ–Β–¥–Ψ―Ä –£–Η–¥―è–Β–≤ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β –≤ –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²–Ψ–Φ –Μ–Β–¥–Ψ–≤–Ψ–Φ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ¬Ϊ–î-3¬Μ (–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –£.–ù.–ö–Ψ―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤) –¥–Μ―è ―¹–Ϋ―è―²–Η―è ―¹ –¥―Ä–Β–Ι―³―É―é―â–Β–Ι –Μ―¨–¥–Η–Ϋ―΄ –≥–Β―Ä–Ψ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―΅–Β―²–≤–Β―Ä–Κ–Η ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ βÄî –ü–Α–Ω–Α–Ϋ–Η–Ϋ–Α, –ö―Ä–Β–Ϋ–Κ–Β–Μ―è, –Λ–Β–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α –Η –®–Η―Ä―à–Ψ–≤–Α. –£―΄–Ι–¥―è –Η–Ζ –ö–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α 5 ―³–Β–≤―Ä–Α–Μ―è, ¬Ϊ–î-3¬Μ –≤–Ζ―è–Μ–Α –Κ―É―Ä―¹ –Ϋ–Α –Ζ–Α–Ω–Α–¥. –Θ –Φ―΄―¹–Α –ù–Ψ―Ä–¥–Κ–Α–Ω –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ–Η –≤ –¥–Β–≤―è―²–Η–±–Α–Μ–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―à―²–Ψ―Ä–Φ. –û―² –ù–Ψ―Ä–¥–Κ–Α–Ω–Α –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Κ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤―É –·–Ϋ-–€–Α–Ι–Β–Ϋ. –ö–Ψ–≥–¥–Α –≤–Β―²–Β―Ä –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹―²–Η―Ö, ―¹ ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ψ-–Ζ–Α–Ω–Α–¥–Α –Ϋ–Α–¥–≤–Η–Ϋ―É–Μ―¹―è ―²―É–Φ–Α–Ϋ. –£–Η–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨ ―É―Ö―É–¥―à–Η–Μ–Α―¹―¨. –£–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –Λ–Β–¥–Ψ―Ä –£–Η–¥―è–Β–≤ –Ϋ–Β―¹ ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ―É―é –≤–Α―Ö―²―É, ―²―â–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤–Β–Μ ―¹―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ω―É―²–Η.
–ù–Α―΅–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ–±–Μ–Β–¥–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η. –®―²–Ψ―Ä–Φ–Ψ–≤–Ψ–Ι –≤–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Ψ―Ä–≤–Α–Μ–Ψ ―¹―Ö–Ψ–¥–Ϋ―é, ―¹–Ω–Α―¹–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Κ―Ä―É–≥–Η. –£ ―²–Α–Κ–Η―Ö ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ―΄―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―΄ –≤–Ψ―¹–Β–Φ―¨ ―¹―É―²–Ψ–Κ –≤–Β–Μ–Η –Μ–Ψ–¥–Κ―É ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ ―¹―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Η―é. –ö –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤―É –·–Ϋ-–€–Α–Ι–Β–Ϋ –≤―΄―à–Μ–Η ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ. –û―² –·–Ϋ-–€–Α–Ι–Β–Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Η –Κ―É―Ä―¹ –Κ –™―Ä–Β–Ϋ–Μ–Α–Ϋ–¥–Η–Η, –Κ―É–¥–Α –≤―΄–Ϋ–Β―¹–Μ–Ψ –Μ―¨–¥–Η–Ϋ―É ―¹ –≥–Β―Ä–Ψ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―΅–Β―²–≤–Β―Ä–Κ–Ψ–Ι.
–ü–Α–Ω–Α–Ϋ–Η–Ϋ―Ü―΄ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η –¥―Ä–Β–Ι―³ 21 –Φ–Α―è 1937 –≥–Ψ–¥–Α. –ù–Β–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ –Ψ―² ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ε–Α―²–Η―è ―Ä–Α―¹–Κ–Α–Μ―΄–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Η―Ö –Μ―¨–¥–Η–Ϋ–Α, –Η –≤–Ψ―² –Ϋ–Α –Ψ―¹―²–Α―²–Κ–Β –Κ–Ψ–≥–¥–Α-―²–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–≥–Ψ –Μ–Β–¥―è–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ―è –Η―Ö –≤―΄–Ϋ–Β―¹–Μ–Ψ –≤ –™―Ä–Β–Ϋ–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä–Β. –ö –Ϋ–Η–Φ –Ϋ–Α –≤―΄―Ä―É―΅–Κ―É ―¹–Ω–Β―à–Η–Μ–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η, –≥–Η–¥―Ä–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ ¬Ϊ–€―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Β―Ü¬Μ, –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―¹―É–¥–Α ¬Ϊ–Δ–Α–Ι–Φ―΄―Ä¬Μ –Η ¬Ϊ–€―É―Ä–Φ–Α–Ϋ¬Μ. –‰–Ζ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Α –≤―΄―à–Β–Μ –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ ¬Ϊ–ï―Ä–Φ–Α–Κ¬Μ.
–ü–Β―Ä–≤―΄–Φ –Ω–Ψ–¥–Ψ―à–Β–Μ –Κ –Κ―Ä–Ψ–Φ–Κ–Β –Μ―¨–¥–Α ¬Ϊ–€―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Β―Ü¬Μ, –Ϋ–Ψ –Μ―¨–¥―΄ –Ω―Ä–Β–Ψ–¥–Ψ–Μ–Β―²―¨ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥ –Η –Ω–Ψ―à–Β–Μ –≤–¥–Ψ–Μ―¨ –Κ―Ä–Ψ–Φ–Κ–Η –Μ―¨–¥–Α, –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–≤–Α―è ―¹–≤–Ψ–Η –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η―è –≤ –Θ–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Γ–Β–≤–Φ–Ψ―Ä–Ω―É―²–Η ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ¬Ϊ–î-3¬Μ, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η ¬Ϊ–€―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―Ü–Α¬Μ –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ –Ϋ–Β ―É–¥–Α–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹–≤―è–Ζ–Α―²―¨―¹―è ―¹ –Ζ–Β–Φ–Μ–Β–Ι.

–£―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –Η ¬Ϊ–î-3¬Μ –Ω–Ψ–¥–Ψ―à–Μ–Α –Κ –Κ―Ä–Ψ–Φ–Κ–Β –¥―Ä–Β–Ι―³―É―é―â–Β–≥–Ψ –Μ―¨–¥–Α. –ü–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ψ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Ψ―΅―¨―é. –¦–Α–≤–Η―Ä―É―è –Φ–Β–Ε–¥―É –Μ–Β–¥―è–Ϋ―΄–Φ–Η –≥–Μ―΄–±–Α–Φ–Η, –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –≤―¹–Β –±–Μ–Η–Ε–Β –Η –±–Μ–Η–Ε–Β –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α –Κ –Μ―¨–¥–Η–Ϋ–Β –Ω–Α–Ω–Α–Ϋ–Η–Ϋ―Ü–Β–≤. –ù–Ψ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Φ–Η –Ω–Ψ–¥–Ψ―à–Μ–Η ¬Ϊ–Δ–Α–Ι–Φ―΄―Ä¬Μ –Η ¬Ϊ–€―É―Ä–Φ–Α–Ϋ¬Μ –Η ―¹–Ϋ―è–Μ–Η –Ψ―²–≤–Α–Ε–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤¬Μ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Η―Ö 274-–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≥–Β―Ä–Ψ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –¥―Ä–Β–Ι―³–Α –≤ –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –ê―Ä–Κ―²–Η–Κ–Β. ¬Ϊ–î-3¬Μ –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Α―¹―¨ –≤ –±–Α–Ζ―É.
–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Η–Μ–Ψ –Φ–Α―¹―²–Β―Ä―¹―²–≤–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –≤ ―ç―²–Ψ–Φ ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ–Φ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Η. –û―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Η–Μ–Η―¹―¨ ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―΄.
–£ –Η―é–Ϋ–Β 1938 –≥–Ψ–¥–Α –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –£–Η–¥―è–Β–≤ –±―΄–Μ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ¬Ϊ–î-2¬Μ, –Α 24 –Ψ–Κ―²―è–±―Ä―è –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ–Η –Κ–Α–Ϋ–¥–Η–¥–Α―²–Ψ–Φ –≤ ―΅–Μ–Β–Ϋ―΄ –£–ö–ü(–±). –ö–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η―¹―²―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Η–Ϋ―¹―²–≤―É –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Η–Μ–Η ―²―Ä―É–¥–Ψ–Μ―é–±–Η–≤–Ψ–≥–Ψ, –≤–Μ―é–±–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤ ―¹–≤–Ψ―é ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–≥–Ψ ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Α –Η –≤–Β―Ä–Η–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Ψ–Ω―Ä–Α–≤–¥–Α–Β―² –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–Β –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η―¹―²–Α.
–¦–Β―²–Ψ–Φ 1939 –≥–Ψ–¥–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α ¬Ϊ–î-2¬Μ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Η–Μ–Α –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥ –Η–Ζ –ö–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥ –¥–Μ―è –Ω–Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Η –≤ ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―². –Λ–Β–¥–Ψ―Ä –£–Η–¥―è–Β–≤ ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―é–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –ù–Α ―ç―²–Ψ―² ―Ä–Α–Ζ –Ω―Ä–Β–±―΄–≤–Α–Ϋ–Η–Β –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Α–Φ―΄–Φ ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Ϋ―΄–Φ. –£ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Η―é–Μ―è –¥―Ä―É–Ζ―¨―è –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η –Λ–Β–¥–Ψ―Ä–Α ―¹ –Ω―Ä–Η―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Β–Φ―É –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η―è ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²; –Α –Ψ–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Η–Μ–Η –Β–≥–Ψ ―¹ –Φ–Η–Μ–Ψ–≤–Η–¥–Ϋ–Ψ–Ι –±–Β–Μ–Ψ–Κ―É―Ä–Ψ–Ι –¥–Β–≤―É―à–Κ–Ψ–Ι –€–Α―à–Β–Ι. –£–Η–¥–Η–Φ–Ψ, –≥–Ψ–¥ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤―΄–Φ –¥–Μ―è –Λ–Β–¥–Ψ―Ä–Α: –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄–Β –Μ―é–¥–Η –≥–Ψ―Ä―è―΅–Ψ –Ω–Ψ–Μ―é–±–Η–Μ–Η –¥―Ä―É–≥ –¥―Ä―É–≥–Α –Η –≤―¹–Κ–Ψ―Ä–Β ―¹―²–Α–Μ–Η –Φ―É–Ε–Β–Φ –Η –Ε–Β–Ϋ–Ψ–Ι.
–û―¹–Β–Ϋ―¨―é ―¹―²–Α―Ä―à–Β–≥–Ψ –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α –£–Η–¥―è–Β–≤–Α –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η ―É―΅–Η―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –£―΄―¹―à–Η–Β ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Κ–Μ–Α―¹―¹―΄ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è.
–ù–Α―΅–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Α ―¹ –Λ–Η–Ϋ–Μ―è–Ϋ–¥–Η–Β–Ι. –Λ–Β–¥–Ψ―Ä –Ζ–Ϋ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Β–≥–Ψ –¥―Ä―É–Ζ―¨―è –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Β –Η –Γ–Β–≤–Β―Ä–Β ―É―Ö–Ψ–¥―è―² –≤ –±–Ψ–Β–≤―΄–Β –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥―΄, –Ϋ–Β―¹―É―² –¥–Ψ–Ζ–Ψ―Ä–Ϋ―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É –≤ ―¹―É―Ä–Ψ–≤–Ψ–Φ –Ζ–Η–Φ–Ϋ–Β–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β. –Γ―²–Α–Μ –Ω―Ä–Ψ―¹–Η―²―¨―¹―è –Ϋ–Α ―³–Μ–Ψ―². –ù–Β –Ω―É―¹―²–Η–Μ–Η. –Γ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ ―¹–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –≤―΄―É―΅–Η―²―¨―¹―è, –Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–Ω–Α–¥―É―² –¥–Α―Ä–Ψ–Φ.
–£ –Ψ–Κ―²―è–±―Ä–Β 1940 –≥–Ψ–¥–Α –Λ–Β–¥–Ψ―Ä –£–Η–¥―è–Β–≤ ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Κ–Α–Ϋ―΅–Η–≤–Α–Β―² –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―¹–Κ–Η–Β –Κ–Μ–Α―¹―¹―΄ –Η –Β–¥–Β―² –Ϋ–Α –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι ―³–Μ–Ψ―² –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ¬Ϊ–©-421¬Μ. –£ ―³–Η–Ϋ―¹–Κ―É―é –Κ–Α–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η―é –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α ¬Ϊ–©-421¬Μ –Ϋ–Β―¹–Μ–Α –¥–Ψ–Ζ–Ψ―Ä–Ϋ―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É –≤ ―¹―É―Ä–Ψ–≤–Ψ–Φ –Ζ–Η–Φ–Ϋ–Β–Φ –ë–Α―Ä–Β–Ϋ―Ü–Β–≤–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β, –Ζ–Α ―΅―²–Ψ –≤―¹–Β–Φ―É –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Φ―É ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤―É –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –£.–ü.–î―Ä–Ψ–Ζ–¥ –Ψ–±―ä―è–≤–Η–Μ –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –Λ–Β–¥–Ψ―Ä –±―΄–Μ ―Ä–Α–¥, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ –≤ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Ι, ―¹–Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε.

–ü–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α ¬Ϊ–©-421¬Μ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –Λ.–ê. –£–Η–¥―è–Β–≤
–ù–Α –½–Α–Ω–Α–¥–Β –Ω–Ψ–Μ―΄―Ö–Α–Μ–Α –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Α, ―Ä–Α–Ζ–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è ―³–Α―à–Η―¹―²―¹–Κ–Ψ–Ι –™–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ–Η–Β–Ι, –Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –Γ–Β–≤–Β―Ä–Α –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ–Η –Ϋ–Β―É―¹―²–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ ―¹–≤–Ψ―é –≤―΄―É―΅–Κ―É, –Ω–Ψ–≤―΄―à–Α―²―¨ –±–Ψ–Β–≤―É―é –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –ù–Α –Ω–Μ–Β―΅–Η –Λ–Β–¥–Ψ―Ä–Α –Μ–Β–≥–Μ–Η –≤―¹–Β –≤–Ψ–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ ―É―¹―²–Α–≤–Ψ–Φ –Ϋ–Β–Μ–Β–≥–Κ–Η–Β –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η. –û–Ϋ ―É―΅–Η―² –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Η ―É―΅–Η―²―¹―è ―¹–Α–Φ, –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β ―¹―²–Β―¹–Ϋ―è―è―¹―¨ –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Η―²―¨ –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Α –Η–Μ–Η ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ―É –Ω–Ψ–Φ–Ψ―΅―¨ –Β–Φ―É ―Ä–Α–Ζ–Ψ–±―Ä–Α―²―¨―¹―è –≤ ―²–Ψ–Φ –Η–Μ–Η –Η–Ϋ–Ψ–Φ ―É–Ζ–Μ–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η.
–Γ–Κ―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Ι –Η –Ζ–Α–±–Ψ―²–Μ–Η–≤―΄–Ι, ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –≤ –¥–Β–Μ–Α―Ö, –Ψ–Ϋ ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ ―¹―²–Α–Μ –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ ―É–≤–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―É –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η. –Λ–Β–¥–Ψ―Ä –≤–Β―¹―¨ –Ψ―²–¥–Α–≤–Α–Μ―¹―è ―¹–Μ―É–Ε–±–Β, ―¹―΅–Η―²–Α―è ―ç―²–Ψ –Ϋ–Ψ―Ä–Φ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η.
–€–Α–Ι―¹–Κ–Η–Β –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η 1941 –≥–Ψ–¥–Α –Λ–Β–¥–Ψ―Ä –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–Μ –≤ ―¹–Β–Φ―¨–Β –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β. –Ξ–Ψ–¥–Η–Μ ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤―΄–Ι: ―Ä–Α–¥–Ψ–≤–Α–Μ ―¹―΄–Ϋ –ö–Ψ―¹―²―è, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ―É ―à–Β–Μ –¥–Β–≤―è―²―΄–Ι –Φ–Β―¹―è―Ü. –û―²–Ω―É―¹–Κ –Ω―Ä–Ψ–Μ–Β―²–Β–Μ –Ϋ–Β–Ζ–Α–Φ–Β―²–Ϋ–Ψ. –ù–Α –Ω―Ä–Ψ―â–Α–Ϋ―¨–Β –Λ–Β–¥–Ψ―Ä –Κ―Ä–Β–Ω–Κ–Ψ –Ω―Ä–Η–Ε–Α–Μ ―¹―΄–Ϋ–Α –Κ –≥―Ä―É–¥–Η: ¬Ϊ–î–Ψ ―¹–≤–Η–¥–Α–Ϋ―¨―è, ―¹―΄–Ϋ. –Γ–Κ–Ψ―Ä–Ψ –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Φ―¹―è!¬Μ –Γ –Ε–Β–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η―¹―¨, ―΅―²–Ψ –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Η―é–Ϋ―è –Ψ–Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Β–Β–¥–Β―² –Ε–Η―²―¨ –≤ –€―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ. –ù–Ψ –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η―²―¨―¹―è –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨. 25 –Φ–Α―è 1941 –≥–Ψ–¥–Α, ―É–Β–Ζ–Ε–Α―è –Ϋ–Α –Γ–Β–≤–Β―Ä, –Λ–Β–¥–Ψ―Ä –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι ―Ä–Α–Ζ –≤–Η–¥–Β–Μ ―¹–≤–Ψ―é ―¹–Β–Φ―¨―é...
–£–Ψ–Ι–Ϋ–Α –Ϋ–Α –Γ–Β–≤–Β―Ä–Β –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α–Μ–Β―²–Ψ–Φ ―³–Α―à–Η―¹―²―¹–Κ–Ψ–Ι –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Η 22 –Η―é–Ϋ―è –Ϋ–Α –€―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ, –ü–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ―΄–Ι, –ö–Ψ–Μ―É. –£ ―ç―²–Ψ―² –Ε–Β –¥–Β–Ϋ―¨ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α ¬Ϊ–©-421¬Μ –≤―΄―à–Μ–Α –≤ ―¹–≤–Ψ–Ι –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥. –ù–Α –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Β –Κ –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –ù.–ê.–¦―É–Ϋ–Η–Ϋ –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –±–Β―¹–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ. –û–±―¹―É–Ε–¥–Α–Μ–Η, –Ω―Ä–Η–Κ–Η–¥―΄–≤–Α–Μ–Η, –Κ–Α–Κ –±―É–¥―É―² –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Η ―¹ –≤―Ä–Α–≥–Ψ–Φ.
¬Ϊ–£ –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Β –Φ―΄ ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ―΄, βÄî –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ –¦―É–Ϋ–Η–Ϋ, βÄî ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α–¥–Α―΅–Η –Ψ―²―Ä–Α–±–Α―²―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ, –¥–Ψ–Ζ–Ψ―Ä–Ϋ―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É –Ϋ–Β―¹–Μ–Η, –Ϋ–Ψ –≤–Β–¥―¨ ―¹ –≤―Ä–Α–≥–Ψ–Φ –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Φ―¹―è –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β. –ù–Α–¥–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―¹ –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö –¥–Ϋ–Β–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –Ω–Ψ–≤–Β―Ä–Η–Μ–Η –≤ ―¹–≤–Ψ–Η ―¹–Η–Μ―΄. –û―² –Ϋ–Α―¹ ―¹ –≤–Α–Φ–Η, –Λ–Β–¥–Ψ―Ä –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅, –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Β –Ζ–Α–≤–Η―¹–Η―². –ù–Α–Φ –Ζ–Α–≤–Β―Ä―à–Α―²―¨ ―É―¹–Η–Μ–Η―è –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –Ω―Ä–Η –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Β –≤ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―É―é –Α―²–Α–Κ―É. –ü―Ä–Ψ–Φ–Α―Ö–Η –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η―²―¨ –Ζ–Α ―¹–≤–Ψ–Ι ―¹―΅–Β―², –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Ϋ–Β –≤–Η–Ϋ–Η―²―¨!¬Μ
–û–¥–Η–Ϋ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥ ―¹–Φ–Β–Ϋ―è–Μ―¹―è –¥―Ä―É–≥–Η–Φ. –î–Β―Ä–Ζ–Κ–Η–Β, ―²–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –≥―Ä–Α–Φ–Ψ―²–Ϋ―΄–Β –Α―²–Α–Κ–Η –¦―É–Ϋ–Η–Ϋ–Α –Ω―Ä–Η–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η –Ψ–¥–Ϋ―É –Ω–Ψ–±–Β–¥―É –Ζ–Α –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι. –ö –¥–Β–Κ–Α–±―Ä―é 1941 –≥–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α ―¹―΅–Β―²―É ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α –±―΄–Μ–Ψ 3 ―³–Α―à–Η―¹―²―¹–Κ–Η―Ö ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Α –Ψ–±―â–Η–Φ –≤–Ψ–¥–Ψ–Η–Ζ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η–Β–Φ 20 000 ―²–Ψ–Ϋ–Ϋ.
–¦–Η―΅–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –±―΄–Μ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ –Κ –Ω―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥–Α–Φ. –Λ–Β–¥–Ψ―Ä –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅ –£–Η–¥―è–Β–≤ –±―΄–Μ –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Ψ–Φ –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –½–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η. –£–Β―΅–Β―Ä–Ψ–Φ –≤ –¥–Β–Ϋ―¨ –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –≤ –Κ―Ä―É–≥―É –¥―Ä―É–Ζ–Β–Ι –Λ–Β–¥–Ψ―Ä –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ: ¬Ϊ–· ―Ä–Α–¥ –Ζ–Α ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε. –Ξ–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Β –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Η. –ê –Ϋ–Α―à –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä? –Θ –Ϋ–Β–≥–Ψ –Β―¹―²―¨ ―΅–Β–Φ―É –Ω–Ψ―É―΅–Η―²―¨―¹―è¬Μ.
–‰ –Ψ–Ϋ ―É―΅–Η–Μ―¹―è –Φ–Α―¹―²–Β―Ä―¹―²–≤―É ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄―Ö –Α―²–Α–Κ ―É –¦―É–Ϋ–Η–Ϋ–Α.

–£ ―è–Ϋ–≤–Α―Ä–Β 1942 –≥–Ψ–¥–Α ¬Ϊ¬Μ –≤―΄―à–Μ–Α –≤ ―à–Β―¹―²–Ψ–Ι –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥. –ü–Ψ–Η―¹–Κ –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –≤–Β―¹―²–Η ―É –Η–Ζ―Ä–Β–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―³―¨–Ψ―Ä–¥–Α–Φ–Η –Ϋ–Ψ―Ä–≤–Β–Ε―¹–Κ–Η―Ö –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤. –™–Η―²–Μ–Β―Ä–Ψ–≤―Ü―΄ –Ψ―²–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ψ―² –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è –≤ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β –Η ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ω―Ä–Ψ–±–Η―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –Κ –Ω–Ψ―Ä―²–Α–Φ –Η–Ζ–≤–Η–Μ–Η―¹―²―΄–Φ–Η ―à―Ö–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω―É―²―è–Φ–Η.
–ù–Ψ―΅―¨―é –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–Μ–Η ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―² –≤–Ψ–¥–Ψ–Η–Ζ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η–Β–Φ 8000 ―²–Ψ–Ϋ–Ϋ –≤ –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η ―΅–Β―²―΄―Ä–Β―Ö –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι. –€–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Β–Ϋ–Ψ―¹–Ϋ–Α―è –Α―²–Α–Κ–Α –Ζ–Α–≤–Β―Ä―à–Η–Μ–Α―¹―¨ ―²–Ψ―΅–Ϋ―΄–Φ –Ζ–Α–Μ–Ω–Ψ–Φ, –Η ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―² –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –Ω–Ψ―à–Β–Μ –Ϋ–Α –¥–Ϋ–Ψ.
–î–Ϋ–Β–Φ –Η –Ϋ–Ψ―΅―¨―é –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ–Η –Ω–Ψ–Η―¹–Κ. –û―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α―è –≤ –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω –≥–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ψ–Ϋ―², –£–Η–¥―è–Β–≤ –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–Μ –≥―Ä―É–Ω–Ω―É –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι. ¬Ϊ–ë–Ψ–Β–≤–Α―è ―²―Ä–Β–≤–Ψ–≥–Α!¬Μ
–ü–Ψ―¹–Μ–Β –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É –Ψ ―Ü–Β–Μ–Η –Λ–Β–¥–Ψ―Ä –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅ –¥–Ψ–±–Α–≤–Η–Μ: ¬Ϊ–û–¥–Η–Ϋ ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―² ―΅–Β―²―΄―Ä–Β―Ö–Φ–Α―΅―²–Ψ–≤―΄–Ι, –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β 10 000 ―²–Ψ–Ϋ–Η. –€–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≥―Ä―É–Ζ–Α –≤–Β–Ζ–Β―² –≥–Α–¥–Α–Φ. –ï–≥–Ψ –±―΄ –Η ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨, ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä!¬Μ
–¦–Ψ–¥–Κ–Α –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –Φ–Α–Ϋ–Β–≤―Ä–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –¥–Μ―è –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Α –≤ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―É―é –Α―²–Α–Κ―É. –Λ–Α―à–Η―¹―²―΄ ―¹–Ω–Β―à–Η–Μ–Η –±―΄―¹―²―Ä–Β–Β –Ω―Ä–Ψ―¹–Κ–Ψ―΅–Η―²―¨ –Ζ–Α –±–Μ–Η–Ε–Α–Ι―à–Η–Ι –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤ –Η –Ζ–Α–Φ–Β―²–Ϋ–Ψ ―É–≤–Β–Μ–Η―΅–Η–Μ–Η ―Ö–Ψ–¥. –£–Ψ―² ―É–Ε–Β –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―² ―¹–Κ―Ä―΄–Μ―¹―è –Ζ–Α ―¹–Ω–Α―¹–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Ψ–Φ.
¬Ϊ–ê–Ω–Ω–Α―Ä–Α―²―΄! –ü–Μ–Η!¬Μ
–£ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Β –Ζ–Α―²–Α–Η–Μ–Η –¥―΄―Ö–Α–Ϋ–Η–Β. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Μ―΄―à–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ, –Κ–Α–Κ –£–Η–¥―è–Β–≤ –Ψ―²―¹―΅–Η―²―΄–≤–Α–Β―² ―¹–Β–Κ―É–Ϋ–¥―΄. –€–Ψ―â–Ϋ―΄–Ι –≤–Ζ―Ä―΄–≤ –Ψ―²―Ä–Α–Ζ–Η–Μ―¹―è –≤ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Α―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –≥―Ä–Ψ–Φ–Ψ–≤―΄–Φ ¬Ϊ―É―Ä–Α¬Μ! –¦―É–Ϋ–Η–Ϋ –Ϋ–Α –Φ–≥–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω –Η ―É–≤–Η–¥–Β–Μ, –Κ–Α–Κ ―΅–Β―²―΄―Ä–Β―Ö–Φ–Α―΅―²–Ψ–≤–Α―è –≥―Ä–Ψ–Φ–Α–¥–Α ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Α –Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤ ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –≤–Ψ–Μ–Ϋ―΄ –ù–Ψ―Ä–≤–Β–Ε―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è. –ö–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –±―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ω―Ä–Β―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ –Μ–Ψ–¥–Κ―É, –Ϋ–Ψ –±–Β–Ζ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ.
–Λ–Β–≤―Ä–Α–Μ―¨―¹–Κ–Η–Φ ―É―²―Ä–Ψ–Φ –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–Μ–Η ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―² –≤ ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Η –Ω―è―²–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è.
¬Ϊ–Γ―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ, βÄî –Ψ–±―Ä–Α―²–Η–Μ―¹―è –¦―É–Ϋ–Η–Ϋ –Κ –£–Η–¥―è–Β–≤―É, –Ψ―²–Ψ―Ä–≤–Α–≤―à–Η―¹―¨ –Ψ―² –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω–Α,βÄî –≤–Η–¥–Α―²―¨, ―²―É–≥–Ψ ―¹―²–Α–Μ–Ψ ―³–Α―à–Η―¹―²–Α–Φ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α –Ψ–¥–Η–Ϋ ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―² –Ω―è―²―¨ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –≤―΄–¥–Β–Μ―è―é―²¬Μ.
–ß–Β―Ä–Β–Ζ –Ω―è―²―¨ –Φ–Η–Ϋ―É―² ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―², ―Ä–Α–Ζ–Ψ―Ä–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤–Ζ―Ä―΄–≤–Ψ–Φ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥, –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –Ω–Ψ―à–Β–Μ –Κ–Ψ –¥–Ϋ―É. –û―¹―²–Α–≤―à–Η―¹―¨ –±–Β–Ζ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ψ–Ω–Β―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η ―è―Ä–Ψ―¹―²–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Β―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―É―é –Μ–Ψ–¥–Κ―É, –Ϋ–Ψ –¦―É–Ϋ–Η–Ϋ –Η―¹–Κ―É―¹–Ϋ―΄–Φ –Φ–Α–Ϋ–Β–≤―Ä–Ψ–Φ –Ψ―²–Ψ―Ä–≤–Α–Μ―¹―è –Ψ―² –Ω―Ä–Β―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ–Β–Ι.
24 000 ―²–Ψ–Ϋ–Ϋ βÄî ―²–Α–Κ–Ψ–≤ ―²–Ψ–Ϋ–Ϋ–Α–Ε –≤―Ä–Α–Ε–Β―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι, –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Μ―É–Ϋ–Η–Ϋ―Ü–Α–Φ–Η –Ζ–Α –Ψ–¥–Η–Ϋ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥. –ê –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Φ ―¹―΅–Β―²―É ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Β–Φ―¨ –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤―Ä–Α–Ε–Β―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Ψ–±―â–Η–Φ –≤–Ψ–¥–Ψ–Η–Ζ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ 50 000 ―²–Ψ–Ϋ–Ϋ.
–£ –±–Α–Ζ–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Η –¥―Ä―É–Ζ―¨―è ―É―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –≤―¹―²―Ä–Β―΅―É. –ü―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨ –€―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±–Κ–Ψ–Φ–Α –Ω–Α―Ä―²–Η–Η –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Η–Μ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―¹ –Ω–Ψ–±–Β–¥–Ψ–Ι –Η –Ζ–Α―΅–Η―²–Α–Μ –Ω―Ä–Η–≤–Β―²―¹―²–≤–Η–Β –Ψ―² –Ψ–±–Μ–Α―¹―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Η―²–Β―²–Α. –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―² –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η–Μ –Μ–Ψ–¥–Κ―É –Κ –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―é –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Ψ–Φ –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –½–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η, –Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ù.–ê.–¦―É–Ϋ–Η–Ϋ–Α βÄî –Κ –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η―é –™–Β―Ä–Ψ―è –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α.

–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ¬Ϊ–ö-21>; –™–Β―Ä–Ψ–Ι –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α, –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 2-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ù. –ê. –¦―É–Ϋ–Η–Ϋ
–£ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ ―É―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ –™–Β―Ä–Ψ―è –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ù.–ê.–¦―É–Ϋ–Η–Ϋ–Α –Ϋ–Α –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä―¹–Κ―É―é –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―É―é –Μ–Ψ–¥–Κ―É ¬Ϊ–ö-21¬Μ 4 –Φ–Α―Ä―²–Α 1942 –≥–Ψ–¥–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ¬Ϊ–©-421¬Μ –±―΄–Μ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –Λ–Β–¥–Ψ―Ä –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅ –£–Η–¥―è–Β–≤.

–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ¬Ϊ–©-421¬Μ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –Λ.–ê. –£–Η–¥―è–Β–≤
–£―Ä–Α–≥ ―²–Ψ–Ω―²–Α–Μ –Ζ–Β–Φ–Μ―é –†–Ψ–¥–Η–Ϋ―΄, ―É–±–Η–≤–Α–Μ –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ, –¥–Β―²–Β–Ι, ―¹―²–Α―Ä–Η–Κ–Ψ–≤. –ö–Ψ–Μ―¨―Ü–Ψ –±–Μ–Ψ–Κ–Α–¥―΄ –¥―É―à–Η–Μ–Ψ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥. –Δ–Α–Φ –Ψ―¹―²–Α–Μ–Α―¹―¨ ―¹–Β–Φ―¨―è –Λ–Β–¥–Ψ―Ä–Α. –ß―²–Ψ ―¹ –Ϋ–Η–Φ–Η? –•–Η–≤―΄ –Μ–Η? –ù–Β–Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ–Η ―²–Η―¹–Κ–Α–Φ–Η ―¹–Ε–Η–Φ–Α–Μ–Α ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Β. –Γ–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Μ–Β–Ζ –Η –≥–Ψ―Ä―è –Ω―Ä–Η–Ϋ–Β―¹ –≤―Ä–Α–≥ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥―É! –Λ–Β–¥–Ψ―Ä ―¹―²―Ä–Β–Φ–Η–Μ―¹―è –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β. –Ξ–Ψ―²–Β–Μ–Ψ―¹―¨ –Η―¹–Κ–Α―²―¨ –Η –±–Η―²―¨ –≤―Ä–Α–≥–Α. –‰―¹–Κ–Α―²―¨ –¥–Ϋ–Β–Φ –Η –Ϋ–Ψ―΅―¨―é, –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α―è ―É―¹―²–Α–Μ–Ψ―¹―²–Η, –±–Η―²―¨ –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ―è–Κ–Α, –Ω–Β―Ä–Β–Κ―Ä―΄―²―¨ –≤―Ä–Α–≥―É –≤―¹–Β –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Η –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β.
19 –Φ–Α―Ä―²–Α –¥―Ä―É–Ζ―¨―è ―²–Β–Ω–Μ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Λ–Β–¥–Ψ―Ä–Α –≤ –Β–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥. –£–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –£–Η–¥―è–Β–≤―΄–Φ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β ―É―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α –™–Β―Ä–Ψ–Ι –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 2-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –‰.–ê.–ö–Ψ–Μ―΄―à–Κ–Η–Ϋ. –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ψ–Ϋ ―¹―²–Α–Μ –¥–Μ―è –Λ–Β–¥–Ψ―Ä–Α ―É―΅–Η―²–Β–Μ–Β–Φ –Η –Ϋ–Α―¹―²–Α–≤–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ. –ê ―É –ö–Ψ–Μ―΄―à–Κ–Η–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Ψ ―΅–Β–Φ―É –Ω–Ψ―É―΅–Η―²―¨―¹―è: –Ϋ–Α –Γ–Β–≤–Β―Ä –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ –Β―â–Β –≤ 1933 –≥–Ψ–¥―É –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β ¬Ϊ–î-1¬Μ.
–Γ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ –Η–Ζ –ö–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ–Η –≤ ―à―²–Ψ―Ä–Φ. –¦–Β–¥―è–Ϋ―΄–Β –≤–Α–Μ―΄ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Ζ–Α –¥―Ä―É–≥–Η–Φ –Μ–Β–≥–Κ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β―¹–Κ–Α–Κ–Η–≤–Α–Μ–Η ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ―Ä―É–±–Κ―É, ―¹ ―à―É–Φ–Ψ–Φ –Ψ–±―Ä―É―à–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ.
28 –Φ–Α―Ä―²–Α –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –¦–Α–Κ―¹–Β-―³―¨–Ψ―Ä–¥–Α –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–Μ–Η ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―² –≤ –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η –¥–≤―É―Ö ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β–≤–Η–Κ–Ψ–≤. –ö–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η ―à–Μ–Η –Ζ–Η–≥–Ζ–Α–≥–Ψ–Φ, –Ω―Ä–Η–Ε–Η–Φ–Α―è―¹―¨ –Κ ―¹–Κ–Α–Μ–Η―¹―²–Ψ–Φ―É –±–Β―Ä–Β–≥―É. –ü–Β―Ä–≤–Α―è ―¹–Α–Φ–Ψ―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Α―²–Α–Κ–Α! –ù–Ψ –Λ–Β–¥–Ψ―Ä –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅ –Ϋ–Β –¥―É–Φ–Α–Β―² –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ. –û–Ϋ –Κ–Α–Κ-―²–Ψ –≤–Β―¹―¨ –Ω–Ψ–¥–Ψ–±―Ä–Α–Μ―¹―è, –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹ ―¹―²–Α–Μ –≤–Μ–Α―¹―²–Ϋ―΄–Φ, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄ ―΅–Β―²–Κ–Η–Β, –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Η–Β. –£ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ―¹―²―É –Φ–≥–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤–Ψ―Ü–Α―Ä–Η–Μ–Α―¹―¨ ―²–Η―à–Η–Ϋ–Α. –û–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Η–≤ –¥–Η―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―é, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Μ–Β–≥ –Ϋ–Α –Κ―É―Ä―¹ ―¹–±–Μ–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è, ―΅―²–Ψ–±―΄ –¥–Ψ –≤―Ö–Ψ–¥–Α –≤ ―³―¨–Ψ―Ä–¥ –Ω–Β―Ä–Β―Ö–≤–Α―²–Η―²―¨ ―Ü–Β–Μ―¨. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Α ―¹–±–Μ–Η–Ζ–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α –¥–Η―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―é –Ζ–Α–Μ–Ω–Α, –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η ―Ä–Β–Ζ–Κ–Ψ –Ω–Ψ–≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Η –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ―É. ¬Ϊ–ê―²–Α–Κ―É―é –Κ–Ψ―Ä–Φ–Ψ–≤―΄–Φ–Η¬Μ,βÄî –Φ–≥–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―Ä–Β―à–Η–Μ –£–Η–¥―è–Β–≤. –¦–Ψ–¥–Κ–Α –Ϋ―΄―Ä–Ϋ―É–Μ–Α –Ω–Ψ–¥ –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Ι –Η –Ζ–Α–Ϋ―è–Μ–Α –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η―é –¥–Μ―è –Α―²–Α–Κ–Η ―¹ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±–Ψ―Ä―²–Α.
¬Ϊ–ö–Ψ―Ä–Φ–Ψ–≤―΄–Β ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄–Β –Α–Ω–Ω–Α―Ä–Α―²―΄... ―²–Ψ–≤―¹―¨¬Μ!

–ù–Ψ –≤ ―²–Ψ―² –Ε–Β –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―² –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Ι ―Ä–Β–Ζ–Κ–Ψ –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Η–Μ –Κ―É―Ä―¹, –≤―΄―Ö–Ψ–¥―è –Η–Ζ ―É–≥–Μ–Α –Α―²–Α–Κ–Η. ¬Ϊ–ù–Β―², –Ϋ–Β ―É–Ι–¥–Β―à―¨!¬Μ βÄî –Ω―Ä–Ψ―à–Β–Ω―²–Α–Μ ―¹–Κ–≤–Ψ–Ζ―¨ ―¹―²–Η―¹–Ϋ―É―²―΄–Β –Ζ―É–±―΄. –û―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Β―â–Β –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ω–Β―Ä–Β―Ö–≤–Α―²–Η―²―¨ –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Ι ―É –≤―Ö–Ψ–¥–Α –≤ ―³―¨–Ψ―Ä–¥. –‰ –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Μ–Ψ–Ε–Η―²―¹―è –Κ―É―Ä―¹–Ψ–Φ –≤ –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Β–Φ―É―é ―²–Ψ―΅–Κ―É –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Η.
–ü–Ψ―΅―²–Η ―Ü–Β–Μ―΄–Ι ―΅–Α―¹ –Η–¥–Β―² –Ω–Ψ–≥–Ψ–Ϋ―è –Ζ–Α –≤―Ä–Α–Ε–Β―¹–Κ–Η–Φ –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Β–Φ. –¦–Η―Ü–Ψ –£–Η–¥―è–Β–≤–Α –Ω–Ψ–Κ―Ä―΄–Μ–Ψ―¹―¨ –Κ–Α–Ω–Μ―è–Φ–Η –Ω–Ψ―²–Α, –Ϋ–Ψ –≤–Ϋ–Β―à–Ϋ–Β –Ψ–Ϋ ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Β–Ϋ. –ù–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –≤ –Η–Ζ–±―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Ψ―΅–Κ–Β. –£ –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―², –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ –Ϋ–Α –≤―Ö–Ψ–¥ –≤ ―³―¨–Ψ―Ä–¥, –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Μ–Β–≥–Μ–Α –Ϋ–Α –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Κ―É―Ä―¹.
¬Ϊ–ù–Ψ―¹–Ψ–≤―΄–Β ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄–Β –Α–Ω–Ω–Α―Ä–Α―²―΄... ―²–Ψ–≤―¹―¨¬Μ!
–Λ–Ψ―Ä―à―²–Β–≤–Β–Ϋ―¨ ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Α –Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ζ –Ϋ–Α –Ϋ–Η―²―¨ –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω–Α.
¬Ϊ–ê–Ω–Ω–Α―Ä–Α―²―΄! –ü–Μ–Η!¬Μ βÄî –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É–Β―² –£–Η–¥―è–Β–≤, –Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –≤–Ζ–¥―Ä–Α–≥–Η–≤–Α–Β―², –Ω–Ψ―¹―΄–Μ–Α―è –≤ –±–Ψ―Ä―² ―³–Α―à–Η―¹―²–Α–Φ ―΅–Β―²―΄―Ä–Β ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥―΄. –€–Ψ―â–Ϋ―΄–Β –≤–Ζ―Ä―΄–≤―΄ –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–¥–Η–Μ–Η –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―² –Α―²–Α–Κ–Η. –Δ―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―² –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –Ω–Ψ―à–Β–Μ –Κ–Ψ –¥–Ϋ―É.
–ù–Β ―É–Ω―É―¹–Κ–Α―è –Ϋ–Η ―¹–Β–Κ―É–Ϋ–¥―΄, –£–Η–¥―è–Β–≤ ―É–≤–Ψ–¥–Η―² –Μ–Ψ–¥–Κ―É –Ϋ–Α –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―É –Η ―Ä–Β–Ζ–Κ–Ψ –Ψ―²–≤–Ψ―Ä–Α―΅–Η–≤–Α–Β―² –Ψ―² –±–Ψ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ –Κ―É―Ä―¹–Α. –½–Α –Κ–Ψ―Ä–Φ–Ψ–Ι –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α―é―² ―Ä–≤–Α―²―¨―¹―è –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Β –±–Ψ–Φ–±―΄. –‰–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –Μ–Ψ–¥–Κ―É ―¹–Ψ–Μ–Η–¥–Ϋ–Ψ –≤―¹―²―Ä―è―Ö–Η–≤–Α–Β―², –Ϋ–Ψ ―ç―²–Ψ ―É–Ε–Β –¥–Α–Μ–Β–Κ–Η–Β –≤–Ζ―Ä―΄–≤―΄.
–Γ–±―Ä–Ψ―¹–Η–≤ ―¹–Ψ―Ä–Ψ–Κ ―΅–Β―²―΄―Ä–Β –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Β –±–Ψ–Φ–±―΄, ―³–Α―à–Η―¹―²―΄ –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―²–Η–Μ–Η –Ω―Ä–Β―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β. –ü–Β―Ä–≤―΄–Φ –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Η–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 2-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –‰.–ê.–ö–Ψ–Μ―΄―à–Κ–Η–Ϋ. –ü–Ψ―²―è–Ϋ―É–Μ–Η―¹―¨ –¥–Ϋ–Η –Ω–Ψ–Η―¹–Κ–Α. –£–Η–¥―è–Β–≤ ―¹―É―²–Κ–Α–Φ–Η –±–Ψ–¥―Ä―¹―²–≤―É–Β―² –≤ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ―¹―²―É, ―΅–Α―¹–Α–Φ–Η ―¹―²–Ψ–Η―² ―É –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω–Α. –ù–Η―΅–Β–Φ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–Φ–Β―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ 4 –Α–Ω―Ä–Β–Μ―è –Ω―Ä–Β–≤―Ä–Α―²–Η–Μ―¹―è –¥–Μ―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –≤ ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ: –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―² –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Η–Μ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε ―¹ –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ¬Ϊ–©-421¬Μ –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Ψ–Φ –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –½–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Η ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η–Β, ―΅―²–Ψ –ù.–ê.–¦―É–Ϋ–Η–Ϋ―É, –‰.–‰.–Λ–Η―¹–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅―É –Η –£.–™.–Γ―²–Α―Ä–Η–Κ–Ψ–≤―É –Ω―Ä–Η―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ψ –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –™–Β―Ä–Ψ―è –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α.

–™–Β―Ä–Ψ–Η –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –ù.–ê. –¦―É–Ϋ–Η–Ϋ, –‰.–‰. –Λ–Η―¹–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅, –‰. –ê. –ö–Ψ–Μ―΄―à–Κ–Η–Ϋ, –£. –™. –Γ―²–Α―Ä–Η–Κ–Ψ–≤
–£―΄―¹–Ψ–Κ–Α―è –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Κ–Α –†–Ψ–¥–Η–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²―Ä―É–¥–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –≤–Ζ–≤–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–≤–Α–Μ–Α –≤―¹–Β―Ö. –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥–Α ―ç―²–Α –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ζ–Α –Ω―Ä–Ψ―à–Μ―΄–Β –Ω–Ψ–±–Β–¥―΄, –Ϋ–Ψ –Η –Ζ–Α –±―É–¥―É―â–Η–Β. –‰ –Β―â–Β –Ζ–Ψ―Ä―΅–Β ―¹―²–Α–Μ–Η ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨ –≥–Μ–Α–Ζ–Α ―¹–Η–≥–Ϋ–Α–Μ―¨―â–Η–Κ–Ψ–≤, ―²–≤–Β―Ä–Ε–Β –Μ–Β–≥–Μ–Α –Ϋ–Α ―Ä―É―΅–Κ―É –Ω–Η―¹―²–Ψ–Μ–Β―²–Α ―Ä―É–Κ–Α ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Η―¹―²–Α, –Ϋ–Α–Ω―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Β–Β –≤―¹–Μ―É―à–Η–≤–Α–Μ―¹―è –Α–Κ―É―¹―²–Η–Κ –≤ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Β–Φ―΄–Β ―à―É–Φ―΄ –Ω–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è.
–£–Β―΅–Β―Ä–Ψ–Φ 8 –Α–Ω―Ä–Β–Μ―è ―Ä–Β―à–Η–Μ–Η –Ψ―²–Ψ–Ι―²–Η –Ω–Ψ–¥–Α–Μ―¨―à–Β –Ψ―² ―É―¹―²―¨―è –ü–Ψ―Ä―¹–Α–Ϋ–≥–Β―Ä-―³―¨–Ψ―Ä–¥–Α –¥–Μ―è –Ζ–Α―Ä―è–¥–Κ–Η –Α–Κ–Κ―É–Φ―É–Μ―è―²–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –±–Α―²–Α―Ä–Β–Η. –¦–Ψ–¥–Κ–Α ―à–Μ–Α –≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤ 20 ―΅–Α―¹–Ψ–≤ 58 –Φ–Η–Ϋ―É―² ―Ä–Α–Ζ–¥–Α–Μ―¹―è –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Η–Μ―΄ –≤–Ζ―Ä―΄–≤. –¦–Ψ–¥–Κ―É –Ω–Ψ–¥–±―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Ψ –≤–≤–Β―Ä―Ö, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ –Ψ–Ϋ–Α ―¹―Ä–Α–Ζ―É ―¹―²–Α–Μ–Α –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Α―²―¨―¹―è ―¹ –¥–Η―³―³–Β―Ä–Β–Ϋ―²–Ψ–Φ –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Φ―É. –£ –Κ–Ψ―Ä–Φ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ψ―²―¹–Β–Κ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Α―²―¨ –≤–Ψ–¥–Α.
–£ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ―¹―²―É –≤ –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―² –≤–Ζ―Ä―΄–≤–Α –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –ê.–€.–ö–Α―É―²―¹–Κ–Η–Ι –Η –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä-–Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ –ê.–¦.–Γ–Μ–Α–≤–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι. –£ –Κ–Ψ―Ä–Φ―É –Ϋ–Β–Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Α –Ψ –≥–Β―Ä–Φ–Β―²–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η –Ψ―²―¹–Β–Κ–Α, –Α –≤ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ―¹―²―É –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η –Α–≤–Α―Ä–Η–Ι–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Ψ–¥―É–≤–Α–Ϋ–Η–Β –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±–Α–Μ–Μ–Α―¹―²–Α.
–ü―Ä–Ψ–¥―É–≤ –±–Α–Μ–Μ–Α―¹―², –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –≤―¹–Ω–Μ―΄–Μ–Α –≤ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Η –Ψ―΅―É―²–Η–Μ–Α―¹―¨ –≤ –Ω–Μ–Ψ―²–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Β–Μ–Β–Ϋ–Β ―¹–Ϋ–Β–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α―Ä―è–¥–Α βÄî ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α ―Ä―É–Κ―É –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ.
–û―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ–Η―¹―¨. –£–Ζ―Ä―΄–≤–Ψ–Φ –Φ–Η–Ϋ―΄ –Ψ―²–Ψ―Ä–≤–Α–Μ–Ψ –Ψ–±–Α –≤–Η–Ϋ―²–Α, ―¹–Ψ―Ä–≤–Α–Μ–Ψ –≤–Β―Ä―Ö–Ϋ―é―é –Κ―Ä―΄―à–Κ―É –Κ–Ψ―Ä–Φ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Μ―é–Κ–Α, ―¹–¥–≤–Η–Ϋ―É–Μ–Ψ ―¹ –Φ–Β―¹―²–Α ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–Ω–Β―Ä–Β–¥–Α―²―΅–Η–Κ, ―Ä–Α–Ζ–±–Η–Μ–Ψ –≤―¹―é –Κ–Ψ―Ä–Φ―É.

―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ω―Ä–Ψ–±–Ψ–Η–Ϋ―΄ –≤ –Ω―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Β –Η –Κ–Ψ―Ä–Φ–Ψ–≤―΄–Β ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄–Β –Α–Ω–Ω–Α―Ä–Α―²―΄ ―Ö–Μ–Β―¹―²–Α–Μ–Α –≤–Ψ–¥–Α. –£ –Ζ–Α–≥–Β―Ä–Φ–Β―²–Η–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Β, –Ψ―²―Ä–Β–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ψ―² –≤―¹–Β–≥–Ψ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α, –Ψ―¹―²–Α–Μ–Η―¹―¨ ―à–Β―¹―²―¨ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ. –ü–Ψ–¥ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Ψ―²―¹–Β–Κ–Α ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ―΄ –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Η―¹―²–Ψ–≤ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ―΄ 1-–Ι ―¹―²–Α―²―¨–Η –î―Ä―è–Ω–Η–Κ–Ψ–≤–Α –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ―³–Μ–Ψ―²―Ü―΄ –‰.–Γ.–Γ–Η–Ζ–Φ–Η–Ϋ, –£.–Γ.–ö–Α―΅―É―Ä–Α, –‰.–ê.–•–Α–≤–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Κ–Ψ–≤, –ê.–‰.–ù–Ψ–≤–Η–Κ–Ψ–≤ –Η –ü.–‰.–Λ–Β–≤―Ä–Α–Μ–Β–≤ –Φ―É–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –±–Ψ―Ä–Ψ–Μ–Η―¹―¨ ―¹ –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Α―é―â–Β–Ι –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι, –Ζ–Α–¥–Β–Μ―΄–≤–Α―è –Ψ–¥–Ϋ―É –Ω―Ä–Ψ–±–Ψ–Η–Ϋ―É –Ζ–Α –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι. –£ ―Ö–Ψ–¥ –Ω–Ψ―à–Β–Μ –Α–≤–Α―Ä–Η–Ι–Ϋ―΄–Ι –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ, –≤–Α―²–Ϋ–Η–Κ–Η, –Ψ–¥–Β―è–Μ–Α. –û–Ϋ–Η –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ ―¹―É–¥―¨–±–Α ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α –≤ –Η―Ö ―Ä―É–Κ–Α―Ö. –î–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β ―¹―É–Φ–Β–Ι –Ψ–Ϋ–Η –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –Ζ–Α–≥–Β―Ä–Φ–Β―²–Η–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ψ―²―¹–Β–Κ –Η –Ζ–Α–¥–Β–Μ–Α―²―¨ –Ω―Ä–Ψ–±–Ψ–Η–Ϋ―΄, –Ω―Ä–Ψ―Ä–≤–Α–≤―à–Α―è―¹―è –≤–Ψ–¥–Α ―Ö–Μ―΄–Ϋ―É–Μ–Α –±―΄ –≤ ―¹–Ψ―¹–Β–¥–Ϋ–Η–Ι –Ψ―²―¹–Β–Κ, –Η ―²–Ψ–≥–¥–Α ―É–Ε–Β –Ϋ–Η―΅―²–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Μ–Ψ –±―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ, –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α―¹―¨ –±―΄ –Ϋ–Α –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Β, –≥–¥–Β –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―²–Ψ–Ϋ–Ϋ–Α―è –Φ–Α―¹―¹–Α –≤–Ψ–¥―΄ –±–Β–Ζ–Ε–Α–Μ–Ψ―¹―²–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–Ζ–¥–Α–≤–Η–Μ–Α –±―΄ –Β–Β, –Κ–Α–Κ ―è–Η―΅–Ϋ―É―é ―¹–Κ–Ψ―Ä–Μ―É–Ω―É.
–ù–Ψ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨ –Ψ ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Η–Η –±―΄–Μ–Ψ –Β―â–Β ―Ä–Α–Ϋ–Ψ: –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Μ–Η―à–Η–Μ–Α―¹―¨ ―Ö–Ψ–¥–Α, –Α –≤―Ä–Α–Ε–Β―¹–Κ–Η–Ι –±–Β―Ä–Β–≥ ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ ―Ä―è–¥–Ψ–Φ. –ü–Ψ–Κ–Α –Β–Β ―¹–Κ―Ä―΄–≤–Α―é―² ―¹–Ϋ–Β–Ε–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α―Ä―è–¥―΄ –Η –Ϋ–Ψ―΅―¨. –ê ―΅―²–Ψ –±―É–¥–Β―² –¥–Ϋ–Β–Φ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―¹–Ϋ–Β–≥–Ψ–Ω–Α–¥ ―É―²–Η―Ö–Ϋ–Β―² –Η –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨ ―É–≤–Β–Μ–Η―΅–Η―²―¹―è?
¬Ϊ–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä, –Ϋ–Β ―¹–Ψ–Ψ―Ä―É–¥–Η―²―¨ –Μ–Η –Ϋ–Α–Φ –Ϋ–Β―΅―²–Ψ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Β–Β –Ϋ–Α –Ω–Α―Ä―É―¹, βÄî –Ϋ–Β ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –‰.–ê.–ö–Ψ–Μ―΄―à–Κ–Η–Ϋ, βÄî –≤–Β–¥―¨ –≤–Β―²–Β―Ä –Κ―Ä–Β–Ω–Κ–Η–Ι –Η –¥―É–Β―² ―¹ –±–Β―Ä–Β–≥–Α?¬Μ
¬Ϊ–ü–Ψ–Ε–Α–Μ―É–Ι, ―ç―²–Ψ –≤―΄―Ö–Ψ–¥¬Μ, βÄî –Ε–Η–≤–Ψ –Ψ―²–Κ–Μ–Η–Κ–Ϋ―É–Μ―¹―è –£–Η–¥―è–Β–≤. –½–Α –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –≤–Β–Κ–Α –≤―¹–Β–≥–Ψ –¥–Ψ–≤–Β–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ–≤–Η–¥–Α―²―¨ –ë–Α―Ä–Β–Ϋ―Ü–Β–≤―É –Φ–Ψ―Ä―é, –Ϋ–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –≤–Η–¥–Β―²―¨ –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β. –‰–Ζ―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è, ―¹ ―Ä–Α–Ζ–±–Η―²–Ψ–Ι –Κ–Ψ―Ä–Φ–Ψ–Ι –Η –Ψ―²–Ψ―Ä–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –≤–Η–Ϋ―²–Α–Φ–Η, ―¹–Κ–≤–Ψ–Ζ―¨ –±–Β–Μ―É―é –Ω–Β–Μ–Β–Ϋ―É ―¹–Ϋ–Β–Ε–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α―Ä―è–¥–Ψ–≤ –Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ―²―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α –Ψ―² –±–Β―Ä–Β–≥–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α. –Γ–≤–Β–Ε–Η–Ι –≤–Β―²–Β―Ä ―É–Ω―Ä―É–≥–Ψ –±–Η–Μ –≤ –Ϋ–Β―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Ψ ―¹―à–Η―²―΄–Ι –Η–Ζ –¥–Η–Ζ–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―΅–Β―Ö–Μ–Ψ–≤ ―Ä―É–Μ–Β–≤―΄–Φ–Η –Ω–Ψ–¥ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ –±–Ψ―Ü–Φ–Α–Ϋ–Α –ê.–Δ.–½–Η–Φ–Η–Ϋ–Α –Η ―Ä–Α―¹―²―è–Ϋ―É―²―΄–Ι –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è―²–Ψ–Φ –¥–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Α –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω–Β ―¹–Α–Φ–Ψ–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ω–Α―Ä―É―¹. –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Ω–Ψ–¥ –Ω–Α―Ä―É―¹–Ψ–Φ! –‰–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Α –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ βÄî –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ψ―²–Ψ―Ä–≤–Α―²―¨―¹―è –Ψ―² –±–Β―Ä–Β–≥–Α –Η ―É–Ι―²–Η –Ω–Ψ–¥–Α–Μ―¨―à–Β –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β.
–ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―²






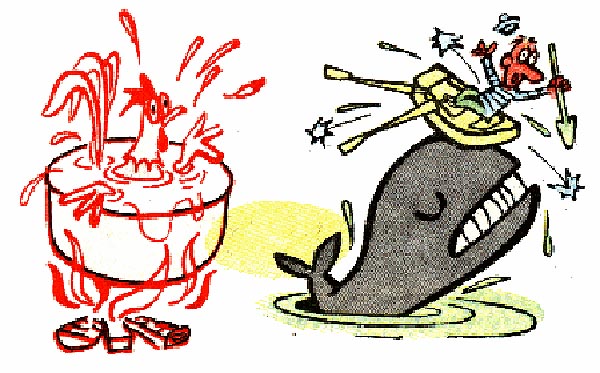




.jpg)


