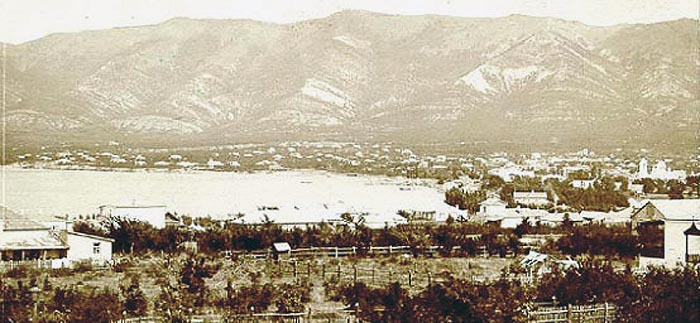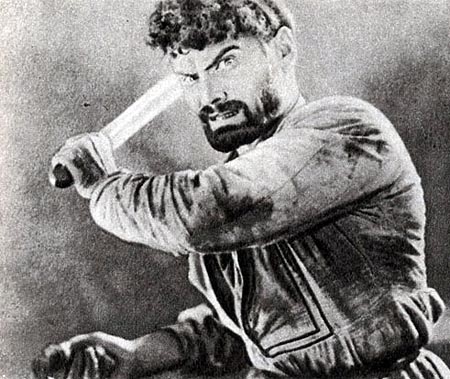–≠–Ґ–Ю –С–Ђ–Ы–Ю –Э–Х–Ф–Р–Т–Э–Ю, –≠–Ґ–Ю –С–Ђ–Ы–Ю –Ф–Р–Т–Э–Ю
07.45. 11 —П–љ–≤–∞—А—П 1962 –≥–Њ–і–∞ –Є–і—Г –њ–Њ –њ—А–Є—З–∞–ї—Г –≥. –Я–Њ–ї—П—А–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ 2-–Љ—Г –њ–Є—А—Б—Г, –≥–і–µ —Б—В–Њ—П–ї–∞ –љ–∞—И–∞ –њ–Њ–і–ї–Њ–і–Ї–∞ –С-36.
–Э–∞ 2-–Љ –њ—А–Є—З–∞–ї–µ –≤ –Ї—Г—А–Є–ї–Ї–µ —Б–Є–і—П—В –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤ –Є –Љ–∞—В—А–Њ—Б–Њ–≤ —Б –Я–Ы –С-37, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –љ–Њ—З—М—О –≥—А—Г–Ј–Є–ї–∞ —В–Њ—А–њ–µ–і—Л. –С–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ –Є–Ј –љ–Є—Е —П —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –Ј–љ–∞—О, —В.–Ї. —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–Є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б—В—А–Њ–Є–ї–Є—Б—М –≤ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–µ, –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–Є–ї–Є –љ–∞ —Б–µ–≤–µ—А, –∞ —Б–µ–є—З–∞—Б –ґ–Є–≤—Г—В –љ–∞ –Њ–і–љ–Њ–Љ —Н—В–∞–ґ–µ –≤ –Ї–∞–Ј–∞—А–Љ–µ –љ–∞ ¬Ђ–®–Є–њ–Ї–µ¬ї.
–І–∞—Б—В–Њ —З–ї–µ–љ—Л –љ–∞—И–Є—Е –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–Є–ї–Є —Б –њ–Њ–≤—Л—И–µ–љ–Є–µ–Љ –≤ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–Є —Б –Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є –љ–∞ –і—А—Г–≥—Г—О. –Т–Њ—В –Є —Б–µ–є—З–∞—Б –≤–Є–ґ—Г –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ-–ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В–∞ –Ъ–Њ–ї—О –С–∞–Ј—Г—В–Ї–Є–љ–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –љ–µ–і–∞–≤–љ–Њ –њ–µ—А–µ—И–µ–ї —Б –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –С–І-3 –љ–∞—И–µ–є –ї–Њ–і–Ї–Є –љ–∞ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В—М –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї–∞ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –њ–Њ–і–ї–Њ–і–Ї–Є –С-37, –∞ —П —Б—В–∞–ї –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ —Г —Б–µ–±—П –љ–∞ –Я–Ы –Є –Њ—Б—В—А–Њ –Ј–∞–≤–Є–і–Њ–≤–∞–ї –Ъ–Њ–ї–µ, —З—В–Њ –Њ–љ –њ–µ—А–µ—И–µ–ї –љ–∞ –ї–Њ–і–Ї—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–ї –ї—О–±–Є–Љ–µ—Ж –±—А–Є–≥–∞–і—Л, –Ї—А–∞—Б–Є–≤—Л–є, –њ–Њ–і—В—П–љ—Г—В—Л–є –Є –≤—Б–µ–≥–і–∞ —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ—Л–є –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ 2 —А–∞–љ–≥–∞ –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –С–µ–≥–µ–±–∞.

–° –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–Љ –Љ—Л –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л–ї–Є –≤ —Н—В–Њ—В –і–µ–љ—М —Б–і–∞–≤–∞—В—М –Ј–∞—З–µ—В—Л –љ–∞ –і–Њ–њ—Г—Б–Ї –Ї —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ—Г —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—О –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–Љ, –Є –Њ–љ –њ–Њ–њ—А–Њ—Б–Є–ї –Љ–µ–љ—П, –Ї–∞–Ї –±—Л–≤—И–µ–≥–Њ —И—В—Г—А–Љ–∞–љ–∞, —Б–њ—Г—Б—В–Є—В—М—Б—П –Ї –љ–Є–Љ –≤ —И—В—Г—А–Љ–∞–љ—Б–Ї—Г—О —А—Г–±–Ї—Г, –њ–Њ–Љ–Њ—З—М –Њ—В–Њ–±—А–∞—В—М –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л–µ –њ–Њ—Б–Њ–±–Є—П. –Т —А—Г–±–Ї–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П —И—В—Г—А–Љ–∞–љ –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є –Ґ—А–µ–љ—М–Ї–Є–љ, –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –ї—Г—З—И–Є—Е –Є –Њ–њ—Л—В–љ–µ–є—И–Є—Е —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–Њ–≤ –±—А–Є–≥–∞–і—Л, –Є –Љ—Л —Б –љ–Є–Љ –±—Л—Б—В—А–Њ –њ—А–Є–≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї–Є –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ–µ. –°–њ—Г—Б—В–Є–ї—Б—П –≤ —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ—Л–є –њ–Њ—Б—В –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ-–ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В –Р—А–љ–Њ–ї—М–і –°–Є–Љ–Њ–љ—П–љ, –љ–µ–і–∞–≤–љ–Њ —Б—В–∞–≤—И–Є–є —Б—В–∞—А–њ–Њ–Љ–Њ–Љ, –Њ–±—К—П–≤–Є–ї, —З—В–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ –њ—А–Њ–≤–Њ—А–∞—З–Є–≤–∞–љ–Є—П —Б –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П –љ–µ —Б—Е–Њ–і–Є—В—М, —В.–Ї. –±—Г–і–µ—В –њ–µ—А–µ—И–≤–∞—А—В–Њ–≤–Ї–∞, —З—В–Њ–±—Л –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–і–Є—В—М –Љ–µ—Б—В–Њ –і–ї—П –њ–Њ–≥—А—Г–Ј–Ї–Є –±–Њ–µ–Ј–∞–њ–∞—Б–∞ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–µ –°-350, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –±—Л–ї–∞ –≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–є —Б—А–µ–і–Є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї 633 –њ—А–Њ–µ–Ї—В–∞ –Є –љ–Њ—З—М—О –њ—А–Є—И–ї–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ —А–µ–Љ–Њ–љ—В–∞ —Б –Ј–∞–≤–Њ–і–∞.
–£–ґ–µ –љ–∞—З–∞–ї–Њ—Б—М –њ—А–Њ–≤–Њ—А–∞—З–Є–≤–∞–љ–Є–µ, —З–∞—Б—Л –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є 8.10.
–Т —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –њ–Њ—Б—В—Г –Р.–°–Є–Љ–Њ–љ—П–љ –і–Њ—Б—В–∞–ї –њ–µ—З–∞—В—М, —З—В–Њ–±—Л –Њ—Д–Њ—А–Љ–Є—В—М —Б–њ—А–∞–≤–Ї—Г –љ–∞ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–µ –і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Є–µ —А–∞–і–Є–Њ–Љ–µ—В—А–Є—Б—В—Г —Б –Я–Ы –С-38, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Е–Њ–і–Є–ї —Б –љ–∞–Љ–Є –≤ –Љ–Њ—А–µ, –∞ —В–µ–њ–µ—А—М –≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї—Б—П —Г–≤–Њ–ї–Є—В—М—Б—П –≤ –Ј–∞–њ–∞—Б.
–°—Е–Њ–і—П —Б —В—А–∞–њ–∞ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є, —П –њ–Њ–Ј–і–Њ—А–Њ–≤–∞–ї—Б—П —Б –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–Њ–Љ 2 —А–∞–љ–≥–∞ –Р.–С–µ–≥–µ–±–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –і–Њ–≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞–ї—Б—П –њ–Њ —В–µ–ї–µ—Д–Њ–љ—Г —Б –Њ–њ–µ—А–∞—В–Є–≤–љ—Л–Љ –і–µ–ґ—Г—А–љ—Л–Љ –Њ –њ–µ—А–µ—И–≤–∞—А—В–Њ–≤–Ї–µ, –њ–Њ–Љ–∞—Е–∞–ї —А—Г–Ї–Њ–є –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Л–Љ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–∞–Љ –Є–Ј —А–µ–Ј–µ—А–≤–љ–Њ–≥–Њ —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–∞ (—Г –љ–Є—Е –љ–∞—З–∞–ї–Є—Б—М –Ј–∞–љ—П—В–Є—П –њ–Њ —Б—В—А–Њ–µ–≤–Њ–є –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–µ) –Є –њ–Њ–Љ—З–∞–ї—Б—П –љ–∞ 2-–є –њ–Є—А—Б –љ–∞ —Б–≤–Њ—О –ї–Њ–і–Ї—Г. –°–њ—Г—Б—В–Є–≤—И–Є—Б—М –≤–љ–Є–Ј, –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї –љ–∞ —З–∞—Б—Л - 8.18., –Ј–љ–∞—З–Є—В, –љ–µ –Њ–њ–Њ–Ј–і–∞–ї –љ–∞ –њ—А–Њ–≤–Њ—А–∞—З–Є–≤–∞–љ–Є–µ –≤ —Н–ї–µ–Ї—В—А–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О, –Ї–Њ–≥–і–∞ —П –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л–ї –Ј–∞–љ—П—В—М —Б–≤–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ –љ–∞ –Љ–Њ—Б—В–Є–Ї–µ. –°—В–∞—А–њ–Њ–Љ –Р.–Ъ–Њ–њ–µ–є–Ї–Є–љ, –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—П –і–Њ–Ї–ї–∞–і—Л –Є–Ј –Њ—В—Б–µ–Ї–Њ–≤, –ґ–µ—Б—В–Њ–Љ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї –Љ–љ–µ ¬Ђ–≤—Л–ї–µ–Ј–∞–є¬ї. –Т —Н—В–Њ—В –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В —А–∞–Ј–і–∞–ї—Б—П –≥–ї—Г—Е–Њ–є –≤–Ј—А—Л–≤, –Ї–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ –±—Л –≤–Ј–Њ—А–≤–∞–ї–∞—Б—М —Г –љ–∞—Б —Ж–Є—Б—В–µ—А–љ–∞, –Є –ї–Њ–і–Ї–∞ –Ј–∞–Ї–∞—З–∞–ї–∞—Б—М. –ѓ –њ—Г–ї–µ–є –≤—Л–ї–µ—В–µ–ї –љ–∞–≤–µ—А—Е –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М, —З—В–Њ —Б–ї—Г—З–Є–ї–Њ—Б—М. –Ґ–∞–Љ –±—Л–ї–∞ –њ–Њ–ї–љ–∞—П —В–µ–Љ–љ–Њ—В–∞ –љ–∞ –≤—Б–µ—Е –њ—А–Є—З–∞–ї–∞—Е –Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ —А–∞–є–Њ–љ–µ 3-–≥–Њ –њ–Є—А—Б–∞ –Є 2-–≥–Њ –њ—А–Є—З–∞–ї–∞ –≤—Л—А–≤–∞–ї–Њ—Б—М –Њ—В–Ї—Г–і–∞-—В–Њ –њ–ї–∞–Љ—П. –Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, —А–Њ–±–Ї–Њ –Ј–∞–≥–Њ—А–µ–ї—Б—П –њ–µ—А–≤—Л–є –ї—Г—З –њ—А–Њ–ґ–µ–Ї—В–Њ—А–∞ —Б –Я–Ъ–Ч-82, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –љ–∞—З–∞–ї –Њ—Й—Г–њ—Л–≤–∞—В—М –∞–Ї–≤–∞—В–Њ—А–Є—О. –Т –µ–≥–Њ —Б–≤–µ—В–µ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ —Г–≤–Є–і–µ—В—М –Ї–Њ—А–њ—Г—Б –Я–Ы –°-350, —А—Г–±–Ї—Г –Я–Ы –С-37, –≥–і–µ –Є–Ј –≥—Г—Б–∞–Ї–∞ —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л –†–Ф–Я –≤—Л—А—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М —П–Ј—Л–Ї–Є –њ–ї–∞–Љ–µ–љ–Є, –µ–µ –Ї–Њ—А–Љ–∞ –њ–Њ–і–љ—П—В–∞, –∞ –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–∞ –њ–ї–∞–≤–∞–ї–Є –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї. –Я–Њ—П–≤–Є–ї–Є—Б—М –ї—Г—З–Є –µ—Й–µ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е –њ—А–Њ–ґ–µ–Ї—В–Њ—А–Њ–≤ —Б –і—А—Г–≥–Є—Е –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї, –љ–∞ –≤—Б–µ—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П—Е –Є–≥—А–∞–ї–Є —Б–Є–≥–љ–∞–ї –±–Њ–µ–≤–Њ–є —В—А–µ–≤–Њ–≥–Є. –Э–∞ –њ–Є—А—Б–µ –Ј–∞–Ј–≤–Њ–љ–Є–ї —В–µ–ї–µ—Д–Њ–љ –Є –≤–∞—Е—В–µ–љ–љ—Л–є –њ–µ—А–µ–і–∞–ї –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ: –∞–≤–∞—А–Є–є–љ–Њ–є –њ–∞—А—В–Є–Є –њ—А–Є–±—Л—В—М –љ–∞ 2-–Њ–є –њ—А–Є—З–∞–ї. –І–µ—А–µ–Ј –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–Є–љ—Г—В –Љ—Л –±—Л–ї–Є –≤ —А–∞–є–Њ–љ–µ –∞–≤–∞—А–Є–Є.
–Ю—В 2-–≥–Њ –њ—А–Є—З–∞–ї–∞ –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –Њ—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М. –Я–Ы –С-37 –љ–Њ—Б–Њ–≤–Њ–є —З–∞—Б—В—М—О –±—Л–ї–∞ –њ–Њ–і –≤–Њ–і–Њ–є, –∞ –Ї–Њ—А–Љ–∞ –≤–Є—Б–µ–ї–∞ –љ–∞ —И–≤–∞—А—В–Њ–≤—Л—Е. –Э–∞ –°-350 —А–Њ–±–Ї–Њ –љ–∞—З–∞–ї –њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞—В—М—Б—П –њ–µ—А–Є—Б–Ї–Њ–њ –Є –≤—А–∞—Й–∞—В—М—Б—П, –Ї—В–Њ-—В–Њ –Њ—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–ї –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї—Г –≤–Њ–Ї—А—Г–≥. –Я–µ—А–≤–∞—П –∞–≤–∞—А–Є–є–љ–∞—П –њ–∞—А—В–Є—П –њ—А–Є–±—Л–ї–∞ –љ–∞ –С-37 –Є –њ—Л—В–∞–ї–∞—Б—М –Њ—В–Ї—А—Л—В—М –∞–≤–∞—А–Є–є–љ—Л–є –ї—О–Ї 7-–≥–Њ –Њ—В—Б–µ–Ї–∞. –Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –ї—О–Ї –Њ—В–Ї—А—Л—В, –Ї—В–Њ-—В–Њ —В—Г–і–∞ —Б–њ—Г—Б—В–Є–ї—Б—П, –Ї–Њ–≥–Њ-—В–Њ –≤—Л–љ–µ—Б–ї–Є, –Є –≤ —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Њ—В–Њ—А–≤–∞–ї–Є—Б—М —И–≤–∞—А—В–Њ–≤—Л –Є –Я–Ы –ї–µ–≥–ї–∞ –љ–∞ –≥—А—Г–љ—В. –†—Г–±–Ї–∞ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ—А–Є–њ–Њ–і–љ—П–ї–∞—Б—М, –Є –≤ –љ–∞—Б—В—Г–њ–∞—О—Й–Є—Е —Б—Г–Љ–µ—А–Ї–∞—Е —Б—В–∞–ї–Њ –≤–Є–і–љ–Њ, —З—В–Њ —Г —А—Г–±–Ї–Є –±—Л–ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ ¬Ђ–≤–µ–љ—З–Є–Ї¬ї –Є–Ј –Њ—Б—В–∞–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –Љ–µ—В–∞–ї–ї–∞. –Т —А–∞–є–Њ–љ–µ —Г—И–µ–і—И–µ–є –њ–Њ–і –≤–Њ–і—Г –Ї–Њ—А–Љ—Л –ї—О–і–µ–є –Є–Ј –∞–≤–∞—А–Є–є–љ–Њ–є –њ–∞—А—В–Є–Є –њ–Њ–і–±–Є—А–∞–ї –±—Г–Ї—Б–Є—А. –С—Л–ї–Є –ґ–µ—А—В–≤—Л –Є —Б—А–µ–і–Є –љ–Є—Е. –Т —Б—Г–Љ–µ—А–Ї–∞—Е —Б—В–∞–ї –≤–Є–і–µ–љ –љ–∞ —Б–Ї–ї–Њ–љ–µ –≥–Њ—А—Л –Ї—Г—Б–Њ–Ї –љ–∞–і—Б—В—А–Њ–є–Ї–Є, —П–Ї–Њ—А—М —Б —Ж–µ–њ—М—О –Є —И–њ–Є–ї–µ–Љ –њ–µ—А–µ–ї–µ—В–µ–ї–Є —З–µ—А–µ–Ј –Ї–∞–Ј–∞—А–Љ—Г –Є –ї–µ–ґ–∞–ї–Є –≤ —Б–∞–і–Є–Ї–µ. –С–∞–ї–ї–Њ–љ—Л –≤–Њ–Ј–і—Г—Е–∞ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–≥–Њ –і–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П —А–∞–Ј–ї–µ—В–µ–ї–Є—Б—М –њ–Њ –≤—Б–µ–Љ—Г –≥–Њ—А–Њ–і—Г, –љ–∞–≤–Њ–і—П —Б—В—А–∞—Е –љ–∞ –ґ–Є—В–µ–ї–µ–є –Є –њ—А–Є–љ–Њ—Б—П –≤ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –і–Њ–Љ–∞ –≥–Њ—А–µ. –Ъ 11 —З–∞—Б–∞–Љ –ґ–Є—В–µ–ї–Є –≤—Б–µ–≥–Њ –Я–Њ–ї—П—А–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±—А–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞ —Б–Њ–њ–Ї–∞—Е, –Њ—В–Ї—Г–і–∞ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –±—Л–ї–Є –≤–Є–і–љ—Л –Љ–∞—Б—И—В–∞–±—Л —В—А–∞–≥–µ–і–Є–Є, –љ–Њ –љ–Є–Ї—В–Њ –љ–µ –Ј–љ–∞–ї, –Ї—В–Њ –њ–Њ–≥–Є–±.

–£–і–∞–ї–Њ—Б—М –њ–Њ–Ј–≤–Њ–љ–Є—В—М –і–Њ–Љ–Њ–є –Є —Б–Њ–Њ–±—Й–Є—В—М, —З—В–Њ —Г –Љ–µ–љ—П –≤—Б–µ –≤ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ, —Г–Ј–љ–∞–ї, —З—В–Њ –≤ –љ–∞—И–µ–є –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В–µ –≤–Ј—А—Л–≤–љ–Њ–є –≤–Њ–ї–љ–Њ–є –≤—Л–±–Є—В–Њ –Њ–Ї–љ–Њ, –Є –ґ–µ–љ–∞ —Б –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Њ–є –і–Њ—З–Ї–Њ–є —Б–Є–і–Є—В —Г —Б–Њ—Б–µ–і–µ–є.
–Ъ 12 —З–∞—Б–∞–Љ —Б–љ—П–ї–Є —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ —Б –Я–Ы –°-350. –ѓ —Б —А–∞–і–Њ—Б—В—М—О –≤—Б—В—А–µ—В–Є–ї –Ы–µ–≤—Г –Х–≥–Њ—А–µ–љ–Ї–Њ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —Б—З–Є—В–∞–ї–Є –њ–Њ–≥–Є–±—И–Є–Љ –≤ –њ–µ—А–≤–Њ–Љ –Њ—В—Б–µ–Ї–µ, –Њ–љ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї, —З—В–Њ –љ–∞ –Є—Е –Я–Ы —В—А–µ—Б–љ—Г–ї –њ—А–Њ—З–љ—Л–є –Ї–Њ—А–њ—Г—Б –Є –ї—О–і–Є –≤ 1-–Љ –Є 2-–Љ –Њ—В—Б–µ–Ї–∞—Е –њ–Њ–≥–Є–±–ї–Є.
–Т—Б–µ–≥–Њ –њ–Њ–≥–Є–±–ї–Њ 78 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, —Б—А–µ–і–Є –љ–Є—Е –Є –Ъ–Њ–ї—П –С–∞–Ј—Г—В–Ї–Є–љ, –Њ–њ–µ–Ї—Г –љ–∞–і —Б–µ–Љ—М–µ–є –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Ј–ї–Њ–ґ–Є–ї–Є –љ–∞ –Љ–µ–љ—П. –Э–∞—И–µ–Љ—Г —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ—Г –і–Њ—Б—В–∞–ї–∞—Б—М –љ–µ–ї–µ–≥–Ї–∞—П –і–Њ–ї—П –і–Њ—Б—В–∞–≤–∞—В—М –њ–Њ–≥–Є–±—И–Є—Е –Є–Ј –Њ—В—Б–µ–Ї–Њ–≤, –Ї–Њ–≥–і–∞ —З–µ—А–µ–Ј 2 –љ–µ–і–µ–ї–Є –њ–Њ–і–љ—П–ї–Є –ї–Њ–і–Ї—Г –љ–∞ –њ–Њ–љ—В–Њ–љ—Л, –њ–Њ—В–Њ–Љ –Є –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞—В—М –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ—Л –њ–Њ–і —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –С-37 –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ 2 —А–∞–љ–≥–∞ –Р.–С–µ–≥–µ–±—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ –≤–Ј—А—Л–≤–∞ –љ–∞—И–ї–Є –Ї–Њ–љ—В—Г–ґ–µ–љ–љ—Л–Љ –љ–∞ –њ—А–Є—З–∞–ї–µ, –Є –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Љ–њ–Њ–ї–Є—В–∞ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ-–ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В–∞ –Ы–∞–њ—В–µ–≤–∞ - –У–µ—А–Њ—П –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞. –Т—Б—В—А–µ—З–∞, –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є–µ —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –≤ –і–љ–Є –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ –і–ї—П –≤—Б–µ–≥–Њ –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –Є –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–≤ 4 —Н—Б–Ї–∞–і—А—Л –Я–Ы –±—Л–ї–Є —Б–∞–Љ—Л–Љ–Є —В—П–ґ–µ–ї—Л–Љ–Є –і–љ—П–Љ–Є –≤ –Є—Е –ґ–Є–Ј–љ–Є, –і–љ—П–Љ–Є, –љ–∞–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –≥–Њ—А–µ–Љ –Є —Б–ї–µ–Ј–∞–Љ–Є.
–Т—Б–µ –њ–Њ–≥–Є–±—И–Є–µ –Є —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є –љ–µ –љ–∞–є–і–µ–љ–љ—Л—Е –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–≤ –Є–Ј –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –Є –≤—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Њ—В—Б–µ–Ї–Њ–≤ –±—Л–ї–Є –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ–µ–љ—Л –≤ –±—А–∞—В—Б–Ї–Њ–є –Љ–Њ–≥–Є–ї–µ –љ–∞ –Ї–ї–∞–і–±–Є—Й–µ –≤ –≥—Г–±–µ –Ъ–Є—Б–ї–Њ–є –≤ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–Є –њ—А–Є–±—Л–≤—И–Є—Е —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤.
–Ь–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л–µ –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–Є, —А–∞–±–Њ—В–∞–≤—И–Є–µ –љ–∞ –љ–∞—И–µ–є –Я–Ы, –њ—А–Є—З–Є–љ—Г –Ї–∞—В–∞—Б—В—А–Њ—Д—Л –љ–µ –≤—Л—П–≤–Є–ї–Є. –Њ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ –і—А—Г–ґ–љ–Њ–Љ —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–µ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є –С-37 –≤—Б–µ–≥–і–∞ –±—Г–і–µ—В –ґ–Є—В—М –≤ —Б–µ—А–і—Ж–∞—Е –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤.

–Я–Њ—Б–ї–µ –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–∞ –≤–Ј–Њ—А–≤–∞–≤—И–µ–є—Б—П –ї–Њ–і–Ї–Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Њ–±—К—П–≤–Є–ї–Њ, —З—В–Њ –љ–∞—И–∞ –Я–Ы –≤–Ї–ї—О—З–∞–µ—В—Б—П –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤ 69 –±—А–Є–≥–∞–і—Л –≤–Љ–µ—Б—В–Њ –њ–Њ–≥–Є–±—И–µ–є –С-37 –і–ї—П —Г—З–∞—Б—В–Є—П –≤ –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–Є ¬Ђ–Ъ–∞–Љ–∞¬ї. –Ь–љ–µ, –Ї–∞–Ї –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї—Г –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞, –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—В—М—Б—П –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞–Љ–Є —Б–љ–∞–±–ґ–µ–љ–Є—П –Я–Ы. –Я–µ—А–≤—Л–Љ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –њ–Њ—Е–Њ–і –Њ–ґ–Є–і–∞–µ—В—Б—П –Ї—Г–і–∞-—В–Њ –≤ —И–Є—А–Њ—В—Л —Б –ґ–∞—А–Ї–Є–Љ –Ї–ї–Є–Љ–∞—В–Њ–Љ, –±—Л–ї–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–Є–µ —В—А–Њ–њ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±–Љ—Г–љ–і–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П вАУ –љ–µ–≤–Є–і–∞–љ–љ—Л–µ –і–Њ—Б–µ–ї–µ –љ–∞–Љ–Є –њ–∞–љ–∞–Љ—Л –і–ї—П –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е —О–ґ–љ—Л—Е –Њ–Ї—А—Г–≥–Њ–≤, –ґ–µ–ї—В—Л–µ —А—Г–±–∞—И–Ї–Є —Б –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Є–Љ–Є —А—Г–Ї–∞–≤–∞–Љ–Є –Є —А–∞–Ј–Њ–≤–Њ–µ –±–µ–ї—М–µ, –Ї—Г–і–∞ –і–ї—П –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤ –≤–Љ–µ—Б—В–Њ –Ї–∞–ї—М—Б–Њ–љ –±—Л–ї–Є –≤–Ї–ї—О—З–µ–љ—Л —В—А—Г—Б—Л, —Е–Њ—В—П –Љ–∞—В—А–Њ—Б–Њ–≤ —Н—В–Њ –љ–Њ–≤–Њ–≤–≤–µ–і–µ–љ–Є–Є –љ–µ –Ї–Њ—Б–љ—Г–ї–Њ—Б—М –Є –≤ –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–Љ –Њ–љ–Є –≤ –њ–Њ—Е–Њ–і–µ –ї–Њ–≤–Ї–Њ –Њ–±—А–µ–Ј–∞–ї–Є –Ї–∞–ї—М—Б–Њ–љ—Л, –њ—А–µ–≤—А–∞—В–Є–≤ –≤ —В—А—Г—Б—Л. –®—В—Г—А–Љ–∞–љ, –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ-–ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В –Т.–Э–∞—Г–Љ–Њ–≤ –≤ —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –њ–Њ–ї—Г—З–∞–ї —Б–Њ —Б–Ї–ї–∞–і–∞ –Ї–∞—А—В—Л –љ–∞ –≤—Б–µ –Љ–Њ—А—П –Є –Њ–Ї–µ–∞–љ—Л –Ь–Є—А–∞, –∞ –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ї–Є ¬Ђ–Њ—В –і—Г—И–Є¬ї –њ–Њ–њ–Њ–ї–љ—П–ї–Є –Ч–Ш–Я –Є —З–∞—Б—В—М –њ—А–Є–±–Њ—А–Њ–≤ –Є –Њ–±–Њ—А—Г–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Б —Г–ґ–µ –њ–Њ–і–љ—П—В–Њ–є —Б–Њ –і–љ–∞ –њ–Њ–≥–Є–±—И–µ–є –Я–Ы, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—О –љ–µ –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–∞–ї–∞.
–Т –∞–≤–≥—Г—Б—В–µ, –і–ї—П –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–Є –Ї –њ–Њ—Е–Њ–і—Г, –њ–µ—А–µ–±–∞–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –≤ –°–∞–є–і–∞-–≥—Г–±—Г, –≥–і–µ —В–Њ–≥–і–∞ –±—Л–ї–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–ї–∞–≤–њ—А–Є—З–∞–ї—Л –Є –Я–Ъ–Ч –і–ї—П –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і. –Ґ—Г–і–∞ –ґ–µ –њ–µ—А–µ–і –≤—Л—Е–Њ–і–Њ–Љ –≤ –Љ–Њ—А–µ –љ–∞–Љ –і–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є —Е–ї–µ–± –Є –±–∞—В–Њ–љ—Л ¬Ђ–і–Њ–ї–≥–Њ–≥–Њ —Е—А–∞–љ–µ–љ–Є—П¬ї, –∞ –Є–Ј –Ї—Г—А–µ–≤–∞ вАУ –њ–∞–њ–Є—А–Њ—Б—Л ¬Ђ–С–µ–ї–Њ–Љ–Њ—А¬ї –і–ї—П –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤, ¬Ђ–Ч–≤–µ–Ј–і–Њ—З–Ї–∞¬ї - –і–ї—П —Б—В–∞—А—И–Є–љ –Є —Б–Є–≥–∞—А–µ—В—Л ¬Ђ–Ц—Г–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–µ¬ї - –і–ї—П –Љ–∞—В—А–Њ—Б–Њ–≤. –Т—Б–µ —Н—В–Њ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –Ј–∞–±–Є–ї–Њ –≤—Б–µ –Љ–µ—Б—В–∞ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤–і–Њ–ї—М –±–Њ—А—В–Њ–≤, –љ–Њ –њ—А–Њ—Е–Њ–і—Л –Є ¬Ђ—И—Е–µ—А—Л¬ї –њ–Њ –≤—Б–µ–є –Я–Ы.
–Ф–ї—П –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —А–∞–Ј—А—П–і–Ї–Є –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–∞–Љ —А–∞–Ј—А–µ—И–Є–ї–Є –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Є–µ –њ–Њ–µ–Ј–і–Ї–Є –Ї —Б–µ–Љ—М—П–Љ –≤ –Я–Њ–ї—П—А–љ—Л–є, –∞ –Љ–∞—В—А–Њ—Б–Њ–≤ –≥—А—Г–њ–њ–∞–Љ–Є –≤–Њ–і–Є–ї–Є –≤ —Б–Њ–њ–Ї–Є, –≥–і–µ –Њ–љ–Є –і–ї—П —А–∞–Ј–≤–ї–µ—З–µ–љ–Є—П —Б–Њ–±–Є—А–∞–ї–Є –≥—А–Є–±—Л, –≥–Њ–љ—П–ї–Є –Ј–∞–є—Ж–µ–≤ –Є –і—А—Г–≥—Г—О –ґ–Є–≤–љ–Њ—Б—В—М. –£—З–Є—В—Л–≤–∞—П, —З—В–Њ –±—Л–ї–Њ –ї–µ—В–Њ, –∞ –Љ—Л —Б–Њ–±–Є—А–∞–ї–Є—Б—М –њ–Њ —А—П–і—Г –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї–Њ–≤ –≤ —О–ґ–љ—Л–µ –Ї—А–∞—П, –љ–∞ –±–Њ—А—В –±—Л–ї–Є –≤–Ј—П—В—Л —В–µ–њ–ї—Л–µ –≤–µ—Й–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–ї—П –≤–∞—Е—В–µ–љ–љ—Л—Е –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤ –Є —Б–Є–≥–љ–∞–ї—М—Й–Є–Ї–Њ–≤.
–Т–Њ—В –Є –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М вАУ –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї–∞ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–∞ —Б—В–∞—В—М –њ–Њ–і –њ–Њ–≥—А—Г–Ј–Ї—Г —В–Њ—А–њ–µ–і—Л —Б —П–і–µ—А–љ–Њ–є –±–Њ–µ–≥–Њ–ї–Њ–≤–Ї–Њ–є. –Т–Њ –≤—А–µ–Љ—П –њ–Њ–≥—А—Г–Ј–Ї–Є –≤ –љ–Њ—З–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –љ–Є–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞–≤–µ—А—Е –љ–µ –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–∞–ї–Є. –Ч–∞–≥—А—Г–Ј–Є–ї–Є—Б—М, –Є –≤–Њ—В —В–µ–њ–µ—А—М –Љ—Л –Ї –≤—Л—Е–Њ–і—Г –≥–Њ—В–Њ–≤—Л. –Э–Њ—З—М—О 1 –Њ–Ї—В—П–±—А—П –≤—Л—И–ї–Є –Є–Ј –Ъ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–∞–ї–Є–≤–∞ –Є –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є–ї–Є—Б—М –≤ –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В—М. –Т –Љ–Њ—А–µ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –≤—Б–Ї—А—Л–ї –њ–∞–Ї–µ—В –Є –і–∞–ї —И—В—Г—А–Љ–∞–љ—Г –њ–µ—А–≤—Л–є –Ї—Г—А—Б –≤ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –Ї –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–ї–Њ–і–Њ—З–љ–Њ–Љ—Г —А—Г–±–µ–ґ—Г –Э–Њ—А–і–Ї–∞–њ-–Ь–µ–і–≤–µ–ґ–Є–є. –С–∞—А–µ–љ—Ж–µ–≤–Њ –Љ–Њ—А–µ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–Њ –љ–∞—Б –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ, –∞ –≤—Б—В—А–µ—В–Є–ї–Њ –Ї—А—Г—В–Њ–є –≤–Њ–ї–љ–Њ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П, —А–∞–Ј–±–Є–≤–∞–ї–∞—Б—М –Њ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б, —Б—В–µ–Ї–∞–ї–∞ —Б —А—Г–±–Ї–Є –Є –Њ–і–µ–ґ–і—Л –≤–∞—Е—В–µ–љ–љ—Л—Е –Ї—А–∞—Б–Є–≤—Л–Љ —Б–≤—П—В—П—Й–Є–Љ—Б—П –Ї–∞—Б–Ї–∞–і–Њ–Љ.

–Ь—Л, —В–µ–Љ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–µ–Љ, –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї–Є –Ї—Г–і–∞ –Є–і–µ–Љ: –≤ –Р–ї–±–∞–љ–Є—О –Є–ї–Є –Ѓ–≥–Њ—Б–ї–∞–≤–Є—О, –Р–ї–ґ–Є—А –Є–ї–Є –Х–≥–Є–њ–µ—В, –Љ–Њ–ґ–µ—В, –≤ –Р–љ–≥–Њ–ї—Г? –Ш —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞ 10 —Б—Г—В–Ї–Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –Њ–±—К—П–≤–Є–ї –≤—Б–µ–є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–µ вАУ –Ъ—Г–±–∞, –њ–Њ—А—В –Ь–∞—А–Є—Н–ї—М. –Т—Б–µ –±—А–Њ—Б–Є–ї–Є—Б—М –Ї –Ї–∞—А—В–∞–Љ, –ї–Њ—Ж–Є—П–Љ –Є –љ–∞—З–∞–ї–Є –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—В—М –њ–Њ—З–µ–Љ—Г-—В–Њ –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Є–є —П–Ј—Л–Ї, –њ–Њ–Ї–∞ –Ї—В–Њ-—В–Њ –љ–µ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї, —З—В–Њ –≤–µ–і—М —В–∞–Љ –≥–Њ–≤–Њ—А—П—В –љ–∞ –Є—Б–њ–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ. –Р—В–ї–∞–љ—В–Є–Ї–∞ –≤—Б—В—А–µ—В–Є–ї–∞ –љ–∞—Б —Г—А–∞–≥–∞–љ–љ—Л–Љ –≤–µ—В—А–Њ–Љ –Є –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Љ–µ—В—А–Њ–≤—Л–Љ–Є –≤–Њ–ї–љ–∞–Љ–Є, –Ј–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є –Њ—В –≤–Њ–і—П–љ–Њ–є –њ—Л–ї–Є —Б –Љ–Њ—Б—В–Є–Ї–∞ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –≤–Є–і–љ–Њ. –Э–∞–≤–µ—А—Е—Г —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤–∞—Е—В–µ–љ–љ—Л–є –Њ—Д–Є—Ж–µ—А –Є —Б–Є–≥–љ–∞–ї—М—Й–Є–Ї, –њ—А–Є–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–µ –љ–∞ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–Њ—З–љ—Л—Е –њ–Њ—П—Б–∞—Е –Є –Њ–і–µ—В—Л–µ –≤ —Е–Є–Љ–Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—В—Л. –†—Г–±–Њ—З–љ—Л–є –ї—О–Ї –Ј–∞–і—А–∞–µ–љ, —Б–≤—П–Ј—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —З–µ—А–µ–Ј –њ–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ—А–Ї—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –Ј–∞—В—Л–Ї–∞–ї–∞—Б—М –Њ—В –≤–Њ–і—Л. –Ъ–∞–ґ–і—Г—О –≤–Њ–ї–љ—Г –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –≤—Б—В—А–µ—З–∞—В—М –Њ—В–і–µ–ї—М–љ–Њ, –Є –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–і–љ—Г –Є–Ј –љ–Є—Е –≤–∞—Е—В–µ–љ–љ—Л–є –Њ—Д–Є—Ж–µ—А вАУ –љ–∞—И –Љ–Є–љ–µ—А –Р–ї–Є–Ї –Ь—Г—Е—В–∞—А–Њ–≤ вАУ –њ—А–Њ–њ—Г—Б—В–Є–ї, —А–µ–±—А–∞ –µ–≥–Њ –љ–µ –≤—Л–і–µ—А–ґ–∞–ї–Є, –Є –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –µ–Љ—Г –љ–∞ –≤—А–µ–Љ—П –њ–µ—А–µ–Љ–µ—Б—В–Є—В—М—Б—П –љ–∞ —Б–≤–Њ—О –Ї–Њ–є–Ї—Г. –Р –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ –≤–∞—Е—В—Л, —З–µ—А–µ–Ј 4 —З–∞—Б–∞ –љ–∞–њ—А—П–ґ–µ–љ–Є—П, —Б–њ—Г—Б–Ї–∞—П—Б—М –≤–љ–Є–Ј, –ї–µ—В–Є—И—М —З–µ—А–µ–Ј —А—Г–±–Њ—З–љ—Л–є –ї—О–Ї –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б–Њ —Б—В–Њ–ї–±–Њ–Љ –≤–Њ–і—Л. –Я—А–∞–≤–і–∞, –≤–љ–Є–Ј—Г —В–Њ–ґ–µ –љ–µ —Б–ї–∞–і–Ї–Њ, –∞ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –Є —Е—Г–ґ–µ, —З–µ–Љ –љ–∞ –Љ–Њ—Б—В–Є–Ї–µ, –Є–Ј-–Ј–∞ –Ї–∞—З–Ї–Є, –Ј–∞–њ–∞—Е–Њ–≤ –≤—Л—Е–ї–Њ–њ–∞ –і–Є–Ј–µ–ї–µ–є, —Б –Ї–∞–Љ–±—Г–Ј–∞ –Є –њ—А. –Т –Ї–∞—О—В–∞—Е –Є –њ—А–Њ—Е–Њ–і–∞—Е —Б–њ–ї–Њ—И–љ—Л–µ –Ј–∞–≤–∞–ї—Л –Є–Ј —П—Й–Є–Ї–Њ–≤ –Є –Љ–µ—И–Ї–Њ–≤ —Б –њ—А–Њ–≤–Є–Ј–Є–µ–є –љ–∞ –і–ї–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є —Б—А–Њ–Ї –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є—П. –Я–Њ–≥—А—Г–Ј–Є—В—М—Б—П –Є –Є–і—В–Є –њ–Њ–і –≤–Њ–і–Њ–є –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ–Љ, —В.–Ї. –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В—Б—П —Б–Њ–±–ї—О–і–∞—В—М –Є –≤—Л–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞—В—М –ґ–µ—Б—В–Ї–Є–є –≥—А–∞—Д–Є–Ї –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П. –Ш —В–∞–Ї –њ–Њ–ї–Ј–µ–Љ –љ–∞ 2-—Е –і–Є–Ј–µ–ї—П—Е, —Б–Њ—Е—А–∞–љ—П—П ¬Ђ–њ–Њ–і–≤–Є–ґ–љ—Г—О —В–Њ—З–Ї—Г¬ї. –Я–Њ –Љ–µ—А–µ –њ—А–Њ–і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П –љ–∞ —О–≥, —В–µ–Љ–њ–µ—А–∞—В—Г—А–∞ –≤–Њ–і—Л –Ј–∞ –±–Њ—А—В–Њ–Љ –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В –њ–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ–≤—Л—И–∞—В—М—Б—П. –Ш –њ–Њ—Б–ї–µ –µ–µ —Г–≤–µ–ї–Є—З–µ–љ–Є—П –≤—Л—И–µ 20 –≤ —Е–Є–Љ–Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—В–∞—Е —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П –ґ–∞—А–Ї–Њ, –Ї–∞–Ї –≤ —Б–∞—Г–љ–µ. –Я—А–Є—И–ї–Њ—Б—М —Б–ї–µ–≥–Ї–∞ –Ј–∞–і–µ—А–ґ–∞—В—М—Б—П –Є–Ј-–Ј–∞ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є —Б–і–µ–ї–∞—В—М –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є—О –∞–њ–њ–µ–љ–і–Є—Ж–Є—В–∞ –Љ–Є—З–Љ–∞–љ—Г –Я–∞–љ–Ї–Њ–≤—Г, –і–ї—П —З–µ–≥–Њ –њ–Њ–≥—А—Г–Ј–Є–ї–Є—Б—М –љ–∞ –≥–ї—Г–±–Є–љ—Г 100 –Љ, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Я–Ы –≤—Б–µ –ґ–µ —Б–ї–µ–≥–Ї–∞ –њ–Њ–Ї–∞—З–Є–≤–∞–ї–Њ. –Т—Б–µ –њ—А–Њ—И–ї–Њ –±–ї–∞–≥–Њ–њ–Њ–ї—Г—З–љ–Њ, –Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–∞ –Њ—В–і–Њ—Е–љ—Г–ї–∞ –њ–Њ–і –≤–Њ–і–Њ–є. –Э–Њ —Н—В–Њ –Ј–∞—Б—В–∞–≤–Є–ї–Њ —Г–≤–µ–ї–Є—З–Є—В—М —Е–Њ–і, —З—В–Њ –њ—А–Є–≤–µ–ї–Њ –Ї –њ–Њ—В–µ—А–µ —З–∞—Б—В–Є –љ–µ–Љ–∞–≥–љ–Є—В–љ–Њ–≥–Њ –Њ–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ–Є—П —А—Г–±–Ї–Є –Є –љ–Њ—Б–Њ–≤–Њ–≥–Њ –∞–≤–∞—А–Є–є–љ–Њ–≥–Њ –±—Г—П. –Я–Њ –Љ–µ—А–µ –њ—А–Є–±–ї–Є–ґ–µ–љ–Є—П –Ї –±–µ—А–µ–≥–∞–Љ –Р–Љ–µ—А–Є–Ї–Є –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–∞–µ—В –љ–∞–њ—А—П–ґ–µ–љ–Є–µ, —З–∞—Й–µ –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В—М—Б—П –њ–Њ–≥—А—Г–ґ–∞—В—М—Б—П –Њ—В —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В–љ—Л—Е –†–Ы–°, –Є–љ–Њ–≥–і–∞ 2-3 —А–∞–Ј–∞ –Ј–∞ –≤–∞—Е—В—Г. –Р –Њ–Ї–µ–∞–љ –њ–Њ-–њ—А–µ–ґ–љ–µ–Љ—Г —Б–µ–і–Њ–є, –≤–Њ–і–∞ –Ј–∞ –±–Њ—А—В–Њ–Љ —Г–ґ–µ 22.

–Я–Њ—П–≤–Є–ї–Є—Б—М —В—Г–љ—Ж—Л –Є –ї–µ—В–∞—О—Й–Є–µ —А—Л–±–Ї–Є, –Ј–∞–њ–∞—Е–ї–Њ —Н–Ї–Ј–Њ—В–Є–Ї–Њ–є. –Ґ–µ–Љ–њ–µ—А–∞—В—Г—А–∞ –≤ –ї–Њ–і–Ї–µ –њ–Њ–і–љ—П–ї–∞—Б—М –≤ —Б–∞–Љ—Л—Е –њ—А–Њ—Е–ї–∞–і–љ—Л—Е –Њ—В—Б–µ–Ї–∞—Е –і–Њ 35. –Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –≤—Л—И–ї–Є –Є –Ј–∞–љ—П–ї–Є –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—О —Г –њ—А–Њ–ї–Є–≤–∞ –Ъ–∞–є–Ї–Њ—Б. –Т –Њ—В—Б–µ–Ї–∞—Е —В–µ–Љ–њ–µ—А–∞—В—Г—А–∞ –њ–Њ–і–љ—П–ї–∞—Б—М –і–Њ 57. –С–Њ–ї—М—И–∞—П —З–∞—Б—В—М –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Л –њ–µ—А–µ–±—А–∞–ї–∞—Б—М –≤ —Б–∞–Љ—Л–є ¬Ђ—Е–Њ–ї–Њ–і–љ—Л–є¬ї 1-–є –Њ—В—Б–µ–Ї, –≥–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ +40. –Э–∞–і –≥–Њ–ї–Њ–≤–Њ–є –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ –≤–Є—Б–Є—В –∞–≤–Є–∞—Ж–Є—П, —А–∞–±–Њ—В–∞—О—В –†–Ы–° –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є. –Р –Ј–∞—А—П–і–Ї–∞ вАУ —Н—В–Њ –Љ—Г–Ї–∞. –Ґ–µ–Љ–њ–µ—А–∞—В—Г—А–∞ —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ–ї–Є—В–∞ –Ј–∞ 30, –Ј–∞—А—П–і–Ї–∞ –Є–і–µ—В –Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ, –∞ —В—Г—В –µ—Й–µ –њ–Њ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —А–∞–Ј –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –њ—А–µ—А—Л–≤–∞—В—М –µ–µ –Є–Ј-–Ј–∞ —Б—А–Њ—З–љ—Л—Е –њ–Њ–≥—А—Г–ґ–µ–љ–Є–є –Њ—В —Б–Є–≥–љ–∞–ї–Њ–≤ –†–Ы–°. –Ю—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞ –Є –њ—Г—Б–Ї –і–Є–Ј–µ–ї–µ–є –њ–Њ–і—Л–Љ–∞—О—В —В–µ–Љ–њ–µ—А–∞—В—Г—А—Г –≤ 5-–Љ –Њ—В—Б–µ–Ї–µ - 60 –≥—А–∞–і—Г—Б–Њ–≤. –Ш–Ј-–Ј–∞ –±–Њ–ї—М—И–Њ–≥–Њ —А–∞—Б—Е–Њ–і–∞ —В–Њ–њ–ї–Є–≤–∞ –Я–Ы –њ–Њ—В—П–ґ–µ–ї–µ–ї–∞, –Њ—В–Ї–∞—З–∞–ї–Є –≤—Б–µ –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –Ј–∞–њ–∞—Б—Л –њ—А–µ—Б–љ–Њ–є –≤–Њ–і—Л, –≤ —Г—А–∞–≤–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –Є –і–Є—Д—Д–µ—А–µ–љ—В–љ—Л—Е —Ж–Є—Б—В–µ—А–љ–∞—Е –њ–Њ—З—В–Є –њ—Г—Б—В–Њ. –Т–≤–µ–і–µ–љ —Б—В—А–Њ–≥–Є–є —А–µ–ґ–Є–Љ —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Є –њ—А–µ—Б–љ–Њ–є –≤–Њ–і—Л. –Я–Є—Й–∞ –≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В—Б—П –љ–∞ —Б–Љ–µ—Б–Є –њ—А–µ—Б–љ–Њ–є –Є –Ј–∞–±–Њ—А—В–љ–Њ–є –≤–Њ–і—Л, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Є –Ї–Њ–Љ–њ–Њ—В, –њ—А–µ—Б–љ–∞—П –≤–Њ–і–∞ —А—Г—З–љ—Л–Љ –љ–∞—Б–Њ—Б–Њ–Љ –Ї–∞—З–∞–µ—В—Б—П –љ–∞ –Ї–∞–Љ–±—Г–Ј –Є –≤—Л–і–∞–µ—В—Б—П –≤ –і–µ–љ—М –њ–Њ —Б—В–∞–Ї–∞–љ—Г –љ–∞ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, –≤ –Њ—В—Б–µ–Ї–∞—Е –њ–Њ–ї—М–Ј—Г—О—В—Б—П —Б–њ—А–Њ—Б–Њ–Љ —Б—В–Њ—П—Й–Є–µ –Љ–µ—И–Ї–Є —Б —Б–Њ–ї—М—О, —В.–Ї. –і–∞–ґ–µ –њ–Њ—В —Г–ґ–µ –љ–µ —Б–Њ–ї–µ–љ—Л–є. –Т—Б–µ –њ–Њ–Ї—А—Л–ї–Є—Б—М –њ–Њ—В–љ–Є—Ж–µ–є, –і–Њ–Ї—В–Њ—А —А–∞—Б–Ї—А–∞—Б–Є–ї –љ–∞—Б –Ї–∞–Ї –Є–љ–і–µ–є—Ж–µ–≤ –≤ —Б–Є–љ–Є–µ –Є –Ј–µ–ї–µ–љ—Л–µ —Ж–≤–µ—В–∞. –Э–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–±–ї–µ–≥—З–∞–µ—В –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –Њ–±—В–Є—А–∞–љ–Є–µ —А–∞–Ј–±–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–Љ —Б–њ–Є—А—В–Њ–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є—В—Б—П 2 —А–∞–Ј–∞ –≤ —Б—Г—В–Ї–Є.
–Т–і–∞–ї–Є —Б–ї—Л—И–∞—В—Б—П –≤–Ј—А—Л–≤—Л, —З—В–Њ —Н—В–Њ –Ј–љ–∞—З–Є—В, –љ–Є–Ї—В–Њ –љ–µ –Ј–љ–∞–µ—В; —Н—В–Њ –њ–Њ—В–Њ–Љ —Б—В–∞–ї–Њ —П—Б–љ–Њ, —З—В–Њ —Н—В–Њ –≤–Ј—А—Л–≤—Л –≥—А–∞–љ–∞—В, –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г–µ–Љ—Л—Е –і–ї—П —Б–Є—Б—В–µ–Љ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –Я–Ы. –Т –Њ—В—Б–µ–Ї–∞—Е —Б–Ї–Њ–њ–Є–ї–Є—Б—М –≥—А—Г–і—Л –Љ—Г—Б–Њ—А–∞ –Є –њ–Є—Й–µ–≤—Л—Е –Њ—В—Е–Њ–і–Њ–≤. –Ю—В—А–∞–±–Њ—В–∞–љ–љ–∞—П —А–µ–≥–µ–љ–µ—А–∞—Ж–Є—П –љ–µ –њ–Њ–Љ–µ—Й–∞–µ—В—Б—П –љ–Є –≤ –Ї–∞–Ї–Є–µ –µ–Љ–Ї–Њ—Б—В–Є, —Б–≤–∞–ї–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –≤ –ґ–µ—Б—В—П–љ—Л–µ –±–∞–љ–Ї–Є –Є–Ј-–њ–Њ–і —Б—Г—Е–∞—А–µ–є –Є –њ–Њ–ї–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –≤–Њ–і–Њ–є, –≤—Л–ґ–Є–Љ–∞—П –Є–Ј –љ–µ–µ –Ї—А–Њ—Е–Є –Ї–Є—Б–ї–Њ—А–Њ–і–∞, –і—Л—И–∞—В—М –њ–Њ—З—В–Є –љ–µ—З–µ–Љ. –Э–µ –≤—Л–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–µ—В —А–µ—Д—А–Є–ґ–µ—А–∞—В–Њ—А–љ–∞—П —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞ —Е–Њ–ї–Њ–і–Є–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–≤. –Я–Њ —А–µ–Ї–Њ–Љ–µ–љ–і–∞—Ж–Є–Є –і–Њ–Ї—В–Њ—А–∞ –Ј–∞–њ–∞—Б—Л –Љ—П—Б–∞ –Є –њ—В–Є—Ж—Л –њ–Њ–ї–µ—В–µ–ї–Є –Ј–∞ –±–Њ—А—В. –Я—А–Є –Њ—З–µ—А–µ–і–љ–Њ–Љ –≤—Б–њ–ї—Л—В–Є–Є –±—Л–ї–Є –≤—Л–±—А–Њ—И–µ–љ—Л –Ј–∞ –±–Њ—А—В –≤—Б–µ –њ–Њ–і–∞—А–Ї–Є –Ь–Є–љ–Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л: ¬Ђ–Ц—Г–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–µ¬ї —Б–Є–≥–∞—А–µ—В—Л, ¬Ђ–Ч–≤–µ–Ј–і–Њ—З–Ї–∞¬ї –Є –њ–Њ—З—В–Є –≤–µ—Б—М ¬Ђ–С–µ–ї–Њ–Љ–Њ—А¬ї, - –Ї—Г—А–Є—В—М –њ–Њ—З—В–Є –љ–µ –±—Л–ї–Њ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є. –°–Ї–Њ—А–Њ —В—Г–і–∞ –ґ–µ –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї–Є—Б—М —Е–ї–µ–± –Є –±–∞—В–Њ–љ—Л ¬Ђ–і–Њ–ї–≥–Њ–≥–Њ¬ї —Е—А–∞–љ–µ–љ–Є—П, –њ—А–µ–≤—А–∞—В–Є–≤—И–Є–µ—Б—П –≤ —В—А—Г—Е—Г. –Т–Њ—В —В—Г—В –Љ—Л –і–Њ–±—А—Л–Љ —Б–ї–Њ–≤–Њ–Љ –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї–Є –њ–Њ–і–њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї–∞ –Є–Ј –њ—А–Њ–і—Б–ї—Г–ґ–±—Л –У–µ–љ—И—В–∞–±–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –љ–∞—Г—З–Є–ї –Ї–Њ–Ї–Њ–≤ –њ–µ—З—М –±–µ–ї—Л–є —Е–ї–µ–± –љ–∞ –љ–∞—И–µ–Љ .

–≠—В–Њ –±—Л–ї–Є —Б–∞–Љ—Л–µ –њ—А–Є—П—В–љ—Л–µ –Љ–Є–љ—Г—В—Л, –Ї–Њ–≥–і–∞, –Є–і—П –љ–∞ –Љ–Њ—Б—В–Є–Ї –љ–∞ –≤–∞—Е—В—Г –≤ –љ–Њ—З–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П, –±–µ—А–µ—И—М –≥–Њ—А—П—З—Г—О –±—Г—Е–∞–љ–Ї—Г, –≤–љ—Г—В—А—М –Ј–∞–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–µ—И—М —И–Љ–∞—В –Љ–∞—Б–ї–∞ –Є –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б —Б–Є–≥–љ–∞–ї—М—Й–Є–Ї–Њ–Љ —Б —Г–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Є–µ–Љ –µ–µ —Б—К–µ–і–∞–µ—И—М. –Э–Њ —В–∞–Ї–Є–µ –Љ–Є–љ—Г—В—Л –±—Л–ї–Є –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Є, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –Њ—З–µ—А–µ–і–љ–Њ–є —Б–Є–ї—М–љ—Л–є —Б–Є–≥–љ–∞–ї —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В–љ–Њ–є –Є–ї–Є –Ї–Њ—А–∞–±–µ–ї—М–љ–Њ–є –†–Ы–° –Ј–∞–≥–Њ–љ—П–ї –љ–∞—Б —Б–љ–Њ–≤–∞ –њ–Њ–і –≤–Њ–і—Г. –Ю—З–µ—А–µ–і–љ–Њ–µ –≤—Б–њ–ї—Л—В–Є–µ –љ–∞ –Ј–∞—А—П–і–Ї—Г 26 –Њ–Ї—В—П–±—А—П –Њ–±–Њ—И–ї–Њ—Б—М –і–Њ—А–Њ–≥–Њ. –Т—Б–њ–ї—Л–ї –њ–Њ–і –њ–µ—А–Є—Б–Ї–Њ–њ, –≤—Б–µ –±—Л–ї–Њ —В–Є—Е–Њ, —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї —Г –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є—П –≤—Л–±—А–Њ—Б–Є—В—М –Љ—Г—Б–Њ—А, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –љ–∞–Ї–Њ–њ–Є–≤—И—Г—О—Б—П —А–µ–≥–µ–љ–µ—А–∞—Ж–Є—О, –љ–Њ —З–µ—А–µ–Ј –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–Є–љ—Г—В –њ–Њ—Б–ї–µ –њ—А–Њ–і—Г–≤–∞–љ–Є—П —Б—А–µ–і–љ–µ–є —Ж–Є—Б—В–µ—А–љ—Л –љ–∞ ¬Ђ–Э–∞–Ї–∞—В¬ї –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї –Њ—З–µ–љ—М —Б–Є–ї—М–љ—Л–є —Б–Є–≥–љ–∞–ї –Ї–Њ—А–∞–±–µ–ї—М–љ–Њ–є –†–Ы–°. –°—Л–≥—А–∞–ї —Б—А–Њ—З–љ–Њ–µ –њ–Њ–≥—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ, —Г—И–µ–ї –љ–∞ –≥–ї—Г–±–Є–љ—Г 25 –Љ, –љ–Њ —В—Г—В –ґ–µ –Ј–∞—А–∞–±–Њ—В–∞–ї–∞ –≥–Є–і—А–Њ–∞–Ї—Г—Б—В–Є–Ї–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П –≤ –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–Љ —А–µ–ґ–Є–Љ–µ –Є –љ–∞–і –≥–Њ–ї–Њ–≤–Њ–є –Ј–∞–≥—А–Њ—Е–Њ—В–∞–ї–Є –≤–Є–љ—В—Л —Б —В–∞–Ї–Њ–є —Б–Є–ї–Њ–є, —З—В–Њ –≤—Б–µ –≤–ґ–∞–ї–Є –≥–Њ–ї–Њ–≤—Л –≤ –њ–ї–µ—З–Є. –£—И–ї–Є –љ–∞ –≥–ї—Г–±–Є–љ—Г –±–Њ–ї–µ–µ 50 –Љ, –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ —Г—Б–њ–Њ–Ї–Њ–Є–ї–Є—Б—М, –љ–Њ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М –Ј–∞—Ж–µ–њ–Є–ї –љ–∞—Б, –Є –Љ–µ—А—Л, –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ—П—В—Л–µ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–Љ –і–ї—П —Г–Ї–ї–Њ–љ–µ–љ–Є—П, —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–∞ –љ–µ –њ—А–Є–љ–µ—Б–ї–Є. –І–µ—А–µ–Ј –Ї–∞–Ї–Њ–µ-—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –њ–Њ–і–Њ—И–ї–Є –µ—Й–µ 2 –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П, –Є –љ–∞ –Я–Ы –≤ –Њ—В—Б–µ–Ї–∞—Е —Б—В–∞–ї–Њ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –љ–µ–≤–Љ–Њ–≥–Њ—В—Г вАУ –Ї –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є—О –≤–Њ–Ј–і—Г—Е–∞, –љ–µ—Б—В–µ—А–њ–Є–Љ–Њ–є –ґ–∞—А–µ –Є –≤–ї–∞–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –і–Њ–±–∞–≤–Є–ї–Є—Б—М –Њ–≥–ї—Г—И–∞—О—Й–Є–µ —А–µ–Ј–Ї–Є–µ –Ј–≤—Г–Ї–Є –њ–Њ—Б—Л–ї–Њ–Ї –≥–Є–і—А–Њ–ї–Њ–Ї–∞—В–Њ—А–Њ–≤ (–У–Р–°), –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ —В—П–ґ–µ–ї–Њ –і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є –љ–∞ –љ–µ—А–≤–љ—Г—О —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Г –Є —В–∞–Ї –Є–Ј–Љ–Њ—В–∞–љ–љ—Л—Е –ї—О–і–µ–є.
–Т –њ–µ—А–≤—Л–µ —Б—Г—В–Ї–Є —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ —А–µ–ґ–Є–Љ–∞ –і–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –љ–∞ –љ–∞—Б –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А —Б–і–µ–ї–∞–ї –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ–њ—Л—В–Њ–Ї –Њ—В–Њ—А–≤–∞—В—М—Б—П, –љ–Њ, –Њ–Ї—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Л–µ —Б–Њ –≤—Б–µ—Е —Б—В–Њ—А–Њ–љ, –њ—А–Є –њ–Њ–ї—Г–Ј–∞—А—П–ґ–µ–љ–љ—Л—Е –∞–Ї–Ї—Г–Љ—Г–ї—П—В–Њ—А–љ—Л—Е –±–∞—В–∞—А–µ—П—Е –Є –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є —Г–є—В–Є –њ–Њ–і —Б–ї–Њ–є —Б–Ї–∞—З–Ї–∞ –љ–∞ –≥–ї—Г–±–Є–љ—Г –±–Њ–ї–µ–µ 70 –Љ, –Љ—Л –±—Л–ї–Є –±–µ—Б—Б–Є–ї—М–љ—Л. –•–Њ—В—П, –Ї–∞–Ї —Г–Ј–љ–∞–ї–Є –њ–Њ–Ј–ґ–µ, –љ–∞—И–Є —Г—Б–Є–ї–Є—П –±—Л–ї–Є –Њ—В–Љ–µ—З–µ–љ—Л –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Ж–∞–Љ–Є. –Т–Њ—В —З—В–Њ –њ–Є—Б–∞–ї –≥–Є–і—А–Њ–∞–Ї—Г—Б—В–Є–Ї ¬ЂCharles P.Cecil", ¬Ђ–Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –Њ–љ (–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –Я–Ы) –±—Л–ї —Г–Љ–љ—Л–є –њ–∞—А–µ–љ—М. –£ –љ–µ–≥–Њ –±—Л–ї –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –љ–∞–±–Њ—А —Е–Є—В—А—Л—Е –њ—А–Є–µ–Љ–Њ–≤, –Є –Њ–љ –њ—Л—В–∞–ї—Б—П –Є—Е –њ—А–Є–Љ–µ–љ–Є—В—М. –Х—Б–ї–Є –±—Л —Б–ї—Г–ґ–Є–ї –љ–∞ —Д–ї–Њ—В–µ 50 –ї–µ—В, –љ–µ –і—Г–Љ–∞—О, —З—В–Њ–±—Л –Љ–љ–µ –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –њ–µ—А–µ–ґ–Є—В—М –љ–∞–њ—А—П–ґ–µ–љ–Є–µ, –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–µ —Н—В–Њ–Љ—Г¬ї (¬ЂTime magazine¬ї, June, 1963). –ѓ –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–µ–љ —Б –µ–≥–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є, —В.–Ї. –Ј–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–µ 15 –ї–µ—В —Б–ї—Г–ґ–±—Л –љ–∞ –Я–Ы –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–њ—А—П–ґ–µ–љ–Є—П –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –±–Њ–ї—М—И–µ –љ–µ –Є—Б–њ—Л—В—Л–≤–∞–ї.
–Э–∞ —В—А–µ—В—М–Є —Б—Г—В–Ї–Є –љ–∞–Љ–Є –±—Л–ї–Є –Њ—В–Ї–ї—О—З–µ–љ—Л –≤—Б–µ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л–µ —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ–њ—А–Є–±–Њ—А—Л, –Ї—А–Њ–Љ–µ –њ—А–Є–±–Њ—А–Њ–≤ —Б–ґ–Є–≥–∞–љ–Є—П –≤–Њ–і–Њ—А–Њ–і–∞; –і–∞–≤–љ–Њ –љ–µ —А–∞–±–Њ—В–∞–ї –Ї–∞–Љ–±—Г–Ј, –њ–µ—А–µ—И–ї–Є –љ–∞ —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ–Љ–Њ—В–Њ—А —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ—Е–Њ–і–∞ –Є —Б—В–∞–ї–Є –Њ—В—Е–Њ–і–Є—В—М –Њ—В –±–µ—А–µ–≥–∞ –Љ–Њ—А–Є—Б—В–µ–µ. –Х—Й–µ —З–µ—А–µ–Ј —Б—Г—В–Ї–Є, –њ–Њ–љ—П–≤ –љ–∞—И–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ, —Г—И–ї–Є 2 —Н—Б–Љ–Є–љ—Ж–∞, –Њ—Б—В–∞–≤–Є–≤ —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–∞—В—М –љ–∞—Б –Њ–і–љ–Њ–Љ—Г. –Э–∞ –њ—П—В—Л–µ —Б—Г—В–Ї–Є –±–µ–Ј —Б–љ–∞, –±–µ–Ј –њ–Є—Й–Є (–Ї—А–Њ–Љ–µ –Ї–Њ–Љ–њ–Њ—В–∞ –Є –Ї–Њ–µ-–Ї–∞–Ї–Є—Е –Ї–Њ–љ—Б–µ—А–≤–Њ–≤), –Є–Ј–Љ–Њ—В–∞–љ–љ—Л–µ –ґ–∞—А–Њ–є –Є –љ–µ—Б—В–µ—А–њ–Є–Љ—Л–Љ –Ј—Г–і–Њ–Љ –Њ—В –≤—Б–µ—Е –±–Њ–ї—П—З–µ–Ї, –≤ –Ј–ї–Њ–≤–Њ–љ–љ–Њ–Љ –≤–Њ–Ј–і—Г—Е–µ, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –Ї–Є—Б–ї–Њ—А–Њ–і–∞ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Њ—Б—М –≤—Б–µ –Љ–µ–љ—М—И–µ, –Љ—Л –ґ–і–∞–ї–Є —А–µ—И–µ–љ–Є—П –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞. –Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, 31 –Њ–Ї—В—П–±—А—П –љ–∞ —А–∞—Б—Б–≤–µ—В–µ, –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є–љ—П—В–Њ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –љ–∞ –≤—Б–њ–ї—Л—В–Є–µ. –Т —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –Ј–∞–њ–Є—Б—М—О –≤ –≤–∞—Е—В–µ–љ–љ–Њ–Љ –ґ—Г—А–љ–∞–ї–µ: –њ–ї–Њ—В–љ–Њ—Б—В—М —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ–ї–Є—В–∞ 1,090 (–њ–Њ—З—В–Є –≤–Њ–і–∞), —В–µ–Љ–њ–µ—А–∞—В—Г—А–∞ 42, –≤ –Њ—В—Б–µ–Ї–∞—Е 40-50, —Г–≥–ї–µ–Ї–Є—Б–ї–Њ–≥–Њ –≥–∞–Ј–∞ –Є –≤–Њ–і–Њ—А–Њ–і–∞ –±–Њ–ї–µ–µ 2%, –Ј–∞–њ–∞—Б –≤–Њ–Ј–і—Г—Е–∞ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–≥–Њ –і–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П вАУ 130 –Ї–≥/—Б–Љ2.
–Т—Б–њ–ї—Л–≤ –љ–∞ –≥–ї—Г–±–Є–љ—Г 20 –Љ, –љ–∞—З–∞–ї–Є –њ—А–Њ–і—Г–≤–∞—В—М —Б—А–µ–і–љ—О—О, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Н—Б–Љ–Є–љ–µ—Ж –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П –љ–∞ –Ї–Њ—А–Љ–Њ–≤—Л—Е –Ї—Г—А—Б–Њ–≤—Л—Е —Г–≥–ї–∞—Е –≤ 5 –Ї–∞–±–µ–ї—М—В–Њ–≤—Л—Е –Є –і–µ–ї–∞–ї —А–∞–Ј–≤–Њ—А–Њ—В. –Ы–Њ–і–Ї–∞ –≤—Л—Б–Ї–Њ—З–Є–ї–∞ –Є–Ј-–њ–Њ–і –≤–Њ–і—Л, –њ–Њ–і–љ—П—В—Л –њ–µ—А–Є—Б–Ї–Њ–њ—Л, –≤–Є–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ—З—В–Є –љ–µ—В. –Э–µ —Б—А–∞–≤–љ—П–≤ –і–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ —Б –љ–∞—А—Г–ґ–љ—Л–Љ, –њ—Л—В–∞–µ–Љ—Б—П –Њ—В–Ї—А—Л—В—М —А—Г–±–Њ—З–љ—Л–є –ї—О–Ї, –љ–Њ –љ–Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Г, –љ–Є –±–Њ—Ж–Љ–∞–љ—Г —Б –Ї—Г–≤–∞–ї–і–Њ–є –љ–µ —Г–і–∞–µ—В—Б—П —Н—В–Њ —Б–і–µ–ї–∞—В—М, —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ –і–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –≤ –њ—А–Њ—З–љ–Њ–Љ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–µ –Я–Ы. –Ш–і–µ—В –і–Њ–Ї–ї–∞–і, —З—В–Њ —Н—Б–Љ–Є–љ–µ—Ж —Г–≤–µ–ї–Є—З–Є–ї —Е–Њ–і –Є –Є–і–µ—В –Ї –љ–∞–Љ. –Ф–ї—П —В–µ—Е, –Ї—В–Њ –≤ —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –њ–Њ—Б—В—Г –Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞–≤–∞–ї —В–Њ–≥–і–∞ –љ–∞—И–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ, —Н—В–Њ –±—Л–ї–Є —Б–∞–Љ—Л–µ —В—А–∞–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Љ–≥–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П вАУ –±–µ—Б–њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–∞—П —Б–ї–µ–њ–∞—П –њ–Њ–і–ї–Њ–і–Ї–∞ –Є –љ–∞–і–≤–Є–≥–∞–≤—И–Є–є—Б—П –љ–∞ –љ–µ–µ —Н—Б–Љ–Є–љ–µ—Ж. –І—В–Њ –њ—А–µ–і–њ—А–Є–Љ–µ—В –Њ–љ, –±—Г–і–µ—В –ї–Є —В–∞—А–∞–љ, –њ—А–Є–Љ–µ–љ–Є—В –ї–Є –Њ—А—Г–ґ–Є–µ, –Ї–∞–Ї–Є–µ –Є–Љ–µ–µ—В —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –Њ—В –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П? –Ф–∞ –Є –≤—Б–µ –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ–Њ–µ вАУ –Ї–∞–Ї–∞—П –≤–Њ–µ–љ–љ–∞—П –Є –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞ —Б–ї–Њ–ґ–Є–ї–∞—Б—М –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ 5 —Б—Г—В–Њ–Ї? –Р –њ–Њ–Ї–∞ вАУ –Њ—В–Ї—А—Л—В –ї—О–Ї!

–Ь–љ–µ —Б—Г—О—В –≤ —А—Г–Ї–Є —Е–Њ–і–Њ–≤–Њ–є , –Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –≤—Л—В–∞–ї–Ї–Є–≤–∞–µ—В –Љ–µ–љ—П –љ–∞–≤–µ—А—Е –њ–µ—А–≤—Л–Љ, –≤—Л–ї–µ–Ј–∞–µ—В —Б–∞–Љ –њ–Њ–і –Ї–Њ–Ј—Л—А–µ–Ї –Њ–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ–Є—П –Є –Ј–∞–Ї—А—Л–≤–∞–µ—В –ї—О–Ї. –ѓ –≤—Л—Б–Ї–Њ—З–Є–ї –љ–∞ –Љ–Њ—Б—В–Є–Ї –≤ –Њ–і–љ–Є—Е —В—А—Г—Б–∞—Е, —Б –њ–Њ–ї–Њ—В–µ–љ—Ж–µ–Љ –љ–∞ —И–µ–µ –Є –њ–Њ–і–љ—П–ї –љ–∞–і —А—Г–±–Ї–Њ–є —Д–ї–∞–≥ вАУ —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –Ї –љ–∞—И–µ–є –†–Њ–і–Є–љ–µ –Є –µ–µ –Т–Ь–§. –≠—Б–Љ–Є–љ–µ—Ж –њ–Њ–і—Е–Њ–і–Є–ї —Б –Ї–Њ—А–Љ—Л —Б –ї–µ–≤–Њ–≥–Њ –±–Њ—А—В–∞, –і–Њ –љ–µ–≥–Њ –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–µ—Б—П—В–Ї–Њ–≤ –Љ–µ—В—А–Њ–≤. –Э–Є–Ј–Ї–Њ –љ–∞–і —А—Г–±–Ї–Њ–є –≤ —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –њ—А–Њ–ї–µ—В–∞–µ—В –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–ї–Њ–і–Њ—З–љ—Л–є ¬Ђ–Ю—А–Є–Њ–љ-–Ч–†¬ї —Б –Њ—В–Ї—А—Л—В–Њ–є –і–≤–µ—А—М—О, –Њ—В–Ї—Г–і–∞ –љ–∞—Б —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є. –Т–і–Њ–ї—М –±–Њ—А—В–∞ —Н—Б–Љ–Є–љ—Ж–∞ —Б–Њ–±—А–∞–ї–∞—Б—М –≤—Б—П –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–∞, –≤–∞—Е—В–∞ –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–∞—Б—М, –њ–Њ-–≤–Є–і–Є–Љ–Њ–Љ—Г, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Г –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–ї–Њ–і–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П. –С–Њ—А—В–Њ–≤–Њ–є –љ–Њ–Љ–µ—А —Н—Б–Љ–Є–љ—Ж–∞ –Є –њ–Њ–і–љ—П—В—Л–µ –Є–Љ —Б–Є–≥–љ–∞–ї—М–љ—Л–µ —Д–ї–∞–≥–Є –њ–µ—А–µ–і–∞—О –≤–љ–Є–Ј —И—В—Г—А–Љ–∞–љ—Г –Ї–∞–њ–ї–µ—О –Т.–Э–∞—Г–Љ–Њ–≤—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –±—Л—Б—В—А–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є–ї –њ–Њ —Б–њ—А–∞–≤–Њ—З–љ–Є–Ї–∞–Љ, —З—В–Њ —Н—В–Њ ¬Ђ–І–∞—А–ї—М–Ј –Я.–°–µ—Б–Є–ї¬ї, –Ј–∞–њ—А–∞—И–Є–≤–∞–µ—В ¬Ђ–Э—Г–ґ–љ–∞ –ї–Є –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М?¬ї –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї –љ–µ –Њ—В–≤–µ—З–∞—В—М, —Б–Љ–µ–љ–µ –Ј–∞—Б—В—Г–њ–Є—В—М –њ–Њ –≥–Њ—В–Њ–≤–љ–Њ—Б—В–Є вДЦ2. –Ш –њ–Њ—В–Њ–Љ –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –±–Њ–ї–µ–µ 30 —З–∞—Б–Њ–≤ –Љ—Л –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є–ї–Є —Б–µ–±—П –≤ –њ–Њ—А—П–і–Њ–Ї: –њ—А–Њ–≤–µ–љ—В–Є–ї–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –Є –њ—А–Њ–≤–µ–ї–Є –Ј–∞—А—П–і–Ї—Г –∞–Ї–Ї—Г–Љ—Г–ї—П—В–Њ—А–љ–Њ–є –±–∞—В–∞—А–µ–Є, –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –Њ—В –Љ—Г—Б–Њ—А–∞, –љ–∞—З–∞–ї–Є –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є—В—М –≤ –њ–Њ—А—П–і–Њ–Ї –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–Љ—Л –Є –Њ–±–Њ—А—Г–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ. –Ю–ґ–Є–ї–Є –Є –ї—О–і–Є, –≤—Б–µ –њ–Њ–±—Л–≤–∞–≤—И–Є–µ —Е–Њ—В—М –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞ –Љ–Њ—Б—В–Є–Ї–µ, –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ–≤ –љ–∞ –Ъ–∞—А–Є–±—Б–Ї–Њ–µ –Љ–Њ—А–µ, –љ–∞ —О–ґ–љ—Л–µ –Ј–≤–µ–Ј–і—Л, –Ї–∞–ї—М–Љ–∞—А–Њ–≤ –Є –ї–µ—В–∞—О—Й–Є—Е —А—Л–±–Њ–Ї. –Я—А–Є–≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї–Є –Њ–±–µ–і, –Є—Б–њ–µ–Ї–ї–Є —Е–ї–µ–±. –Ь–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ —Г—Б–ї—Л—И–∞—В—М —И—Г—В–Ї–Є –Є –і–∞–≤–љ–Њ –Ј–∞–±—Л—В—Л–є —Б–Љ–µ—Е.
–Я—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В.