–£―¹–Μ–Β–¥ –Ζ–Α ―ç―²–Η–Φ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Η –£–€–Λ –Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α 1-–≥–Ψ –Φ―²–Α–Ω –£–£–Γ –ö–ë–Λ, ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–≤―à–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α–Μ–Β―²–Α–Φ–Η –Ϋ–Α –ë–Β―Ä–Μ–Η–Ϋ, –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ: ¬Ϊ1. –Δ–Ψ–≤. –Γ―²–Α–Μ–Η–Ϋ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α―²―¨ ―Ä–Β―à–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è, –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É―è –Φ–Α–Μ–Β–Ι―à–Η–Β –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ω–Ψ–≥–Ψ–¥―΄, –Φ–Α–Κ―¹–Η–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―Ä–Α―¹―²―è–≥–Η–≤–Α―è –≤―Ä–Β–Φ―è ―É–¥–Α―Ä–Α. 2. –î–Ϋ―è ―΅–Β―Ä–Β–Ζ 2-3 –Ω―Ä–Η–±―É–¥–Β―² –£–Α–Φ 20 –î–ë–Λ –€-88 –£–£–Γ –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ι –Α―Ä–Φ–Η–Η (27.08.1941 –≥. –Ψ–Ϋ–Η –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ–Η –Ϋ–Α –ê–Γ –ë–Ψ–≥–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ, ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–≤―à–Η–Ι―¹―è –≤ 300 –Κ–Φ ―é–≥–Ψ-–≤–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Β–Β –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Α, –≥–¥–Β –Ψ–Ε–Η–¥–Α–Μ–Η –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α –Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Μ–Β―²–Β –Ϋ–Α –Ψ. –≠–Ζ–Β–Μ―¨. βÄî –†.–½.), –Ζ–Α―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –≤–Ψ–Ζ–Η―²―¨ ―²–Ψ–Ϋ–Ϋ―É –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―΄―Ö –±–Ψ–Φ–±, ―Ä–Α―¹―à–Η―Ä–Η―²―¨ –Α―ç―Ä–Ψ–¥―Ä–Ψ–Φ―΄, ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²―¨ –ö–Β―Ö–Β―Ä–Α―Ö―É (–Α―ç―Ä–Ψ–¥―Ä–Ψ–Φ –Ϋ–Α –Ψ. –≠–Ζ–Β–Μ―¨. βÄî –†. 3.). 3. –ß–Β―Ä–Β–Ζ ―ç―²–Ψ –Ε–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –¥–Μ―è –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²–Η―è –Α―ç―Ä–Ψ–¥―Ä–Ψ–Φ–Ψ–≤ –±―É–¥–Β―² –≤―΄―¹–Μ–Α–Ϋ–Ψ 10 –¦–Α–≥–Ψ–≤ –Η 10 –€–Η–≥–Ψ–≤ (―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Ψ–≤-–Η―¹―²―Ä–Β–±–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –¦–Α–™–™-3 –Η –€–Η–™-3. βÄî –†.3.) –Η ―É―¹–Η–Μ–Β–Ϋ–Α –Ζ–Β–Ϋ–Η―²–Ϋ–Α―è –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Α¬Μ [–¥–Ψ–Κ. ⳕ 379].
–£ ―²–Ψ―² –Ε–Β –¥–Β–Ϋ―¨ –Ζ–Α–Φ–≥–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ–Α –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α–Φ–Η –Γ–½–ù –Ω–Ψ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –≤–Ψ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η–Ι –Ϋ–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ–Α –£–€–Λ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–Φ―É –£–£–Γ –ö–ë–Λ, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É –ö–£–€–ë –Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–Φ―É –ö–ë–Λ: ¬Ϊ–ü–Β―Ä―¹–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤–Ψ–Ζ–Μ–Α–≥–Α―é –Ω–Ψ–¥–Α―΅―É –≤ –û―Ä–Α–Ϋ–Η–Β–Ϋ–±–Α―É–Φ –Ϋ–Α –≥.-–Φ. –†–Ψ–Ε–Κ–Ψ–≤–Α (–Ζ–Α–Φ–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –£–£–Γ –ö–ë–Λ. βÄî –†.3.), –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Κ―É –Φ–Ψ―Ä–Β–Φ –¥–Ψ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α –Ϋ–Α –Κ-–Α –ö–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Β–≤–Α (–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –ö–£–€–ë. βÄî –†.3.). –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–Φ―É ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η―²―¨ ―ç–Κ―¹―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Κ―É –Ζ–Α–≤–Β–Ζ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η –Η–Φ–Β–Β–Φ–Ψ–≥–Ψ –≤ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Β –¥–Ψ –≠–Ζ–Β–Μ―è. –£–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―²–Η―²―¨ –Ω–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ–Η–Β –±–Α―Ä–Ε–Η, –Κ–Ψ–Ϋ―²–Β–Ι–Ϋ–Β―Ä―΄ –Η –±–Ψ―΅–Κ–Η –≤ –û―Ä–Α–Ϋ–Η–Β–Ϋ–±–Α―É–Φ. –ù–Β –¥–Ψ–Ω―É―¹–Κ–Α―²―¨ –Η―Ö –Ζ–Α–¥–Β―Ä–Ε–Κ―É. –Θ–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è―²―¨ –≤―¹–Β–Ι –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η–Β–Ι, –≤–Κ–Μ―é―΅–Α―è –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²–Η–Β –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η–Κ–Α―Ü–Η–Η –Η―¹―²―Ä–Β–±–Η―²–Β–Μ―è–Φ–Η. –ï–Ε–Β–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ–Ψ –¥–Α–≤–Α―²―¨ –¥–Ψ–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η―è –Ψ ―Ö–Ψ–¥–Β –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –¥–Μ―è –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Α –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤―É¬Μ [–¥–Ψ–Κ. ⳕ 380]. –ê –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―² –ö–ë–Λ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―² –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É –ö–£–€–ë: ¬Ϊ–ö–Α–Ε–¥―΄–Ι –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Β–Φ―΄–Ι –≤ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ –ë–Δ–© –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²―¨ –≤ –Ϋ–Ψ―¹–Ψ–≤―É―é ―²–Ψ–Ω–Μ–Η–≤–Ϋ―É―é ―¹–Η―¹―²–Β―Ä–Ϋ―É –ë-70. –Γ–Η―¹―²–Β―Ä–Ϋ―΄ –Ω―Ä–Β–¥–≤–Α―Ä–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ζ–Α―΅–Η―¹―²–Η―²―¨¬Μ [–¥–Ψ–Κ. ⳕ 381].
–£ ―Ö–Ψ–¥–Β ―ç―²–Η―Ö –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–Ζ–Ψ–Κ –Ω–Ψ–≥–Η–±–Μ–Η ―²―Ä–Η –Η–Ζ 13 ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–≤―à–Η―Ö―¹―è –Κ ―²–Ψ–Φ―É –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –ë–Δ–©. –ê –±–Β–Ζ ―²―Ä–Α–Μ―¨―â–Η–Κ–Ψ–≤ ―³–Μ–Ψ―² –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥ –≤–Β―¹―²–Η –Ϋ–Η –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö, –Ϋ–Η –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι. –ù–Ψ –≤―¹–Β ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –Ω–Ψ–Κ–Α –≤ ―Ä―É–Κ–Α―Ö –ö–ë–Λ –±―΄–Μ–Η –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ –Η ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ψ-–Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Α―è ―΅–Α―¹―²―¨ –≠―¹―²–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Γ–Γ–†.
23.08 –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η–Β –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η, ―à―²―É―Ä–Φ–Ψ–≤–Α–≤―à–Η–Β –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ, ―²–Β―¹–Ϋ―è –Ϋ–Α―à–Η –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α, –Ω―Ä–Η–±–Μ–Η–Ζ–Η–Μ–Η―¹―¨ –Κ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ―É ―Ä―É–±–Β–Ε―É –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α. –£ –±–Ψ–Ι ―¹ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –≤―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Α –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η―è –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η –ë–û, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β ―Ä–Α–Ζ–≤–Β―Ä–Ϋ―É―²―΄–Β –¥–Μ―è ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–±―΄ –Ω–Ψ –Ϋ–Α–Ζ–Β–Φ–Ϋ―΄–Φ ―Ü–Β–Μ―è–Φ –Ζ–Β–Ϋ–Η―²–Ϋ―΄–Β –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Η–Β –±–Α―²–Α―Ä–Β–Η –ü–£–û –™–ë. –½–Α―â–Η―²–Ϋ–Η–Κ–Η –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α –Ϋ–Β―¹–Μ–Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Β –Ω–Ψ―²–Β―Ä–Η. –Δ–Β–Φ–Ω –Ω―Ä–Ψ–¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ –Μ–Η―à―¨ 2-2,5 –Κ–Φ –≤ –¥–Β–Ϋ―¨, –Ϋ–Ψ –¥–Ψ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –Ψ―² –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä―É–±–Β–Ε–Α –±―΄–Μ–Ψ –≤―¹–Β–≥–Ψ 9-12 –Κ–Φ.
–£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―² –Γ–½–ù, ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ψ―¹–≤–Β–¥–Ψ–Φ–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ψ–± –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Β –≤ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Β –Ω–Ψ ―Ä–Β–≥―É–Μ―è―Ä–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–≤―à–Η–Φ―¹―è –±–Ψ–Β–≤―΄–Φ –¥–Ψ–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η―è–Φ –Η –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ―΄–Φ ―¹–≤–Ψ–¥–Κ–Α–Φ, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Β―² –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É ―¹–Ψ–≤–Β―²―É –ö–ë–Λ –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Η–≤―΄ ―¹ ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ ¬Ϊ–Ψ–±–Ψ―Ä―É–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―Ä―É–±–Β–Ε –Ϋ–Η –Ω―Ä–Η –Κ–Α–Κ–Η―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö –Ϋ–Β ―¹–¥–Α–≤–Α―²―¨ –≤―Ä–Α–≥―É¬Μ [–¥–Ψ–Κ. ⳕ 369], –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä―è–Β―² ―Ä–Α–Ϋ–Β–Β –¥–Α–≤–Α–≤―à–Η–Β―¹―è –Η ―É–Ε–Β –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β –™–ë, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²: ¬Ϊ–î–Μ―è –Ψ–±–Μ–Β–≥―΅–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ―É–Ι―²–Β –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η―é ―É–¥–Α―Ä–Α –≤–Ψ ―³–Μ–Α–Ϋ–≥ –Η –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η–Κ–Α―Ü–Η–Η –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α, –¥–Β–Ι―¹―²–≤―É―é―â–Β–≥–Ψ –Ψ―² –ü―è―Ä–Ϋ―É –Ϋ–Α –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ¬Μ [–¥–Ψ–Κ. ⳕ 373].
–û–¥–Η–Ϋ ―É–¥–Α―Ä –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Η―¹―΄–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Α–Ϋ–Β―¹―²–Η ―΅–Α―¹―²―¨―é –≥–Α―Ä–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–Ϋ–Α –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –≠–Ζ–Β–Μ―¨ –≤ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –Ψ―² –£–Η―Ä―²―¹―É –Ϋ–Α –ü―è―Ä–Ϋ―É –Η–Μ–Η –€–Α―Ä―¨―è–Φ–Α–Α, –Α –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι βÄî ―΅–Α―¹―²―¨―é –≥–Α―Ä–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–Ϋ–Α –Ψ. –î–Α–≥–Ψ –Ψ―² –Ξ–Α–Ω―¹–Α–Μ―É –≤ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –€–Α―Ä―¨―è–Φ–Α–Α –Η–Μ–Η –ù–Η―¹―¹–Η. –£―¹–Β–≥–Ψ –Κ –Ϋ–Α–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η―é ―É–¥–Α―Ä–Ψ–≤ –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Α–≥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω―Ä–Η–≤–Μ–Β―΅―¨ 5 ―²―΄―¹. –±–Ψ–Ι―Ü–Ψ–≤. –û–¥–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―² –Γ–½–ù –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Β―² –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥ –£–™–ö, ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Η―²―¨ ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –≤ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―É–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Η―è –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α. –ü―Ä–Α–≤–¥–Α, –≤ –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―³―Ä–Α–Ζ–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Α –Ω―Ä–Β–¥―É―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ―²–Φ–Β―΅–Α–Μ–Ψ―¹―¨: ¬Ϊ–£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―² –ö–ë–Λ, –Ψ―΅–Β–≤–Η–¥–Ϋ–Ψ, –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ―É –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Η–≤–Α–Β―² –Ϋ–Β–±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ ―¹–Ψ―¹―Ä–Β–¥–Ψ―²–Ψ―΅–Η–≤–Α–Β―² –≤ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Β –≤―¹–Β ―²―Ä–Α–Μ―¨―â–Η–Κ–Η –Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è¬Μ [–¥–Ψ–Κ. ⳕ375].
–Γ–≤–Ψ―é ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―² –Γ–½–ù ¬Ϊ–Ω–Ψ–¥–Κ―Ä–Β–Ω–Η–Μ¬Μ ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –≤ ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Η–Η ―¹ –Β–≥–Ψ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ψ―² 14 –Α–≤–≥―É―¹―²–Α 1941 –≥. [–¥–Ψ–Κ. ⳕ 220] –Κ 23.08 –Η–Ζ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Η –Ψ―²–Ψ–Ζ–≤–Α–Ϋ―΄ –¥–≤–Β ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä–Η–Μ―¨–Η –±–Ψ–Φ–±–Α―Ä–¥–Η―Ä–Ψ–≤―â–Η–Κ–Ψ–≤ –Γ–ë –Η –ê―Ä-2 73-–≥–Ψ –±–Α–Ω, ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä–Η–Μ―¨–Η ―à―²―É―Ä–Φ–Ψ–≤–Η–Κ–Ψ–≤ –‰–Μ-2 –Η –Η―¹―²―Ä–Β–±–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –€–Η–™-3 13-–≥–Ψ –Η–Α–Ω, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä–Η–Μ―¨―è –Η―¹―²―Ä–Β–±–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –‰-16 5-–≥–Ψ –Η–Α–Ω. –û–Ϋ–Η –±―΄–Μ–Η –≤–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ―΄ –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –Α–≤–Η–Α–≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Ψ–≤ –£–£–Γ –ö–ë–Λ, –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―ç―²–Η–Φ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –≤ –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–Φ―É –£–£–Γ –Γ–Λ (―¹ 23.08 βÄî –¦–Λ) –¥–Μ―è –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι –Ω–Ψ–¥ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Ψ–Φ –Ϋ–Α ―¹―É―Ö–Ψ–Ω―É―²–Ϋ–Ψ–Φ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Β.
–£–Ψ―² ―²–Α–Κ ¬Ϊ―Ä–Β―à–Η–Μ―¹―è¬Μ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ –Ψ –Ω–Ψ–¥–Κ―Ä–Β–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è―Ö –¥–Μ―è –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α, –Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―à–Μ–Α ―Ä–Β―΅―¨ –≤ –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Η–≤–Β –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―²–Α –Γ–½–ù –Ψ―² 14.08.
–ê ―΅–Β―²―΄―Ä–Β –Ψ―¹―²–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä–Η–Μ―¨–Η ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Ψ–≤-–Η―¹―²―Ä–Β–±–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –‰-16 –Η –‰-153 (45 –Η―¹–Ω―Ä–Α–≤–Ϋ―΄―Ö –Φ–Α―à–Η–Ϋ, ―². –Β. –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β –Ω–Ψ–Μ–Κ–Α) –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Η –Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Μ―è―²―¨ –ü–£–û –™–ë –ö–ë–Λ, –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α―²―¨ –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α, –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―è―é―â–Η–Β –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ, ―à―²―É―Ä–Φ―É―è –Η –±–Ψ–Φ–±–Α―Ä–¥–Η―Ä―É―è –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η–Β –Ω–Β―Ö–Ψ―²―É, ―²–Α–Ϋ–Κ–Η, –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η―é –Η –Α―ç―Ä–Ψ–¥―Ä–Ψ–Φ―΄, –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄–≤–Α―²―¨ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Β –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η–Κ–Α―Ü–Η–Η –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ βÄî –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―², –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ βÄî –Ψ. –≠–Ζ–Β–Μ―¨, –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ βÄî –Ω-–Ψ–≤ –Ξ–Α–Ϋ–Κ–Ψ –≤ ―Ä–Α–¥–Η―É―¹–Β –¥–Ψ 100 –Κ–Φ –Ψ―² –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α.

–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä 4 –Ω–Ζ–Α –ü–£–û –™–ë –ö–ë–Λ –‰.–Λ.–†―΄–Ε–Β–Ϋ–Κ–Ψ
–£–Ω–Μ–Ψ―²―¨ –¥–Ψ 25.08 –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―² –Η ―à―²–Α–± –ö–ë–Λ, –Ψ–Ω–Α―¹–Α―è―¹―¨, –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ, –Ψ–±–≤–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι –≤ –Ω–Α–Ϋ–Η–Κ–Β―Ä―¹―²–≤–Β –Η ―²―Ä―É―¹–Ψ―¹―²–Η (–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä―΄ ―²–Α–Κ–Η―Ö –Ψ–±–≤–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι –Ω―Ä–Η–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ ―Ä–Α–Ϋ–Β–Β), –≤ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –¥–Ψ–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η―è―Ö –Η –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ―΄―Ö ―¹–≤–Ψ–¥–Κ–Α―Ö ―¹―²―Ä–Β–Φ–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Β –¥―Ä–Α–Φ–Α―²–Η–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ―É –≤ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Β.
25.08 –≤ 04.00 ―΅–Μ–Β–Ϋ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―²–Α –ö–ë–Λ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Α―Ä –ù.–ö.–Γ–Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–≤ –¥–Ψ–Ϋ–Β―¹ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ―É –™–ü–Θ –£–€–Λ –Ψ–± –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ―΄―Ö ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ―¹―²―è―Ö –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α. –ö –Η―Ö ―΅–Η―¹–Μ―É –Ψ–Ϋ –Ψ―²–Ϋ–Β―¹: ―¹–Μ–Α–±–Ψ―¹―²―¨ (–Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Η –Ω–Ψ –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―é), ―É―¹―²–Α–Μ–Ψ―¹―²―¨ –Α―Ä–Φ–Β–Ι―¹–Κ–Η―Ö ―΅–Α―¹―²–Β–Ι, –Η―Ö –Ϋ–Β―É―¹―²–Ψ–Ι―΅–Η–≤–Ψ―¹―²―¨ –≤ –±–Ψ―é; –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Β –Ϋ–Α ―³–Μ–Ψ―²–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤, –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –¥–Μ―è ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Α –±–Ψ–Β–≤―΄–Φ–Η –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è–Φ–Η –Ϋ–Α ―¹―É―Ö–Ψ–Ω―É―²–Ϋ–Ψ–Φ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Β –Ϋ–Β―à―²–Α―²–Ϋ―΄―Ö ―΅–Α―¹―²–Β–Ι –Η –Ω–Ψ–¥―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι, ―¹―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Η–Ζ –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –ë–û, –ü–£–û, –£–£–Γ, –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι –Η –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Ψ–≤ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –ö–ë–Λ; –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ–Β –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α―¹–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Κ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Α―â–Η–Φ, ―É―¹–Η–Μ–Η–≤―à―É―é―¹―è –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Κ–Α–Ι―²―¹–Β–Μ–Η–Ι―²–Ψ–≤, –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ―É –≤ ―΅–Α―¹―²―è―Ö ―ç―¹―²–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Ω–Ψ–Μ―΅–Β–Ϋ–Η―è –Η –±–Β―¹–Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Μ–Α―¹―²–Η –≤ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Η ―ç―²–Η–Φ ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è–Φ.
–£ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ―΄―Ö –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –¥–Ψ–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η―è―Ö –Ω–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η―é –Ϋ–Α 10.00 –Η 14.00 –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―² –ö–ë–Λ –¥–Ψ–Ϋ–Β―¹ –≥–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ―É –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α–Φ–Η –Γ–½–ù –Η –Ϋ–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ―É –£–€–Λ –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Α―è –Ω–Ψ–Μ–Β–≤–Α―è –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η―è –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α ―Ä–Α―¹―¹―²―Ä–Β–Μ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Ϋ–Α ―²–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ ―Ä–Β–Ι–¥–Β, –Ψ–±―¹―²―Ä–Β–Μ –ö―É–Ω–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Η –€–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Α–≤–Α–Ϋ–Β–Ι, –Α –≤ ―Ö–Ψ–¥–Β –Ψ―²―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η―è ―à―²―É―Ä–Φ–Α –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤―΄–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Η–Ζ ―¹―²―Ä–Ψ―è –¥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ―΄ –Ζ–Α―â–Η―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α. –≠―²–Η –±–Ψ–Β–≤―΄–Β –¥–Ψ–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η―è –≤―΄–Ζ–≤–Α–Μ–Η –Ψ–Ζ–Α–±–Ψ―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤ –™–® –ö–ê –Η –ù–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ–Α―²–Β –£–€–Λ (–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –≤ –≥–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ–Α―²–Β –Γ–½–ù!).
–£ 18.00 –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä 10-–≥–Ψ ―¹–Κ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η–Μ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É ―¹–Ψ–≤–Β―²―É –ö–ë–Λ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Β –¥–Ψ–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η–Β, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Ψ―¹―¨: ¬Ϊ–ß–Α―¹―²–Η –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α –Ψ–±–Β―¹–Κ―Ä–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ―΄ –Ω–Ψ–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ―²―è–Ε–Β–Μ―΄–Φ–Η –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–Φ–Η –≤ –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Β –Η –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η... –ù–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ―É―é –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Κ―É –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ–Ι –Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Η –Η –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Η –ö–ë–Λ, ―¹–Η–Μ―΄ –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α –Ϋ–Α –Η―¹―Ö–Ψ–¥–Β, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ –Μ―é–¥–Η –¥–Β―Ä―É―²―¹―è –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β 6-―²–Η ―¹―É―²–Ψ–Κ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Β―Ä―΄–≤–Ϋ–Ψ, –±–Β–Ζ ―¹–Φ–Β–Ϋ―΄ –Η –Ω–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è... –ù–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ –Ϋ–Β–Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ψ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Β–Ι –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ –≤ –Ω–Β―Ä―¹–Ω–Β–Κ―²–Η–≤–Β - –Φ–Α–Κ―¹–Η–Φ―É–Φ –¥–Β–Ϋ―¨ –±–Ψ―è –≤ –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Α―Ö –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –Η –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Β –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Η ―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―΅–Α―¹―²–Β–Ι –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄¬Μ [–¥–Ψ–Κ. ⳕ 419].
–£ 18.05 –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―² –ö–ë–Λ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ –≤–Ϋ–Β―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Β –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Β –¥–Ψ–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η–Β –≥–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ―É –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α–Φ–Η –Γ–½–ù –Η –Ϋ–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ―É –£–€–Λ ―¹–Β―Ä–Η–Β–Ι ¬Ϊ–Φ–Ψ–Μ–Ϋ–Η―è¬Μ –Η, –Ψ–±―Ä–Η―¹–Ψ–≤–Α–≤ –≤ –Ϋ–Β–Φ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Η–≤―à―É―é―¹―è –≤ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Β –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ―É, –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Η–Μ –Β–≥–Ψ ―²–Α–Κ: ¬Ϊ–£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―², –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α―è ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤―à–Β–Ι―¹―è –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Β, –Ω―Ä–Ψ―¹–Η―² –£–Α―à–Η―Ö ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η–Ι –Η ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Ι –Ω–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―è―â–Η–Φ―¹―è –Ϋ–Α ―Ä–Β–Ι–¥–Β, ―΅–Α―¹―²―è–Φ 10 ―¹–Κ –Η –ë–û –ö–ë–Λ –Ϋ–Α ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α ―΅–Β―Ä―²―É –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –Η –Ψ―²―Ö–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α―à–Η―Ö –≤–Ψ–Ι―¹–Κ –Κ –Φ–Ψ―Ä―é. –ü–Ψ―¹–Α–¥–Κ–Α –≤ ―ç―²–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β –Ϋ–Α ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²―΄ –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Α¬Μ [–¥–Ψ–Κ. ⳕ 420].
–†–Ψ–≤–Ϋ–Ψ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ―²―Ä–Η ―΅–Α―¹–Α, –≤ 21.05, –≤ ―²–Β –Ε–Β –Α–¥―Ä–Β―¹–Α –±―΄–Μ–Ψ –¥–Α–Ϋ–Ψ –Β―â–Β –Ψ–¥–Ϋ–Ψ –¥–Ψ–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η–Β, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Α–Μ–Ψ―¹―¨: ¬Ϊ–ü―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ ―Ä–Α―¹―¹―²―Ä–Β–Μ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι ―¹―²–Ψ―è―â–Η―Ö –Ϋ–Α ―Ä–Β–Ι–¥–Β –Η–Ζ –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Η. –ü–Ψ–Ω–Α–¥–Α–Ϋ–Η–Β –Φ–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–≥―Ä–Β–± –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä―É ¬Ϊ–ö–Η―Ä–Ψ–≤¬Μ –Ω–Ψ–Ε–Α―Ä –Μ–Η–Κ–≤–Η–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ. –€–Η–Ϋ–Ψ–Ϋ–Ψ―¹―Ü―΄, ―²―Ä–Α–Μ―¨―â–Η–Κ–Η, ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Α, –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä –Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –±–Ψ–Ϋ–Α–Φ–Η ―Ä–Β–Ι–¥―É ―Ö–Ψ–¥―è―² –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Φ–Η ―Ö–Ψ–¥–Α–Φ–Η ―É–Κ–Μ–Ψ–Ϋ―è―è―¹―¨ –Ψ―² –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö –Ζ–Α–Μ–Ω–Ψ–≤ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α¬Μ [–¥–Ψ–Κ. ⳕ 426].
–ö –Η―¹―Ö–Ψ–¥―É 25.08 –≥–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α–Φ–Η –Γ–½–ù –Ω–Ψ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η―é –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―²–Α –ö–ë–Λ –Ψ―²–Φ–Β–Ϋ–Η–Μ –Ϋ–Α―΅–Α–≤―à–Β–Β―¹―è –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –≤–Ψ–Ι―¹–Κ, –Ω–Β―Ä–Β–≤–Β–Ζ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Κ ―¹ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Ψ–≤ –≠–Ζ–Β–Μ―¨ –Η –î–Α–≥–Ψ, –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –Ψ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―΅―¨ –Ζ–Α―â–Η―²–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α. –î–Μ―è –Ϋ–Α–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η―è ―ç―³―³–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É–¥–Α―Ä–Α –Ω–Ψ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ―É ―ç―²–Η–Φ –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α–Φ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –¥–Ψ―¹―²–Η―΅―¨ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –Φ–Ψ–≥–Μ–Η ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ϋ–Β–Β 31.08, –Ω―Ä–Η―΅–Β–Φ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ―¹–Μ–Α–±–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η, –Ϋ–Ψ ―É–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Η–Β –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α –¥–Ψ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Β―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ.
–£ –Ϋ–Ψ―΅―¨ ―¹ 25.08 –Ϋ–Α 26.08, ―¹ 23.40 –¥–Ψ 00.50, –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –™–® –ö–ê –€–Α―Ä―à–Α–Μ –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –ë.–€.–®–Α–Ω–Ψ―à–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Η –Ϋ–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ –£–€–Λ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –ù.–™.–ö―É–Ζ–Ϋ–Β―Ü–Ψ–≤ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Β ―É –£–Β―Ä―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ. –Γ–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Η–Β –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Ψ–≤ –Η –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²―΄―Ö –Ω–Ψ –Ϋ–Η–Φ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Ι, –Κ–Α―¹–Α―é―â–Η―Ö―¹―è –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α, –Ϋ–Β –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄. –ù–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α–Κ –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ 01.00 26.08 –Ϋ–Α ―¹―²–Ψ–Μ –≥–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ–Α –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α–Φ–Η –Γ–½–ù –Η –Ϋ–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ–Α –£–€–Λ –Μ–Β–≥–Μ–Η –Ζ–Α–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Η–Ζ-–Ζ–Α –Ϋ–Β–±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η―è –Α―²–Φ–Ψ―¹―³–Β―Ä―΄ –Ω―Ä–Ψ―Ü–Η―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≤―΄―à–Β –≤–Ϋ–Β–Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ―΄–Β –±–Ψ–Β–≤―΄–Β –¥–Ψ–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η―è –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―²–Α –ö–ë–Λ, –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≤ 18.05 –Η 21.05 25.08 (–¥–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―ç–Κ–Ζ–Β–Φ–Ω–Μ―è―Ä―΄ –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –¥–Ψ–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η–Ι –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―²–Α –ö–ë–Λ, –Α–¥―Ä–Β―¹–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ―É –£–€–Λ, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Μ–Η―¹―¨ –Η–Ζ –™–€–® –£–€–Λ –‰.–£.–Γ―²–Α–Μ–Η–Ϋ―É, –£.–€.–€–Ψ–Μ–Ψ―²–Ψ–≤―É –Η –≤ –™–® –ö–ê), –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Α ―¹―²―Ä–Α―²–Β–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ―è –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Α–Κ―Ä―É―²–Η–Μ–Α―¹―¨ –±―΄―¹―²―Ä–Β–Β.
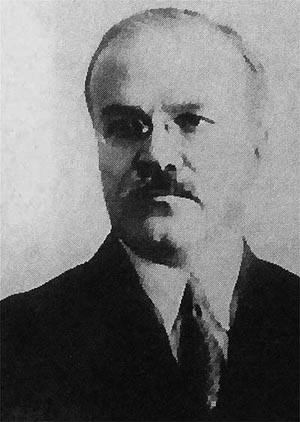
–½–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―¨ –ü―Ä–Β–¥―¹–Β–¥–Α―²–Β–Μ―è –™–ö–û –£.–€.–€–Ψ–Μ–Ψ―²–Ψ–≤
26.08 –≤ 03.42 –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―² –Γ–½–ù –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ –£–™–ö –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥ –Ψ–± –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Β –≤ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Β, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α –Ψ―²―Ö–Ψ–¥ –Η–Ζ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―². –€–Β–Ε–¥―É 5 –Η 6 ―΅–Α―¹–Α–Φ–Η –Ζ–Α –Ω–Ψ–¥–Ω–Η―¹―è–Φ–Η –‰.–£.–Γ―²–Α–Μ–Η–Ϋ–Α –Η –£.–€.–€–Ψ–Μ–Ψ―²–Ψ–≤–Α –±―΄–Μ –¥–Α–Ϋ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ψ―²–≤–Β―² –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―¹―¨–±―É –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―²–Α –Γ–½–ù –Ψ–± –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α. –£–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Ψ, –Ψ–Ϋ–Η –±―΄–Μ–Η –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ―΄ –Κ ―ç―²–Ψ–Φ―É ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―é –Ϋ–Ψ―΅–Ϋ―΄–Φ–Η –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Α–Φ–Η –ë.–€.–®–Α–Ω–Ψ―à–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤–Α –Η –ù.–™.–ö―É–Ζ–Ϋ–Β―Ü–Ψ–≤–Α. –Γ―É–¥―è –Ω–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ω–Η―¹―è–Φ, ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ –Ϋ–Β –Ψ―² –£–™–ö, –Α –Ψ―² –™–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Η―²–Β―²–Α –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ (–™–ö–û). –û–Κ–Ψ–Μ–Ψ 11.00 –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Η–≤―É –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―²–Α –Γ–½–ù –Ϋ–Α –Ψ―²―Ö–Ψ–¥ –Η–Ζ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―² –ö–ë–Λ. –ù–Α –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ―É –Κ –Ψ―²―Ö–Ψ–¥―É –Η –Ω–Ψ―¹–Α–¥–Κ―É –≤–Ψ–Ι―¹–Κ –Ϋ–Α ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²―΄ –Ψ―¹―²–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Φ–Β–Ϋ–Β–Β –¥–≤―É―Ö ―¹―É―²–Ψ–Κ (41 ―΅–Α―¹ βÄî –¥–Ψ 04.00 28.08.1941 –≥.). –î–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―è―é―â–Η–Β –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α, –Ω–Ψ –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Κ–Β –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―²–Α –ö–ë–Λ, –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η ―¹–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Α―²–Η―¹–Κ –≤―Ä–Α–≥–Α.
27.08 –≤ 05.50 –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―² –Γ–½–ù –¥–Ψ–Ϋ–Β―¹ –Ϋ–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ―É –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ―É –™–® –ö–ê: ¬Ϊ–≠–≤–Α–Κ―É–Α―Ü–Η―è –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α –Η –Ψ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Α –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β ―¹―²–Α–≤–Η―² –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Ϋ–Α–Φ–Η –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ –Ψ –≤―΄–≤–Ψ–¥–Β –Ε–Η–≤–Ψ–Ι ―¹–Η–Μ―΄ ―¹ –î–Α–≥–Ψ –Η –≠–Ζ–Β–Μ―ä, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Η–Ζ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α –Ξ–Α–Ϋ–Κ–Ψ¬Μ [–¥–Ψ–Κ. ⳕ 498].
–£ 19.00 –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –™–® –ö–ê –Ω―Ä–Ψ―¹–Η―² –≥–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ–Α –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α–Φ–Η –Γ–½–ù ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Η―²―¨ –¥–Μ―è –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Α –£–™–ö ―¹–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Ψ ―²–Ψ–Φ, –Κ–Α–Κ –≥–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–Β―²―¹―è –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Η―²―¨ ―¹ 3-–Ι –Ψ―¹–±―Ä, –≤―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Β–Ι –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –≥–Α―Ä–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–Ϋ–Α –€–Ψ–Ψ–Ϋ–Ζ―É–Ϋ–¥―¹–Κ–Η―Ö –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Ψ–≤. –Γ―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Η –£–™–ö, –Ϋ–Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –™–® –ö–ê –Ϋ–Β –Ζ–Α–Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ψ–≤–Α–Μ–Η ―¹–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η―è –≥–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ–Α –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –¥―Ä―É–≥–Η―Ö ―΅–Α―¹―²–Β–Ι –ö–ê –Η –ö–ë–Λ, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Η―Ö―¹―è –≤ ―²―΄–Μ―É –≤―Ä–Α–≥–Α. –£–Β–¥―¨ –Ϋ–Α –Ω-–Ψ–≤–Β –Ξ–Α–Ϋ–Κ–Ψ –±―΄–Μ–Α –Β―â–Β 8-―è –Ψ―¹–±―Ä, –Α –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β ―ç―²–Η―Ö –¥–≤―É―Ö –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―¹―²―Ä–Β–Μ–Κ–Ψ–≤―΄―Ö –±―Ä–Η–≥–Α–¥ –Ϋ–Α –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α―Ö –≠–Ζ–Β–Μ―¨, –î–Α–≥–Ψ –Η –Ϋ–Α –Ω-–Ψ–≤–Β –Ξ–Α–Ϋ–Κ–Ψ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ 30 ―²―΄―¹. –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Α―â–Η―Ö –£–€–Λ, –Ω―Ä–Η―΅–Β–Φ –≤―¹–Β –Ψ–Ϋ–Η –≤―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –≤–Ψ–Ι―¹–Κ –Γ–½–ù.
28.08 –≤ 04.22 –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―² –Γ–½–ù –¥–Ψ–Ϋ–Β―¹ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ―É –™–® –ö–ê: ¬Ϊ–€―΄ –Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Β–Φ –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄–Φ –≤―¹–Β –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Ψ–≤―΄–Β ―΅–Α―¹―²–Η –Η –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹ –≠–Ζ–Β–Μ―ä, –î–Α–≥–Ψ –Η –Ξ–Α–Ϋ–Κ–Ψ ―ç–≤–Α–Κ―É–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨. –ù–Α–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Β ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Ϋ―΄–Β ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α –Η –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è―é―² –Ω―Ä–Η―¹―²―É–Ω–Η―²―¨ –Κ ―ç–≤–Α–Κ―É–Α―Ü–Η–Η –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Ψ–≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹ ―ç–≤–Α–Κ―É–Α―Ü–Η–Β–Ι –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α, –Ω―Ä–Η–¥–Β―²―¹―è ―ç―²―É –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η―é –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²―¨ –Ω–Ψ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η–Η –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι¬Μ [–¥–Ψ–Κ. ⳕ 566].
–£ 23.25 ―²–Ψ–≥–Ψ –Ε–Β –¥–Ϋ―è –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –™–® –ö–ê –Ω–Ψ –Ω–Ψ―Ä―É―΅–Β–Ϋ–Η―é –Γ―²–Α–≤–Κ–Η –£–™–ö –¥–Α–Μ –Ψ―²–≤–Β―² –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É ―¹–Ψ–≤–Β―²―É –Γ–½–ù: ¬Ϊ–£–Β―Ä―Ö–Ψ–≤–Ϋ―΄–Ι –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Η–Μ ―ç–≤–Α–Κ―É–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤―¹–Β –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Ψ–≤―΄–Β ―΅–Α―¹―²–Η –Η –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Ψ–≤ –≠–Ζ–Β–Μ―¨ –Η –î–Α–≥–Ψ –Η –Ω–Ψ–Μ―É–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –Ξ–Α–Ϋ–Κ–Ψ¬Μ [–¥–Ψ–Κ. ⳕ 593].
–ù–Ψ ―³–Μ–Ψ―² ―É–Ε–Β –Ω–Ψ–Κ–Η–Ϋ―É–Μ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ, –Η –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ 50 ―²―΄―¹. –≤–Ψ–Η–Ϋ–Ψ–≤ –ö–ê –Η –£–€–Λ –±―΄–Μ–Η –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ―΄ –≤ ―²―΄–Μ―É –≤―Ä–Α–≥–Α.
1.4. –≠–≤–Α–Κ―É–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η―è –≤ ―Ö–Ψ–¥–Β –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α
–ü–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Α –Κ ―ç–≤–Α–Κ―É–Α―Ü–Η–Η –≤–Ψ–Ι―¹–Κ –Η–Ζ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α –Η –Ψ―²―Ö–Ψ–¥―É –Η–Ζ –Ϋ–Β–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―¹–Η–Μ, –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤―΄―Ö –≤–Ψ–Ι―¹–Κ (–ë–û –Η –ü–£–û) –Η –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Η –ö–ë–Λ, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –≤–Ψ–Ι―¹–Κ –Γ–Λ, –Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Μ―è–≤―à–Η―Ö –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–¥–Β―¹–Α–Ϋ―²–Ϋ―É―é –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―É ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ψ-–Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨―è –≠―¹―²–Ψ–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α―¹―¨ –≥–Ψ―Ä–Α–Ζ–¥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Η―è ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―è –™–ö–û. –£ –Ω―Ä–Β–¥―΄–¥―É―â–Β–Φ ―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ ―Ä―è–¥–Β –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η–Ι –Η –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Η–≤ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –£–€–Λ –Η –ö–ê, –Ϋ–Α―Ü–Β–Μ–Η–≤–Α–≤―à–Η―Ö –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―² –ö–ë–Λ –Ϋ–Α ―ç–≤–Α–Κ―É–Α―Ü–Η―é –Η –Ψ―²―Ö–Ψ–¥ (–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –™–€–® βÄî –Ζ–Α–Φ–Ϋ–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ–Α –£–€–Λ –Ψ―² 1.07, ―à―²–Α–±–Α –Γ–Λ –Ψ―² 3.07 –Η 6.07, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Ι –≥―Ä―É–Ω–Ω–Ψ–Ι –Ψ―² 7.07, –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―²–Α 8–ê –Ψ―² 8.07).

–ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―à―²–Α–±–Α –£–€–Λ –£.–ê.–ê–Μ–Α―³―É–Ζ–Ψ–≤
–£ ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Η–Η ―¹ ―ç―²–Η–Φ–Η –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Η–≤–Α–Φ–Η –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ―΄ –Η―é–Μ―è –±―΄–Μ–Η ―Ä–Α–Ζ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Ϋ―΄ –Η ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Β–Ϋ―΄ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –™–€–® βÄî –Ζ–Α–Φ–Ϋ–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ–Α –£–€–Λ –Ω–Μ–Α–Ϋ―΄ ―ç–≤–Α–Κ―É–Α―Ü–Η–Η –Η –Ψ―²―Ö–Ψ–¥–Α, ―Ä–Α–Ζ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Ϋ―΄ –±–Ψ–Β–≤―΄–Β –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ―΄ –Η ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Η―è –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―²–Α –ö–ë–Λ ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è–Φ, ―΅–Α―¹―²―è–Φ –Η ―É―΅―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Α –Ϋ–Α ―ç–≤–Α–Κ―É–Α―Ü–Η―é, –Ψ―²―Ö–Ψ–¥, ―Ä–Α–Ζ―Ä―É―à–Β–Ϋ–Η–Β ―¹―²–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α―Ä–Ϋ―΄―Ö –Ψ–±―ä–Β–Κ―²–Ψ–≤ –Η –Ζ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β ―²–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –≥–Α–≤–Α–Ϋ–Β–Ι –Η ―Ä–Β–Ι–¥–Ψ–≤. –≠―²–Η –Ω–Μ–Α–Ϋ―΄ –Η –±–Ψ–Β–≤―΄–Β –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ―΄ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Η ―Ä–Β–Α–Μ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ―΄ –≤ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –™–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ψ –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―è―²―¨ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ, –Α –Ϋ–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ –£–€–Λ 9.07 –Ζ–Α–Ω―Ä–Β―²–Η–Μ –Ψ―²―Ö–Ψ–¥ ―¹–Η–Μ, –≤–Ψ–Ι―¹–Κ –Η ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è ―³–Μ–Ψ―²–Α –Η–Ζ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α, –Ϋ–Ψ –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Α–≤–≥―É―¹―²–Α –Ψ–Ϋ–Η –Ω–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ–Η –Ω–Ψ–¥―¹–Ω–Ψ―Ä―¨–Β–Φ –Ω―Ä–Η –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Β –Κ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤―É.
4.08 –Ϋ–Α―΅―à―²–Α–±–Α –ö–ë–Λ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É –ö–£–€–ë –≤―΄―¹–Μ–Α―²―¨ –≤ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ –¥–Μ―è ―ç–≤–Α–Κ―É–Α―Ü–Η–Η 1-–Ι ―²―΄―¹. ―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ―΄―Ö ―²–Β–Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ–¥ –£–Δ β³• 521 ¬Ϊ–‰–Ψ―¹–Η―³ –Γ―²–Α–Μ–Η–Ϋ¬Μ (–≤–Φ–Β―¹―²–Ψ –Ϋ–Β–≥–Ψ –±―΄–Μ –≤―΄―¹–Μ–Α–Ϋ –£–Δ β³• 509 ¬Ϊ–£―è―΅–Β―¹–Μ–Α–≤ –€–Ψ–Μ–Ψ―²–Ψ–≤¬Μ).
5.08, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η–Β –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α –Ω–Β―Ä–Β―Ä–Β–Ζ–Α–Μ–Η –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ϋ―É―é –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥―É –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ βÄî –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥ –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –Δ–Α–Ω–Α, –Ω–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―é –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –ö–ë–Λ –≤ –Ω―Ä–Β–¥–≤–Η–¥–Β–Ϋ–Η–Η –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α ―¹ ―¹―É―à–Η –Η –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Β–≥–Ψ –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –¥–Μ―è –≤―΄–≤–Ψ–Ζ–Α –Ϋ–Α–Κ–Α–Ω–Μ–Η–≤–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è ―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ―΄―Ö, –±―΄–Μ–Η –≤―΄–Ζ–≤–Α–Ϋ―΄ –≤ –™–ë –Η–Ζ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Α –Η –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Α –Β―â–Β 14 ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–≤ (–Δ–†) –Η ―²―Ä–Η –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Α (–¦–ï–î). –ö 14.08 ―ç―²–Η ―¹―É–¥–Α, –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β –Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Β –£–Δ β³• 538 ¬Ϊ–ê–Κ―¹–Β–Μ―¨ –ö–Α―Ä–Μ¬Μ, –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ–Η –≤ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ (―²–Α–±–Μ. 5, ⳕ 34-49). –ü–Ψ–Ζ–¥–Ϋ–Β–Β –±―΄–Μ–Η –¥–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤―΄–Ζ–≤–Α–Ϋ―΄ –Β―â–Β –≤–Ψ―¹–Β–Φ―¨ –Δ–† (―²–Α–±–Μ. 5, ⳕ 50-52, 57-59, 66,67). –‰–Ζ –Ϋ–Η―Ö –Ω―Ä–Η―à–Μ–Η ―²―Ä–Η –Δ–†, –Ω―Ä–Η―΅–Β–Φ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö (–£–Δ β³• 513 ¬Ϊ–¦―É–Ϋ–Α―΅–Α―Ä―¹–Κ–Η–Ι¬Μ) –±―΄–Μ –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Α–Φ–Η –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –≤ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Β –≤ –¥–Β–Ϋ―¨ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Α, ―΅–Β―²―΄―Ä–Β –Ω–Ψ–≥–Η–±–Μ–Η –≤ –Ω―É―²–Η, –Α –Ψ–¥–Η–Ϋ –Ϋ–Β –¥–Ψ―à–Β–Μ –¥–Ψ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α –Η–Ζ-–Ζ–Α –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Ι (–Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Η–Ζ ―ç―²–Η―Ö –Δ–† –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–Ζ–Η–Μ–Η –≥―Ä―É–Ζ―΄ –¥–Μ―è –ë–û –ë–†).
–Δ–Α–±–Μ–Η―Ü–Α 5. –Γ–±–Ψ―Ä –≤ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η ―¹―É–¥–Ψ–≤, ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–≤―à–Η―Ö –≤ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Β, –Η –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―² –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η ―¹―É–¥–Ψ–≤, –Ϋ–Β–Ϋ―É–Ε–Ϋ―΄―Ö –¥–Μ―è –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α

–£ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨ –≤–¥―É–Φ―΅–Η–≤–Ψ–Φ―É ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ―é. –ü―Ä–Η–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Κ –Κ–Ϋ–Η–≥–Β –†.–ê.–½―É–±–Κ–Ψ–≤ ¬Ϊ–Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤ –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α (–Α–≤–≥―É―¹―² - ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä―¨ 1941 –≥.)¬Μ
–ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―²










.jpg)


