–Γ–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ–Β –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α–Ϋ–Η–Β, –Ω–Ψ―è–≤–Η–≤―à–Β–Β―¹―è –Ϋ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Η–Ζ ―¹–Α–Ι―²–Ψ–≤ –‰–Ϋ―²–Β―Ä–Ϋ–Β―²–Α –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É-―²–Ψ –≤―΄–Ζ–≤–Α–Μ–Ψ –≤–Ψ –Φ–Ϋ–Β –Φ–Ϋ–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –¥―Ä–Β–Φ–Α–≤―à–Η―Ö ―ç–Φ–Ψ―Ü–Η–Ι. –†–Β―΅―¨ ―à–Μ–Α –Ψ–± ―ç–Μ–Η―²–Α―Ö. –ù–Α―΅–Ϋ―É ―¹ ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è ―¹―É―â–Β―¹―²–≤―É–Β―² –Φ–Ϋ–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤, –Ω–Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –Ζ–Α―Ä–Α–Ϋ–Β–Β –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Η―²―¨, –Ϋ–Α―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Α–≤―²–Ψ―Ä –Κ–Ψ–Ϋ―ä―é–Ϋ–Κ―²―É―Ä–Β–Ϋ –Η –Ζ–Α–Α–Ϋ–≥–Α–Ε–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ. –û–¥–Ϋ–Ψ –Η–Ζ ―²–Α–Κ–Η―Ö ―¹–Μ–Ψ–≤ βÄî ¬Ϊ―ç–Μ–Η―²–Α¬Μ. –£ –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―é –Η ―¹–Ψ―Ü–Η–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―é ―ç―²–Ψ―² ―²–Β―Ä–Φ–Η–Ϋ –≤–Ψ―à–Β–Μ –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ 150 –Μ–Β―² –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥, –Α –Κ–Α–Κ –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Φ–Β–Ϋ―² ―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η–Κ–Η –Ψ–Ϋ ―¹―É―â–Β―¹―²–≤―É–Β―² –≤―¹–Β–≥–Ψ –Μ–Η―à―¨ –Ω–Ψ–Μ–≤–Β–Κ–Α. –≠―²–Η –Ω–Ψ–Μ–≤–Β–Κ–Α –≤–Η–¥–Β–Μ–Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≤–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Ι, –≤ ―΅–Α―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ –≤ ―²–Ψ –Ε–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –≤ –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Α―Ö –™–Ψ―¹–¥–Β–Ω–Α―Ä―²–Α–Φ–Β–Ϋ―²–Α –Γ–®–ê –Ζ–Α–Φ–Β–Μ―¨–Κ–Α–Μ ―²–Β―Ä–Φ–Η–Ϋ ¬Ϊ–≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Β –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Ψ¬Μ, –¥–Α –Η ―²–Β―Ä–Φ–Η–Ϋ ¬Ϊ―ç–Μ–Η―²–Α¬Μ ―¹―²–Α–Μ –Ω–Ψ―΅―²–Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―è–≤–Μ―è―²―¨―¹―è –≤ ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η–≥–Μ―è–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Ϋ―²–Β–Κ―¹―²–Β. –ê–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Β –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η –Ζ–Α–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ–Ψ–Φ–Α―¹―à―²–Α–±–Ϋ―΄–Β –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –Ϋ―΄–Ϋ―΅–Β –≤–Β―¹―²–Η –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ, –Α –Ω―Ä–Η –Ϋ–Α–Μ–Η―΅–Η–Η –Ψ―Ä―É–Ε–Η―è –Φ–Α―¹―¹–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ ―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ, –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –≤ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Φ–Β–Ϋ―²–Α –≤–Ϋ–Β―à–Ϋ–Β–Ι –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η–Κ–Η –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Α–≥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ¬Ϊ–≤―΄―Ä–Α―â–Η–≤–Α―²―¨¬Μ –Μ–Ψ―è–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Γ–®–ê –Ϋ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―ç–Μ–Η―²―΄, –Α –Β―¹–Μ–Η –≤―Ä–Β–Φ―è –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–Β―², ―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Η―Ö –Ω–Ψ–¥–Κ―É–Ω–Α―²―¨. –ù―É–Ε–Ϋ–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ ―É―΅–Β–Ϋ―΄–Β, ―΅―¨–Η ―²–Β–Ψ―Ä–Η–Η –Μ–Β–≥–Μ–Η –≤ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤―É ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―ç–Μ–Η―²–Η–Ζ–Φ–Α, –≤―¹–Β, –Κ–Α–Κ –Ψ–¥–Η–Ϋ, ―¹―΅–Η―²–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α–Μ–Η―΅–Η–Β –≤ –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β ―ç–Μ–Η―² –Ω―Ä–Β–≤―Ä–Α―â–Α–Β―² ―Ä–Α–Ζ–≥–Μ–Α–≥–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ψ –¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η–Η –≤ –±–Β―¹―¹–Φ―΄―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ―É―é –±–Ψ–Μ―²–Ψ–≤–Ϋ―é, –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η―è –Η ―ç–Μ–Η―²―΄ –≤–Β―â―¨ –Ϋ–Β―¹–Ψ–≤–Φ–Β―¹―²–Η–Φ–Α―è. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É, –Μ–Η–±–Ψ –Φ―΄ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Φ –Ψ–± ―ç–Μ–Η―²–Α―Ö –Η –Ζ–Α–±―΄–≤–Α–Β–Φ –Ψ –¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η–Η, –Μ–Η–±–Ψ –Φ―΄ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Φ –Ψ –¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η–Η –Η ―Ä–Α―¹―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α–Β–Φ ―ç–Μ–Η―²―΄ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Β–Ω―è―²―¹―²–≤–Η–Β –Ϋ–Α –Ω―É―²–Η –¥–Ψ―¹―²–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Η―¹―²–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤–Μ–Α―¹―²–Η―è.
–ï―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω–Μ–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Ψ–Μ–Ψ–≥–Ψ–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω―Ä–Η–≤―΄–Κ–Μ–Η ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Α –≥―Ä–Α–Ϋ―²―΄, –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Α―é―â–Η–Β –Ψ―² ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Φ–Η―Ä–Α ―¹–Β–≥–Ψ, ―²–Α–Κ–Α―è ―²―Ä–Α–Κ―²–Ψ–≤–Κ–Α ―ç–Μ–Η―² –±―΄–Μ–Α –Ϋ–Β―É–¥–Ψ–±–Ϋ–Α βÄî –¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η―è ―²–Α–Κ–Α―è ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Α―è ―É–Μ–Ψ–≤–Κ–Α –¥–Μ―è –Ψ–±–Ψ–Μ–≤–Α–Ϋ–Η–≤–Α–Ϋ–Η―è –Φ–Α―¹―¹, –Α ―¹ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨―é ―²–Β–Ψ―Ä–Η–Η ―ç–Μ–Η―² ―²–Α–Κ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ ¬Ϊ–¥–Ψ–Η―²―¨¬Μ ―²–Β―Ö, –Κ―²–Ψ ―¹―²–Ψ–Η―² ―É –≤–Μ–Α―¹―²–Η, ―΅―²–Ψ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Κ–Α–Κ-―²–Ψ –Η―¹–Ω―Ä–Α–≤–Η―²―¨ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Η–Κ–Ψ–≤ ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Ψ―Ü–Η–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η–Η, ―΅―²–Ψ, ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Η –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Ψ. –ù–Ψ –≤–Β―Ä–Ϋ–Β–Φ―¹―è –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥.
–î–Β–Μ–Ψ –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ–Μ–Η―²―²–Β―Ö–Ϋ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η –Ζ–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ―É–Φ–Ϋ–Β–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Η―Ö –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤–Κ–Η –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥―É―² –Ϋ–Β –≤–Ψ―¹―Ö–Η―â–Α―²―¨. –ï―â–Β –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β 1960-―Ö –Ω–Ψ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β –±–Β–≥–Α–Μ –Ψ–¥–Η–Ϋ ―¹–Ψ―Ü–Η–Ψ–Μ–Η–Ϋ–≥–≤–Η―¹―², ―΅–Η―²–Α–≤―à–Η–Ι –Μ–Β–Κ―Ü–Η–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –±―΄–Μ–Η ―É–Ε–Β ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ω–Ψ–Ω―É–Μ―è―Ä–Ϋ―΄ ―É –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β–Ε–Η. –û–Ϋ ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Μ―é–±–Α―è –Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä–Α βÄî ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β–Κ–Η–Ι –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Ι ―²–Β–Κ―¹―², –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ ―É–Φ–Β―²―¨ –≥―Ä–Α–Φ–Ψ―²–Ϋ–Ψ ―΅–Η―²–Α―²―¨. –ü–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥ –≤ –Φ–Α―¹―¹–Β ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―΅–Η―²–Α―²―¨ ―²–Α–Κ–Η–Β ―²–Β–Κ―¹―²―΄ –Ϋ–Β –Ψ–±―É―΅–Β–Ϋ, ―²–Ψ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ ―Ä–Ψ–¥–Α –Ε―Ä–Β―΅–Β―¹–Κ–Α―è –Κ–Α―¹―²–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –±―É–¥–Β―² –¥–Μ―è –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Α ―ç―²–Η ―²–Β–Κ―¹―²―΄ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Ω―Ä–Β―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨. –î–Α–Μ―¨―à–Β ―à–Μ–Η –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β ¬Ϊ–Ω―É–≥–Α–Μ–Κ–Η¬Μ. –£ ―΅–Α―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Α–≤―²–Ψ―Ä ―ç―²–Ψ–Ι ―²–Β–Ψ―Ä–Η–Η –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Ψ―΅―²–Β–Ϋ–Η–Β ―²–Β–Κ―¹―²–Α ―É–Ε–Β –Ω―Ä–Η–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ –Κ ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Η –Ω―Ä–Ψ―΅–Η–Φ –Κ–Α―²–Α―¹―²―Ä–Ψ―³–Α–Φ. –Δ–Α–Κ, –Ϋ–Β–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Ψ―΅―²–Β–Ϋ–Η–Β –Γ–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –ü–Η―¹–Α–Ϋ–Η―è –≤ –½–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Ψ–Ι –ï–≤―Ä–Ψ–Ω–Β –Ω―Ä–Η–≤–Β–Μ–Ψ –Κ ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ ―²–Α–Φ –≤―¹–Ω―΄―Ö–Ϋ―É–Μ–Η –Κ–Ψ―¹―²―Ä―΄ –Η–Ϋ–Κ–≤–Η–Ζ–Η―Ü–Η–Η –Η –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ –¥–Β―¹―è―²―¨ ―²―΄―¹―è―΅ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Ω–Ψ–≥–Η–±–Μ–Η –≤ –Ω–Μ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η –Α―É―²–Ψ–¥–Α―³–Β (―΅―²–Ψ –≤ –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–¥–Β –Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Β―² ¬Ϊ–Α–Κ―² –≤–Β―Ä―΄¬Μ). –£ –Β–≥–Ψ –Μ–Β–Κ―Ü–Η―è―Ö –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ψ–≤, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –±―΄–Μ–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β, –Ϋ–Ψ, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Η –Κ―Ä―É―²–Η, –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹–Α–Φ–Ψ–Β –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β: –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥ βÄî –±―΄–¥–Μ–Ψ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ―É ―²―Ä–Β–±―É―é―²―¹―è –Ω–Ψ–≤–Ψ–¥―΄―Ä–Η, –≤–Μ–Α–¥–Β―é―â–Η–Β –Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ―΅―²–Β–Ϋ–Η―è. ¬Ϊ―Ü–Η–≤–Η–Μ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―²–Β–Κ―¹―²–Ψ–≤¬Μ, –Α ―²–Β–Κ―¹―² –≤ –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Η βÄî ―ç―²–Ψ –≤―¹―ë, ―΅―²–Ψ –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Α–Β―² –Η–Μ–Η –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Α―²―¨ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α. –Δ–Α–Κ –Η―¹–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–Μ―¨ ―Ä–Α―¹―΅–Η―â–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Κ–Α –¥–Μ―è –≤–Ϋ–Β–¥―Ä–Β–Ϋ–Η―è –≤ –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―é –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Η―è ¬Ϊ―ç–Μ–Η―²–Α¬Μ.
–ü–Ψ–¥–≤–Β–¥–Β–Φ –Ω―Ä–Ψ–Φ–Β–Ε―É―²–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι –Η―²–Ψ–≥. –‰―²–Α–Κ, –Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è, ―΅―²–Ψ –Μ―é–±–Ψ–Β –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Ψ –≤―¹–Β–≥–¥–Α ―Ä–Α―¹―¹–Μ–Α–Η–≤–Α–Β―²―¹―è, –Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨ –¥–Η―¹–Κ―Ä–Β–¥–Η―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–≤―à–Β–Β ―¹–Β–±―è ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Β–Ι ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ ¬Ϊ–Κ–Μ–Α―¹―¹―΄¬Μ, ―²–Β―Ö, –Κ―²–Ψ –Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è –≤ –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β –Ϋ–Α–≤–Β―Ä―Ö―É, ―Ä–Β―à–Η–Μ–Η –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α―²―¨ ―ç–Μ–Η―²–Ψ–Ι. –Δ–Β–Φ –±–Ψ–Μ–Β–Β ―΅―²–Ψ –Κ–Μ–Α―¹―¹ –Ω–Ψ–¥–Κ―É–Ω–Η―²―¨ –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ–Α―²–Η―΅–Ϋ–Ψ, –Α ―ç–Μ–Η―²―É –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ ―É –Μ―é–±–Ψ–Ι ―ç–Μ–Η―²―΄ –Β―¹―²―¨ ―¹–≤–Ψ―è ―Ü–Β–Ϋ–Α. –Γ–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Ψ–Μ–Ψ–≥–Α–Φ–Η, –Ψ–±―¹–Μ―É–Ε–Η–≤–Α―é―â–Η–Φ–Η ―ç―²―É ―¹–Α–Φ―É―é ―ç–Μ–Η―²―É, ―¹―²–Ψ―è―² –¥–≤–Β –Ζ–Α–¥–Α―΅–Η: (1) –¥–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ ―ç–Μ–Η―²–Α βÄî ―ç―²–Ψ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Η–Μ–Η –¥–Α–Ε–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ, –Η ―É–Ε –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ –Ϋ–Β –Φ–Β―à–Α–Β―² –¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η–Η; (2) –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Η–Β ―ç–Μ–Η―²―΄ βÄî ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è―à–Ϋ–Η–Ι –≤―΄–Κ―Ä―É―²–Α―¹, –Α ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β, ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–≤―à–Β–Β ―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Ψ ―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Η–Μ–Η –Ω–Ψ―΅―²–Η ―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ, ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹―É―â–Β―¹―²–≤―É–Β―² ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ. –‰ ―²―É―² ―Ü–Β–Μ–Α―è –Α―Ä–Φ–Η―è –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Κ–Ψ–≤ ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–≤–Β–Κ–Ψ–≤―¨―è ―¹―²–Α–Μ–Α –Ζ–Α―â–Η―â–Α―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Η –Κ–Α–Ϋ–¥–Η–¥–Α―²―¹–Κ–Η–Β –Η –¥–Ψ–Κ―²–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Β –¥–Η―¹―¹–Β―Ä―²–Α―Ü–Η–Η –Ψ ―Ä–Ψ–Μ–Η ―ç–Μ–Η―² –≤ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Α. –ù–Α–Η–±–Ψ–Μ–Β–Β –Ω―Ä–Ψ–¥–≤–Η–Ϋ―É―²―΄–Φ –¥–Α–Ε–Β –¥–Ψ–≤–Β―Ä–Η–Μ–Η –≤–Ϋ–Β–¥―Ä–Η―²―¨ –≤ ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Β –Φ–Α―¹―¹ –Η–¥–Β―é –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ ―¹―²–Α–±–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―ç–Μ–Η―² –≤–Β–¥–Β―² –Κ ―¹―²–Α–±–Η–Μ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Α, –Α –Ω–Ψ–¥–≤–Η–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―ç–Μ–Η―² ―Ä–Α–Ζ―Ä―É―à–Α–Β―² –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –½–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Α―è –ï–≤―Ä–Ψ–Ω–Α ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è ―Ü–≤–Β―²–Β―² –Η –Ω–Α―Ö–Ϋ–Β―² –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ –Β–Β ―¹–Ω–Α―¹–Μ–Η –Ζ–Α–Κ–Ψ―¹―²–Β–Ϋ–Β–≤―à–Η–Β ―³–Β–Ψ–¥–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―ç–Μ–Η―²―΄. –ê –≤–Ψ―² –£–Η–Ζ–Α–Ϋ―²–Η―è, –¥–Μ―è –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –±―΄–Μ–Α ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Ϋ–Α ―Ä–Ψ―²–Α―Ü–Η―è ―ç–Μ–Η―², –Ω―Ä–Η –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Μ―é–¥–Η –≤ –Ϋ–Η―Ö –Ϋ–Β –Ζ–Α–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –¥–Β―¹―è―²–Η –Μ–Β―², ―¹―²–Α–Μ–Α –Ε–Β―Ä―²–≤–Ψ–Ι –Ϋ–Β―¹―²–Α–±–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –≤ ―ç–Μ–Η―²―É ―¹―²―Ä–Β–Φ–Η–Μ–Η―¹―¨ –Μ―é–¥–Η, –Ζ–Ϋ–Α–≤―à–Η–Β, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β, –Η ―Ö–Ψ―²–Β–≤―à–Η–Β –Ψ–≥―Ä–Α–±–Η―²―¨ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―É, –Α –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Ψ –≤ ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è ―Ö–Η―Ä–Β–Μ–Ψ –Η –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Ψ–≤ ―Ä–Α–Ζ–≤–Α–Μ–Η–Μ–Ψ―¹―¨. –î―Ä―É–≥–Η–Φ–Η ―¹–Μ–Ψ–≤–Α–Φ–Η, –Φ―΄ ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¨ –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä –£–Η–Ζ–Α–Ϋ―²–Η–Η –Η –Η–Ζ–Ψ –≤―¹–Β―Ö ―¹–Η–Μ ―Ü–Β–Φ–Β–Ϋ―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Α―à―É ―ç–Μ–Η―²―É, ―΅―²–Ψ–±―΄, –Ϋ–Β –¥–Α–Ι –ë–Ψ–≥, –Β–Ι –Ϋ–Β –Ζ–Α―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹–±―Ä–Ψ―¹–Η―²―¨ ―¹ ―¹–Β–±―è ―ç―²―É –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ―É―é –Ϋ–Ψ―à―É –Ζ–Α–±–Ψ―² –Ψ ―Ü–Β–Μ–Ψ―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Α.
–ù―É–Ε–Ϋ–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –≤―¹―ë ―ç―²–Ψ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Κ―Ä–Α―¹–Η–≤–Α―è ―΅―É―à―¨, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Φ–Ϋ–Ψ–Ε–Η―²―¹―è –Ω―Ä―è–Φ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Ω–Ψ―Ä―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤―É –≥―Ä–Α–Ϋ―²–Ψ–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –≤―΄–¥–Β–Μ―è―é―²―¹―è –Ϋ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ–Ω―Ä–Α–≤–¥―΄–≤–Α―²―¨ ―ç―²―É –≥–Α–Μ–Η–Φ–Α―²―¨―é. –ù–Α―΅–Ϋ–Β–Φ ―¹ –£–Η–Ζ–Α–Ϋ―²–Η–Η. –£–Η–Ζ–Α–Ϋ―²–Η―è –Ω–Α–Μ–Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Β–Κ―Ä–Β―¹―²–Κ–Β ―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–≤―΄―Ö –Ω―É―²–Β–Ι –≤–Ψ―¹―²–Ψ–ΚβÄî–Ζ–Α–Ω–Α–¥ (¬Ϊ–®–Β–Μ–Κ–Ψ–≤―΄–Ι –Ω―É―²―¨¬Μ) –Η ―¹–Β–≤–Β―Ä-―é–≥ (¬Ϊ–Η–Ζ –≤–Α―Ä―è–≥ –≤ –≥―Ä–Β–Κ–Η¬Μ) . –£–Η–Ζ–Α–Ϋ―²–Η―è –Ϋ–Β –≤―΄–¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ–Α –Ϋ–Α―²–Η―¹–Κ–Α ―¹–Ψ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Η―²–Α–Μ―¨―è–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –±–Α–Ϋ–Κ–Η―Ä―¹–Κ–Η―Ö –¥–Ψ–Φ–Ψ–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β, ―΅―²–Ψ–±―΄ –¥–Ψ–±–Η―²―¨ –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―É―Ä–Β–Ϋ―²–Α, –Ψ–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ –¥–Α–Ε–Β –Ω–Ψ–¥–Κ―É–Ω–Η–Μ–Η ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ –Κ―Ä–Β―¹―²–Ψ–≤―΄―Ö –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤, –Η –Β–≤―Ä–Ψ–Ω–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–Β –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹―²–≤–Ψ –≤–Φ–Β―¹―²–Ψ ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤―΄―¹–Α–¥–Η―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥–Α―Ö –ü–Α–Μ–Β―¹―²–Η–Ϋ―΄, –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –≤–¥―Ä―É–≥ ―É ―¹–Α–Φ―΄―Ö ―¹―²–Β–Ϋ –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–Ω–Ψ–Μ―è –Η ―Ä–Α–Ζ–≥―Ä–Α–±–Η–Μ–Ψ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Β―â–Α–¥–Ϋ–Ψ. –£–Η–Ζ–Α–Ϋ―²–Η―è –Ω–Α–Μ–Α –Ϋ–Β –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É , ―΅―²–Ψ –Φ–Β–Ϋ―è–Μ–Α ―ç–Μ–Η―²―΄, –Κ–Α–Κ –Ω–Β―Ä―΅–Α―²–Κ–Η, –Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ ―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–≤―΄–Β –Ω―É―²–Η –Ω–Β―Ä–Β–Φ–Β―¹―²–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Ζ–Α–Ω–Α–¥ –Η ―¹―²–Α–Μ–Η –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è –Η―²–Α–Μ―¨―è–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ–Η –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α–Φ–Η.
–Δ–Ψ –Ε–Β ―¹–Α–Φ–Ψ–Β –Η ―¹ –Κ–Ψ―¹―²―Ä–Α–Φ–Η –Η–Ϋ–Κ–≤–Η–Ζ–Η―Ü–Η–Η. –‰―¹–Ω–Α–Ϋ–Η―è ―²–Α–Κ –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α –≤―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―Ä–Ψ–Μ―è―Ö –≤ –ï–≤―Ä–Ψ–Ω–Β, ―²–Α–Κ –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –Β–Β –≥―Ä–Α–±–Η–Μ–Η –Φ–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –±–Α–Ϋ–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Β –¥–Ψ–Φ–Α, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–¥ –≤–Η–¥–Ψ–Φ –±–Ψ―Ä―¨–±―΄ ―¹ –Β―Ä–Β―¹―¨―é –Ω–Α―²―Ä–Η–Ψ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Ϋ–Α―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –¥―É―Ö–Ψ–≤–Β–Ϋ―¹―²–≤–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Β–Ϋ―è–Μ–Ψ –≤―¹–Β –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤―΄ ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η–Κ–Η –Η –Ω–Ψ–¥ ―¹–≤–Β―² –Κ–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤ –Η–Ϋ–Κ–≤–Η–Ζ–Η―Ü–Η–Η –‰―¹–Ω–Α–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Β–≤―Ä–Α―²–Η–Μ–Α―¹―¨ –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ―΄―Ö –Η–≥―Ä–Ψ–Κ–Ψ–≤ –Ϋ–Α –Β–≤―Ä–Ψ–Ω–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Ϋ―²–Η–Ϋ–Β–Ϋ―²–Β. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ω―΄–Μ–Α–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤ –Η–Ϋ–Κ–≤–Η–Ζ–Η―Ü–Η–Η –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è –Κ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Ψ―΅―²–Β–Ϋ–Η―é –Γ–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –ü–Η―¹–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Β―², –Α –Η–Φ–Β–Β―² –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Β –Κ ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é ―³–Η–Ϋ–Α–Ϋ―¹–Ψ–≤―΄―Ö –Ω–Ψ―²–Ψ–Κ–Ψ–≤.
–ù–Β –Φ–Ψ–≥―É –Ψ―²–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ ―¹–Β–±–Β –≤ ―É–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η–Η –Ω―Ä–Η–≤–Β―¹―²–Η ―Ü–Η―²–Α―²―É –Η–Ζ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―è ―ç–Μ–Η―². –≠–Μ–Η―²–Α βÄî ―ç―²–Ψ ¬Ϊ–Μ–Η―Ü–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä―è ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É ―¹―²―Ä–Α―²–Β–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―é –≤ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η―Ö –Η–Μ–Η –≤–Α–Ε–Ϋ–Β–Ι―à–Η―Ö –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―è―Ö –Η–Μ–Η –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è―Ö, ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ―΄ ―Ä–Β–≥―É–Μ―è―Ä–Ϋ–Ψ –Η ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤–Μ–Η―è―²―¨ –Ϋ–Α –Η―¹―Ö–Ψ–¥ –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Ι. –î―Ä―É–≥–Η–Φ–Η ―¹–Μ–Ψ–≤–Α–Φ–Η, ―ç–Μ–Η―²―΄ βÄî ―ç―²–Ψ ―²–Β –Μ―é–¥–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Φ–Ψ–≥―É―² ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Α―²―¨ –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²―É–Ω–Κ–Η –Η –Ϋ–Β –Ϋ–Β―¹―²–Η –Ζ–Α ―ç―²–Ψ –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―è¬Μ.
–Δ―É―² ―è –Ω―Ä–Η–≤–Β–¥―É ―¹–≤–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä. –£―Ä―è–¥ –Μ–Η –Κ―²–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Β―² –Ψ –±―é–¥–Ε–Β―²–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ–Α―Ö, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α―é―²―¹―è –≤ –Γ–®–ê. –Ξ–Ψ―²―è ―Ä–Β―¹–Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Α–Ϋ―Ü―΄ –Η –¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²―΄ –Ω―Ä–Η―à–Μ–Η –Κ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―é, –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ–Α –≤―¹–Β-―²–Α–Κ–Η –Ψ―¹―²–Α–Β―²―¹―è. –î–Β–Μ–Ψ –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Β–Ε–Β–Φ–Β―¹―è―΅–Ϋ―΄–Ι –¥–Β―³–Η―Ü–Η―² –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –±―é–¥–Ε–Β―²–Α ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―² 85 –Φ–Η–Μ–Μ–Η–Α―Ä–¥–Ψ–≤ –¥–Ψ–Μ–Μ–Α―Ä–Ψ–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―²–Α–Κ –Ε–Β –Β–Ε–Β–Φ–Β―¹―è―΅–Ϋ–Ψ –¥–Ψ–Ω–Β―΅–Α―²―΄–≤–Α―é―²―¹―è –Ω―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ–Φ. –û–Ϋ–Η –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –≤–±―Ä–Α―¹―΄–≤–Α―é―²―¹―è –Ϋ–Α ―Ä―΄–Ϋ–Ψ–Κ, –Ϋ–Α –Ϋ–Η―Ö –Ω―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ –≤―΄–Κ―É–Ω–Α–Β―² ―¹–≤–Ψ–Η –Ω―Ä–Β–Ε–Ϋ–Η–Β –¥–Ψ–Μ–≥–Η, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―²―É―² –Ε–Β –Ζ–Α–Μ–Β–Ζ―²―¨ –≤ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β. –î–Μ―è ―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Α ―²–Α–Κ–Α―è ―³–Η–Ϋ–Α–Ϋ―¹–Ψ–≤–Α―è ―¹―É–Β―²–Α? –û―²–≤–Β―² –Ω―Ä–Ψ―¹―²: –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –±–Α–Ϋ–Κ–Η –Η ―³–Η–Ϋ–Α–Ϋ―¹–Ψ–≤―΄–Β –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η –Ζ–Α―Ä–Α–Ϋ–Β–Β –Ζ–Ϋ–Α―é―², –Κ–Α–Κ–Η–Β –±―É–Φ–Α–≥–Η –Ω–Ψ–Κ―É–Ω–Α―²―¨ –Η –Κ–Α–Κ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ–¥–Α–≤–Α―²―¨, –Η –Ζ–Α―Ä–Α–±–Α―²―΄–≤–Α―é―² –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ–Φ –±–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Β –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η. –î–Ψ–Μ–≥–Η, –≤ –Η―²–Ψ–≥–Β, –Ψ―¹―²–Α―é―²―¹―è –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤―É. –£–Ψ―² –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ―²–Ψ–Μ–Ψ–Κ –¥–Ψ–Μ–≥–Α –Ψ–Ω―è―²―¨ –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Β –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–¥–Α―²–Β–Μ–Η –Ω―Ä–Η–Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ–Η. –ù–Ψ –≤―¹―è ―ç―²–Α –≤–Ψ–Ζ–Ϋ―è –Φ–Β–Ε–¥―É ―Ä–Β―¹–Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Α–Ϋ―Ü–Α–Φ–Η –Η –¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Α–Φ–Η βÄî ―ç―²–Ψ, –Κ–Α–Κ ―è ―É–Ε–Β –Ω–Η―¹–Α–Μ, –Φ–Β–¥–Η–Ι–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ω–Β–Κ―²–Α–Κ–Μ―¨. –ù–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –¥–Β–Μ–Β –Η–¥–Β―² –±–Η―²–≤–Α –Ζ–Α ―²–Ψ, –Κ―²–Ψ –±―É–¥–Β―² –¥–Β–Μ–Η―²―¨―¹―è. –ï―¹―²―¨ –¥–≤–Β –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Η. –ï―¹–Μ–Η –Ψ―΅–Η―¹―²–Η―²―¨ –Ψ―² ―¹–Μ–Ψ–≤–Β―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ―É―¹–Ψ―Ä–Α –≤―¹–Β ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Ζ–≤―É―΅–Η―², ―²–Ψ ―Ä–Β―¹–Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Α–Ϋ―Ü―΄ ―Ö–Ψ―²―è―², ―΅―²–Ψ–±―΄ –±–Ψ–≥–Α―²―΄–Β, ―².–Β. –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Α―è ―ç–Μ–Η―²–Α, –Ϋ–Η ―¹ –Κ–Β–Φ –Ϋ–Β –¥–Β–Μ–Η–Μ–Η―¹―¨, –Α –¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²―΄ ―¹―΅–Η―²–Α―é―², ―΅―²–Ψ ―΅―É―²―¨-―΅―É―²―¨ –Ω–Ψ–¥–Β–Μ–Η―²―¨―¹―è –≤ –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É –Φ–Β–Ϋ–Β–Β –±–Ψ–≥–Α―²―΄―Ö –Ω―Ä–Η–¥–Β―²―¹―è. –€–Ϋ–Β –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É-―²–Ψ –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è, ―΅―²–Ψ –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Κ–Β –Ω–Ψ–±–Β–¥–Η―² ―ç–Μ–Η―²–Α, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ ―É –Β–Β –Α–Ω–Ψ–Μ–Ψ–≥–Β―²–Ψ–≤ ―É–Ε –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―¹–Κ–Μ–Α–¥–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Β―²―¹―è –≤―΄―¹―²―Ä–Α–Η–≤–Α―²―¨ –Ζ–Α–≤–Η―¹–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨ –Φ–Β–Ε–¥―É ―¹―²–Α–±–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é ―ç–Μ–Η―²―΄ –Η ―¹―²–Α–±–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Α. –£–Ψ―² –Η –Ω―É–≥–Α―é―² –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥ ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –Β―¹–Μ–Η ―²―Ä–Ψ–Ϋ―É―²―¨ ―ç–Μ–Η―²―É, ―²–Ψ –Ω–Ψ―¹―΄–Ω–Μ–Β―²―¹―è –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Ψ. –≠–Μ–Η―²–Α ―ç–Μ–Η―²–Ψ–Ι, –Α –¥–Ψ–Μ–≥–Η ―Ö–Ψ―²―¨ ―΅–Β–Φ-―²–Ψ –Ω–Ψ–Κ―Ä―΄–≤–Α―²―¨ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ. –ù–Α ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è―à–Ϋ–Η–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –Φ–Ψ–Μ―΅–Α–Μ–Η–≤–Ψ–Β ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–≤–Ψ–¥–Η―²―¹―è –Κ ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ζ–Α–Ω―É―¹―²–Η―²―¨ ―Ä―É―΅–Κ―É ―ç–Μ–Η―²―΄ –≤ –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Β –Ω–Β–Ϋ―¹–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―³–Ψ–Ϋ–¥―΄. –ü–Ψ –Ω–Ψ–¥―¹―΅–Β―²–Α–Φ ―ç–Κ―¹–Ω–Β―Ä―²–Ψ–≤, ―ç―²–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ζ–Α―²―Ä–Ψ–Ϋ―É―²―¨ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹―΄ –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–≥–Ψ ―²―Ä–Β―²―¨–Β–≥–Ψ –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―Ü–Α. –ö–Α–Κ –≤–Η–¥–Η―²–Β, –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β―²: –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥ –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Η –Ζ–Α –≤―¹–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –Ω–Μ–Α―²–Η―²―¨. –ù–Ψ –≤–Ψ―² ―΅―²–Ψ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ–Ψ: –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Η–Β ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ψ–≤ –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –≥―Ä―É–Ω–Ω –Ϋ–Α―¹–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Η –≤―΄–Ϋ–Ψ―¹–Η―² –Ϋ–Α–≤–Β―Ä―Ö ―²–Β―Ö, –Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β–Ζ–Α―¹–Μ―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α―²―¨ ―ç–Μ–Η―²–Ψ–Ι. –ë–Ψ–Μ–Β–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –Ω–Ψ–Ω―΄―²–Κ–Α –Ψ–Ω–Η―¹–Α―²―¨ ―³―É–Ϋ–Κ―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Α –Κ–Α–Κ –≤–Ζ–Α–Η–Φ–Ψ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Β ―ç–Μ–Η―² –Η –Ϋ–Β-―ç–Μ–Η―², –Ω―Ä–Η –≤―¹–Β–Ι –Β–Β –Κ―Ä–Α―¹–Ψ―²–Β, –¥–Α–Ε–Β ―ç–Μ–Β–≥–Α–Ϋ―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, ―΅―Ä–Β–≤–Α―²–Α ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –≤–Ζ―Ä―΄–≤–Ψ–Φ: ―΅–Β–Φ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η ―É–≤–Μ–Β–Κ–Α―é―²―¹―è –Ψ–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η–Β–Φ ¬Ϊ―ç–Μ–Η―²―΄¬Μ, ―²–Β–Φ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ψ–Ϋ–Η –Β–Β –Ψ―²–¥–Α–Μ―è―é―² –Ψ―² –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―¹–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Η ―²–Β–Φ ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Β–Β –Ϋ–Β-―ç–Μ–Η―²–Α –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β―² ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–≤–Α―²―¨―¹―è –≤ –Μ–Β–≥–Η―²–Η–Φ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―¹―²–Α―²―É―¹–Α ―²–Β―Ö, –Κ―²–Ψ –≤–Ψ–Ζ–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ ―¹–Β–±―è –Ϋ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―ç–Μ–Η―²–Ψ–Ι.
–£–Ψ―² –Κ–Α–Κ–Η–Β –Φ―΄―¹–Μ–Η –Ω―Ä–Η―à–Μ–Η –Φ–Ϋ–Β –≤ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―É –Η –Ζ–Α―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Η –Ϋ–Α –≤―Ä–Β–Φ―è –Ψ―²–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨ ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä –Ψ–± ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹―É―â–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Α―à–Β–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η. –ù–Ψ –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É-―²–Ψ –¥–Α–Ε–Β ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä –Ψ–± ―ç–Μ–Η―²–Β –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Ψ –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Α―Ö.
21 –Ψ–Κ―²―è–±―Ä―è 2013 –≥.
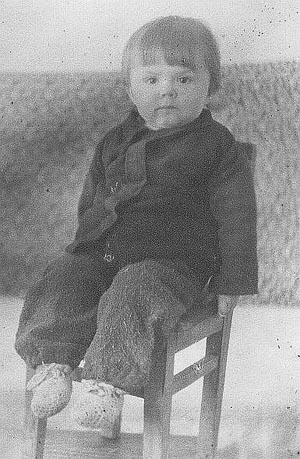
–Γ―²–Η―Ö–Η –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥―è―²βÄΠ
–Γ―²–Η―Ö–Η –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥―è―² –Ψ―² ―¹―²―΄–¥–Α
–½–Α –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ–Β –±–Β–Ζ–¥–Β–Μ―¨–Β.
–Δ―É–Φ–Α–Ϋ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–Ε –Ϋ–Α –Κ–Μ–Ψ–Κ –Κ―É–¥–Β–Μ–Η,
–‰ ―¹–Ϋ–Β–≥ ―É―Ö–Ψ–¥–Η―² –±–Β–Ζ ―¹–Μ–Β–¥–Α.
–£―¹―ë βÄî –≤ –Ω–Β―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Β, –≤―¹―ë –≤ –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ―¨–Β,
–ê ―è –Φ–Β―΅―²–Α―é –Ψ –±―΄–Μ–Ψ–Φ,
–û–Ϋ–ΨβÄ™ –Κ–Α–Κ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ―¨–Β,
–ö–Α–Κ –±―É–¥―²–Ψ ―Ä―è–¥–Ψ–Φ, –Ζ–Α ―É–≥–Μ–Ψ–Φ.
–û–Ϋ–Ψ ―¹―²―É―΅–Η―², –Κ–Α–Κ –Κ–Ψ–Ϋ―¨ –Κ–Ψ–Ω―΄―²–Ψ–Φ,
–û ―²–Ψ–Φ, ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Β–Ω–Ψ–Ζ–Α–±―΄―²–Ψ–Φ,
–û ―²–Ψ–Ι –Ϋ–Β―¹–±―΄―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Β―΅―²–Β.
–‰ ―è –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Ι, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α –Κ―Ä–Β―¹―²–ΒβÄΠ.
18 –Ψ–Κ―²―è–±―Ä―è 2013 –≥.

















.jpg)


