–î–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η―è βÄ™ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Η–Ζ ―¹–Α–Φ―΄―Ö ―²–Α–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹–Μ–Ψ–≤. –û–Ϋ–Ψ –≤―Ö–Ψ–¥–Η―² –≤ –Ϋ–Α―à―É –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Ω–Ψ―΅―²–Η ―¹ –Ω–Β–Μ–Β–Ϋ–Ψ–Κ, –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ, ―΅―²–Ψ ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –Β―¹―²―¨ –Η–Ϋ―²―É–Η―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β –¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η―è, –Η ―²–Β–Φ –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–ΒβÄΠ βÄ™ –Ω–Η―à–Β―²―¹―è –Φ–Α―¹―¹–Α –Κ–Ϋ–Η–≥, –≤ –Ε–Α―Ä–Κ–Η―Ö ―¹–Ω–Ψ―Ä–Α―Ö –Μ–Ψ–Φ–Α–Β―²―¹―è –Φ–Ϋ–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ –Κ–Ψ–Ω–Η–Ι, –≥–Η–±–Ϋ―É―² ―¹–Ψ―²–Ϋ–Η ―²―΄―¹―è―΅ –Μ―é–¥–Β–Ι, –Η―¹―΅–Β–Ζ–Α―é―² –Η –Ω–Ψ―è–≤–Μ―è―é―²―¹―è ―Ü–Β–Μ―΄–Β ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄, –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η―² –Φ–Ϋ–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ –¥―Ä―É–≥–Η―Ö ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Ι, –Ω―Ä–Η―΅–Β–Φ, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ, ―΅―É–¥–Ψ–≤–Η―â–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É –Ω―Ä–Β–Ϋ–Β–±―Ä–Β–Ε–Β–Ϋ–Η―é –Κ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Η –Κ –±―É–¥―É―â–Β–Φ―É –Ϋ–Α―à–Η―Ö –¥–Β―²–Β–Ι. –‰ –≤―¹―ë ―ç―²–Ψ –Ψ―¹–≤―è―â–Α–Β―²―¹―è ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ–Φ ¬Ϊ–¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η―è¬Μ, ―². –Β., –≤–Μ–Α―¹―²―¨ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Α.
–î–Α–≤–Α–Ι―²–Β –Ω–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Η–Φ, –Κ–Α–Κ ―à–Α–≥–Α–Β―² –¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η―è –Ω–Ψ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Β―²–Β –≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Β –¥–Β―¹―è―²―¨ –Μ–Β―². –‰―Ä–Α–Κ βÄ™ –±–Ψ–Μ–Β–Β 100 ―²―΄―¹―è―΅ ―É–±–Η―²―΄―Ö, –Φ–Α―¹―¹–Α –Ω―Ä–Β―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―¹–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è, ―Ä–Α–Ζ–≥―Ä–Α–±–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Φ―É–Ζ–Β–Β–≤, ―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä–Ϋ―΄―Ö ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι. –¦–Η–≤–Η―è βÄ™ 100 ―²―΄―¹―è―΅ ―É–±–Η―²―΄―Ö, ―Ä–Α–Ζ–≤–Α–Μ –Μ–Η–≤–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –Γ–Η―Ä–Η―è βÄ™ –±–Ψ–Μ–Β–Β 120 ―²―΄―¹―è―΅ ―É–±–Η―²―΄―Ö, –Κ–Ψ–Ϋ―³–Μ–Η–Κ―² –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Β―²―¹―è. –ï–≥–Η–Ω–Β―² βÄ™ –¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η―è –Ω–Ψ–Κ–Α –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Β―²―¹―è, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α―é―²―¹―è ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Α―¹―¹–Ψ–≤―΄–Β –Ε–Β―Ä―²–≤―΄ –Η ―Ä–Α–Ζ–≥―É–Μ –Ϋ–Α―¹–Η–Μ–Η―è.
–ù–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Η–Φ–Ψ –¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η–Η ―¹―É―â–Β―¹―²–≤―É―é―² –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±―΄ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Ψ–Φ, –Α –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Η―è –¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η―è –Η ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β ―è–≤–Μ―è―é―²―¹―è –Ω–Ψ―΅―²–Η –Α–Ϋ―²–Α–≥–Ψ–Ϋ–Η―¹―²–Α–Φ–Η, ―¹―É―â–Β―¹―²–≤―É–Β―² –Φ–Ϋ–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ –Μ―é–¥–Β–Ι, –Η―¹–Κ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Β ―¹―΅–Η―²–Α―é―â–Η―Ö, ―΅―²–Ψ –¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η―è βÄ™ ―ç―²–Ψ –Ζ–Α―Ä–Α–Ϋ–Β–Β ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ, –Α –≤―¹―ë –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β βÄ™ –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ. –Γ–Ψ –≤―¹–Β–Φ ―É–≤–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Κ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Η―¹–Κ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –Η―¹–Κ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ βÄ™ –Ϋ–Β ―É–Ϋ–Η–≤–Β―Ä―¹–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–¥–Β―²–Β–Μ―¨, –Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Β–Ι –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É―é―²―¹―è. –î–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¨, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ω―¨―è–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ψ–Ι –Η –¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η–Β–Ι –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Ι –Γ–Ψ―é–Ζ ―Ä–Α–Ζ–≤–Α–Μ–Η–≤–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α –≥–Μ–Α–Ζ–Α―Ö, –≤―¹–Β–Φ―É –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥―É –≤–¥―Ä―É–≥ –¥–Α–Μ–Η –Ω–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨―¹―è –Ζ–Α –≤–Α―É―΅–Β―Ä. –£ ―ç―²–Ψ–Ι –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –±―É–Φ–Α–Ε–Β―΅–Κ–Β –±―΄–Μ–Η ―¹–Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ―΄ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β ―΅–Α―è–Ϋ–Η―è –Μ―é–¥–Β–Ι βÄ™ ―É –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ –≤–Α―É―΅–Β―Ä―É, –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―², –Φ―΄ –≤―¹–Β ―Ä–Α–≤–Ϋ―΄, –Α ―Ä–Α–≤–Β–Ϋ―¹―²–≤–Ψ βÄ™ ―ç―²–Ψ ―É–Ε–Β –¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η―è, ―ç―²–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―², ―΅―²–Ψ ―è ―É–Ε–Β ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è―é ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ψ–Ι. –Δ–Α–Κ –¥―É–Φ–Α–Μ–Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β, ―¹–Ε–Η–Φ–Α―è –Ψ–±–Β–Η–Φ–Η ―Ä―É–Κ–Α–Φ–Η –±―É–Φ–Α–Ε–Κ―É –Η –Ϋ–Β ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–≤–Α―è, ―΅―²–Ψ ―Ä―É–Κ–Η-―²–Ψ –Ζ–Α–Ϋ―è―²―΄. –‰ ―ç―²–Α –±―É–Φ–Α–Ε–Κ–Α ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ–Α ―¹–≤–Ψ―ë –¥–Β–Μ–Ψ: –Ω–Ψ–Κ–Α –Β–Β –¥–Β―Ä–Ε–Η―à―¨, –Α–≤―²–Ψ–Φ–Α―² –≤ ―Ä―É–Κ–Η ―É–Ε–Β –Ϋ–Β –≤–Ψ–Ζ―¨–Φ–Β―à―¨, –Α ―²–Β, ―΅―¨–Η ―Ä―É–Κ–Η –≤ ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –±―΄–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ϋ―΄ –±―Ä–Α–Μ–Η –≤ –Ϋ–Η―Ö –≤―¹―ë ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ –Μ–Β–Ε–Α–Μ–Ψ. –Δ–Α–Κ–Ψ–≤–Α –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è –Φ–Η―¹―¹–Η―è –≤–Α―É―΅–Β―Ä–Α βÄ™ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α―²―¨ –Η–Μ–Μ―é–Ζ–Η―é –≤―¹–Β–Ψ–±―â–Β–≥–Ψ ―Ä–Α–≤–Β–Ϋ―¹―²–≤–Α –Η –Ϋ–Α –≤―Ä–Β–Φ―è –Ζ–Α–Ϋ―è―²―¨ ―Ä―É–Κ–Η.
–Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ω–Β―Ä–Β–Ι–¥–Β–Φ –Κ –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β –¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η–Η. –ü―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ζ–≥–Μ–Α―à–Α―²―¨ –Β–Β –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―É–≥–Ψ–¥–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Ψ –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―΄―²―¨ –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ –Β–Β ―Ä–Β–Α–Μ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η, –Η–Ϋ–Α―΅–Β –≤―¹―ë –Ω―Ä–Β–≤―Ä–Α―â–Α–Β―²―¹―è –≤ –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β ―Ä–Α–Ζ–≥–Μ–Α–≥–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è. –ù–Α ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –≤ –¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ ―É―¹―²―Ä–Ψ–Ι―¹―²–≤–Β ―¹―É―â–Β―¹―²–≤―É–Β―² ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ: –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι, –Ψ–±–Μ–Α–¥–Α―é―â–Η–Ι –Ω―Ä–Α–≤–Ψ–Φ –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹–Α, –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Β–≥–Ψ –Ψ―²–¥–Α―²―¨ –Ω―Ä–Η –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η. –≠―²–Ψ―² ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤―΄–Ι –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―², –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Η –Ω–Β–Ϋ―¹–Η–Ψ–Ϋ–Β―Ä, –Η –Ψ–Μ–Η–≥–Α―Ä―Ö ―΅―É–≤―¹―²–≤―É―é―² ―¹–Β–±―è ―Ä–Α–≤–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Η–Ζ–±–Η―Ä–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―É―Ä–Ϋ–Ψ–Ι, –¥–Μ–Η―²―¹―è –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Η–Ϋ―É―², –Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ ―ç―²–Ψ ―É–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η–Β –Φ―΄―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―Ö–Μ–Ψ–Ω–Α―²―¨ –Ω–Ψ –Ω–Μ–Β―΅―É –Ψ–Μ–Η–≥–Α―Ä―Ö–Α –Ψ―²–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Β―²―¹―è –Β―â–Β –Ϋ–Α –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Μ–Β―². –‰–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―ç―²–Η–Φ –Η –Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Η–≤–Α–Β―²―¹―è ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β –Ϋ–Α―¹–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è –≤ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Ψ–Φ. –Γ–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α–Β―²―¹―è: –Ζ–Α―΅–Β–Φ –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β –Ϋ―É–Ε–Β–Ϋ ―ç―²–Ψ―² ―³–Α―Ä―¹? –ü―Ä–Η―΅–Η–Ϋ―΄, –Κ–Α–Κ –Φ–Η–Ϋ–Η–Φ―É–Φ, –¥–≤–Β: ―΅―²–Ψ–±―΄ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –≤ –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–¥–Β –Β―â–Β ―Ä–Α–Ζ –Ω–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨ –≤ ―Ä―É–Κ–Α―Ö –±―É–Φ–Α–Ε–Κ―É –Ϋ–Β –±―Ä–Α–Μ –≤ ―Ä―É–Κ–Η ―΅―²–Ψ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Ω–Ψ―²―è–Ε–Β–Μ–Β–Β, –Η ―΅―²–Ψ–±―΄ ―¹ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨―é ―Ö–Ψ―²―è –±―΄ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β–¥―É―Ä―΄ –Ψ―¹–≤―è―²–Η―²―¨ (―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è –Μ–Β–≥–Η―²–Η–Φ–Η–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨) –≤–Μ–Α―¹―²―¨.
–£―΄ ―É–Ε–Β –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Ψ―â―É―â–Β–Ϋ–Η–Β –¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η–Η –Κ–Α–Κ-―²–Ψ ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ψ –Β―â–Β ―¹ –¥–≤―É–Φ―è –Ψ―â―É―â–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η, –Ω―Ä–Β―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Φ–Η ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α –Ϋ–Β –Ψ–¥–Ϋ–Ψ ―¹―²–Ψ–Μ–Β―²–Η–Β βÄ™ ―ç―²–Ψ ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Α –Η ―Ä–Α–≤–Β–Ϋ―¹―²–≤–Ψ, –±–Β–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η―è –±―΄–Μ–Α –±―΄ –Ϋ–Β–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Ι, –Η –Ψ–±―ä–Β–¥–Η–Ϋ―è―é―â–Β–Β –≤―¹–Β ―ç―²–Η –Ψ―â―É―â–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Η–Β ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Μ–Η–≤–Ψ―¹―²–Η. –Γ–Ψ ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ψ–Ι –¥–Β–Μ–Ψ –Ψ–±―¹―²–Ψ–Η―² –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Ω―É―²–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ. –ù–Ψ ―¹―Ä–Α–Ζ―É ―Ö–Ψ―΅―É ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è ―ç―²–Ψ ―É–Ε–Β –Ϋ–Β ―²–Α ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Α, –Ζ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é ―¹―Ä–Α–Ε–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α―à–Η –Ψ―²―Ü―΄ –Η –¥–Β–¥―΄. –ù―΄–Ϋ–Β―à–Ϋ―è―è ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Α –±–Ψ–Μ–Β–Β –Α–±―¹―²―Ä–Α–Κ―²–Ϋ–Α, –Ζ–Α –Ϋ–Β–Β –≤―Ä―è–¥ –Μ–Η ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Κ―²–Ψ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –≤―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ –Ζ–Α―Ö–Ψ―΅–Β―² –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―É. –Θ―΅–Β–Ϋ―΄–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω―΄―²–Α―é―²―¹―è –Κ–Α–Κ-―²–Ψ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Ω―Ä–Β―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è―à–Ϋ―é―é ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥―É, –≤―΄–¥–Β–Μ―è―é―² ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥―É –Ϋ–Β–≥–Α―²–Η–≤–Ϋ―É―é –Η –Ω–Ψ–Ζ–Η―²–Η–≤–Ϋ―É―é. –ß―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β –≤–¥–Α–≤–Α―²―¨―¹―è –≤ –Ω–Ψ–¥―Ä–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, ―¹–Κ–Α–Ε―É ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η –Μ–Η–±–Β―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Α –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ―΅–Η―²–Α―é―² ―²–Α–Κ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ―É―é –Ω–Ψ–Ζ–Η―²–Η–≤–Ϋ―É―é ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥―É, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –≤ ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Β ―¹–≤–Ψ–¥–Η―²―¹―è –Κ ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Β –≤―΄–±–Ψ―Ä–Α. –ï―¹–Μ–Η ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Η–Φ–Β–Β―² –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤―΄–±–Η―Ä–Α―²―¨, ―²–Ψ –Ψ–Ϋ ―É–Ε–Β ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Β–Ϋ. –Γ–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ–Φ –Μ–Η–±–Β―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β―²―¹―è –Η –Ζ–Α–Κ–Α–Ϋ―΅–Η–≤–Α–Β―²―¹―è. –€–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Β―â–Β –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Ψ –≤―΄–±–Ψ―Ä–Β. –™–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―², ―΅―²–Ψ –≤―΄–±–Ψ―Ä –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―΄―²―¨ –Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ, –Ϋ–Α–¥ –Ϋ–Η–Φ –Ϋ–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –¥–Ψ–≤–Μ–Β―²―¨ –Ϋ–Η―΅–Β–Ι –Α–≤―²–Ψ―Ä–Η―²–Β―². –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Φ–Β–Ϋ―è―é―²―¹―è –Ω―Ä–Η–Ϋ―Ü–Η–Ω―΄ ―à–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è, –Η–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ―΄–Φ–Α–Β―²―¹―è ―É―΅–Η―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η–Ι –Α–≤―²–Ψ―Ä–Η―²–Β―², –Α –Ζ–Α–Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥ –Ψ–±―¹―²―Ä–Β–Μ –Ω–Ψ–Ω–Α–¥–Α–Β―² ―¹–Β–Φ―¨―è ―¹ –Β–Β ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η–Φ –Α–≤―²–Ψ―Ä–Η―²–Β―²–Ψ–Φ. –™–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―², ―΅―²–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―²–Α–Κ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²―¨ –Η―¹―²–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―΅–Μ–Β–Ϋ–Α –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Α, –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É―é―â–Β–≥–Ψ―¹―è ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ψ–Ι –≤―΄–±–Ψ―Ä–Α –Η –Ϋ–Β―¹―É―â–Β–≥–Ψ –≤―¹―é –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ζ–Α –Ϋ–Β–≥–Ψ. –Ξ–Ψ―²―è ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Β―² –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è –Κ ―²–Β–Φ–Β ―¹―²–Α―²―¨–Η, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥―É –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ϋ–Β ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –≤ ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ ―à–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η ―É–Ε–Β –Ω―Ä–Ψ–Ζ–≤―É―΅–Α–Μ–Α ―³―Ä–Α–Ζ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è ―¹–≤–Ψ–¥–Η―² –≤―¹–Β –Ζ–Α–¥–Α―΅–Η ―à–Κ–Ψ–Μ―΄ –Κ ¬Ϊ–Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Β ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α, ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―΄–≥–Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–¥–Α―²―¨ ―¹–Β–±―è –Ϋ–Α ―Ä―΄–Ϋ–Κ–Β ―²―Ä―É–¥–Α¬Μ. –î―É–Φ–Α―é, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ–Φ ―ç–Κ―¹–Κ―É―Ä―¹ –≤ ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥―É –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η―²―¨.
–ß―²–Ψ –Κ–Α―¹–Α–Β―²―¹―è ―Ä–Α–≤–Β–Ϋ―¹―²–≤–Α, ―²–Ψ –Ψ –Ϋ–Β–Φ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¹―è –≤–Ϋ–Β ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―²–Β–Κ―¹―²–Α. –£ ―²–Ψ–Φ ―¹–Φ―΄―¹–Μ–Β, ―΅―²–Ψ –≤―¹–Β ―Ä–Α–≤–Ϋ―΄ –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ, ―É –≤―¹–Β―Ö ―΅–Μ–Β–Ϋ–Ψ–≤ –¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Α ―Ä–Α–≤–Ϋ―΄–Β –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –≠―²―É ―²–Β–Φ―É –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α―²―¨ –¥–Ψ –±–Β―¹–Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Α –≤―΄–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Α –Ζ–Α –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―΄ ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―²–Β–Κ―¹―²–Α –Η –≤ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ ―ç―²–Η–Φ –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Α –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―².
–Γ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ψ―â―É―â–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Μ–Η–≤–Ψ―¹―²–Η, –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, ―¹–Α–Φ–Ψ–Β –Η―¹–Κ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Β–Β; –Ψ–Ϋ–Ψ –Ω–Η―²–Α–Β―² ―¹―Ö–Ψ–¥–Κ–Η –Ϋ–Α –ë–Ψ–Μ–Ψ―²–Ϋ–Ψ–Ι –Η –Ϋ–Α –Γ–Α―Ö–Α―Ä–Ψ–≤–Α, –Ϋ–Ψ, –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹ ―ç―²–Η–Φ, ―ç―²–Η–Φ ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–Φ –Μ–Β–≥―΅–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ –Φ–Α–Ϋ–Η–Ω―É–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨. –î–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –Β―â–Β ―Ä–Α–Ζ –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Η–¥–Β―² –±–Ψ―Ä―¨–±–Α ―¹ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Ψ–Φ –Κ–Α–Κ ―²–Α–Κ–Ψ–≤―΄–Φ, –Α –¥–Μ―è ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –≤―¹–Β ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η. –ü–Α–¥–Β–Ϋ–Η–Β –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Α –Ω―Ä–Η–≤–Ψ–¥–Η―² –Κ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥―É –Ϋ–Β―¹―²–Α–±–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η , –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Α–Β―² –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±–Β―¹―Ö–Ψ–Ζ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β―² –Ω―Ä–Η–≤–Μ–Β–Κ–Α―²―¨ –Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö ―Ö–Ψ–Ζ―è–Β–≤.
–½–¥–Β―¹―¨ –Ω–Ψ―Ä–Α ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η―è –Ϋ–Β –Μ―é–±–Η―² –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―Ä–Β―²–Η–Κ–Η. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É ―΅―É―Ä–Α–Β―²―¹―è ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η–Κ–Η –Η ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö ―Ä–Α―¹―¹―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Ι. –· ―É–Ε–Β ―É–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Μ –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ, –Ω–Ψ –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―É―΅–Β–Ϋ―΄―Ö, ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Η―Ü–Α –≤ ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Η –Η–Ϋ―΄―Ö –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Α―Ö –Ζ–Α–Κ–Α–Ϋ―΅–Η–≤–Α–Β―²―¹―è ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α–¥ –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Ψ–Φ –Ω–Ψ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Ϋ–Β–Κ–Α―è ¬Ϊ―ç–Μ–Η―²–Α¬Μ. –≠―²–Ψ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Μ–Η–≤–Ψ–Β –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α–Ϋ–Η–Β, –Ϋ–Ψ –Ψ–Ϋ–Ψ ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Μ–Η–≤–Ψ –Μ–Η―à―¨ –Ψ―²―΅–Α―¹―²–Η, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ. –ù–Α―΅–Ϋ–Β–Φ ―¹ ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α. –£–Ψ –≤―¹–Β –≤–Β–Κ–Α –≤–Μ–Α―¹―²―¨ –±―΄–Μ–Α –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ ―É―è–Ζ–≤–Η–Φ–Α. –ù–Α –Ϋ–Β–Β –Μ―é–±–Η–Μ–Η –Ω–Ψ―¹―è–≥–Α―²―¨ ―²–Α–Κ –Ε–Β, –Κ–Α–Κ –Η –Ϋ–Α –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η. –£–Μ–Α–¥–Β–Μ―¨―Ü―΄ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η―Ö –¥–Β–Ϋ–Β–≥ –Ζ–Ϋ–Α―é―², ―΅―²–Ψ –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α ―¹–±–Β―Ä–Β―΅―¨ –Η―Ö ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Β–Β, ―΅–Β–Φ –Ζ–Α―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨, –Α ―²–Β, –Κ―²–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Μ –≤–Κ―É―¹ –≤–Μ–Α―¹―²–Η, –Ζ–Ϋ–Α―é―², ―΅―²–Ψ ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ–Ϋ –Ψ―²–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Β―²―¹―è –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è. –ü–Ψ―¹―è–≥–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ –Ϋ–Α –≤–Μ–Α―¹―²―¨ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―¹–≤–Β―¹―²–Η –Κ –Φ–Η–Ϋ–Η–Φ―É–Φ―É, –Ζ–Ϋ–Α―è –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Η–Φ–Β―é―â–Η–Β –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Β –Κ –¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η–Η –Η –≤–Μ–Α―¹―²–Η. –ù–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è –Ψ –¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η–Η, ―΅–Α―â–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Β–≤–Α―é―², ―΅―²–Ψ ―É ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α –Φ–Ψ–≥―É―² –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Α―²―¨ ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹―΄, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ψ–Ϋ –≤ –¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹―Ä–Β–¥–Β ―Ä–Β–Α–Μ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨ –Φ–Ψ–Ε–Β―², –Α –≤ –Ϋ–Β–¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―². –‰ ―²―É―² –Β―¹―²―¨ –Ψ–¥–Ϋ–Α –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Α―è ―²–Α–Ι–Ϋ–Α. –€–Β–Ϋ―è―é―²―¹―è –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α, –Φ–Β–Ϋ―è―é―²―¹―è ―²–Η–Ω―΄ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É―¹―²―Ä–Ψ–Ι―¹―²–≤–Α, –Ϋ–Ψ –Ψ―¹―²–Α–Β―²―¹―è –Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Ϋ–Η–Κ–Β–Φ –Ϋ–Β –Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ: –Β―¹–Μ–Η ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―² ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η―²―¨ –Ζ–Α ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –Ψ―² 15 –Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β–Ϋ―²–Ψ–≤ –Ψ―² –Ζ–Α―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Ϋ―É―² ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹―΄, ―²―Ä–Β–±―É―é―â–Η–Β –Ψ–±―ä–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Η, –≤ –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ–Φ ―¹―΅–Β―²–Β, –Ω–Ψ―¹―è–≥–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α –Ϋ–Α –≤–Μ–Α―¹―²―¨. –î―Ä―É–≥–Η–Φ–Η ―¹–Μ–Ψ–≤–Α–Φ–Η, –Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤ –¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η–Η –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Α–Β―² ―²–Ψ–≥–¥–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Φ–Ψ–Ε–Β―² ―Ä–Α―¹―¹―΅–Η―²―΄–≤–Α―²―¨ ―Ö–Ψ―²―è –±―΄ –Ϋ–Α –Ψ–¥–Ϋ―É ―à–Β―¹―²―É―é ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ζ–Α―Ä–Α–±–Α―²―΄–≤–Α–Β―². –ï―¹–Μ–Η –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ―É―é –Φ–Α―¹―¹―É –Ϋ–Α―¹–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è –¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨ –≤ ―ç―²–Η―Ö –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Α―Ö, ―²–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―É–≥–Ψ–¥–Ϋ–Ψ ―Ä–Α―¹―¹―É–Ε–¥–Α―²―¨ –Ψ –¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η–Η, –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É ―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ–Ϋ–Α –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Η–Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–≥–Ψ–¥–Η―²―¹―è. –ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ζ–Α ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è –Ω–Μ–Α―²–Η―²―¨ –Ϋ–Β–¥–Ψ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Ψ―¹―²―¨―é –≤–Ϋ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Β–≥–Ψ ―Ä―΄–Ϋ–Κ–Α –Η –Ϋ–Β–Ϋ–Α―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η–Κ–Η. –ù–Α―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η–Κ–Α βÄ™ ―²–Α–Κ–Α―è, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―²―Ä–Β―²–Η –Ζ–Α―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Μ–Α―²―΄ –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –¥–Μ―è –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β –Κ–Ψ–Φ―³–Ψ―Ä―²–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η, –Α –¥–≤–Β ―²―Ä–Β―²–Η –Η–¥―É―² –Ϋ–Α –Ϋ–Α–Κ–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –¥–Μ―è –Ω–Ψ–Κ―É–Ω–Κ–Η –Ω―Ä–Β–¥–Φ–Β―²–Ψ–≤ –¥–Μ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è (–Ψ–¥–Ϋ–Α ―²―Ä–Β―²―¨) –Η –¥–Μ―è –±–Ψ–Μ–Β–Β –Φ–Α―¹―à―²–Α–±–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Ψ–≤ (–¥–Μ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Α–Κ–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è). –‰–Ζ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α―²–Β–Φ –≤―΄―¹―²―Ä–Α–Η–≤–Α–Β―²―¹―è ―¹–Η―¹―²–Β–Φ–Α ―Ü–Β–Ϋ. –ù―É–Ε–Ϋ–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η―è –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η―² –Ϋ–Β ―²–Ψ–≥–¥–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η―² –Ϋ–Α –±–Α―Ä―Ä–Η–Κ–Α–¥―΄, –Α ―²–Ψ–≥–¥–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Φ–Β–Ϋ―è–Β―²―¹―è ―¹―²―Ä―É–Κ―²―É―Ä–Α ―Ü–Β–Ϋ. –€–Β–Ε–¥―É ―²–Β–Φ –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Φ –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥―è―² –≥–Ψ–¥―΄. –ï―¹–Μ–Η ―¹―Ä–Α–≤–Ϋ–Η–≤–Α―²―¨ ―¹ ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Φ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥–Ψ–Φ, ―²–Ψ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ ―¹―²―Ä―É–Κ―²―É―Ä–Α ―Ü–Β–Ϋ –Η–Ϋ–Α―è βÄ™ –≤–Ψ–¥–Κ–Α –Ω–Ψ–¥–Β―à–Β–≤–Β–Μ–Α, –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―²―΄ –Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–¥–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Α–Μ–Η.
–‰―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η, ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Μ–Η–±–Β―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―² –Ω―Ä–Η―à–Β–Μ –≤ –ï–≤―Ä–Ψ–Ω―É –Η–Ζ –Γ–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –®―²–Α―²–Ψ–≤ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –≤―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―ç―²–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄ –≤ –ü–Β―Ä–≤―É―é –Φ–Η―Ä–Ψ–≤―É―é –≤–Ψ–Ι–Ϋ―É –≤ 1917 –≥–Ψ–¥―É.. –£ –Ϋ–Β–Φ –Κ―Ä―É―²–Ψ –Ζ–Α–Φ–Β―à–Α–Ϋ―΄ –Η–¥–Β–Η, ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Η ―¹ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η –Ω―Ä–Ψ―²–Β―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ζ–Φ–Α, –Η―É–¥–Α–Η–Ζ–Φ–Α, –Η ―¹ ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Φ–Η –Ψ–±―â–Β―²–Β–Ψ―Ä–Β―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ–Η –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η, –Ψ–±―Ä–Β―²―à–Η–Φ–Η –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β ―΅–Β―Ä―²―΄ –≤ –Γ–®–ê. –ù–Ψ, –Ω–Ψ ―¹―É―²–Η ―¹–≤–Ψ–Β–Ι, ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―², –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η―² –Ψ–±―ä–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―²―É–Φ–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι –Ψ –¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η–Η ―¹ ―΅–Β―²–Κ–Ψ–Ι –Η–¥–Β–Β–Ι –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Α–≤–Η―²―¨ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –≤―¹―ë-―²–Α–Κ–Η –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η.
–ê ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –¥–≤–Β ―¹–Α–Φ―΄―Ö –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄―Ö –≤–Β―â–Η. –ü–Β―Ä–≤–Α―è. –£–Α–Φ –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –≤―΄ –Β–Ε–Β–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ–Ψ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É–Β―²–Β –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β–¥―É―Ä―É, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –≤ ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Β ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –≤―΄―¹―à–Η–Φ –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η–Η βÄ™ –≤―΄ –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹―É–Β―²–Β ―Ä―É–±–Μ–Β–Φ. –ö–Α–Ε–¥―΄–Ι ―Ä–Α–Ζ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤―΄ ―²―Ä–Α―²–Η―²–Β –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η, –≤―΄ –Ψ―²–¥–Α–Β―²–Β ―¹–≤–Ψ–Ι ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹ –Ζ–Α ―΅―²–Ψ-―²–Ψ, –Η –Ω–Ψ–Κ–Α ―ç―²–Ψ –Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –≤―¹–Β–≥–¥–Α ―¹ –≤–Α–Φ–Η. –£–Μ–Α―¹―²―¨, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Ϋ–Β ―Ä–Β–Α–≥–Η―Ä―É–Β―² –Ϋ–Α –Ω–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Β ―Ä―É–±–Μ―è, –≥–Μ―É―Ö–Α –Κ –≤–Α―à–Η–Φ ―΅–Α―è–Ϋ–Η―è–Φ –Η –Ϋ–Β ―Ö–Ψ―΅–Β―² ―¹–Μ―΄―à–Α―²―¨ –≤–Α―à –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹.
–£―²–Ψ―Ä–Α―è. –î–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η―è –≤ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Α –Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Η–≤–Α―²―¨―¹―è –Ω–Α―Ä―²–Η–Ι–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Η―¹―²–Β–Φ–Ψ–Ι –Η–Μ–Η ―¹–Η―¹―²–Β–Φ–Ψ–Ι –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Ι, –Ϋ–Ψ –Κ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ-–Μ–Η–±–Ψ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è –Κ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―é –Η–Φ–Β―²―¨ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―², –Κ–Α–Κ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―² –¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η―è –Ω―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –≤ –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹–Η–Μ–Α―Ö. –î–Α, –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Ψ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è―²―¨ –Ϋ–Β–Κ–Ψ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―¹―²–≤–Ψ –¥–Μ―è –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Η–≥―Ä, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Φ–Ψ–≥―É―² ―Ä–Β–Α–Μ–Η–Ζ–Ψ–≤―΄–≤–Α―²―¨―¹―è –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α –Ψ ―²–Ψ–Φ, –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ ―¹–Β–±―è –≤–Β―¹―²–Η –≤ ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―Ä–Β–¥–Β. –ù–Ψ, –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α―è –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨ –Ψ –¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η–Η, –Φ―΄ –Ω–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Η–Φ –Κ –Η–¥–Β–Β ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥―΄, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Η ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ψ–±–Μ–Α–¥–Α–Β―² ―²–Β–Φ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ –Ω–Ψ―²–Β–Ϋ―Ü–Η–Α–Μ–Ψ–Φ, ―΅–Β–Φ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ζ–Α–Ω―Ä–Β―²–Ψ–≤ –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Β –Ϋ–Α–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―¹―²–Η―²―É―Ü–Η–Β–Ι, –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Η–Μ–Η ―Ä–Β–Μ–Η–≥–Η–Ψ–Ζ–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Α–≤–Ψ–Φ. –Δ–Α–Κ, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –≤ –Ψ―Ä―²–Ψ–¥–Ψ–Κ―¹–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Η―É–¥–Α–Η–Ζ–Φ–Β ―¹–Η―¹―²–Β–Φ–Α –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –™–Α–Μ–Α―Ö–Α ―Ä–Α―¹―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α–Β―² –Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥―΄ –Κ–Α–Κ ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–± ―É–±–Β―Ä–Β―΅―¨ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥ –Ψ―² –Ϋ–Β–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Ϋ―΄―Ö, ―¹ ―²–Ψ―΅–Κ–Η –Ζ―Ä–Β–Ϋ–Η―è ―Ä–Β–Μ–Η–≥–Η–Η, –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι.
–ù–Ψ –≤ –Ϋ–Α―à–Β–Ι –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Ψ–Ι –Ω―¨–Β―¹–Β –Ω–Ψ―Ä–Α ―É–Ε–Β –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Ϋ―É―²―¨ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ –¥–Β–Ι―¹―²–≤―É―é―â–Η–Φ –Μ–Η―Ü–Α–Φ. –≠―²–Ψ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Ψ –Η –≤–Μ–Α―¹―²―¨, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ω―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤―É―é―â–Η–Β –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ –Ζ―Ä–Η―²–Β–Μ–Η –≤ –Μ–Η―Ü–Β –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ ―¹―΅–Η―²–Α―é―² ―²–≤–Ψ―Ä―Ü–Ψ–Φ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η. –û―²–Κ―É–¥–Α –±–Β―Ä–Β―²―¹―è –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Ψ, –Κ–Α–Κ –≤–Β–¥–Β―²―¹―è –≤ –Ϋ–Β–Φ –Η–¥–Β–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è –±–Ψ―Ä―¨–±–Α, –Κ–Α–Κ –Φ–Η―Ä–Η―²―¨ –≤–Β―΅–Ϋ―΄–Β ―É―¹―²―Ä–Β–Φ–Μ–Β–Ϋ–Η―è ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α ―¹ ―¹–Η―é–Φ–Η–Ϋ―É―²–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η–Β–Ι, –Η –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É –Κ–Α–Κ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –≤–Β–Μ–Η–Κ–Η–Ι –Κ–Ψ―Ä–Φ―΅–Η–Ι, –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Ψ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―² ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –±–Β–Ζ –≤–Ϋ–Β―à–Ϋ–Η―Ö –≤―Ä–Α–≥–Ψ–≤, –Φ―΄ ―Ä–Α―¹―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Η–Φ –≤ ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–Ι –≥–Μ–Α–≤–Β. –ê –≤ –Ζ–Α–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Η–Β ―ç―²–Ψ–Ι –≥–Μ–Α–≤―΄ ―¹–Α–Φ–Α―è ―²–Α–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è ―³―Ä–Α–Ζ–Α –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Η―²–Α–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Ε–¥―è: –¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η―è –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η―² –Η–Ζ –¥―É–Μ–Α –≤–Η–Ϋ―²–Ψ–≤–Κ–Η.
31 –Ψ–Κ―²―è–±―Ä―è 2013 –≥.
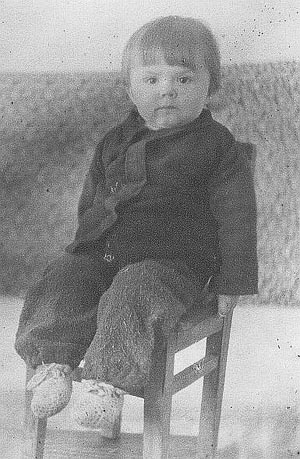
–Θ―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Ι –Η–Ϋ–Β–Ι
–‰–Ϋ–Β–Ι. –Γ–Ψ–Μ–Ϋ―Ü–Β. –û―â―É―â–Β–Ϋ–Η―è βÄî –Η―¹–Κ–Ψ―Ä–Κ–Η:
–£―¹–Ω―΄―Ö–Ϋ―É―², –Ω–Ψ–≥–Α―¹–Ϋ―É―², –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è―²―¹―è ―¹–≤–Β―²–Ψ–Φ.
–ù–Α―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α –Η–Μ–Η –≤―΄―¹―²–Α–≤–Κ–Η,
–½–Α–≤–Β―Ä―à–Α―é―â–Β–Ι―¹―è –≥―Ä–Α–Ϋ–¥–Η–Ψ–Ζ–Ϋ―΄–Φ ―³―É―Ä―à–Β―²–Ψ–Φ.
–î–Β–Ϋ―¨ ―Ä–Α―¹―²―è–≥–Η–≤–Α–Β―²―¹―è –≤ –Ψ–¥–Ϋ―É ―É–Μ―΄–±–Κ―É,
–û–Ϋ –¥–Ψ–≤–Β―Ä―è–Β―² ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É ―΅―É―²―¨―é,
–‰–Ϋ–Β―é –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è, ―΅―²–Ψ ―¹–≤–Β―² βÄ™ –Μ–Η–Ω–Κ–Η–Ι
–‰ –±–Β–Ζ–Ε–Α–Μ–Ψ―¹―²–Ϋ―΄–Ι, –Ϋ―É, ―Ö–Ψ―²―è –±―΄ ―΅―É―²―¨-―΅―É―²―¨.
–‰ –≤ ―ç―²–Ψ –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Ψ–Β ―΅―É―²―¨-―΅―É―²―¨
–ü–Ψ–Φ–Β―â–Α―é―¹―¨ ―è –Η –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Α―à–Η –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Η,
–ï―â―ë –Φ–Η–≥ –Η –≤―¹―ë, ―΅―²–Ψ ―è ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è ―Ö–Ψ―΅―É,
–Γ–±―É–¥–Β―²―¹―è. –Ξ–Ψ―²―è –Φ–Η–≥ –Ϋ–Β –≤–Β―΅–Β–Ϋ.
–û―² –Η–Ϋ–Β―è ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ –Ϋ–Β –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Β―²―¹―è –Η ―¹–Μ–Β–¥–Α,
–û―â―É―â–Β–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α ―É–Ι–¥–Β―², –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Η–≤―à–Η―¹―¨,
–£―¹―ë –≥―Ä–Ψ–Φ―΅–Β –¥–Ψ–Ε–¥―¨, –Ω―Ä–Η―à–Β–¥―à–Η–Ι ―¹―é–¥–Α,
–‰ ―¹–≤–Β―² –Ζ–Α –Ψ–Κ–Ϋ–Ψ–Φ –≤―¹―ë ―²–Η―à–Β.
2 –Ϋ–Ψ―è–±―Ä―è 2013 –≥.





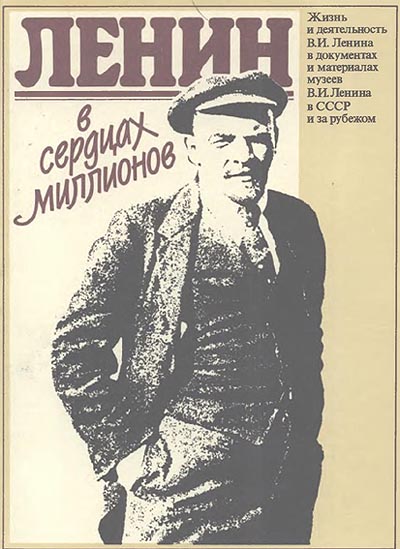



.jpg)


