–ë–Α–Ϋ–Ϋ–Β―Ä

–‰―²–Ψ–≥–Ψ–≤―΄–Ι ―³–Η–Μ―¨–Φ ―³–Ψ―Ä―É–Φ–Α "–ê―Ä–Φ–Η―è-2024": –£–Η–¥–Β–Ψ–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ–Η–Κ –Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–≤–Α―Ü–Η–Ι
|
–£―¹–Κ–Ψ―Ä–Φ–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹ –Κ–Ψ–Ω―¨―è
0
02.05.201514:1202.05.2015 14:12:04
–≠―²–Ψ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Φ―ë―Ä―²–≤―΄–Φ, ―ç―²–Ψ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –Ε–Η–≤―΄–Φ!
–£ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Α–Ω―Ä–Β–Μ―è ―²–Β–Κ―É―â–Β–≥–Ψ –≥–Ψ–¥–Α –Ω–Ψ–±―΄–≤–Α–Μ –≤ –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –ö–Η―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η–Η, –Ω–Ψ―¹–≤―è―â―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –≥–Β―Ä–Ψ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Β ¬Ϊ–©-408¬Μ. –£ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ–Α–Φ–Η –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ―à–Η–Φ–Η –≤ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ –Η–Ϋ–Η―Ü–Η–Α―²–Η–≤–Ψ–Ι –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Ι –Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, ―Ä–Β―à–Η–Μ –¥–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²―¨ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ –Ψ–Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ϋ–Β–Β ¬Ϊ–ù–Β ―¹–Κ–Α–Ε―É―² –Ϋ–Η –Κ–Α–Φ–Β–Ϋ―¨, –Ϋ–Η –Κ―Ä–Β―¹―², –≥–¥–Β –Μ–Β–≥–Μ–Η...¬Μ.
–‰―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨ 111 –Μ–Β―² ―¹–Ψ –¥–Ϋ―è –Π―É―¹–Η–Φ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η―è, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Ψ ―³–Η–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―É―é ―²―Ä–Α–≥–Η―΅–Β―¹–Κ―É―é ―²–Ψ―΅–Κ―É –≤ –†―É―¹―¹–Κ–Ψ-―è–Ω–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Β. –ê –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α―¹―¨ ―²–Α, –Ϋ–Β―É–¥–Α―΅–Ϋ–Α―è –¥–Μ―è –†–Ψ―¹―¹–Η–Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Κ–Α–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η―è ―¹ –¥―Ä―É–≥–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η―è - –Ϋ–Β―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±–Ψ―è, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ–Η –≤ –±―É―Ö―²–Β –ß–Β–Φ―É–Μ―¨–Ω–Ψ 27 ―è–Ϋ–≤–Α―Ä―è 1904 –≥–Ψ–¥–Α –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä ¬Ϊ–£–Α―Ä―è–≥¬Μ –Η –Κ–Α–Ϋ–Ψ–Ϋ–Β―Ä―¹–Κ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α ¬Ϊ–ö–Ψ―Ä–Β–Β―Ü¬Μ. –ü–Ψ–¥–≤–Η–≥ ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η―Ö –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ―΅–Μ–Η –Ζ–Α―²–Ψ–Ω–Η―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β ―¹–¥–Α―²―¨―¹―è –≤―Ä–Α–≥―É, –≤–Ω–Η―¹–Α–Ϋ –Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²―΄–Φ–Η –±―É–Κ–≤–Α–Φ–Η –≤ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―é –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α. –ù–Ψ –Φ–Α–Μ–Ψ –Κ―²–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Β―², ―΅―²–Ψ –≤ –≥–Ψ–¥―΄ –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ ―ç―²–Ψ―² –Ω–Ψ–¥–≤–Η–≥ –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä–Η–Μ–Η ―²―Ä–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α βÄ™ ¬Ϊ–Γ-3¬Μ, ¬Ϊ–€-83¬Μ –Η ¬Ϊ–©-408¬Μ. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Η–Β –Ψ―² ¬Ϊ–£–Α―Ä―è–≥–Α¬Μ –≥–Β―Ä–Ψ–Η–Ζ–Φ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Ι –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Ψ―¹―²–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α –†–Ψ–¥–Η–Ϋ–Β –Ϋ–Β–Ζ–Α–Φ–Β―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ, –Ϋ–Η –≤ –≥–Ψ–¥―΄ –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄, –Ϋ–Η ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Α –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²―¹―è –Ψ―²–Φ–Β―²–Η―²―¨ ―¹–Β–Φ–Η–¥–Β―¹―è―²–Η–Μ–Β―²–Η–Β –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –ü–Ψ–±–Β–¥―΄.

–ö–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Φ–Η―΅–Β–≤ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅
23 –Η―é–Ϋ―è, –Ζ–Α ―΅–Α―¹ –¥–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É–Ϋ–Ψ―΅–Η, –Ϋ–Β –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–≤ ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―² –Η, –Ϋ–Β –Η–Φ–Β―è –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Α―²―¨―¹―è, , –Ω–Ψ–¥ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –≤―΄―à–Μ–Α –Η–Ζ –¦–Η–±–Α–≤―΄. –ö―Ä–Ψ–Φ–Β ―à―²–Α―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –Ϋ–Α –Β―ë –±–Ψ―Ä―²―É –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε –ü–¦ "–Γ-1" (38 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ), –≤–Ζ–Ψ―Ä–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Α–Κ–Α–Ϋ―É–Ϋ–Β, –Η ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η–Β –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Α "–Δ–Ψ―¹–Φ–Α―Ä–Β" (–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ 20 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ). –û–Κ–Ψ–Μ–Ψ 6 ―΅–Α―¹–Ψ–≤ ―É―²―Ä–Α 24 –Η―é–Ϋ―è –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Α –±―΄–Μ–Α –Ω–Β―Ä–Β―Ö–≤–Α―΅–Β–Ϋ–Α –≥–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ–Η ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄–Φ–Η –Κ–Α―²–Β―Ä–Α–Φ–Η "S-35" –Η "S-60" –Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ω–Ψ–Μ―É―²–Ψ―Ä–Α―΅–Α―¹–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –±–Ψ―è –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Α. –ù–Β–Φ―Ü―΄ ―Ä–Α―¹―¹―²―Ä–Β–Μ–Η–≤–Α–Μ–Η –Μ―é–¥–Β–Ι, –Ω–Μ–Α–≤–Α―é―â–Η―Ö –≤ –≤–Ψ–¥–Β. –Δ–Β–Μ–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ω―Ä–Η–±–Η–Μ–Ψ –Κ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤―É –Γ–Α–Α―Ä–Β–Φ–Α–Α, –≥–¥–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ―Ö–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β–Ϋ–Ψ.


25 –Η―é–Ϋ―è , –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–≤―à–Α―è –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è, –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―²–Η–Μ–Α―¹―¨ ―¹ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–¥–Α–Ϋ–Η―è –≤ –¦–Η–±–Α–≤―É. –£ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β ―É–Ε–Β ―à–Μ–Η ―É–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Β –±–Ψ–Η. –‰–Ζ –Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―Ä―É–¥–Η―è ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε –Ψ―²–Κ―Ä―΄–Μ –Ψ–≥–Ψ–Ϋ―¨ –Ω–Ψ –≤―Ä–Α–Ε–Β―¹–Κ–Η–Φ ―¹–Ψ–Μ–¥–Α―²–Α–Φ. –ê –Κ–Ψ–≥–¥–Α –±–Ψ–Β–Ω―Ä–Η–Ω–Α―¹―΄ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ–Η―¹―¨, –Ϋ–Β –Ε–Β–Μ–Α―è ―¹–¥–Α–≤–Α―²―¨ –Μ–Ψ–¥–Κ―É –≤―Ä–Α–≥―É, –Β–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –≤–Ζ–Ψ―Ä–≤–Α―²―¨ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –Ϋ–Α –≥–Μ–Α–Ζ–Α―Ö ―É –≤―Ä–Α–≥–Α. –£–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –≤ –±–Ψ―è―Ö –Ϋ–Α ―¹―É―à–Β –Ω–Ψ–≥–Η–±–Μ–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Ϋ―¹―²–≤–Ψ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅–Β―²―΄―Ä–Β ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α –≤―΄–Ε–Η–Μ–Η –Η ―¹―É–Φ–Β–Μ–Η –Ω–Β―Ä–Β–Ι―²–Η –Μ–Η–Ϋ–Η―é ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Α. –û–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö, ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ –ê–Ϋ―²–Η–Ω–Ψ–≤ –ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η–Ι –Δ–Η―Ö–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅, ―¹―²–Α–≤―à–Η–Ι –≤–Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Η –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Ω–Μ ¬Ϊ–€-96¬Μ, –Ω–Ψ–≥–Η–± 8 ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä―è 1944 –≥–Ψ–¥–Α –Ω―Ä–Η ―³–Ψ―Ä―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Ψ–Ι –Φ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –≤ –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Β.

25 –Φ–Α―è 1943 –≥–Ψ–¥–Α , –Ω–Ψ–¥ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ , ―²―Ä–Ψ–Β ―¹―É―²–Ψ–Κ –Ω―΄―²–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ω―Ä–Β–Ψ–¥–Ψ–Μ–Β―²―¨ –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η–Β ―¹–Β―²–Η –Η –Φ–Η–Ϋ―΄, –≤―΄―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –£–Α–Ι–Ϋ–¥–Μ–Ψ –Ϋ–Α –Ω―É―²–Η –Η–Ζ –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α –≤ –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä–Β. –ê–Κ–Κ―É–Φ―É–Μ―è―²–Ψ―Ä–Ϋ–Α―è –±–Α―²–Α―Ä–Β―è ―Ä–Α–Ζ―Ä―è–¥–Η–Μ–Α―¹―¨, –Ζ–Α–Ω–Α―¹―΄ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Α –Η―¹―¹―è–Κ–Μ–Η, –Μ―é–¥–Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η –Ζ–Α–¥―΄―Ö–Α―²―¨―¹―è –Η ―²–Β―Ä―è―²―¨ ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Β. –‰–Ζ ―²–Ψ–Ω–Μ–Η–≤–Ϋ―΄―Ö ―Ü–Η―¹―²–Β―Ä–Ϋ, –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤–Ζ―Ä―΄–≤–Α–Φ–Η –Φ–Η–Ϋ, –Ϋ–Α –Ω–Ψ–≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤―¹–Ω–Μ―΄–≤–Α–Μ–Η –Η –Μ–Ψ–Ω–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ω―É–Ζ―΄―Ä–Η ―¹–Ψ–Μ―è―Ä–Α. –ü–Ψ ―ç―²–Η–Φ –Ω―è―²–Ϋ–Α–Φ –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ―É –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–Μ–Η –≤―Ä–Α–Ε–Β―¹–Κ–Η–Β –Α–≤–Η–Α―Ü–Η―è –Η –Κ–Α―²–Β―Ä–Α. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –ü–Α–≤–Β–Μ –ö―É–Ζ―¨–Φ–Η–Ϋ, ―É―Ä–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ü –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –™―Ä–Ψ–Ζ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, ―Ä–Β―à–Η–Μ –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨ –Ψ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤―à–Β–Φ―¹―è ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ϋ―΄–Ι –Ω―É–Ϋ–Κ―² ―³–Μ–Ψ―²–Α.
–Π–Η―¹―²–Β―Ä–Ϋ―΄ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±–Α–Μ–Μ–Α―¹―²–Α –±―΄–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ–¥―É―²―΄, –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –≤―¹–Ω–Μ―΄–Μ–Α. –ï―ë ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ε–Β –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Η–Μ–Η –Κ–Α―²–Β―Ä–Α –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –Η –Ψ―²–Κ―Ä―΄–Μ–Η –Ω–Ψ –Ϋ–Β–Ι –Ψ–≥–Ψ–Ϋ―¨. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ –Η –≤―΄–Ζ–≤–Α–Μ –Ϋ–Α –Ω–Α–Μ―É–±―É –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι ―Ä–Α―¹―΅–Β―². –¦–Ψ–¥–Κ–Α, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―è―¹―¨ –≤ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η, –≤―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Α –≤ –Ϋ–Β―Ä–Α–≤–Ϋ―΄–Ι –±–Ψ–Ι. –ê –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥ ―É―à–Μ–Α ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Α ―¹ –Ω―Ä–Ψ―¹―¨–±–Ψ–Ι ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η―¹–Μ–Α―²―¨ ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²―΄. –Γ ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Η―Ö –Α―ç―Ä–Ψ–¥―Ä–Ψ–Φ–Ψ–≤ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ –≤―΄–Μ–Β―²–Β–Μ–Η ―²―Ä–Η –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ 71-–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Κ–Α, ―΅–Β―²―΄―Ä–Β –Ϋ–Α―à–Η―Ö ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Α –±―΄–Μ–Η ―¹–±–Η―²―΄, –Ϋ–Ψ ―É―¹–Η–Μ–Η―è –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Φ–Η - –Μ–Β―²―΅–Η–Κ–Η –Ψ–Ω–Ψ–Ζ–¥–Α–Μ–Η. ―¹–Φ–Ψ–≥–Μ–Α –Ω–Ψ―Ä–Α–Ζ–Η―²―¨ –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Η–Φ –Ψ–≥–Ϋ–Β–Φ –¥–≤–Α –Κ–Α―²–Β―Ä–Α –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α. –ê –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―¹–Ϋ–Α―Ä―è–¥―΄ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ–Η―¹―¨, ―É―à–Μ–Α –Ω–Ψ–¥ –≤–Ψ–¥―É, –Ϋ–Β ―¹–Ω―É―¹―²–Η–≤ ―³–Μ–Α–≥–Α.

–ë–Ψ–Ι –©-408 ―¹ –Κ–Α―²–Β―Ä–Α–Φ–Η. –Ξ―É–¥. –‰.–†–Ψ–¥–Η–Ψ–Ϋ–Ψ–≤
–ü–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Η ¬Ϊ–Γ-3¬Μ, ¬Ϊ–€-83¬Μ –Η ¬Ϊ–©-408¬Μ –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä–Η–Μ–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Η–≥–Η –Μ–Β–≥–Β–Ϋ–¥–Α―Ä–Ϋ―΄―Ö ¬Ϊ–£–Α―Ä―è–≥–Α¬Μ, ¬Ϊ–ö–Ψ―Ä–Β–Ι―Ü–Α¬Μ –Η ¬Ϊ–î–Φ–Η―²―Ä–Η―è –î–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ¬Μ. –ù–Ψ –Η―Ö –≥–Β―Ä–Ψ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Η –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Η –Ψ―²–Φ–Β―΅–Β–Ϋ―΄ ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Φ–Η –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥–Α–Φ–Η. –Θ–¥–Η–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Ϋ–Β―¹–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Μ–Η–≤–Ψ―¹―²―¨! –½–Α―²–Ψ –≥–Β―Ä–Ψ–Η–Ζ–Φ ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Α –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Η–Μ–ΗβÄΠ –≤ –ê–Ϋ–≥–Μ–Η–Η. –ö–Ψ―Ä–Ψ–Μ―¨ –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–±―Ä–Η―²–Α–Ϋ–Η–Η –™–Β–Ψ―Ä–≥ VI –≤ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β 1944 –≥–Ψ–¥―É –Ω–Ψ―¹–Φ–Β―Ä―²–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥–Η–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α ¬Ϊ–©-408¬Μ –ü–Α–≤–Μ–Α –ö―É–Ζ―¨–Φ–Η–Ϋ–Α –Ζ–Α –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Η–≥ –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Ψ–Φ –ë―Ä–Η―²–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Η–Φ–Ω–Β―Ä–Η–Η. –ü―Ä–Η–≤–Ψ–Ε―É ―²–Β–Κ―¹―² –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Α:

–™–Β–Ψ―Ä–≥ –†.–‰.
–™–Β–Ψ―Ä–≥ VI, –ë–Ψ–Ε―¨–Β–Ι –€–Η–Μ–Ψ―¹―²―¨―é –ö–Ψ―Ä–Ψ–Μ―¨ –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–±―Ä–Η―²–Α–Ϋ–Η–Η, –‰―Ä–Μ–Α–Ϋ–¥–Η–Η –Η –ë―Ä–Η―²–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –≤–Μ–Α–¥–Β–Ϋ–Η–Ι –Ζ–Α –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Α–Φ–Η –ë―Ä–Η―²–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Ψ–≤, –½–Α―â–Η―²–Ϋ–Η–Κ –Γ–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Μ–Η–≤–Ψ―¹―²–Η, –‰–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä –‰–Ϋ–¥–Η–Η –Η –Γ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ –Γ–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –‰―¹–Κ–Μ―é―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –û―Ä–¥–Β–Ϋ–Α –ë―Ä–Η―²–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –‰–Φ–Ω–Β―Ä–Η–Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ―É-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²―É –ü–Α–≤–Μ―É –Γ–Β–Φ–Β–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅―É –ö―É–Ζ―¨–Φ–Η–Ϋ―É
–ü–†–‰–£–ï–Δ–Γ–Δ–£–‰–ï
–ù–Α―¹―²–Ψ―è―â–Η–Φ –€―΄ ―¹―΅–Η―²–Α–Β–Φ ―É–Φ–Β―¹―²–Ϋ―΄–Φ –Ϋ–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –Η –Ω―Ä–Η―¹―É–¥–Η―²―¨ –£–Α–Φ –½–≤–Α–Ϋ–Η–Β –ü–Ψ―΅–Β―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –ß–Μ–Β–Ϋ–Α –ù–Α―à–Β–Ι –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –î–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –Γ–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –‰―¹–Κ–Μ―é―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –û―Ä–¥–Β–Ϋ–Α –ë―Ä–Η―²–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –‰–Φ–Ω–Β―Ä–Η–Η. –ù–Α―¹―²–Ψ―è―â–Η–Φ –€―΄ –Ω―Ä–Η―¹―É–Ε–¥–Α–Β–Φ –£–Α–Φ –½–≤–Α–Ϋ–Η–Β –ü–Ψ―΅–Β―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –ß–Μ–Β–Ϋ–Α –≤―΄―à–Β―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –û―Ä–¥–Β–Ϋ–Α –Η –Ϋ–Α–¥–Β–Μ―è–Β–Φ –£–Α―¹ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Φ–Ψ―΅–Η―è–Φ–Η –Ψ–±–Μ–Α–¥–Α―²―¨ –Η –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –€–Ϋ–Ψ―é –ß–Β―¹―²―¨―é –Η –Δ–Η―²―É–Μ–Ψ–Φ –ü–Ψ―΅–Β―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±–Μ–Α–¥–Α―²–Β–Μ―è ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –€–Ϋ–Ψ―é –û―Ä–¥–Β–Ϋ–Α –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹–Ψ –≤―¹–Β–Φ–Η –≤–Ζ―è―²―΄–Φ–Η –≤–Φ–Β―¹―²–Β –Η –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω―Ä–Η–≤–Η–Μ–Β–≥–Η―è–Φ–Η –Ω―Ä–Η–Ϋ–Α–¥–Μ–Β–Ε–Α―â–Η–Φ–Η –Η–Μ–Η –Ω–Ψ–¥―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Β–≤–Α―é―â–Η–Φ–Η―¹―è. –£―΄–¥–Α–Ϋ–Ψ –≤ ―¹―É–¥–Β –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –Γ–Α–Ϋ–Κ―² –î–Ε–Β–Ι–Φ―¹ –Η ―¹–Κ―Ä–Β–Ω–Μ–Β–Ϋ–Ψ –ù–Α―à–Β–Ι ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–Ω–Η―¹―¨―é –Η –Ω–Β―΅–Α―²―¨―é ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –û―Ä–¥–Β–Ϋ–Α.
–î–Β–≤―è―²–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²–Ψ–≥–Ψ ―è–Ϋ–≤–Α―Ä―è 1944 –≥–Ψ–¥–Α –≤ –£–Ψ―¹―¨–Φ–Ψ–Ι –≥–Ψ–¥ –ù–Α―à–Β–≥–Ψ –ü―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è.
–ü–Ψ –ü–Ψ–≤–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―é –Γ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Α
–€―ç―Ä–Η–Μ –†.
–£–Β–Μ–Η–Κ–Η–Ι –€–Α–≥–Η―¹―²―Ä
–ü―Ä–Β–¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η―è –ü–Ψ―΅–Β―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –ß–Μ–Β–Ϋ–Α –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –î–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –û―Ä–¥–Β–Ϋ–Α –ë―Ä–Η―²–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –‰–Φ–Ω–Β―Ä–Η–Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ―É –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²―É –ü–Α–≤–Μ―É –Γ–Β–Φ–Β–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅―É –ö―É–Ζ―¨–Φ–Η–Ϋ―É.
–ù―΄–Ϋ–Β –Α–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η―²―¹―è ―É –£–Α–Μ–Β―Ä–Η―è –ö―É–Ζ―¨–Φ–Η–Ϋ–Α, ―¹―΄–Ϋ–Α –≥–Β―Ä–Ψ―è-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α, –Ε–Η–≤―É―â–Β–≥–Ψ –≤ –Γ–Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Φ –ë–Ψ―Ä―É. –£–Α–Μ–Β―Ä–Η–Ι –Μ–Η―à–Η–Μ―¹―è –Ψ―²―Ü–Α, –±―É–¥―É―΅–Η ―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Κ–Ψ–Φ, –Φ–Α–Μ–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Μ –Ψ –Ϋ–Β–Φ, –Ϋ–Ψ ―Ä–Β―à–Η–Μ ―¹–≤―è–Ζ–Α―²―¨ ―¹–≤–Ψ―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ ―¹ –Φ–Ψ―Ä–Β–Φ βÄ™ ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ –Ϋ–Α –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –Ϋ–Α –Γ–Β–≤–Β―Ä–Β. –ê ―¹―΄–Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Μ –ü–Α–≤–Μ–Ψ–Φ. –ü–Α–≤–Β–Μ –ö―É–Ζ―¨–Φ–Η–Ϋ βÄ™ –Φ–Μ–Α–¥―à–Η–Ι ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ –Ϋ–Α ―³–Μ–Ψ―²–Β –Η, –Κ–Α–Κ –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –¥–Β–¥, –Ϋ–Ψ―¹–Η―² –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ - –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―². –£ 1965 –≥–Ψ–¥―É –Η–Φ―è –Φ―É–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ ―É–Μ–Η―Ü –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α. –ü―Ä–Η―¹–Κ–Ψ―Ä–±–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Η –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Ι –Γ–Ψ―é–Ζ, –Ϋ–Η ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –†–Ψ―¹―¹–Η―è ―²–Α–Κ –Η –Ϋ–Β –≤–Ψ–Ζ–¥–Α–Μ–Η –Ω–Ψ –Ζ–Α―¹–Μ―É–≥–Α–Φ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Α–Φ, –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä–Η–≤―à–Η–Φ –Ω–Ψ–¥–≤–Η–≥ –≥–Β―Ä–Ψ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α.
–£ 504 ―à–Κ–Ψ–Μ–Β –ö–Η―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Μ–Β―² ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Β―² –€–Β–Φ–Ψ―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ζ–Α–Μ –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Μ–Α–≤―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ¬Ϊ–©-408¬Μ. –û–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―É―é ―Ä–Α–±–Ψ―²―É –Ω–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Ω–Α―²―Ä–Η–Ψ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ―É –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η―é ―à–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥―è―² –Ζ–Α–≤―É―΅ ―à–Κ–Ψ–Μ―΄ –€–Α―Ä–Η–Ϋ–Α –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Ϋ–Α –¦―É–Κ–Η–Ϋ–Α, –Ω–Β–¥–Α–≥–Ψ–≥–Η –Η ―É―΅–Α―â–Η–Β―¹―è. –£―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Η ―ç―²–Ψ–Ι ―à–Κ–Ψ–Μ―΄ 1985 –≥–Ψ–¥–Α –€–Α–Κ―¹–Η–Φ –ü―É―¹–Μ–Η―¹, –ö–Η―Ä–Η–Μ–Μ –€–Ψ–Μ–Ψ–¥―Ü–Ψ–≤ –Η –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –®―É–Φ–Η–Μ–Ψ–≤, –Ω―Ä–Η –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Κ–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹–Β–¥–Α―²–Β–Μ―è –Γ–Ψ–≤–Β―²–Α –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ö–Μ―É–±–Α –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Η –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ–Ψ–≤ –£–€–Λ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –‰–≥–Ψ―Ä―è –ö–Η―Ä–Η–Μ–Μ–Ψ–≤–Η―΅–Α –ö―É―Ä–¥–Η–Ϋ–Α, ―¹–Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Η―²―¨―¹―è ―¹ –Ψ―Ä–Η–≥–Η–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Α–Φ–Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η. –û–Ϋ–Η –≤―΄―è―¹–Ϋ–Η–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Η –ü–Α–≤–Μ–Α –ö―É–Ζ―¨–Φ–Η–Ϋ–Α –±―Ä–Η―²–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Ψ–Φ –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Α–Ϋ–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Η–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –ù–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ–Α―² –Η–Ϋ–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –¥–Β–Μ –≤ –ë―Ä–Η―²–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –€–‰–î. –ü–Ψ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Α–Φ ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ ―ç―²–Ψ–Ι –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ–Β–Ι –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Ψ―Ä –Ω–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥―¹–Κ–Ψ–Ι ―à–Κ–Ψ–Μ―΄ ⳕ 504, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―É―΅–Α―²―¹―è –¥–Β―²–Η, –Ω―Ä–Ψ–Ε–Η–≤–Α―é―â–Η–Β –Ϋ–Α ―É–Μ–Η―Ü–Β –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α –ö―É–Ζ―¨–Φ–Η–Ϋ–Α, –ù–Α―²–Α–Μ―¨―è –£–Η―²–Α–Μ―¨–Β–≤–Ϋ–Α –£–Η–Ϋ–Ψ–≥―Ä–Α–¥–Ψ–≤–Α –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Α –Ω–Η―¹―¨–Φ–Ψ –≤ –€–Η–Ϋ–Η―¹―²–Β―Ä―¹―²–≤–Ψ –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –†–Λ ―¹ –Ω―Ä–Ψ―¹―¨–±–Ψ–Ι –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥–Η―²―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Η –≤–Β―¹―¨ –≥–Β―Ä–Ψ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –©-408 ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Η–Φ–Η –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Α–Φ–Η. –ù–Α–Κ–Α–Ϋ―É–Ϋ–Β 70-–Μ–Β―²–Η―è –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –ü–Ψ–±–Β–¥―΄ –Γ–Ψ–≤–Β―² –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ö–Μ―É–±–Α –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Η –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ–Ψ–≤ –£–€–Λ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨ ―Ö–Ψ–¥–Α―²–Α–Ι―¹―²–≤–Ψ –†–Β–≥–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –û–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ–Ψ–≤ - –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Η –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–Κ―²–Η–≤–Α ―à–Κ–Ψ–Μ―΄.
–û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ, –≤ –Ψ―²–≤–Β―²–Β, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Η–Ζ –€–Η–Ϋ–Η―¹―²–Β―Ä―¹―²–≤–Α –û–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –†–Λ, –Ψ―² 20 –Α–Ω―Ä–Β–Μ―è 2015 –≥–Ψ–¥–Α ⳕ 173\ 3 \ 3530–ü –±―΄–Μ–Ψ –Ψ―²–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ψ –≤ ―É–¥–Ψ–≤–Μ–Β―²–≤–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Η–Η ―Ö–Ψ–¥–Α―²–Α–Ι―¹―²–≤–Α. –ü―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ―²–Κ–Α–Ζ–Α ―è–≤–Η–Μ―¹―è ―²–Ψ―² ―³–Α–Κ―², ―΅―²–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –≥–Ψ–¥―É –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Ψ –≤ 1943 –≥–Ψ–¥―É –≥–Β―Ä–Ψ–Β–≤ –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ¬Ϊ–£–Α―Ä―è–≥–Α¬Μ –Κ –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―é –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥–Α–Φ–Η. –£ –Ω–Η―¹―¨–Φ–Β ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Α–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Ψ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄.
–Ξ–Ψ―΅―É –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ ―¹–Ω―É―¹―²―è –Ω―è―²―¨–¥–Β―¹―è―² –Μ–Β―² –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―²―Ä–Α–≥–Β–¥–Η–Η –†―É―¹―¹–Κ–Ψ-–·–Ω–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –≤ –Ε–Η–≤―΄―Ö –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Β―â–Β 45 ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Η–≥–Α ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Ι ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –≤ ―²―Ä–Α–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ ―¹―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Ω–Ψ–¥ –ß–Β–Φ―É–Μ―¨–Ω–Ψ. –£―¹–Β–Φ –Η–Φ –≤ –Ζ–Ϋ–Α–Κ –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è –Η―Ö –≥–Β―Ä–Ψ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Η–≥–Α, –≤ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ –Ω–Ψ–Μ―É–≤–Β–Κ–Ψ–≤―΄–Φ ―é–±–Η–Μ–Β–Β–Φ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è, –≤ 1954 –≥–Ψ–¥―É –±―΄–Μ–Η –≤―Ä―É―΅–Β–Ϋ―΄ ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Β –Φ–Β–¥–Α–Μ–Η βÄ€–½–Α –Ψ―²–≤–Α–≥―ÉβÄù. –ù–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Η–Ζ βÄ€–≤–Α―Ä―è–Ε―Ü–Β–≤βÄù –≤ 1905 –≥–Ψ–¥―É –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β –≤ –≤–Ψ―¹―¹―²–Α–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Α –±―Ä–Ψ–Ϋ–Β–Ϋ–Ψ―¹―Ü–Β βÄ€–ü–Ψ―²―ë–Φ–Κ–Η–ΫβÄù. –Γ–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤ 1955 –≥–Ψ–¥―É, –≤ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ 50-–Μ–Β―²–Η–Β–Φ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è, –Η–Φ –±―΄–Μ–Η –≤―Ä―É―΅–Β–Ϋ―΄ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥―΄, –Ϋ–Ψ ―É–Ε–Β –Ϋ–Β –Φ–Β–¥–Α–Μ–Η, –Α –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Α –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ι –½–≤–Β–Ζ–¥―΄. –Δ–Α–Κ, –±―΄–≤―à–Η–Ι –Κ–Ψ―΅–Β–≥–Α―Ä βÄ€–£–Α―Ä―è–≥–ΑβÄù –ü–Β―²―Ä –ï–≥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –ü–Ψ–Μ―è–Κ–Ψ–≤ –±―΄–Μ –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ –≤ 1954 –≥–Ψ–¥―É –Φ–Β–¥–Α–Μ―¨―é βÄ€–½–Α –Ψ―²–≤–Α–≥―ÉβÄù, –Α –≤ 1955 (–Κ–Α–Κ βÄ€–ü–Ψ―²―ë–Φ–Κ–Η–Ϋ–Β―ÜβÄù) –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ι –½–≤–Β–Ζ–¥―΄. –≠―²–Η ―¹–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ψ–Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Ψ–≤–Α–Ϋ―΄ –Γ.–£.–ß―É―Ö–Ψ–Ϋ―Ü–Β–≤―΄–Φ –Ϋ–Α ―¹–Α–Ι―²–Β flot.com

–Γ–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–≤–Α―é―¹―¨, ―΅―²–Ψ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¨ - –Η–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –£―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ –≥–Β―Ä–Ψ–Β–≤ ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ βÄ™ ―è–Ω–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –Κ –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―é ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Φ–Η –Φ–Β–¥–Α–Μ―è–Φ–Η –Η –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Α–Φ–Η.
–€–Ψ–Ι ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â, –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Ψ―Ä, –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ–Η–Ι –™–Α–≤―Ä–Η–Μ–Ψ–≤–Η―΅ –Θ–≤–Α―Ä–Ψ–≤, –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–≤―à–Η–Ι ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β –≤ –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Η –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Β–≤ –Η–Ζ –Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–≤ –®–Ψ―²–Μ–Α–Ϋ–¥–Η–Η –Η –‰―¹–Μ–Α–Ϋ–¥–Η–Η –≤ –Ω–Ψ―Ä―²―΄ –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –½–Α–Ω–Ψ–Μ―è―Ä―¨―è –≤ –≥–Ψ–¥―΄ –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄, –Ω–Η―¹–Α–Μ –≤ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è―Ö, ―΅―²–Ψ ―¹―É–¥–Α –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-―¹―²―Ä–Α―²–Β–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –≥―Ä―É–Ζ―΄ –Η –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η–Β, –Ω―Ä–Β–Ψ–¥–Ψ–Μ–Β–≤–Α―è ―à―²–Ψ―Ä–Φ –Η –Α―²–Α–Κ–Η –≤―Ä–Α–Ε–Β―¹–Κ–Η―Ö ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―²–Ψ–≤ –Η –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι. –ù–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α –Ω–Ψ―²–Β―Ä–Η, –≤ –€―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ, –ê―Ä―Ö–Α–Ϋ–≥–Β–Μ―¨―¹–Κ –Η –€–Ψ–Μ–Ψ―²–Ψ–≤―¹–Κ –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ 41 –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Ι –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Β 722 ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Ϋ―΄―Ö ―¹―É–¥–Ψ–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Η –±–Ψ–Μ–Β–Β 4 –Φ–Μ–Ϋ. ―²–Ψ–Ϋ–Ϋ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-―¹―²―Ä–Α―²–Β–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –≥―Ä―É–Ζ–Ψ–≤ –Η –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η―è. –ü―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ ―¹–Ψ―é–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Η –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–Μ–Η –±–Ψ–Μ–Β–Β 90 ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–≤. –ü―É―΅–Η–Ϋ–Α –Ψ―²–Ψ–±―Ä–Α–Μ–Α –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ ―É 3000 –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤ –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Β–≤. –£―¹–Β ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Β –≤–Ψ–Η–Ϋ―΄, ―É―΅–Α―¹―²–≤―É―é―â–Η–Β –≤ –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Β–≤ –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ―΄ –Φ–Β–¥–Α–Μ―¨―é ¬Ϊ–½–Α –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―É –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –½–Α–Ω–Ψ–Μ―è―Ä―¨―è¬Μ. –£ 1991 –≥–Ψ–¥―É –Ω―Ä–Η –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Β ―¹ –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Α–Φ–Η –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Β–≤, –ê.–™.–Θ–≤–Α―Ä–Ψ–≤ ―É–Ζ–Ϋ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ―΄ –Ζ–Α ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β –≤ –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è―Ö –Ϋ–Α –Φ–Ψ―Ä–Β.
–ü–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α―è –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ―é―é –Ϋ–Β―¹–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Μ–Η–≤–Ψ―¹―²―¨ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤―à–Β–≥–Ψ―¹―è –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è, –û–±―ä–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―² –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ–Ψ–≤-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –≤–Ψ –≥–Μ–Α–≤–Β ―¹ –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹–Β–¥–Α―²–Β–Μ–Β–Φ, –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Ψ–Φ –¦―¨–≤–Ψ–Φ –î–Α–≤―΄–¥–Ψ–≤–Η―΅–Β–Φ –ß–Β―Ä–Ϋ–Α–≤–Η–Ϋ―΄–Φ –≤―΄―à–Β–Μ ―¹ –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥–Η―²―¨ –Ϋ–Α―à–Η―Ö –±―΄–≤―à–Η―Ö ―¹–Ψ―é–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤. –ù–Ψ ―¹―²–Α―²―É―² ―ç―²–Ψ–Ι –Φ–Β–¥–Α–Μ–Η, –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–¥―É―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α–Μ –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Η–Ϋ–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ―΄ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η –Ω–Η―¹―¨–Φ–Ψ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤―É ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄ ―¹ –Ω―Ä–Ψ―¹―¨–±–Ψ–Ι ―Ä–Β―à–Η―²―¨ ―ç―²―É –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ―É.
–ö ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Ϋ–Η―é –Ψ―²–≤–Β―²–Α –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Α–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ. –ï–Ε–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α―è ―¹ 2005 –≥–Ψ–¥–Α, –Ϋ–Α–Κ–Α–Ϋ―É–Ϋ–Β –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö –¥–Ϋ–Β–Ι –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Μ–Α–≤―΄, ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α –Φ–Α―¹―¹–Ψ–≤–Ψ–Ι –Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η–Η, –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ―΄ –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Μ–Η –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ–Β –Η ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Μ–Η–≤–Ψ–Β ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Η –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Ψ.
–Θ–Κ–Α–Ζ–Α–Φ–Η –ü―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Β–Ϋ―²–Ψ–≤ –†–Λ –≤ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ ―¹ 27.4.2012 –Ω–Ψ 5 –Φ–Α―Ä―²–Α 2015 –≥–Ψ–¥–Α 3584 –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–±―Ä–Η―²–Α–Ϋ–Η–Η, –Γ–®–ê, –ö–Α–Ϋ–Α–¥―΄, –ê–≤―¹―²―Ä–Α–Μ–Η–Η –Η –ù–Ψ–≤–Ψ–Ι –½–Β–Μ–Α–Ϋ–¥–Η–Η –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ―΄ ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι ¬Ϊ–€–Β–¥–Α–Μ―¨―é –Θ―à–Α–Κ–Ψ–≤–Α¬Μ.
–½–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–¥–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–±―Ä–Η―²–Α–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–Β―² –Β―ë –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ–Α–Φ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α―²―¨ –Η–Ϋ–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥―΄. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –≤ 2013 –≥–Ψ–¥―É, ―΅–Β―Ä–Β–Ζ 68 –Μ–Β―² –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η―è –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄, –¥–Μ―è –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Β–≤ –≤ ―ç―²–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β ―É―΅―Ä–Β–¥–Η–Μ–Η . –ö ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Ϋ–Η―é, –Ζ–Α ―ç―²–Η –≥–Ψ–¥―΄ ―É―à–Μ–Η –Η–Ζ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –±–Ψ–Μ–Β–Β 18000 –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤, ―É―Ü–Β–Μ–Β–≤―à–Η―Ö –≤ –≥–Ψ–¥―΄ –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄. –ë―Ä–Η―²–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Β –Ω―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ ―Ä–Α―¹–Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Η–Μ–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Η –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ–Ψ–≤ –Η –Ϋ–Α –Μ―é–¥–Β–Ι, –Ϋ–Β –¥–Ψ–Ε–Η–≤―à–Η―Ö –¥–Ψ ―É―΅―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥―΄. –ü―Ä–Β–¥―É―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α―΅–Α –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥ –Η―Ö –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ–Κ–Α–Φ –≥–Β―Ä–Ψ–Β–≤.
–· –Ω―Ä–Η–≤―ë–Μ ―ç―²–Η –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β, ―΅―²–Ψ –±―΄ –Ω–Ψ –Ω―Ä–Β―Ü–Β–¥–Β–Ϋ―²―É, ―é―Ä–Η–¥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Κ–Α–Ζ―É―¹―É, –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Ι ¬Ϊ–Γ-3¬Μ, ¬Ϊ–€-83¬Μ –Η ¬Ϊ–©-408¬Μ ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Η–Φ–Η –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥–Α–Φ–Η. –£ –≥–Ψ–¥―΄ –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Β –Ω–Ψ–≥–Η–±–Μ–Η 38 –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –Ϋ–Α –ß―ë―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β βÄ™ 25, –Ϋ–Α –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Β βÄ™ 23, –Ϋ–Α –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Β βÄ™ 4 –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η. 3632 ―΅–Μ–Β–Ϋ–Α ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Ι ―ç―²–Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι ―¹–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Η –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―΄ –≤ –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Β. –≠―²–Ψ –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Φ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β, ―΅–Β–Φ –Ψ―¹―²–Α–≤―à–Η–Β―¹―è –≤ –Ε–Η–≤―΄―Ö ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Η –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Β–≤, –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Η–Φ–Η –Φ–Β–¥–Α–Μ―è–Φ–Η. –ü–Ψ–Μ–Α–≥–Α―é, ―΅―²–Ψ –Α–±―¹–Ψ–Μ―é―²–Ϋ–Ψ –≤―¹–Β –Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Η–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –±―΄―²―¨ –Ψ―²–Φ–Β―΅–Β–Ϋ―΄ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥–Α–Φ–Η. –€–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨ ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² ―É―΅―Ä–Β–¥–Η―²―¨ –Ψ―¹–Ψ–±―É―é –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥―É –≤–Ψ–Η–Ϋ–Α–Φ, –Ψ―²–¥–Α–≤―à–Η–Φ –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –≤ –±–Η―²–≤–Β ―¹ –≤―Ä–Α–≥–Ψ–Φ –Η–Μ–Η ―É–Φ–Β―Ä―à–Η–Φ –Ψ―² ―Ä–Α–Ϋ, –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α―²―¨ –Β―ë ¬Ϊ–ü–Ψ–≥–Η–±―à–Η–Ι –Ζ–Α –†–Ψ–¥–Η–Ϋ―É¬Μ, –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–≤–Α―²―¨ –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ –Η–Μ–Η –Φ–Β–¥–Α–Μ―¨ –≤ –Η―Ö ―¹–Β–Φ―¨–Η –¥–Μ―è –≤–Β―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è, ―¹ –Ω―Ä–Α–≤–Ψ–Φ –Η―Ö –Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è –Ψ―²―Ü–Α–Φ–Η, –Φ–Α―²–Β―Ä―è–Φ–Η, –Ε―ë–Ϋ–Α–Φ–Η, –¥–Β―²―¨–Φ–Η –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Φ–Η –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ–Κ–Α–Φ–Η –≥–Β―Ä–Ψ–Β–≤.
–≠―²–Ψ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Φ―ë―Ä―²–≤―΄–Φ! –≠―²–Ψ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –Ε–Η–≤―΄–Φ!
–€–Α―Ä–Κ –ö–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ–≤, –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –≤ –Ψ―²―¹―²–Α–≤–Κ–Β
02.05.201514:1202.05.2015 14:12:04
0
02.05.201513:3402.05.2015 13:34:51
βÄ™ –ü―É―¹―²―¨ –Μ―É―΅―à–Β –Ϋ–Β –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α–Β―²―¹―è. –ù–Η –Ζ–Α ―΅―²–Ψ –Ζ–Α –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ι–¥―É! βÄ™ –≥―Ä–Ψ–Φ–Κ–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α –€–Α―Ä―É―¹―è –Η –≤–¥―Ä―É–≥ –≤―¹―Ö–Μ–Η–Ω–Ϋ―É–Μ–Α.
–ù–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β―² ―Ö―É–Ε–Β –¥–Β–≤–Η―΅―¨–Η―Ö ―¹–Μ–Β–Ζ; ―è –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ –Κ–Α–Κ–Η–Β-―²–Ψ ―É―²–Β―à–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―¹–Μ–Ψ–≤–Α, –≥–Μ–Α–¥–Η–Μ –±–Μ–Β–¥–Ϋ―É―é –€–Α―Ä―É―¹–Η–Ϋ―É ―Ä―É–Κ―É –Η ―¹–Α–Φ –≥–Ψ―²–Ψ–≤ –±―΄–Μ –Ζ–Α―Ä–Β–≤–Β―²―¨ –Ψ―² –Ψ―²―΅–Α―è–Ϋ―¨―è, –Κ–Α–Κ –≤–¥―Ä―É–≥ –Φ–Β–Ϋ―è –Ψ―¹–Β–Ϋ–Η–Μ–Α –¥–Ψ–≥–Α–¥–Κ–Α.
βÄ™ –€–Α―Ä―É―¹―è!.. –ê –≤–Β–¥―¨ ―²―΄ –Β–≥–Ψ –Μ―é–±–Η―à―¨,βÄ™ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ ―è –Η –Ω–Ψ―Ä–Α–Ζ–Η–Μ―¹―è –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É ―ç―²–Η–Φ–Η ―¹–Μ–Ψ–≤–Α–Φ–Η ―ç―³―³–Β–Κ―²―É. –€–Α―Ä―É―¹―è ―¹–Β–Μ–Α, –Ψ–Ω–Β―Ä–Μ–Α―¹―¨ ―Ä―É–Κ–Α–Φ–Η –Ψ –Ζ–Β–Φ–Μ―é, –Ω–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ–Α –Ϋ–Α –Φ–Β–Ϋ―è ―¹ ―É–¥–Η–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α–Μ–Α –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –≤―΄―²–Β―Ä–Μ–Α –Ω–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ψ–Φ –Φ–Ψ–Κ―Ä–Ψ–Β –Μ–Η―Ü–Ψ –Η ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ:
βÄ™ –î–Α, –Μ―é–±–Μ―é... –ü–Ψ–Β–¥–Β–Φ –Ψ–±―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ βÄ™ ―É–Ε–Β ―¹–≤–Β―²–Α–Β―².
–· –Ψ―²–≤–Β–Ζ –€–Α―Ä―É―¹―é –Ω―Ä―è–Φ–Ψ –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι, –Κ –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–¥–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Ι –±―É–¥–Κ–Β, –≥–¥–Β –Ψ–Ϋ–Α –Ε–Η–Μ–Α ―¹ –Ψ―²―Ü–Ψ–Φ βÄ™ –Ω―É―²–Β–≤―΄–Φ –Ψ–±―Ö–Ψ–¥―΅–Η–Κ–Ψ–Φ –Η –Φ–Μ–Α–¥―à–Β–Ι ―¹–Β―¹―²―Ä–Β–Ϋ–Κ–Ψ–Ι –£–Β―Ä–Κ–Ψ–Ι. –· –Ω–Ψ–Ε–Β–Μ–Α–Μ –€–Α―Ä―É―¹–Β ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ϋ–Α –Η –¥–Α–Ε–Β –Η–Ζ–≤–Η–Ϋ–Η–Μ―¹―è –Ζ–Α ―¹–≤–Ψ―é –Ϋ–Β―¹–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨.
βÄ™ –ë―Ä–Ψ―¹―¨ ―²―΄!.. –ü–Ψ–¥―É–Φ–Α–Β―à―¨, –Ϋ–Β–≤–Η–¥–Α–Μ―¨ βÄ™ –Ω–Ψ―Ü–Β–Μ–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ―Ä–Α–Ζ–Ψ–Κ,βÄ™ –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ–Α –€–Α―Ä―É―¹―è –Η –Ζ–Β–≤–Ϋ―É–Μ–Α.
–£ –¥–Β―Ä–Β–≤–Ϋ–Β, ―É –Ψ–Ω―É―¹―²–Β–≤―à–Β–≥–Ψ –Κ–Μ―É–±–Α, –Φ–Β–Ϋ―è –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ –ë–Ψ―Ä―¨–Κ–Α –½–Α–±–Ψ―²–Κ–Η–Ϋ, –Κ―Ä–Β–Ω–Κ–Η–Ι –±–Β–Μ–Ψ–≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―΄–Ι –Ω–Α―Ä–Β–Ϋ―¨, –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Η–Ι –Ϋ–Α –±―Ä–Α―²–Α, –Ϋ–Ψ ―²―Ä―É―¹–Μ–Η–≤―΄–Ι –Η –Ε–Α–¥–Ϋ―΄–Ι.
βÄ™ –Δ―΄ –Ζ–Ϋ–Α–Β―à―¨, ―΅―²–Ψ –€–Α―Ä―É―¹―¨–Κ–Α βÄ™ –±―Ä–Α―²–Α–Ϋ–Α –Φ–Ψ–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β–≤–Β―¹―²–Α? βÄ™ ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –Ψ–Ϋ, –Ϋ–Α–¥–≤–Η–≥–Α―è―¹―¨ –Ϋ–Α –Φ–Β–Ϋ―è –Μ–Β–≤―΄–Φ –Ω–Μ–Β―΅–Ψ–Φ.
βÄ™ –ü―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Φ, –Ζ–Ϋ–Α―é,βÄ™ –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ ―è –Η –Ω―Ä–Η―¹–Μ–Ψ–Ϋ–Η–Μ –Κ ―¹―²–Β–Ϋ–Β –Κ–Μ―É–±–Α.
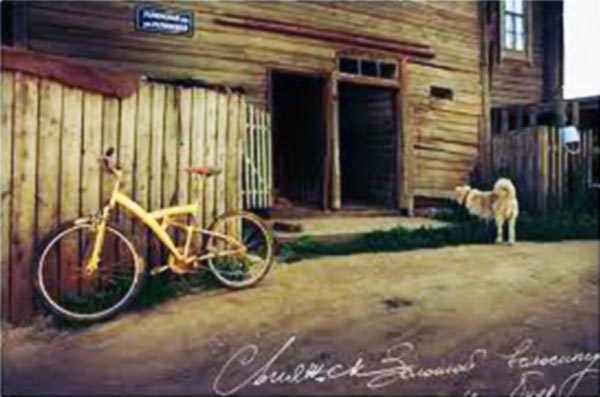
βÄ™ –ê ―²–Β–±–Β –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Φ―΄ –¥–Β–Μ–Α–Β–Φ ―¹ –Ω―Ä–Η–Β–Ζ–Ε–Η–Φ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω–Ψ―¹―è–≥–Α―é―²?
–ù–Α ―΅―²–Ψ ¬Ϊ–Ω–Ψ―¹―è–≥–Α―é―²¬Μ –Ω―Ä–Η–Β–Ζ–Ε–Η–Β, –ë–Ψ―Ä–Η―¹ –Φ–Ϋ–Β –Ϋ–Β ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Η–Μ: –Η–Ζ ―²–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É–≥–Μ–Α ―²–Β―Ä―Ä–Α―¹―΄ –≤―΄―à–Μ–Α, –Ω–Ψ―à–Α―²―΄–≤–Α―è―¹―¨, –Ϋ–Β–Μ–Β–Ω–Α―è ―³–Η–≥―É―Ä–Α –≤ –±–Β–Μ–Ψ–Ι ―Ä―É–±–Α―à–Κ–Β –Η –Ω–Ψ–¥–Ψ―à–Μ–Α –Κ –Ϋ–Α–Φ.
βÄ™ –€–Η―²―è, –Ω–Ψ–Κ–Α–Ε–Η ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â―É, ―΅―²–Ψ –Φ―΄ –¥–Β–Μ–Α–Β–Φ ―¹ ―²–Β–Φ–Η, –Κ―²–Ψ –Ω–Ψ―¹―è–≥–Α–Β―²,βÄ™ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –ë–Ψ―Ä–Η―¹.
–· ―É–Ζ–Ϋ–Α–Μ –Ζ–Α–Κ–Α–¥―΄―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥―Ä―É–Ε–Κ–Α –Η ―¹–Ψ―¹–Β–¥–Α –±―Ä–Α―²―¨–Β–≤ –½–Α–±–Ψ―²–Κ–Η–Ϋ―΄―Ö βÄ™ –€–Η―²―¨–Κ―É –ë–Β–Μ–Ψ–≥–Μ–Α–Ζ–Ψ–≤–Α. –û–Ϋ –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ω–Α–Μ―¹―è –≤ –Κ–Α―Ä–Φ–Α–Ϋ–Α―Ö –≥―Ä―è–Ζ–Ϋ―΄―Ö –±―Ä―é–Κ, –≤―΄―²–Α―â–Η–Μ ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –Η –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Β―¹ –Κ –Φ–Ψ–Β–Φ―É –Μ–Η―Ü―É. –· ―Ä–Α–Ζ–≥–Μ―è–¥–Β–Μ ―Ä–Ε–Α–≤―΄–Ι –Ω–Μ–Ψ―¹–Κ–Η–Ι ―à―²―΄–Κ –Ψ―² –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Ψ–Ι –≤–Η–Ϋ―²–Ψ–≤–Κ–Η, –Ζ–Α–Ζ―É–±―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Η ―¹ –Ψ―²–Μ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Ψ–Φ. –· –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Α –≥―Ä―è–Ζ–Ϋ–Α―è ―²―É–Ω–Α―è –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Κ–Α –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ζ–Η―²―¨―¹―è –≤ –Φ–Ψ–Β ―²–Β–Μ–Ψ,βÄ™ –Η –Ϋ–Β–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ―²―¹―²―É–Ω–Η–Μ –Ϋ–Α ―à–Α–≥.
βÄ™ –ë–Β–Ι –Β–≥–Ψ, –€–Η―²―è–Ι!.. –¦―É–Ω―Ü―É–Ι!βÄ™ –Ζ–Α–Ψ―Ä–Α–Μ –ë–Ψ―Ä–Η―¹, –±―Ä–Ψ―¹–Α―è―¹―¨ –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η –Η ―Ö–≤–Α―²–Α―è –Φ–Β–Ϋ―è –Ζ–Α –Ϋ–Ψ–≥–Η. –· –Μ–Β–≥–Κ–Ψ –Ψ―²–Ω―Ä―΄–≥–Ϋ―É–Μ –≤ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―É, –€–Η―²―¨–Κ–Α ―à–Α–≥–Ϋ―É–Μ –Κ–Ψ –Φ–Ϋ–Β, ―¹–Ω–Ψ―²–Κ–Ϋ―É–Μ―¹―è, –Ϋ–Β ―É–¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ–≤–Β―¹–Η―è –Η ―É–Ω–Α–Μ, –Ω―Ä–Η–¥–Α–≤–Η–≤ –≤–Ψ–Ω―è―â–Β–≥–Ψ –ë–Ψ―Ä–Η―¹–Α. –· –Ϋ–Β ―¹―²–Α–Μ –¥–Ψ–Ε–Η–¥–Α―²―¨―¹―è, –Ω–Ψ–Κ–Α –Ψ–Ϋ–Η –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ―É―²―¹―è, –≤―¹–Κ–Ψ―΅–Η–Μ –Ϋ–Α –≤–Β–Μ–Ψ―¹–Η–Ω–Β–¥ –Η ―É–Β―Ö–Α–Μ, –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–Α–Β–Φ―΄–Ι ―¹–≤–Η―¹―²–Ψ–Φ –Η ―Ä―É–≥–Α–Ϋ―¨―é.
–£―¹―é ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â―É―é –Ϋ–Ψ―΅―¨ ―è ―΅–Η―²–Α―é. –ù–Α ―¹―²–Ψ–Μ–Β –Ω–Β―Ä–Β–¥–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Α―Ö–Ψ―²–Κ–Α ―¹ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Ψ–Φ –Η –Μ–Ψ–Φ–Ψ―²―¨ ―΅―É―²―¨ –Κ–Η―¹–Μ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ ―Ö–Μ–Β–±–Α ―¹ –Ω―Ä–Η―¹―²–Α–≤―à–Η–Φ–Η –Κ –Κ–Ψ―Ä–Κ–Β ―É–≥–Ψ–Μ―¨–Κ–Α–Φ–Η. –ù–Ψ―΅–Ϋ―΄–Β –±–Α–±–Ψ―΅–Κ–Η –±―¨―é―²―¹―è –Ψ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ω―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―¹―²–Β–Κ–Μ–Ψ ―¹–Β–Φ–Η–Μ–Η–Ϋ–Β–Ι–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Β―Ä–Ψ―¹–Η–Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Μ–Α–Φ–Ω―΄. –£–Ψ –¥–≤–Ψ―Ä–Β –Ω–Β―Ä–Β―Ä―É–≥–Η–≤–Α–Β―²―¹―è ―¹ –Κ―É―Ä–Α–Φ–Η –±–Β―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ―΄–Ι –Ω–Β―²―É―Ö: –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ, –±–Ψ–Η―²―¹―è –Ω―Ä–Ψ―¹–Ω–Α―²―¨ –Ω–Β―Ä–Β–Κ–Μ–Η―΅–Κ―É. –™–¥–Β-―²–Ψ –≤ –Ω–Ψ–Μ―è―Ö ―΅―É―²―¨ ―¹–Μ―΄―à–Ϋ–Ψ –Ω–Η–Μ–Η―² ¬Ϊ―¹―²―Ä–Α–¥–Α–Ϋ–Η―è¬Μ –≥–Α―Ä–Φ–Ψ―à–Κ–Α.
–· –Ω–Β―Ä–Β―΅–Η―²―΄–≤–Α―é ¬Ϊ–û―¹―²―Ä–Ψ–≤ ―¹–Ψ–Κ―Ä–Ψ–≤–Η―â¬Μ –Η ¬Ϊ–ß–Β―Ä–Ϋ―É―é ―¹―²―Ä–Β–Μ―É¬Μ –Γ―²–Η–≤–Β–Ϋ―¹–Ψ–Ϋ–Α, –Ω–Β―Ä–Β–Μ–Η―¹―²―΄–≤–Α―é –Ω―É―Ö–Μ―΄–Β ―²–Ψ–Φ–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Α –î―é–Φ–Α. –Ξ–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Η –Μ–Β–≥–Κ–Ψ ―΅–Η―²–Α―²―¨ ―ç―²–Η –Κ–Ϋ–Η–≥–Η: –Ζ–Α―Ä–Α–Ϋ–Β–Β –Ζ–Ϋ–Α–Β―à―¨, ―΅―²–Ψ ―¹ –Μ―é–±–Η–Φ―΄–Φ –≥–Β―Ä–Ψ–Β–Φ –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Μ―É―΅–Η―²―¹―è. –ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Β–Φ―É –±―É–¥–Β―² ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ; –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ψ–Ϋ –≤ ―Ä–Α–Ζ–Μ―É–Κ–Β ―¹ –Ϋ–Β–≤–Β―¹―²–Ψ–Ι. –ù–Α–≤–Β―Ä–Ϋ―è–Κ–Α –Β–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ―è―² –Η–Μ–Η –Ψ–Ϋ –±―É–¥–Β―² ―É–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ ―Ä–Β–≤―É―â–Η–Φ –Ω–Ψ―²–Ψ–Κ–Ψ–Φ. –ù–Ψ –Ϋ–Β –≤–Ψ–Μ–Ϋ―É–Ι―²–Β―¹―¨, –Ψ–Ϋ –≤―¹–Β ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ –≤―΄–Ω–Μ―΄–≤–Β―² –≤ –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Μ–Α–≤–Β, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―²―¨ ―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Α –≤―¹–Β –Ζ–Β–Φ–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Η –Ζ–Α ―¹–≤–Ψ–Η ―¹―²―Ä–Α–¥–Α–Ϋ–Η―è.
–ê ―¹–Α–Φ–Ψ–Β –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β, ―΅―²–Ψ –≤ ―ç―²–Η―Ö –Κ–Ϋ–Η–≥–Α―Ö –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Α ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Α―è –≥―Ä–Α–Ϋ―¨ –Φ–Β–Ε–¥―É ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Φ –Η –Ω–Μ–Ψ―Ö–Η–Φ, –Ζ–Μ―΄–Φ –Η –¥–Ψ–±―Ä―΄–Φ, –Φ–Β–Ε–¥―É ―΅–Β―¹―²―¨―é –Η –±–Β―¹―΅–Β―¹―²―¨–Β–Φ, –Ϋ–Β–Ϋ–Α–≤–Η―¹―²―¨―é –Η –Μ―é–±–Ψ–≤―¨―é, –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–¥–Β―²–Β–Μ―¨―é –Η –Ζ–Μ–Ψ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–Φ. –ê –≤ –Φ–Ψ–Β–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –≤―¹–Β –Ϋ–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η –Ω–Β―¹―²―Ä–Ψ, –Κ–Α–Κ –≤ –Κ–Α–Μ–Β–Ι–¥–Ψ―¹–Κ–Ψ–Ω–Β, –Η ―¹–Φ―É―²–Ϋ–Ψ, –Κ–Α–Κ –≤ ―¹―É–Φ–Β―Ä–Κ–Α―Ö.

–· –Ϋ–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―΄–Μ ―Ü–Β–Μ–Ψ–≤–Α―²―¨ –€–Α―Ä―É―¹―é, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β―΅–Β―¹―²–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―é –Κ –¦–Η–¥–Β. –ù–Ψ ―è –≤―¹–Β –Ε–Β –Ω–Ψ―Ü–Β–Μ–Ψ–≤–Α–Μ,βÄ™ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―², –¦–Η–¥―É ―è –Ϋ–Β –Μ―é–±–Μ―é. –ê –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, –≤―¹–Β –Ε–Β –Μ―é–±–Μ―é?
–· –≥–Α―à―É ―¹–≤–Β―² –Η –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –Μ–Β–Ε―É ―¹ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²―΄–Φ–Η –≥–Μ–Α–Ζ–Α–Φ–Η, ―¹―²–Α―Ä–Α―è―¹―¨ –Ω–Ψ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ ―É–≥―Ä―΄–Ζ–Β–Ϋ–Η―è ―¹–Ψ–≤–Β―¹―²–Η; –Η―Ö –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É-―²–Ψ –Ϋ–Β―².
¬Ϊ–ê –≤―¹–Β-―²–Α–Κ–Η ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ, ―΅―²–Ψ –±–Α–±―É―à–Κ–Α –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–¥–Α–Μ–Α –≤–Β–Μ–Ψ―¹–Η–Ω–Β–¥¬Μ,βÄ™ –¥―É–Φ–Α―é ―è, –Ζ–Α―¹―΄–Ω–Α―è.
–£ –≠–Δ–û–€ –Δ–£–û–· –Θ–î–ê–ß–ê!
–Δ–Β–Μ–Β–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Α –Ω―Ä–Η―à–Μ–Α –Ϋ–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ. –· ―¹–Η–¥–Β–Μ –Ϋ–Α –Κ―Ä―΄–Μ―¨―Ü–Β, –Ω–Η–Μ ―΅–Α–Ι ―¹ –≤–Η―à–Ϋ–Β–≤―΄–Φ –≤–Α―Ä–Β–Ϋ―¨–Β–Φ, –≤―΄–Ω–Μ–Β–≤―΄–≤–Α―è –Κ–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Κ–Η –≤ ―¹–Η―Ä–Β–Ϋ–Β–≤―΄–Ι –Κ―É―¹―². –ë–Α–±―É―à–Κ–Α –≤―΄―²–Α―¹–Κ–Η–≤–Α–Μ–Α –Η –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Α –≤―΄―²–Α―â–Η―²―¨ –Η–Ζ-–Ω–Ψ–¥ –Κ―É―΅–Η ―Ö–≤–Ψ―Ä–Ψ―¹―²–Α –¥–Μ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–≥–Ψ ―Ü―΄–Ω–Μ–Β–Ϋ–Κ–Α ―¹ –Β–¥–≤–Α –Ϋ–Α–Φ–Β―²–Η–≤―à–Η–Φ―¹―è –≥―Ä–Β–±–Β―à–Κ–Ψ–Φ –Ϋ–Α –≤–Β―Ä―²–Μ―è–≤–Ψ–Ι –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Κ–Β. –Π―΄–Ω–Μ–Β–Ϋ–Ψ–Κ –Ψ―Ä–Α–Μ –Ϋ–Α–¥―¹–Α–¥–Ϋ―΄–Φ –Κ–≤–Α–Κ–Α―é―â–Η–Φ –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹–Ψ–Φ. –· ―Ö–Ψ―²–Β–Μ –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―΅―¨ –Η–Φ –Ψ–±–Ψ–Η–Φ βÄ™ ―Ü―΄–Ω–Μ–Β–Ϋ–Κ―É –Η –±–Α–±―É―à–Κ–Β, –Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Ϋ–Ζ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, ―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ ―¹―²–Β–Κ–Μ–Ψ –Ω–Ψ–¥ –Ϋ–Ψ–Ε–Ψ–Φ, ―¹–Κ―Ä–Η–Ω–Ϋ―É–Μ–Α –≤–¥―Ä―É–≥ –Κ–Α–Μ–Η―²–Κ–Α, –Η ―²–Ψ–Μ―¹―²–Α―è, –Ω–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Α―è –Ϋ–Α ―¹–Ψ―Ä–Ψ–Κ–Α–≤–Β–¥–Β―Ä–Ϋ―É―é –±–Ψ―΅–Κ―É ―²–Β―²–Κ–Α –ö―É–±―΄―à–Α, –±–Β―¹―¹–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –¥–Β―Ä–Β–≤–Β–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Ψ―΅―²–Α–Μ―¨–Ψ–Ϋ, –Ζ–Α–≥–Ψ–Μ–Ψ―¹–Η–Μ–Α –Ϋ–Α –≤–Β―¹―¨ ―¹–Α–¥:
βÄ™ –ë–Α–±–Κ–Α –¦―é–±–Α!.. –Δ―É―² ―²–≤–Ψ–Β–Φ―É –£–Ψ–≤–Κ–Β ―²–Β–Μ–Β–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Α ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Α―è!

–ö―É–±―΄―à–Α –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ –≤–Η–¥–Β–Μ–Α, ―΅―²–Ψ ―è ―¹–Η–Ε―É –Ϋ–Α –Κ―Ä―΄–Μ―¨―Ü–Β, –Ϋ–Ψ –≤―¹–Β –Ε–Β –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É-―²–Ψ ―¹–Ψ―΅–Μ–Α –Ϋ―É–Ε–Ϋ―΄–Φ –Ψ–Ω–Ψ–≤–Β―¹―²–Η―²―¨ –Ψ ―²–Β–Μ–Β–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Β –±–Α–±―É―à–Κ―É –Η –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Ψ―¹–Β–¥–Ϋ–Η―Ö –¥–Ψ–Φ–Ψ–≤. –· ―Ä–Α―¹–Ω–Η―¹–Α–Μ―¹―è –≥–¥–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ψ –Η, –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–≤ –Ω–Β―Ä–Β–¥ ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –Ζ–Α–Κ–Μ–Β–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –±–Μ–Α–Ϋ–Κ, –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ ―΅–Α–Β–Ω–Η―²–Η–Β. –Π―΄–Ω–Μ–Β–Ϋ–Ψ–Κ –≤―΄–Ω―É―²–Α–Μ―¹―è –Η ―É–±–Β–Ε–Α–Μ, –Ω–Ψ–Ω–Η―¹–Κ–Η–≤–Α―è, –Ζ–Α ―É–≥–Ψ–Μ –¥–Ψ–Φ–Α. –ö―É–±―΄―à–Α –Ψ―²–Β―Ä–Μ–Α ―Ä―É–Κ–Α–≤–Ψ–Φ ―Ä―΄–Ε–Β–≥–Ψ –Ψ―² ―¹―²–Α―Ä–Ψ―¹―²–Η –Ω–Η–¥–Ε–Α–Κ–Α –Ψ–±–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ―² ―¹ –Μ–Η―Ü–Α –Η ―É―¹–Β–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α –≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Β–Ι ―¹―²―É–Ω–Β–Ϋ―¨–Κ–Β –Κ―Ä―΄–Μ―¨―Ü–Α.
–ü–Ψ–¥–Ψ―à–Μ–Α –±–Α–±―É―à–Κ–Α, –Ω―Ä–Η–Ω–Μ–Β–Μ―¹―è –¥–Β–¥ –£–Α―¹–Η–Μ–Η–Ι. –ü–Ψ―²–Ψ–Φ –Ω―Ä–Η–±–Β–Ε–Α–Μ–Α –½–Η–Ϋ–Κ–Α –Η –Ω―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Μ–Α –Β–≥–Ψ ―²–Α–±–Α–Κ–Β―Ä–Κ―É. –™–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η –Ψ –±–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ―è―Ö, –Ψ –Κ–Α–Κ–Ψ–Φ-―²–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―é―Ö–Β –‰–≥–Ϋ–Α―²–Β –Η–Ζ ―¹–Ψ―¹–Β–¥–Ϋ–Β–Ι –¥–Β―Ä–Β–≤–Ϋ–Η (¬Ϊ―Ü–Α―Ä―¹―²–≤–Η–Β –Β–Φ―É –Ϋ–Β–±–Β―¹–Ϋ–Ψ–Β¬Μ) –Η –≤―Ä–Β–Φ―è –Ψ―² –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ω–Ψ–≥–Μ―è–¥―΄–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –Ζ–Α–Κ–Μ–Β–Β–Ϋ–Ϋ―É―é ―²–Β–Μ–Β–≥―Ä–Α–Φ–Φ―É.
–ö–Ψ–≥–¥–Α –Ω―Ä–Η―à–Μ–Α ―É―¹–Α―²–Α―è –±–Α–±–Κ–Α –ê―Ä–Η―à–Α, –Ε–Η–≤―É―â–Α―è –Ϋ–Α–Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤, –Η –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ–Α―¹―¨ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―²―¨ –Ψ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ¬Ϊ–Μ–Ψ–Φ–Ψ―²–Α―Ö¬Μ –Η ¬Ϊ–Κ–Ψ–Μ–Ψ―²―¨―è―Ö¬Μ, ―è ―Ä–Β―à–Η–Μ, ―΅―²–Ψ ―É–Ε–Β –Ω–Ψ―Ä–Α –Ψ–≥–Μ–Α―à–Α―²―¨ ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Η–Β ―²–Β–Μ–Β–≥―Ä–Α–Φ–Φ―΄: –Ψ–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η –¥–Α–≤–Α–Μ–Ψ –±–Ψ–≥–Α―²―É―é –Ω–Η―â―É –¥–Μ―è –Μ―é–±―΄―Ö –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Ι.
¬Ϊ–ü―Ä–Η–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é –Ω―Ä–Η–±―΄―²―¨ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β 1 –Α–≤–≥―É―¹―²–Α –Φ–Α–Ι–Ψ―Ä –î―É–±–Ψ–Ϋ–Ψ―¹¬Μ.
βÄ™ –£–Ψ–Ι–Ϋ–Α, ―΅―²–Ψ –Μ―¨, –Ψ–Ω―è―²―¨?βÄ™ –Ω―Ä–Η–≥–Ψ―Ä―é–Ϋ–Η–Μ–Α―¹―¨ –ö―É–±―΄―à–Α.
βÄ™ –Δ–Η–Ω―É–Ϋ ―²–Β–±–Β –Ϋ–Α ―è–Ζ―΄–Κ! –ß―²–Ψ ―²―΄ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –¥–Β–Μ–Β!βÄ™ ―Ä–Α―¹―¹–Β―Ä–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ –±–Α–±―É―à–Κ–Α.
βÄ™ –£―΄–Ζ―΄–≤–Α―é―², –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―², –Ϋ–Α–¥–Ψ. –Γ–Μ―É–Ε–±–Α, –Ψ–Ϋ–Α, –±―Ä–Α―², –Ψ–Ι-–Β-–Β–Ι! –≠―²–Ψ ―²–Β–±–Β –Ϋ–Β ―â–Η ―Ö–Μ–Β–±–Α―²―¨. –ë―΄–≤–Α–Μ–Ψ, –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ –™―É―Ä–Κ–Α –≤―΄–Ι–¥–Β―², ―¹–Α–±–Μ―é –≤―΄–Ϋ–Β―²... –‰-―ç―Ö! –£–Ψ –Κ–Α–Κ!.. –ü–Ψ–Ϋ―è―²–Ϋ–Ψ?βÄ™ –Ω–Ψ–¥―΄―²–Ψ–Ε–Η–Μ –¥–Β–¥ –£–Α―¹–Η–Μ–Η–Ι –Η –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β―Ü–Κ–Η ―΅–Η―Ö–Ϋ―É–Μ.βÄ™ –ê ―΅–Η―¹–Μ–Ψ-―²–Ψ ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Κ–Α–Κ–Ψ–Β?
βÄ™ –î–≤–Α–¥―Ü–Α―²―¨ –¥–Β–≤―è―²–Ψ–Β,βÄ™ –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ ―è –Η –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥ –Ϋ–Α –€–Ψ―¹–Κ–≤―É –±―É–¥–Β―² –≤ ―à–Β―¹―²―¨ ―΅–Α―¹–Ψ–≤ –≤–Β―΅–Β―Ä–Α. –ï―¹–Μ–Η ―è –Ϋ–Β ―É–Β–¥―É –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Φ, ―²–Ψ –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ―è–Κ–Α –Ψ–Ω–Ψ–Ζ–¥–Α―é.
βÄ™ –½–Ϋ–Α―΅–Η―², –Ψ–¥–Η–Ϋ –¥–Β–Ϋ–Β―΅–Β–Κ ―²–Β–±–Β –Ψ―¹―²–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ–≥―É–Μ―è―²―¨-―²–Ψ? –ù–Β–±–Ψ―¹―¨ –Ζ–Α–≤―²―Ä–Α –Η ―É–Φ–Α―Ö–Ϋ–Β―à―¨?βÄ™ –Ζ–Α–≤–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –±–Α–±―É―à–Κ–Α.
βÄ™ –ù–Β―², –≤–Η–¥–Ϋ–Ψ, –Ω―Ä–Η–¥–Β―²―¹―è ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Β―Ö–Α―²―¨... –ü–Ψ–Ι–¥–Β–Φ –≤–Β―â–Η ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α―²―¨.
βÄ™ –î–Α, –±―Ä–Α―², –≤–Ψ―² –Ψ–Ϋ–Ψ –Κ–Α–Κ. –Γ–Μ―É–Ε–±–Α βÄ™ ―ç―²–Ψ, –±―Ä–Α―², ―à―²―É―΅–Κ–Α ―²–Ψ–Ϋ–Κ–Α―è. –û–Ι, ―²–Ψ–Ϋ–Κ–Α―è!βÄ™ –Ω―Ä–Ψ–Ω–Β–Μ –Φ–Ϋ–Β –≤―¹–Μ–Β–¥ –¥–Β–¥ –£–Α―¹–Η–Μ–Η–Ι.

–î–Ψ –≠–Μ―¨―è–Ϋ–Ψ–≤–Α –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–Φ-–≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ–Β–Φ –±―΄–Μ ―É –Ϋ–Α―¹ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –ö―É―à–Ϋ–Α―Ä–Β–≤. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α―¹, –¥–≤–Β–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²–Η–Μ–Β―²–Ϋ–Η―Ö, –≤–Β―¹–Ϋ―É―à―΅–Α―²―΄―Ö, ―¹–Ψ ―¹–Μ–Α–±―΄–Φ–Η ―Ö―É–¥―΄–Φ–Η ―Ä―É–Κ–Α–Φ–Η, –Ψ―¹―²―Ä–Η–≥–Μ–Η –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Κ–Ψ–Ι –Η –Ψ–¥–Β–Μ–Η –≤ ―¹―²–Α―Ä―É―é –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹―¹–Κ―É―é ―Ä–Ψ–±―É, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α―¹, –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–≤―΄–Κ―à–Η―Ö –Β―â–Β –Κ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―³–Ψ―Ä–Φ–Β –Η –Ϋ–Β ―É–Φ–Β–≤―à–Η―Ö –¥–Α–Ε–Β –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η―¹―²–Β–≥–Ϋ―É―²―¨ –≤–Ψ―Ä–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ, –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –≤―΄―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ–Η –≤–Ψ –¥–≤–Ψ―Ä–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α, ―Ä–Α–Ζ–±–Η–≤ –Ϋ–Α ―΅–Β―²―΄―Ä–Β –≤–Ζ–≤–Ψ–¥–Α, –Κ –Ϋ–Α―à–Β–Φ―É –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Φ―É –≤–Ζ–≤–Ψ–¥―É –Ω–Ψ–¥–Ω―Ä―΄–≥–Η–≤–Α―é―â–Β–Ι, –Ϋ–Β―Ä–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–Ψ―à–Β–Μ ―¹―É―Ö–Ψ―â–Α–≤―΄–Ι ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―². –û–Ϋ –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –Ω―Ä–Ψ―à–Α–≥–Α–Μ, –Ϋ–Β –¥–Β–Μ–Α―è –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Η―Ö –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α–Ϋ–Η–Ι, –Φ–Η–Φ–Ψ –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ―à–Β―Ä―¹―²–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄, –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ―¹―è –Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥–Η–Ϋ–Β, –Ω–Β―Ä–Β–¥ ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Φ, ―É–Μ―΄–±–Ϋ―É–Μ―¹―è –Ϋ–Α―¹–Φ–Β―à–Μ–Η–≤–Ψ –Η –¥–Ψ–±―Ä–Ψ –Η –Ζ–Α―΅–Α―¹―²–Η–Μ –Ψ―²―΅–Β―²–Μ–Η–≤–Ψ–Ι ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Κ–Ψ–Ι:
- –€–Β–Ϋ―è –Ζ–Ψ–≤―É―² –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅ –ö―É―à–Ϋ–Α―Ä–Β–≤. –· ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –Η –≤–Α―à –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä. –ù–Α–¥–Β―é―¹―¨, –Ε–Η―²―¨ –±―É–¥–Β–Φ –¥―Ä―É–Ε–Ϋ–Ψ. –ü–Ψ –≤―¹–Β–Φ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Α–Φ –Ψ–±―Ä–Α―â–Α―²―¨―¹―è –Κ–Ψ –Φ–Ϋ–Β. –û–±―Ä–Α―â–Α―²―¨―¹―è –Κ–Ψ –Φ–Ϋ–Β –Ϋ–Α–¥–Ψ –Ω–Ψ –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η―é βÄ™ ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²... –ê ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ω–Ψ–Ι–¥–Β–Φ –≤ –±–Α–Ϋ―é.
–Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Φ –Η –¥–Ψ–±―Ä―΄–Φ –Φ–Ψ–≥―É ―è –Ω–Ψ–Φ―è–Ϋ―É―²―¨ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α. –· –Ϋ–Β –Ζ–Α–±―΄–Μ, –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β―¹ –Ϋ–Α ―Ä―É–Κ–Α―Ö ―É―¹―²–Α–≤―à–Β–≥–Ψ –Η ―Ä–Α―¹–Ω–Μ–Α–Κ–Α–≤―à–Β–≥–Ψ―¹―è –£–Α―¹―é –€–Ψ―¹–Κ–Α–Μ–Β–Ϋ–Κ–Ψ, ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤ –Ϋ–Α―à–Β–Ι –Φ–Μ–Α–¥―à–Β–Ι ―Ä–Ψ―²–Β. –€―΄ ―²–Ψ–≥–¥–Α –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹–Ψ ―¹―²―Ä–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η–Ι βÄ™ –Η –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Α―¹–Φ–Β―è–Μ―¹―è, –≤―¹–Β –¥–Α–Ε–Β –Κ–Α–Κ –±―É–¥―²–Ψ –±―΄ –Ζ–Α–≤–Η–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Η –£–Α―¹–Β, ―Ö–Ψ―²―è –≤ –Μ―é–±–Ψ–Φ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β ―²–Α–Κ–Α―è ―¹–Μ–Α–±–Ψ―¹―²―¨ –≤―΄–Ζ–≤–Α–Μ–Α –±―΄ ―Ü–Β–Μ―É―é –±―É―Ä―é –Ϋ–Α―¹–Φ–Β―à–Β–Κ: –≤ –¥–≤–Β–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²―¨ –Μ–Β―² –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η―à–Κ–Η –±–Β―¹–Ω–Ψ―â–Α–¥–Ϋ―΄.
–· –Ω–Ψ–Φ–Ϋ―é, –Κ–Α–Κ –ö―É―à–Ϋ–Α―Ä–Β–≤ –±–Β–Ε–Α–Μ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ –Ψ–±–Μ–Β–¥–Β–Ϋ–Β–Μ―΄–Φ –Ω―Ä–Ψ–Φ–Ψ–Ζ–≥–Μ―΄–Φ ―É–Μ–Η―Ü–Α–Φ –†–Η–≥–Η. –ë–Β–Ε–Α–Μ –Η –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ–Ϋ―è–Μ –Φ–Β–Ϋ―è: ¬Ϊ–ë―΄―¹―²―Ä–Β–Ι! –ë―΄―¹―²―Ä–Β–Ι!¬Μ –‰ –Ω–Ψ―² –Κ–Α–Ω–Α–Μ ―¹ –Β–≥–Ψ –Μ–Η―Ü–Α, –Η –¥―΄―Ö–Α–Ϋ–Η–Β –≤―΄―Ä―΄–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹ ―Ö―Ä–Η–Ω–Ψ–Φ –Η–Ζ ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Ψ ―Ä–Α―¹–Κ―Ä―΄―²–Ψ–≥–Ψ ―Ä―²–Α: –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Φ–Ϋ–Β ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Κ―²–Ψ-―²–Ψ, ―΅―²–Ψ ―É –ö―É―à–Ϋ–Α―Ä–Β–≤–Α ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Μ–Β–≥–Κ–Ψ–Β.

–ê –¥–Β–Μ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―²–Α–Κ. –û–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ –≤ –Ϋ–Ψ―è–±―Ä–Β –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Α―Ä―É―¹–Ϋ―΄–Β ―É―΅–Β–Ϋ―¨―è. –£ ―à–Η–Ϋ–Β–Μ―è―Ö –Η ―à–Α–Ω–Κ–Α―Ö –Φ―΄ –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ζ–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ ―à–Μ―é–Ω–Κ–Η –Η ―΅–Α―¹–Α ―²―Ä–Η –±–Ψ―Ä–Ψ–Ζ–¥–Η–Μ–Η –≤–Ζ–Α–¥ –Η –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥ –î–Α―É–≥–Α–≤―É, ―¹–Β―Ä―É―é –Ψ―² –Μ―é―²–Ψ–≥–Ψ ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Α –Η –≥–Ψ―²–Ψ–≤―É―é –Ζ–Α–Φ–Β―Ä–Ζ–Ϋ―É―²―¨. –‰ –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―É–Ε–Β –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥, –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Α–Φ –Ω–Β―Ä–Β–±–Η―Ä–Α―²―¨―¹―è ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Φ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ϋ―΄–Ι –Κ–Α―²–Β―Ä–Ψ–Κ, ―¹―²–Ψ―è–≤―à–Η–Ι –Φ–Β–Ε–¥―É –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―à–Μ―é–Ω–Κ–Ψ–Ι –Η –Ϋ–Α–±–Β―Ä–Β–Ε–Ϋ–Ψ–Ι. –ü–Ψ–Κ–Α –≤―¹–Β –Ω–Β―Ä–Β–Ω―Ä―΄–≥–Η–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –Κ–Α―²–Β―Ä–Ψ–Κ, –Α ―¹ –Ϋ–Β–≥–Ψ βÄ™ –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥, ―è –Η–Ζ–Ψ –≤―¹–Β―Ö ―¹–Η–Μ –Ϋ–Α―²―è–≥–Η–≤–Α–Μ ―²–Ψ–Μ―¹―²―΄–Ι –Ψ–±–Μ–Β–¥–Β–Ϋ–Β–≤―à–Η–Ι ―³–Α–Μ–Η–Ϋ―¨, ―É–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α―è ―à–Μ―é–Ω–Κ―É. –ü–Ψ―²–Ψ–Φ –Ω―Ä―΄–≥–Ϋ―É–Μ βÄ™ –Η ―É–Ε–Β –≤ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Β –Ω–Ψ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Φ–Α―Ö–Ϋ―É–Μ―¹―è. –ü–Ψ–¥ ―²―è–Ε–Β–Μ―΄–Φ –±–Α―à–Φ–Α–Κ–Ψ–Φ ―Ö―Ä―É―¹―²–Ϋ―É–Μ –Μ–Β–¥–Ψ–Κ, –Ϋ–Α―Ä–Ψ―¹―à–Η–Ι ―É –±–Ψ―Ä―²–Α –Κ–Α―²–Β―Ä–Κ–Α,βÄ™ –Η ―è ―¹ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ι ―É―à–Β–Μ –≤ –Ζ–Β–Μ–Β–Ϋ―É―é –Ψ–±–Ε–Η–≥–Α―é―â―É―é –≤–Ψ–¥―É. –†―΄–≤–Ψ–Κ –≤–≤–Β―Ä―Ö βÄ™ –Η ―è ―¹―²―É–Κ–Ϋ―É–Μ―¹―è –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ψ –Κ–Η–Μ―¨ ―à–Μ―é–Ω–Κ–Η. –ö ―¹―΅–Α―¹―²―¨―é, –Ϋ–Β –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–Μ ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è –Η ―¹―É–Φ–Β–Μ –Ω―Ä–Ψ―¹―É–Ϋ―É―²―¨ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―É –Φ–Β–Ε–¥―É ―Ä–Α–Ζ–Ψ―à–Β–¥―à–Η–Φ–Η―¹―è –±–Ψ―Ä―²–Α–Φ–Η ―à–Μ―é–Ω–Κ–Η –Η –Κ–Α―²–Β―Ä–Α. –ö―²–Ψ-―²–Ψ ―É―Ö–≤–Α―²–Η–Μ –Φ–Β–Ϋ―è –Ζ–Α –≤–Ψ―Ä–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ –Η –≤―΄–¥–Β―Ä–Ϋ―É–Μ –Η–Ζ –≤–Ψ–¥―΄...
βÄ™ –ë–Β–≥–Η!βÄ™ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –ö―É―à–Ϋ–Α―Ä–Β–≤, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―è –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η―à–Β–Μ –≤ ―¹–Β–±―è –Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ –Μ―è–Ζ–≥–Α―²―¨ –Ζ―É–±–Α–Φ–Η.βÄ™ –î–Α–≤–Α–Ι –Ε–Φ–Η –≤ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β, –Α ―²–Ψ –Ζ–Α―¹―²―΄–Ϋ–Β―à―¨.
–· –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥ –±–Β–Ε–Α―²―¨: ―à–Η–Ϋ–Β–Μ―¨ –Ϋ–Α–±―Ä―è–Κ–Μ–Α, ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Η–Β –±―Ä―é–Κ–Η –≤–Ϋ–Η–Ζ―É –Ψ–±–Μ–Β–¥–Β–Ϋ–Β–Μ–Η, –Ζ–≤–Β–Ϋ–Β–Μ–Η –Κ–Α–Κ ―¹―²–Β–Κ–Μ―è–Ϋ–Ϋ―΄–Β. –€–Β–Ϋ―è –±–Η–Μ–Α –¥―Ä–Ψ–Ε―¨. –Δ–Ψ–≥–¥–Α –ö―É―à–Ϋ–Α―Ä–Β–≤ –Ω–Ψ–±–Β–Ε–Α–Μ ―Ä―è–¥–Ψ–Φ, –Ω–Ψ–¥―²–Α–Μ–Κ–Η–≤–Α―è –Φ–Β–Ϋ―è –Η –Ω–Ψ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―É–±―΄―¹―²―Ä―è―è –±–Β–≥. –Δ–Α–Κ –Φ―΄ –Η –±–Β–Ε–Α–Μ–Η –Κ–Η–Μ–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Α ―²―Ä–Η, –¥–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α, –¥–Ψ ―¹–Α–Ϋ–Η―²–Α―Ä–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η, –≥–¥–Β –≤ –Φ–Β–Ϋ―è –≤–Μ–Η–Μ–Η –Ω–Ψ–Μ―¹―²–Α–Κ–Α–Ϋ–Α ―Ä–Α–Ζ–±–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ω–Η―Ä―²–Α –Η –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ ―Ä–Α―¹―²–Η―Ä–Α–Μ–Η –Φ–Ψ―Ö–Ϋ–Α―²–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ―¹―²―΄–Ϋ–Β–Ι.
–· –Ω–Ψ–Φ–Ϋ―é, –Κ–Α–Κ –≤ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–Φ –≥–Ψ–¥―É –Φ―΄ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–Α–Μ–Η ―¹―²–Α―Ä―à–Β–≥–Ψ –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α –ö―É―à–Ϋ–Α―Ä–Β–≤–Α. –û–Ϋ ―É–Β–Ζ–Ε–Α–Μ –Ϋ–Α–≤―¹–Β–≥–¥–Α, –Ω―Ä–Ψ―â–Α–Μ―¹―è ―¹ –Α―Ä–Φ–Η–Β–Ι, ―¹ ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ, ―¹ –Ϋ–Α–Φ–Η... –•–Β–Ϋ–Α ―É–≤–Ψ–Ζ–Η–Μ–Α –Β–≥–Ψ –≤ –Κ–Α–Κ―É―é-―²–Ψ –¥–Β―Ä–Β–≤–Ϋ―é, ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –≥–¥–Β-―²–Ψ –Ϋ–Α ―é–≥–Β –Η –±―É–Κ–≤–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Η–Ψ–Ϋ–Η–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Ψ–Φ.
–£ –†–Η–≥–Β ―¹―²–Ψ―è–Μ –≤–Β―²―Ä–Β–Ϋ―΄–Ι –Α–Ω―Ä–Β–Μ―¨. –ß–Β―Ä–Ϋ―΄–Β ―¹―É―΅―¨―è –¥–Β―Ä–Β–≤―¨–Β–≤ ―¹–≤–Η―¹―²–Β–Μ–Η –Ϋ–Α –ë–Α―¹―²–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Ψ―Ä–Κ–Β. –ü–Ψ–¥ –Ϋ–Ψ–≥–Α–Φ–Η –≤–Κ―É―¹–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―Ö―Ä―É―¹―²―΄–≤–Α–Μ –Μ–Β–¥–Ψ–Κ –≤–Β―¹–Β–Ϋ–Ϋ–Η―Ö –Μ―É–Ε–Η―Ü. –£–Β―²–Β―Ä –±―΄–Μ ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Η ―à―É–Φ–Μ–Η–≤―΄–Ι, –Ω–Α―Ö–Μ–Ψ –≤–Β―¹–Ϋ–Ψ–Ι –Η –Φ–Ψ―Ä–Β–Φ.

–Δ–Α–Κ–Ψ–Ι –≤–Β―²–Β―Ä –Μ–Ψ–Φ–Α–Β―² –Μ–Β–¥ –Ϋ–Α ―Ä–Β–Κ–Α―Ö –Η ―¹–≥–Ψ–Ϋ―è–Β―² ―¹–Ϋ–Β–≥ ―¹ –Κ–Ψ―¹–Ψ–≥–Ψ―Ä–Ψ–≤. –€―΄ –Μ―é–±–Η–Μ–Η ―ç―²–Ψ―² –≤–Β―²–Β―Ä: ―É–Ε–Β ―²―Ä–Η –Μ–Β―²–Α –Ψ–Ϋ ―à―É–Φ–Β–Μ –≤ –Ϋ–Α―à–Η―Ö –Ω–Α―Ä―É―¹–Α―Ö.
–ù–Α―¹ –±―΄–Μ–Ψ ―²―Ä–Ψ–Β, ―²―Ä–Ψ–Β –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅–Β–Ι. –‰–Ζ –≤―¹–Β–≥–Ψ –≤–Ζ–≤–Ψ–¥–Α –î―É–±–Ψ–Ϋ–Ψ―¹ –Ψ―²–Ω―É―¹―²–Η–Μ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α―¹ ―²―Ä–Ψ–Η―Ö –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–Α―²―¨ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α-–≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ―è: –Φ―΄ –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Η–Μ–Η –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à―É―é –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Ι―΅–Η–≤–Ψ―¹―²―¨, ―΅–Β–Φ –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β. –£–Β―²–Β―Ä ―²―Ä–Β–Ω–Α–Μ –Μ–Β–Ϋ―²–Ψ―΅–Κ–Η –Ϋ–Α―à–Η―Ö –±–Β―¹–Κ–Ψ–Ζ―΄―Ä–Ψ–Κ –Η –Ζ–Α–≤–Ψ―Ä–Α―΅–Η–≤–Α–Μ –Ω–Ψ–Μ―΄ ―΅–Β―Ä–Ϋ―΄―Ö ―à–Η–Ϋ–Β–Μ–Β–Ι. –ù–Β–Ε–Η–≤–Ψ–Ι ―¹–≤–Β―² ―Ä–Α―¹–Κ–Α―΅–Η–≤–Α―é―â–Η―Ö―¹―è ―³–Ψ–Ϋ–Α―Ä–Β–Ι –Φ–Β―²–Α–Μ―¹―è –Ω–Ψ –Μ–Η―Ü–Α–Φ. –€―΄ –Ϋ–Β ―²–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤–Α–Μ–Η βÄ™ –Ϋ–Α–Φ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≥―Ä―É―¹―²–Ϋ–Ψ. ¬Ϊ–£–Ψ―² –Φ―΄ –Η–¥–Β–Φ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–Α―²―¨ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–≥–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α,βÄ™ –¥―É–Φ–Α–Μ ―è.βÄ™ –ê –≤ –†–Η–≥–Β –Ψ–Ω―è―²―¨ –Α–Ω―Ä–Β–Μ―¨, –Η –≤ –Ω–Α―Ä–Κ–Α―Ö ―²–Α–Κ ―²–Β–Φ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β―² ―¹–Ϋ–Β–≥–Α¬Μ.
–Ξ–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ, ―΅―²–Ψ –Β―¹―²―¨ –≤–Ψ–Κ–Ζ–Α–Μ―΄, –Ϋ–Ψ―΅–Ϋ―΄–Β ―É–Μ–Η―Ü―΄ –Η –Α–Ω―Ä–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η–Ι –≤–Β―²–Β―Ä. –€―΄ –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –≥―É–Μ―è–Μ–Η –Ϋ–Ψ―΅―¨―é –Ω–Ψ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―É, –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Α –≤–Ψ–Κ–Ζ–Α–Μ–Β, –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –≤–Η–¥–Β–Μ–Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Β –Ψ–≥–Ϋ–Η ―É―Ö–Ψ–¥―è―â–Η―Ö –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥–Ψ–≤.
–ö―É―à–Ϋ–Α―Ä–Β–≤ –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –±―΄–Μ –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―΅―É–≤―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Φ. –ù–Α–Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ―², –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ, ―¹–Κ–Ψ―Ä–Β–Β, ―¹―É―Ä–Ψ–≤ –Η –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―â–Α–Μ –Ϋ–Α–Φ –¥–Α–Ε–Β –Φ–Β–Μ–Κ–Η―Ö –Ω―Ä–Ψ―¹―²―É–Ω–Κ–Ψ–≤. –ù–Ψ –Ϋ–Α –≤–Ψ–Κ–Ζ–Α–Μ–Β –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ―Ü–Β–Μ–Ψ–≤–Α–Μ –Ϋ–Α―¹ –≤―¹–Β―Ö –Ω–Ψ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Η: ―¹–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –Δ–Ψ–Μ―é –½–Α–Φ―΄–Κ–Ψ, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Φ–Β–Ϋ―è, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Π–Β―Ä–Α―²–Ψ–¥―É―¹–Α. –•–Β–Ϋ–Α –ö―É―à–Ϋ–Α―Ä–Β–≤–Α ―¹―²–Ψ―è–Μ–Α –≤ –Ψ―¹–≤–Β―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―²–Α–Φ–±―É―Ä–Β –Η –Ω―Ä–Ψ–Φ–Ψ–Κ–Α–Μ–Α –Ω–Μ–Α―²–Ψ―΅–Κ–Ψ–Φ –≥–Μ–Α–Ζ–Α. –€–Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Κ–Α–Κ-―²–Ψ –Ϋ–Β–Μ–Ψ–≤–Κ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Α –Ω–Μ–Α―΅–Β―² –Η ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Η―² –Ϋ–Α –Φ–Β–Ϋ―è.
βÄ™ –¦–Α–¥–Ϋ–Ψ, ―Ä–Β–±―è―²–Α... –ß–Β–≥–Ψ ―²–Α–Φ. –ü–Η―à–Η―²–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ. –· –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Α–¥―Ä–Β―¹ –Ω―Ä–Η―à–Μ―é.
–ü–Ψ–Β–Ζ–¥ –¥–Β―Ä–Ϋ―É–Μ―¹―è, –Ζ–Α–Ζ–≤–Β–Ϋ–Β–Μ–Η, ―¹―²–Α–Μ–Κ–Η–≤–Α―è―¹―¨, –±―É―³–Β―Ä–Ϋ―΄–Β ―²–Α―Ä–Β–Μ–Κ–Η. –≠―²–Ψ –Ω―Ä–Η―Ü–Β–Ω–Η–Μ–Η –Μ–Ψ–Κ–Ψ–Φ–Ψ―²–Η–≤.
βÄ™ –ù―É, –Ε–Β–Μ–Α―é... –Δ―΄, –Δ–Ψ–Μ―è, –±―É–¥–Β―à―¨ –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Ψ–Φ-–Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ–Β–Φ. –≠―²–Ψ ―è ―²–≤–Β―Ä–¥–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―é... –ë―É–¥―¨ ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤. –ê ―²―΄, –≤–Η―Ü–Β-―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ–Α, –±―É–¥–Β―à―¨ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Φ ―¹―²―Ä–Ψ–Β–≤―΄–Φ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–Φ. –Γ–Μ―É–Ε–±–Α ―É ―²–Β–±―è ―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Ι–¥–Β―². –€–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, ―²―΄ ―¹―²–Α–Ϋ–Β―à―¨ –¥–Α–Ε–Β –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Ψ–Φ, –Β―¹–Μ–Η –Κ ―²–Ψ–Φ―É –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –±―É–¥―É―² –Β―â–Β –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―΄.
–û―¹–≤–Β―â–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –¥–≤–Β―Ä―¨ ―²–Α–Φ–±―É―Ä–Α –Η –Ε–Β–Μ―²―΄–Β –Κ–≤–Α–¥―Ä–Α―²―΄ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ –Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –¥–≤–Η–Ϋ―É–Μ–Η―¹―¨ –Φ–Η–Φ–Ψ –Ϋ–Α―¹. –ö―É―à–Ϋ–Α―Ä–Β–≤ ―à–Β–Μ ―Ä―è–¥–Ψ–Φ ―¹ –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥–Ψ–Φ, –¥–Β―Ä–Ε–Α―¹―¨ –Ζ–Α –Ω–Ψ―Ä―É―΅–Ϋ–Η.
–ê –Φ–Ϋ–Β?! βÄ™ –Ζ–Α–Κ―Ä–Η―΅–Α–Μ ―è, –Η―¹–Ω―É–≥–Α–≤―à–Η―¹―¨, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ –Φ–Β–Ϋ―è ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² ―²–Α–Κ –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Η –Ϋ–Β ―¹–Κ–Α–Ε–Β―².βÄ™ –ê ―è –Κ–Α–Κ –Ε–Β?
–ö―É―à–Ϋ–Α―Ä–Β–≤ –Ϋ–Α–≥–Ϋ―É–Μ―¹―è –Η –Ψ–±–Ϋ―è–Μ –Φ–Β–Ϋ―è –Ζ–Α ―à–Β―é –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä―É–Κ–Ψ–Ι:
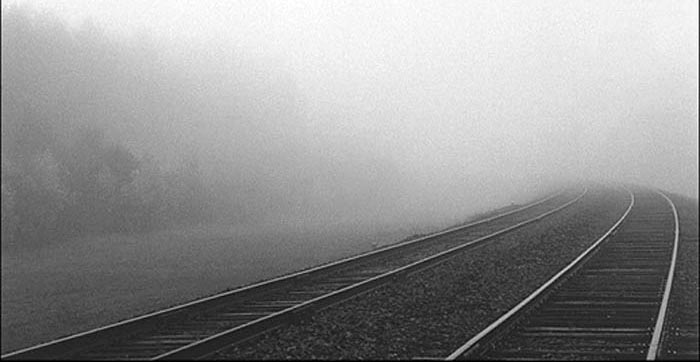
βÄ™ –ê ―²–Β–±–Β –±―É–¥–Β―² –≤―¹–Β―Ö ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Β–Β. –ë–Ψ–Μ―¨―à–Β ―è ―²–Β–±–Β –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Κ–Α–Ε―É... –Δ–Β–±–Β –±―É–¥–Β―² –≤―¹–Β―Ö ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Β–Β, –Η, –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤ ―ç―²–Ψ–Φ ―²–≤–Ψ―è ―É–¥–Α―΅–Α... –ë―É–¥―¨ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Φ, –£–Ψ–Μ–Ψ–¥―è. –£―¹–Β–≥–¥–Α –Η –≤–Ψ –≤―¹–Β–Φ –±―É–¥―¨ !
–ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―².

–£–Β―Ä―é–Ε―¹–Κ–Η–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–£–ù–ê), –€–Α–Κ―¹–Η–Φ–Ψ–≤ –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–€–£–£), –ö–Α―Ä–Α―¹–Β–≤ –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–ö–Γ–£) - –Α―Ä―Ö–Η–≤–Α―Ä–Η―É―¹, –™–Ψ―Ä–Μ–Ψ–≤ –û–Μ–Β–≥ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–û–ê–™) commander432@mail.ru, –£–†–‰–û –Α―Ä―Ö–Η–≤–Α―Ä–Η―É―¹–Α
02.05.201513:3402.05.2015 13:34:51
0
01.05.201503:0501.05.2015 03:05:20
–û –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Η –Ϋ–Α―à–Η―Ö ―¹―É–¥―¨–±–Α―Ö. –Γ–±–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Κ –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤ –Η –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–±–Α–Μ―²–Ψ–≤ "46-49-53". –ö–Ϋ–Η–≥–Α 1. –Γ–ü–±, 2002. –ß–Α―¹―²―¨ 13.
–†–Ψ–Κ–Ψ–≤–Ψ–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –Ω–Β―Ä–Β–Μ–Ψ–Φ–Α ―¹―É–¥―¨–±―΄
–‰ –≤–Ψ―² –Ω―Ä–Η–±–Μ–Η–Ζ–Η–Μ–Ψ―¹―¨ 8 –Φ–Α―è 1966 –≥–Ψ–¥–Α βÄ™ ―Ä–Ψ–Κ–Ψ–≤–Ψ–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ ―Ä–Β–Ζ–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Μ–Ψ–Φ–Α –Φ–Ψ–Β–Ι ―¹―É–¥―¨–±―΄. –· –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ―¹―è –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Α―²―¨ –≤ –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η―é, ―à―²―É–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ –Α–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι, –¥–Μ―è ―΅–Β–≥–Ψ –¥–Α–Ε–Β –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Η–Μ –Ϋ–Α –Ζ–Α–Ψ―΅–Ϋ―΄–Β –Κ―É―Ä―¹―΄, –≥―Ä―΄–Ζ ―²–Β–Ψ―Ä–Η―é –≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι –Η –Ω―΄―²–Α–Μ―¹―è –Ω–Ψ―¹―²–Η―΅―¨ –≤―΄―¹―à―É―é –Φ–Α―²–Β–Φ–Α―²–Η–Κ―É. –¦–Ψ–¥–Κ–Α ―¹―²–Ψ―è–Μ–Α –Ϋ–Α –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Φ –¥–Β–Ε―É―Ä―¹―²–≤–Β –≤ –î–Ψ–Ϋ―É–Ζ–Μ–Α–≤–Β ―¹ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Φ –±–Ψ–Β–≤―΄–Φ –Ζ–Α–Ω–Α―¹–Ψ–Φ, –≤–Κ–Μ―é―΅–Α―è –Ψ–¥–Ϋ―É ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥―É ―¹ –Γ–ë–ß.
–£ –Ω―Ä–Β–¥–Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η―΅–Ϋ―΄–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―É–Ε–Η–Ϋ–Α –Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤, –Κ–Α–Κ –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ, ―É–±―΄–Μ –Ϋ–Α –Ϋ–Α―à ―¹―²–Β–Ω–Ϋ–Ψ–Ι ¬Ϊ―¹―²–Α–¥–Η–Ψ–Ϋ¬Μ. –ù–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –Ψ―¹―²–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤–Α―Ö―²–Α –Η –Κ–Ψ–Β-–Κ―²–Ψ –Η–Ζ –Μ–Β–Ϋ–Η–≤―΄―Ö. –£–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―¹―²–Α –Ω―Ä–Η –Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –≤ 18.50 –Ψ―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α–Μ –Ϋ–Ψ―¹–Ψ–≤―΄–Β ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄–Β –Α–Ω–Ω–Α―Ä–Α―²―΄ –Η, –Ψ–±–Β―Ä–Ϋ―É–≤―à–Η―¹―¨ –Ϋ–Α ―Ö–Μ–Ψ–Ω–Ψ–Κ, ―É–≤–Η–¥–Β–Μ, –Κ–Α–Κ –Η–Ζ-–Ζ–Α ―¹―²–Β–Μ–Μ–Α–Ε–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥―΄ –±―¨―ë―² –Ω–Α―Ä–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Α―è ―¹―²―Ä―É―è, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è, –Ω–Ψ–Ω–Α–¥–Α―è –Ϋ–Α –±―Ä–Β–Ζ–Β–Ϋ―² –Κ–Ψ–Ι–Κ–Η, –≤–Ψ―¹–Ω–Μ–Α–Φ–Β–Ϋ―è–Β―² –Β–≥–Ψ. –≠―²–Ψ –≤―¹―ë –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Ψ –≤ –¥–Ψ–Μ–Η ―¹–Β–Κ―É–Ϋ–¥―΄. –£–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä–Ψ―¹–Κ–Ψ―΅–Η–Μ –Ω–Μ–Α–Φ―è, –≤―΄–Μ–Β―²–Β–Μ –Η–Ζ 1-–≥–Ψ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Α, –Ζ–Α–¥―Ä–Α–Η–Μ –Ω–Β―Ä–Β–±–Ψ―Ä–Κ―É –Η –Ψ–±―ä―è–≤–Η–Μ ―²―Ä–Β–≤–Ψ–≥―É. –¦–Η―΅–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –Ζ–Α –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Η–Ϋ―É―² –Ω―Ä–Η–±–Β–Ε–Α–Μ ―¹–Ψ ―¹―²–Α–¥–Η–Ψ–Ϋ–Α –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ―É. –£ –Ψ―²―¹–Β–Κ –Ϋ–Α ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ―É –Ω–Ψ―à―ë–Μ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹, ―¹–Ϋ–Α―Ä―è–Ε―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤ –‰–ü-46, –Ϋ–Ψ ―²―É―² –Ε–Β ―É –Ω–Β―Ä–Β–±–Ψ―Ä–Κ–Η ¬Ϊ–Ζ–Α–¥–Ψ―Ö–Ϋ―É–Μ―¹―è¬Μ, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ –‰–ü –Β―â―ë –Ϋ–Β ―É―¹–Ω–Β–Μ ―Ä–Α–Ζ–Ψ–≥―Ä–Β―²―¨―¹―è –Η –Ζ–Α―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨. –ï–≥–Ψ –≤―΄―²–Α―â–Η–Μ–Η –Η –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Ψ–¥―΄―à–Α–Μ―¹―è.
–û―²―¹–Β–Κ –±―΄–Μ ―É–Ε–Β –Ζ–Α–¥―΄–Φ–Μ―ë–Ϋ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é. –û―Ü–Β–Ϋ–Η–Μ–Η ―¹–Ψ ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Ψ–Φ –Η –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ―É, –Η ―è –¥–Α–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É –Ζ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è―²―¨ 1-–Ι –Ψ―²―¹–Β–Κ –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―É―é –Ψ―¹―É―à–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é –Φ–Α–≥–Η―¹―²―Ä–Α–Μ―¨ –Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ―²–¥―Ä–Α–Η―²―¨ ―¹–≤–Β―Ä―Ö―É ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ψ–Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ζ–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι –Μ―é–Κ. –û―²―¹–Β–Κ –Ζ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ―¹―è –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ βÄ™ ¬Ϊ–¥―΄―Ä–Κ–Α¬Μ –Φ–Α–Μ–Α. –ü―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Α―è –Ω–Β―Ä–Β–±–Ψ―Ä–Κ–Α 38 ―à–Ω–Α–Ϋ–≥–Ψ―É―²–Α ―¹–Ψ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ 2 –Ψ―²―¹–Β–Κ–Α ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–≥―Ä–Β–≤–Α–Μ–Α―¹―¨. –ï―ë –Ω–Ψ–Μ–Η–≤–Α–Μ–Η –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι –Η –Ω―Ä–Η–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Μ–Η –Κ –Ϋ–Β–Ι –Φ–Ψ–Κ―Ä―΄–Β –Φ–Α―²―΄. –£–Β–Ϋ―²–Η–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Α–Κ–Κ―É–Φ―É–Μ―è―²–Ψ―Ä–Ϋ―É―é ―è–Φ―É 2-–≥–Ψ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Α. –ù–Β–Ω―Ä–Β―Ä―΄–≤–Ϋ–Ψ –Ω―΄―²–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ψ―²–¥―Ä–Α–Η―²―¨ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ψ–Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ζ–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι –Μ―é–Κ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Ψ–¥–Α―²―¨ –Ω–Ψ–Ε–Α―Ä–Ϋ―΄–Β ―à–Μ–Α–Ϋ–≥–Η ―¹ –Ω–Μ–Α–≤–±–Α–Ζ―΄ ¬Ϊ–≠–Μ―¨–±―Ä―É―¹¬Μ, –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Φ―΄ ―¹―²–Ψ―è–Μ–Η, –Η ―¹ ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è. –· –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –Ψ ―¹–Μ―É―΅–Η–≤―à–Β–Φ―¹―è –Η –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ―É –Ϋ–Α ―³–Μ–Ψ―² ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Ω–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Η–Β –Κ―Ä―΄―à–Κ–Η –Ϋ–Ψ―¹–Ψ–≤―΄―Ö ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄―Ö –Α–Ω–Ω–Α―Ä–Α―²–Ψ–≤ ―¹―²–Α–Μ–Η ¬Ϊ–¥―΄―à–Α―²―¨¬Μ, ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ –Ψ―²–Ε–Η–Φ–Α―²―¨―¹―è –¥–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Η–Ζ 1-–≥–Ψ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Α, ―è ―Ä–Α–Ζ–Ψ–≥–Ϋ–Α–Μ –≤―¹–Β ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ―΄–Β –Η ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄–Β –Κ–Α―²–Β―Ä–Α –Ψ―² –Ω―Ä–Η―΅–Α–Μ–Α –Η –Ψ―²–Ψ–≥–Ϋ–Α–Μ –Ψ―² –±–Ψ―Ä―²–Α –ü–¦ ¬Ϊ–Γ-157¬Μ –£–Ψ–Μ–Ψ–¥–Η –Ξ―Ä–Α–Ω–Ψ–≤–Η―Ü–Κ–Ψ–≥–Ψ, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ, ―΅―²–Ψ –±―É–¥–Β―², –Β―¹–Μ–Η –Φ–Ψ–Η ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥―΄ –≤–Ζ–Ψ―Ä–≤―É―²―¹―è.
–û―²–¥―Ä–Α–Η–≤–Α–Ϋ–Η–Β ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ψ–Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ζ–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ―é–Κ–Α ―à–Μ–Ψ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ: –≤–Ϋ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Β–Β –¥–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Η–Ε–Η–Φ–Α–Μ–Ψ –Κ―Ä–Β–Φ–Α–Μ―¨–Β―Ä―É –Η –Ϋ–Β –¥–Α–≤–Α–Μ–Ψ –Β―ë ―Ä–Α–Ζ–≤–Ψ―Ä–Α―΅–Η–≤–Α―²―¨. –ü–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Φ, –Κ―²–Ψ –Ϋ–Α–Ε–Α–Μ –Ϋ–Α ―Ä―É–Κ–Ψ―è―²–Κ―É –Ζ–Α―â–Β–Μ–Κ–Η –±―΄–Μ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹ –ë–Ψ―Ä–Η―¹ –ù–Β―΅–Α–Β–≤. –½–Μ–Ψ–Ι ¬Ϊ–¥–Ε–Η–Ϋ¬Μ –≤―΄―Ä–≤–Α–Μ―¹―è –Η–Ζ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Α βÄ™ –¥–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ―²–±―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Ψ –Κ―Ä―΄―à–Κ―É. –Γ―²―Ä―É―ë–Ι ―΅–Β–≥–Ψ-―²–Ψ –Ε―ë–Μ―²–Ψ–≥–Ψ, –Ψ–±–Ε–Η–≥–Α―é―â–Β–≥–Ψ –Φ–Β–Ϋ―è –Η ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Α –ö–Ψ―¹―²―é –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Α –Ψ―²―à–≤―΄―Ä–Ϋ―É–Μ–Ψ –Ψ―² ―¹–Η–¥–Β–Ϋ–Η–Ι –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Α –Κ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–Ω–Β–Μ–Β–Ϋ–≥–Α―²–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–Φ–Κ–Β. –ö–Ψ–≥–¥–Α ―è –Ψ―²–Κ―Ä―΄–Μ –≥–Μ–Α–Ζ–Α, βÄ™ –≤―¹―ë –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥ –±―΄–Μ–Ψ –Ε―ë–Μ―²―΄–Φ, –Ω–Μ–Ψ―²–Ϋ―΄–Φ, –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –≤–Η–¥–Ϋ–Ψ. –· ―É―â–Η–Ω–Ϋ―É–Μ ―¹–Β–±―è βÄ™ –Ε–Η–≤, –Ψ–Κ–Μ–Η–Κ–Ϋ―É–Μ –ö–Ψ―¹―²―é βÄ™ –Ε–Η–≤ –Η –±―Ä–Ψ―¹–Η–Μ―¹―è –Κ –Ϋ–Ψ―¹―É –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α―²―¨. –ü–Ψ–¥–Α–Μ–Η –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―à–Μ–Α–Ϋ–≥–Ψ–≤ ―¹ –Ω–Μ–Α–≤–±–Α–Ζ―΄ –Η ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α―²―¨ –Ψ―²―¹–Β–Κ. –ë–Ψ―Ä–Η―¹–Α –ù–Β―΅–Α–Β–≤–Α ―¹―²―Ä―É―è –≤―΄―Ä–≤–Α–≤―à–Β–≥–Ψ―¹―è –¥–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ψ―²–±―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Α –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―² –Ω–Μ–Α–≤–±–Α–Ζ―΄ –Η –Ψ–Ϋ, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–≤ –Ψ―² ―É–¥–Α―Ä–Α ―¹–Φ–Β―Ä―²–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é ―²―Ä–Α–≤–Φ―É, ―É―à―ë–Μ –≤ –≤–Ψ–¥―É. –ë―Ä–Ψ―¹–Η–≤―à–Β–≥–Ψ―¹―è ―¹–Ω–Α―¹–Α―²―¨ –Β–≥–Ψ ―Ä–Α–¥–Η―¹―²–Α –ö―É–¥―Ä―é ―è –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ ―É–Ε–Β 6-8 –Φ–Η–Ϋ―É―² –Η –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–¥–Ϋ–Ψ –Η –±–Β―¹–Ω–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Ψ –Η―¹–Κ–Α―²―¨ –ù–Β―΅–Α–Β–≤–Α –≤ –≤–Ψ–¥–Β. –£–Ψ–¥–Ψ–Μ–Α–Ζ―΄ –Ϋ–Α―à–Μ–Η –Β–≥–Ψ ―²–Β–Μ–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α ―²―Ä–Β―²–Η–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –Ω–Ψ–Η―¹–Κ–Α –≤ ―¹―²–Ψ―è―΅–Β–Φ –Η–Μ–Β.
–ë–Ψ―Ä―¨–±―É –Ζ–Α –Ε–Η–≤―É―΅–Β―¹―²―¨ –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ–Η ―΅–Α―¹–Α –¥–≤–Α-―²―Ä–Η. –ö–Α–Κ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ–Η –Ψ―¹―É―à–Α―²―¨ –Ψ―²―¹–Β–Κ βÄ™ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Α –≤–Ψ–Ζ–≥–Ψ―Ä–Α–Μ–Α―¹―¨ ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α. –ù–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü, –Ψ–Ϋ–Α –Η―¹―¹―è–Κ–Μ–Α, –≤–Β―Ä–Ϋ–Β–Β –Ω―Ä–Η―²–Η―Ö–Μ–Α. –Γ―Ä–Α–Ζ―É –Ε–Β –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –Η, –Ϋ–Β –Ψ―²–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α―è, –Ω―Ä―è–Φ–Ψ –≤ ―΅–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Φ –≤–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Β –Ψ–Ω–Η―¹–Α–Μ –Ϋ–Α ―²―Ä―ë―Ö –Μ–Η―¹―²–Α―Ö, ―΅―²–Ψ ―¹–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨, –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Β (–Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Β–Φ―΄–Β) –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ―΄, ―¹–≤–Ψ–Η –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Κ–Η –Η ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―è, –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –Η –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –±–Ψ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ –¥–Β–Ε―É―Ä―¹―²–≤–Α. –≠―²–Ψ –≤ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Β–Φ –Η–Ζ–±–Α–≤–Η–Μ–Ψ –Φ–Β–Ϋ―è –Ψ―² –Μ–Η―à–Ϋ–Η―Ö ―Ä–Α―¹―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤ –≤―¹–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η–Ι.
–ù–Α ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–Β ―É―²―Ä–Ψ (–≤–Φ–Β―¹―²–Ψ –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α –ü–Ψ–±–Β–¥―΄) –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η –≤―΄–≥―Ä―É–Ε–Α―²―¨ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥―΄. –· –≤―¹–Β―Ö ¬Ϊ―Ä–Α–Ϋ–≥–Ψ–≤¬Μ –Η–Ζ –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η–Η –Ψ―²–Ψ–≥–Ϋ–Α–Μ –Ϋ–Α –±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ–Β ―Ä–Α―¹―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Β, ―΅–Β–Φ―É –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Η–Μ–Η―¹―¨, ―¹–Β–Μ –Ϋ–Α ―Ä–Α―¹–Κ–Μ–Α–¥―É―à–Κ―É –Ϋ–Α –Ω―Ä–Η―΅–Α–Μ–Β –Η ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ –≤―΄–≥―Ä―É–Ζ–Κ–Ψ–Ι –Η ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Ψ–Ι ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥. –ö–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –·―΅–Φ–Β–Ϋ―ë–≤, –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–≤―à–Η–Ι –Η –Κ–Μ–Α―¹―¹―΄ –Φ–Η–Ϋ―ë―Ä–Ψ–≤, –Η –Κ–Μ–Α―¹―¹―΄ ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Ψ–≤, –Ϋ–Ψ –Ζ–Α―¹–Η–¥–Β–≤―à–Η–Ι―¹―è –≤ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α―Ö –ë–ß-3 –Η –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ψ–±–Η–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι, –Μ–Β–Ζ―²―¨ –≤ 1-–Ι –Ψ―²―¹–Β–Κ –Ψ―²–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è. –ù–Β–¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–±―΄–≤―à–Η–Ι –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² (–≤ –±―É–¥―É―â–Β–Φ –™–Β―Ä–Ψ–Ι –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –ß–Λ), –Κ–Α–Κ –±―΄–≤―à–Η–Ι –Φ–Η–Ϋ―ë―Ä, –≤―΄–Ζ–≤–Α–Μ―¹―è –Η–¥―²–Η –≤ 1-–Ι –Ψ―²―¹–Β–Κ, –Ϋ–Α–Μ–Α–¥–Η–Μ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ψ–Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ζ–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Β ―É―¹―²―Ä–Ψ–Ι―¹―²–≤–Ψ –Η –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―΅―ë―²–Κ–Ψ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ ―²–Α–Φ –Η, –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β, –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Μ –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ―É –Ϋ–Α–≤–Β―Ä―Ö. –Γ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –Φ―΄ –≤―΄–≥―Ä―É–Ζ–Η–Μ–Η –≤–Η–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Η―Ü―É –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―à–Β―¹―²–≤–Η―è, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Η–≤–Α–Μ–Η –Η–Ζ ―à–Μ–Α–Ϋ–≥–Ψ–≤, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ–Α –≤―¹―ë –≤―Ä–Β–Φ―è –≤―¹–Ω―΄―Ö–Η–≤–Α–Μ–Α. –û―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥―΄ ¬Ϊ–≤―΄―¹–Κ–Α–Κ–Η–≤–Α–Μ–Η¬Μ –Ω–Ψ―΅―²–Η –Κ–Α–Κ –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ. –ü―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ–Η –Φ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ-―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²–¥–Β–Μ–Α ―³–Μ–Ψ―²–Α ―¹–Μ–Η–≤–Α–Μ–Η –Ω–Β―Ä–Β–Κ–Η―¹―¨, –Ψ–±–Β–Ζ–≤―Ä–Β–Ε–Η–≤–Α–Μ–Η –Η –Ψ―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α–Μ–Η ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥―΄. –≠―²–Ψ –¥–Μ–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≤–Β―¹―¨ –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η―΅–Ϋ―΄–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ 9 –Φ–Α―è.
–†–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―² ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Ε–Α―Ä–Α, ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Ι:
βÄ™ –ë–Ψ―Ä–Η―¹–Α –ù–Β―΅–Α–Β–≤–Α –Ω–Ψ―΅―ë―²–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―Ö–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Μ–Η –Ϋ–Α ―Ä–Ψ–¥–Η–Ϋ–Β, –≤ –ë–Α–Μ–Α–Κ–Μ–Α–≤–Β –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Η –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ, –Ω–Ψ―¹–Φ–Β―Ä―²–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥–Η–Μ–Η –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Ψ–Φ ¬Ϊ–ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Α―è –Ζ–≤–Β–Ζ–¥–Α¬Μ;
βÄ™ 1-–Ι –Ψ―²―¹–Β–Κ –≤―΄–≥–Ψ―Ä–Β–Μ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Η –Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Β –≤–Β―â–Η 22-―Ö –Β–≥–Ψ –Ε–Η―²–Β–Μ–Β–Ι. –ù–Α –≤–Ψ―¹―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β ―É―à―ë–Μ –Φ–Β―¹―è―Ü –Η –±–Ψ―΅–Κ–Α ―¹–Ω–Η―Ä―²–Α, –±–Β–Ζ–≤–Ψ–Ζ–Φ–Β–Ζ–¥–Ϋ–Ψ –≤―΄–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –ß–Λ –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Ψ–Φ –Γ–Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ –ù.–ê.;
βÄ™ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –ë–ß-3 –·―΅–Φ–Β–Ϋ―ë–≤–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ω―Ä–Ψ―΅–Η―²–Α–Μ –Ω―Ä–Η–Φ–Β―΅–Α–Ϋ–Η–Β –≤ –ü–€–Γ, –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Φ–Β–Μ–Κ–Η–Φ ―à―Ä–Η―³―²–Ψ–Φ, –Ϋ–Ψ ―Ä–Β―à–Η–Μ –≤ –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –Ϋ–Β –Ψ―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α―²―¨ –Ω–Ψ–¥–Ψ–Ζ―Ä–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥―É (–Ϋ–Β –≤―΄–¥–Β–Μ―è–≤―à―É―é –Ω―É–Ζ―΄―Ä―¨–Κ–Η –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―¹―²–Α–Κ–Α–Ϋ), –Η –Ϋ–Β –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –Ψ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è―Ö, –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–Μ–Η –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Φ –≤–Η–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ, –Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―²―Ä–Η–±―É–Ϋ–Α–Μ –¥–Α–Μ –Β–Φ―É –≥–Ψ–¥ ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ, –≤―΄―΅–Β―² –¥–≤―É―Ö –Η–Μ–Η ―²―Ä―ë―Ö –Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Ψ–≤ –Η ―¹–Ϋ–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –≤ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –û–Ϋ ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ –¥–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ –≤ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Α―Ä―¹–Β–Ϋ–Α–Μ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ –Ε–Β –€–Δ–û, –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è, ―²–Ψ–Ε–Β –¥–Ψ ¬Ϊ2-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α¬Μ;
βÄ™ –€–Δ–ß –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ–Ι –±–Α–Ζ―΄, –Ϋ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–≤―à―É―é ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥―É, –Ψ–±–Ψ―à–Μ–Η ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–Ι, ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Β –Ζ–Α–¥–Β–Μ–Η. –ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –€–Δ–ß –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –Φ–Α–Ι–Ψ―Ä–Α –Η –±―΄―¹―²―Ä–Ψ ―É–Β―Ö–Α–Μ –Ϋ–Α –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ―É, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―¹―²–Α―²―¨ –Ω–Ψ–¥–Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ. –Γ–Β–Ι―΅–Α―¹ –≤ –ë–Α–Μ–Α–Κ–Μ–Α–≤–Β –Φ―΄ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ–Η–Φ –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Γ–Ψ–≤–Β―²–Β –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ–Ψ–≤ –Η ―Ä–Α―¹–Κ–Μ–Α–Ϋ–Η–≤–Α–Β–Φ―¹―è –Μ―é–±–Β–Ζ–Ϋ–Ψ;
βÄ™ –Φ–Β–Ϋ―è –Ψ―²―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Η –Ψ―² –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η, ―¹–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –Ψ–±―ä―è–≤–Η–Μ–Η ―²–Ψ –Μ–Η ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Η–Ι –≤―΄–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä, ―²–Ψ –Μ–Η –Ω―Ä–Β–¥―É–Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ –Ϋ–Β–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Μ―É–Ε–Β–±–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Η–Η, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ –≥–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ (―²–Ψ―² –Ε–Β –™–Ψ―Ä―à–Κ–Ψ–≤), –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―²–Η–≤―à–Η―¹―¨ –Η–Ζ –Κ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ-―²–Ψ –≤–Η–Ζ–Η―²–Α, ―É―¹–Η–Μ–Η–Μ –Ϋ–Α–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η–Β –¥–Ψ ―¹–Ϋ―è―²–Η―è –Η –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è –≤ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ϋ–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Κ–Ψ–Φ–Ω–Β―²–Β–Ϋ―²–Ϋ–Ψ–Ι –Η ―¹–Β―Ä―¨―ë–Ζ–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η–Η –≤–Ψ –≥–Μ–Α–≤–Β ―¹ : ¬Ϊ–Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ä–Β―à–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Η –≥―Ä–Α–Φ–Ψ―²–Ϋ―΄–Β –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –ü–¦, –Ψ―²―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Η ―¹–Μ–Α–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ–Η–Μ–Η ―Ä–Α–Ζ―Ä–Α―¹―²–Η―¹―¨ –Α–≤–Α―Ä–Η–Η βÄ™ ―¹–Α–Φ–Ψ–≤–Ψ–Ζ–≥–Ψ―Ä–Α–Ϋ–Η―é ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥―΄ –≤ 1-–Φ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Β –ü–¦ βÄ™ –≤ –Κ–Α―²–Α―¹―²―Ä–Ψ―³―É¬Μ –Η ―²–Α–Κ –¥–Α–Μ–Β–Β. –‰–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ζ–Α ―ç―²–Ψ, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅–Η―²–Α–Β–Φ–Ψ–Β ―¹ –Ω―Ä–Η―¹―²–Α–≤–Κ–Ψ–Ι ¬Ϊ–Ϋ–Β¬Μ, –Φ–Ϋ–Β –±―΄―¹―²―Ä–Β–Ϋ―¨–Κ–Ψ ¬Ϊ–≤–Κ–Α―²–Α–Μ–Η¬Μ ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Α―΅–Α –Ω–Ψ –Ω–Α―Ä―²–Η–Ι–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Η–Ϋ–Η–Η –Β―â―ë –¥–Ψ –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η―è –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è, –Κ―¹―²–Α―²–Η, –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ―É ―¹–Α–Φ–Ψ–≤–Ψ–Ζ–≥–Ψ―Ä–Α–Ϋ–Η―è –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Η–Μ–Α –≤ ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ –Ϋ–Β―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ―¹―²–≤–Β ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥―΄. –†–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –ü–Α―Ä―²–Η―è –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Β–Μ–Α, ―É―¹–Ω–Β–Μ–Α!
–£―¹–Β ―¹–Ψ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Φ–Ϋ–Β, –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Η –≤ ―΅―ë–Φ –Ϋ–Β –≤–Η–Ϋ–Ψ–≤–Α―², –Ϋ–Ψ –≤–Ζ―΄―¹–Κ–Α–Ϋ–Η–Β –™–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ–Α –Φ–Ψ–Ε–Β―² ―¹–Ϋ―è―²―¨ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Α–Φ –™–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ. –£–Ψ―² ―²―É―²-―²–Ψ ―¹ –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η ―¹–Μ–Β―²–Α―²―¨ ―Ä–Ψ–Ζ–Ψ–≤―΄–Β –Ψ―΅–Κ–Η. –· ―É–≤–Η–¥–Β–Μ, ―΅―²–Ψ –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄–≤–Α–Β―² ―¹–≤–Ψ―é –Ζ–Α–¥–Ϋ–Η―Ü―É: –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ë–ß-3 –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –Μ–≥―É–Ϋ–Ψ–Φ –Η ―²―Ä―É―¹–Ψ–Φ; –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –€–Δ–û, –≤–Ϋ–Β–¥―Ä–Η–≤―à–Η–Ι –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β –¥–Μ―è ―²–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥―΄ ¬Ϊ53-57¬Μ ―¹ –Ω–Β―Ä–Β–Κ–Η―¹―¨―é –≤–Ψ–¥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α (75%), –Ϋ–Β –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ –Η―Ö ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Β –Η ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Β; –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –€–Δ–ß, –±–Ψ―è―¹―¨ –Ω–Ψ–¥–≤–Β―¹―²–Η ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ–Ι –±–Α–Ζ―΄, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―è–¥–Η–Μ―¹―è –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η―²―¨ –≤–Β―¹―¨ –Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –Ϋ–Α ―Ä–Α–Ζ–≥―Ä―É–Ζ–Κ―É –≤–Α–≥–Ψ–Ϋ–Ψ–≤, –Ω–Ψ–¥–Ε–Α–Μ ―Ö–≤–Ψ―¹―² –Η –Φ–Ψ–Μ―΅–Α–Μ, ―΅―²–Ψ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥―É –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Η ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –¥–Ψ–Ω―É―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Η –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α―é―â–Η–Β –Β―ë –Μ―é–¥–Η. –ù―É, –Η ―²–Α–Κ –¥–Α–Μ–Β–Β.
–ö―Ä–Ψ–Φ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –¥–Ψ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―¹–Μ―É―΅–Α―è –≤―¹―ë –±―΄–Μ–Ψ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ, ―è ―à―ë–Μ –≤–≤–Β―Ä―Ö, –Η –≤–¥―Ä―É–≥ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η –Κ–Ψ–Ω–Α―²―¨ –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥ –Φ–Β–Ϋ―è: –Η –±–Ψ―Ü–Φ–Α–Ϋ ―É –Φ–Β–Ϋ―è –≤ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–Φ –≥–Ψ–¥―É –Ω–Ψ–¥―Ö–≤–Α―²–Η–Μ ―¹–Η―³–Η–Μ–Η―¹ (–Ϋ–Β –Ψ―² –Φ–Β–Ϋ―è –Ε–Β –Η –Ϋ–Β –Ϋ–Α ―¹–Μ―É–Ε–±–Β!), –Η –Ω―¨―è–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –ë–ß-5, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Β–Μ–Β –Φ―΄―΅–Α–Μ –≤ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ―¹―²―É, ―è –≤ ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Α―Ö –≥―Ä―É–±–Ψ ―²–Κ–Ϋ―É–Μ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ι –≤ –€–ö–Δ–Θ, –Η... –ê –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Η –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ. –†–Α–Ϋ―¨―à–Β ―è ―¹―΅–Η―²–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η–Ζ―΄ –Ζ–Α ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ―΄–Β ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄–Β ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–±―΄ –Η ―²–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α―¹–Μ―É–≥–Η ―à–Μ–Η –≤ –Φ–Ψ–Η –Ω–Μ―é―¹―΄, –Α –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Η –Ω–Μ―é―¹―΄ ―¹―Ä–Α–Ζ―É ¬Ϊ–Ϋ–Α–Κ―Ä―΄–Μ–Η―¹―¨¬Μ, –Ω―Ä–Β–≤―Ä–Α―²–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Ϋ–Η―΅―²–Ψ –Η –¥–Α–Ε–Β –≤ –Φ–Η–Ϋ―É―¹―΄, –Α –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥―É –Ϋ–Α–¥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–±–Η–≤–Α―²―¨ –Ω–Μ–Β―΅–Α–Φ–Η, –Ϋ–Α―Ö–Α–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ–Φ, –Μ–Η–Ζ–Ψ–±–Μ―é–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β ―É–Φ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Η –¥–Ψ–±―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é. –≠―²–Ψ –Ϋ–Α–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β ―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Μ―É–Ε–Β–±–Ϋ―΄–Φ, ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Ψ―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ, –Ω―¹–Η―Ö–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ ―É–¥–Α―Ä–Ψ–Φ.
–Γ―¹―΄–Μ–Κ–Α
–€–Β–Ϋ―è –Ϋ–Α –≥–Ψ–¥ ―¹–Ψ―¹–Μ–Α–Μ–Η ... –Ϋ–Α –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―É―é ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―É –Γ–Β–≤–Α―¹―²–Ψ–Ω–Ψ–Μ―è –≤ –Φ–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Α―Ä―¹–Β–Ϋ–Α–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –Φ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ-―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄. –≠―²–Ψ –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ ―¹―²–Α ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤―΄―Ö –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ϋ–Β –≤–Ζ―è–Μ–Η –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –Η–Μ–Η ―¹–Ω–Η―¹–Α–Μ–Η, βÄ™ ―΅–Η―³–Η―Ä―â–Η–Κ–Ψ–≤, –¥–Β–±–Η–Μ–Ψ–≤ –Η –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≥–Η–Μ―¨–¥―è–Β–≤, ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Η―Ä―É―é―â–Η―Ö –Η –Ω–Β―Ä–Β–Ω―Ä–Η–≥–Ψ―²–Α–≤–Μ–Η–≤–Α―é―â–Η―Ö –Φ–Η–Ϋ―΄ –Ϋ–Α ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Η―Ö ―¹–Κ–Μ–Α–¥–Α―Ö.
–½–Α –Ω–Ψ–Μ–≥–Ψ–¥–Α ―è –Ϋ–Α–≤―ë–Μ ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Ψ–Κ –≤ ―ç―²–Ψ–Φ ¬Ϊ―²–Η―Ö–Ψ–Φ –±–Ψ–Μ–Ψ―²–Β¬Μ, ―¹–Α–Φ ―¹–Η–¥–Β–Μ –Ϋ–Α ―¹–Μ―É–Ε–±–Β –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η –Ζ–Α―¹―²–Α–≤–Η–Μ –Κ―Ä―É―²–Η―²―¨―¹―è –¥–≤―É―Ö –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤, –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η―Ö –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ–Ψ–≤ –Η –≤–Β―¹―¨ –Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤. –£–≤–Β–Μ ―΅―ë―²–Κ―É―é –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―é –Η –Ω–Μ–Α–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β, –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ –Η ―¹–¥–Α–Μ –Ζ–Α–¥–Α―΅–Η β³• 1 –Η β³• 2 –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –≤ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η –Α―Ä―¹–Β–Ϋ–Α–Μ–Α –Ϋ–Α ¬Ϊ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ¬Μ –Η –Ε–¥–Α–Μ ―¹–Ϋ―è―²–Η―è –≤–Ζ―΄―¹–Κ–Α–Ϋ–Η―è –™–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ–Ψ–Φ. –î―É―à–Β–≤–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Α–¥–Μ–Ψ–Φ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è βÄ™ –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α ―è ―¹―²–Α–Μ –≤―΄–Ω–Η–≤–Α―²―¨, ¬Ϊ–Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α―²―¨ –≥–Ψ―Ä–Β¬Μ.
–®―²–Α–±–Ϋ–Α―è ―¹–Μ―É–Ε–±–Α. –£–Β―Ä–Ϋ―É―²―¨―¹―è –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β–Μ–Β–≥–Κ–Ψ
–£ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β 1967 –≥–Ψ–¥–Α ―¹―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ 14 –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η―è –ü–¦, –Η –Φ–Ϋ–Β –Ζ–Α–±―Ä–Ψ–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Φ–Β―¹―²–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Η. –î–Β―Ä–Ε–Α–Μ–Η ―ç―²―É –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –¥–Ψ –Ϋ–Ψ―è–±―Ä―è, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –™–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ –≤―¹―ë –Ε–Β ―¹–Ϋ―è–Μ –≤–Ζ―΄―¹–Κ–Α–Ϋ–Η–Β, –Η ―è –±―΄–Μ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â―ë–Ϋ –Η–Ζ ¬Ϊ―¹―¹―΄–Μ–Κ–Η¬Μ. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ―¹―è –Ζ–Α ―Ä–Α–±–Ψ―²―É, –Η–Φ–Β―è –Ω–Μ–Α–Ϋ–Ψ–≤ –≥―Ä–Ψ–Φ–Α–¥―¨―ë, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ –Ε–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Α –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Β―² –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –Γ–Α–≤―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ –Η–Ζ –Γ―Ä–Β–¥–Η–Ζ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä―΄, –Ζ–Α–±–Ψ–Μ–Β–≤―à–Β–≥–Ψ ―Ä–Α–Κ–Ψ–Φ –≥–Ψ―Ä–Μ–Α. –ö –Ϋ–Β–Φ―É ―è –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Μ –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Η―Ö –Ω―Ä–Β―²–Β–Ϋ–Ζ–Η–Ι, –Η–±–Ψ ―¹ –Κ–Α–Ε–¥―΄–Φ –Φ–Ψ–Ε–Β―² ―¹–Μ―É―΅–Η―²―¨―¹―è.
–· ―É–Ε–Β –Ϋ–Η―΅–Β–Φ―É –Ϋ–Β ―É–¥–Η–≤–Η–Μ―¹―è. –ü–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ –Ω–Ψ ―²–Β–Μ–Β―³–Ψ–Ϋ―É ―¹ –£–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β–Ι –™–Α―Ä–Η–Ϋ―΄–Φ. –û–Ϋ –Φ–Ϋ–Β –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ–Η–Μ, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Β ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η–Β –™–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ–Α –Η –Ω–Β―Ä–Β–¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –Φ–Β―¹―²–Ψ ―É–Ε–Β –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Ψ, –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Ϋ–Β –±―É–¥–Β―² (–Μ–Η―²―¨ –Ϋ–Α ―¹–Β–±―è –Ε–Β), –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É ¬Ϊ–Ω–Ψ―²–Β―Ä–Ω–Η, –Φ―΄ ―²–Β–±―è –Ϋ–Β –Ζ–Α–±―É–¥–Β–Φ¬Μ. –ü―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –Φ–Ϋ–Β –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Β―¹―è―Ü–Β–≤ –Ω–Ψ–Κ―Ä―É―²–Η―²―¨―¹―è –≤ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―¹―²–Α―Ä―à–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Α –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α ―à―²–Α–±–Α –Ω–Ψ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Β –Η –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η βÄ™ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―Ö–Μ–Ψ–Ω–Ψ―²–Μ–Η–≤–Ψ–Ι, ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ. –Γ–Α–≤―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ ―É–≤–Ψ–Μ–Η–Μ–Η –Ω–Ψ –±–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Η, –Ψ–Ϋ –Ψ―¹–Β–Μ –Ϋ–Α –¥–Ψ–Μ–Β―΅–Η–≤–Α–Ϋ–Η–Β –≤ –î―É–±–Ϋ–Β, –Α –Φ–Β–Ϋ―è –≤–Ψ―¹―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Η –≤ –Ω―Ä–Β–Ε–Ϋ–Β–Ι –Η –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Η.
–Γ–Μ―É–Ε―É –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Η –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ
, –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö 13 βÄ™ –Φ–Ψ–Η―Ö (1967-1980 –≥–Ψ–¥―΄). –ö–Ψ–Μ–Μ–Β–Κ―²–Η–≤ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤-―³–Μ–Α–≥―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Ψ–≤ –Φ–Β–Ϋ―è–Μ―¹―è, –Ϋ–Ψ ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Η –Η –¥―É―Ö –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Β–Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η: –¥―Ä―É–Ε–±–Α, –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨ –¥―Ä―É–≥ –¥―Ä―É–≥―É, –≤–Ζ–Α–Η–Φ–Ψ–Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β –Η –≤–Ζ–Α–Η–Φ–Ψ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Β. –‰–Ϋ―²―Ä–Η–≥, –Ω–Ψ–¥―¹–Η–Ε–Η–≤–Α–Ϋ–Η–Ι –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ (―è –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―é ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ ―à―²–Α–±–Β, –±–Β–Ζ –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Ψ―²–¥–Β–Μ–Α –Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ ¬Ϊ–Φ–Ψ―ë–Φ¬Μ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥–Β –¥–Ψ 1980 –≥–Ψ–¥–Α). –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –¦–Α–Ζ–Α―Ä–Β–≤ –™.–£., –™–Β―Ä–Ψ–Ι –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –™–Β―Ä–Α―¹–Η–Φ–Ψ–≤ –£.–‰., –ö–Ψ–±–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η–Ι –¦.–‰., –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤ –Γ.–™. –Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Η ―à―²–Α–±–Α –Γ–Α–Φ–Ψ–Ι–Μ–Ψ–≤ –£.–ê., –Γ–Η–Ϋ–Β–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –£.–‰., –ö–Ψ–±–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η–Ι –¦.–‰., –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤ –Γ.–™., –†―è–±–Η–Ϋ–Η–Ϋ –‰.–‰. βÄ™ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η―¹―¨, ¬Ϊ–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η¬Μ, –≤–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Η –Ϋ–Ψ–≤―à–Β―¹―²–≤–Α –Η ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä―΄, –Ϋ–Ψ ―à―²–Α–± –¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ―¹―è ―¹―²–Ψ–Ι–Κ–Ψ, –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Μ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –Η –¥–Α–Ε–Β –≤―΄–¥–≤–Η–≥–Α–Μ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―à―²–Α–±–Ψ–≤ –≤ –Κ–Ψ–Φ–¥–Η–≤―΄, –Α –Κ–Ψ–Φ–¥–Η–≤–Ψ–≤ –Β―â―ë –≤―΄―à–Β.
–£ ―²–Β –≥–Ψ–¥―΄ –≤ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –Ϋ–Α―¹―΅–Η―²―΄–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –±–Ψ–Μ–Β–Β 50-―²–Η –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö –≤ ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–Φ 20 –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö, 10-15 –Ψ–Ω―΄―²–Ψ–≤―΄―Ö, –Α –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β βÄ™ –≤ –¥–Μ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ―²―¹―²–Ψ–Β-―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Β –Η –Κ–Ψ–Ϋ―¹–Β―Ä–≤–Α―Ü–Η–Η. –Δ–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Ψ–≤ 613, 613-–£, 611, 641, 641-–ë, –ê-615, 690 –Η ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Ψ–≤ 644, 651, 629, –¥–Η―¹–Μ–Ψ―Ü–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ –≤―¹–Β–Φ―É –ß―ë―Ä–Ϋ–Ψ–Φ―É –Φ–Ψ―Ä―é: –≤ –ë–Α–Μ–Α–Κ–Μ–Α–≤–Β –Η –Γ–Β–≤–Α―¹―²–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Β βÄ™ –Ω–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Β, –≤ –Λ–Β–Ψ–¥–Ψ―¹–Η–Η βÄ™ –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Α –Ψ–Ω―΄―²–Ψ–≤―΄―Ö –ü–¦, –≤ –û–¥–Β―¹―¹–Β βÄ™ –Κ–Ψ–Ϋ―¹–Β―Ä–≤–Α―Ü–Η―è. –ö―Ä–Ψ–Φ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ. –≤ –ë–Α–Μ–Α–Κ–Μ–Α–≤–Β –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –ü–¦ –ê-615 –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Α, –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –≤ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ –Η―Ö –Ω―Ä–Ψ–Ζ–≤–Η―â–Β–Φ βÄ™ ¬Ϊ–Ζ–Α–Ε–Η–≥–Α–Μ–Κ–Η¬Μ, –±―΄–Μ–Ψ –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ϋ–Β–Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ. –ù―É–Φ–Β―Ä–Α―Ü–Η―è –±―Ä–Η–≥–Α–¥ –Η –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Ψ–≤, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ –Η―Ö –¥–Η―¹–Μ–Ψ–Κ–Α―Ü–Η–Η, –Ζ–Α ―²―Ä–Η–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²―¨ –Μ–Β―² –Φ–Β–Ϋ―è–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ä–Α–Ζ.
–Θ–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è―²―¨ ―²–Α–Κ–Η–Φ ¬Ϊ―²–Α–±–Ψ―Ä–Ψ–Φ¬Μ, ―²–Α–Κ–Η–Φ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Φ –Η ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ¬Ϊ–≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ¬Μ –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–≤–Α―²–Ψ. –Γ–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è―²―¨ –Η ―É–≤―è–Ζ―΄–≤–Α―²―¨ –≥–Ψ–¥–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ω–Μ–Α–Ϋ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –±―΄–Μ–Ψ ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ, –Α –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è―²―¨ –Β–≥–Ψ βÄ™ –Β―â―ë ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Β–Β. –ù–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η―²―¨ –Η –±–Ψ–Β–≤―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É (–≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –≤ –Γ―Ä–Β–¥–Η–Ζ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β), –Η –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Β –¥–Β–Ε―É―Ä―¹―²–≤–Ψ, –Η –±–Ψ–Β–≤―É―é –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ―É ―¹–≤–Ψ―é –Η –¥―Ä―É–≥–Η―Ö ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι ―³–Μ–Ψ―²–Α, –Η –Ϋ–Α―É–Κ―É βÄ™ ¬Ϊ–±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ω―Ä―É―²–Α¬Μ, ―â―É–Ω–Α–Μ―¨―Ü–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –±―΄–Μ–Η –Ψ–±–≤–Β―à–Α–Ϋ―΄ ―²–Α–±–Μ–Η―΅–Κ–Α–Φ–Η ¬Ϊ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –™–® –£–€–Λ¬Μ, ¬Ϊ–¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Η–≤–Α –™–ö –£–€–Λ¬Μ, ¬Ϊ–Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ –€–û¬Μ –Η ―²–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―΄–Φ–Η.
–û―²–±–Η–≤–Α―²―¨―¹―è –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β–±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ. –ö―Ä–Ψ–Φ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –Ϋ–Α–¥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –Η –≤–Ψ ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Η―Ö –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η―è―Ö: ―É―΅–Β–Ϋ–Η―è―Ö, ―à―²–Α–±–Ϋ―΄―Ö ―²―Ä–Β–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Α―Ö, ―¹–±–Ψ―Ä-–Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α―Ö, –Η–Ϋ―¹–Ω–Β–Κ―Ü–Η―è―Ö. –ö–Α–Ε–¥–Ψ–Β –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β ¬Ϊ–Ζ–Α―²–Φ–Β–Ϋ–Η–Β¬Μ –Ψ―²―Ä–Α–Ε–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Η –Ϋ–Α –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η (―Ä–Α–Ζ–≤―ë―Ä―²―΄–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Η), –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―΅–Α―¹―²–Ψ ¬Ϊ―²―Ä–Β–Ω–Α–Μ–Η¬Μ –Ϋ–Α―¹ –Α―Ä–Α–±–Ψ-–Η–Ζ―Ä–Α–Η–Μ―¨―¹–Κ–Η–Β ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è.
–ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É ―à―²–Α–± –Ϋ–Β ―¹–Η–¥–Β–Μ –≤ –Κ–Α–±–Η–Ϋ–Β―²–Α―Ö, –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ –Κ―Ä―É―²–Η–Μ―¹―è –≤ –¥–Β–Μ–Β: ―²–Ψ –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Φ, –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä―è–Β–Φ –Η–Μ–Η –Ω―Ä–Β–¥―ä―è–≤–Μ―è–Β–Φ –Μ–Ψ–¥–Κ―É –Κ –ë–Γ –Η–Μ–Η –ë–î, ―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Φ ―É―΅–Β–Ϋ–Η―è ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è, ―²–Ψ ¬Ϊ–Ψ―²–¥―É–≤–Α–Β–Φ―¹―è¬Μ –Ϋ–Α –½–ö–ü ―³–Μ–Ψ―²–Α –≤ –£–Β―Ä―Ö–Ϋ–Β-–Γ–Α–¥–Ψ–≤–Ψ–Φ. –ù–Α―à–Η –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΄ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Ι –Ϋ–Α –±–Ψ–Β–≤―΄–Β –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –ü–¦ –Η –≤–Ζ–Α–Η–Φ–Ψ–¥–Β–Ι―¹―²–≤―É―é―â–Η―Ö ―¹–Η–Μ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –≤―¹–Β–≥–¥–Α ―¹ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Α –Ϋ–Α ¬Ϊ5¬Μ –Η–Μ–Η –Ϋ–Α ¬Ϊ4¬Μ, –Α –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ –Η―Ö –≤–Β―¹―¨ ―à―²–Α–±. –Γ―Ö–Β–Φ―΄, ―Ä–Α―¹―΅–Β―²―΄ –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι –Η ―¹–Ψ–Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è ―¹–Η–Μ –Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Ω–Μ–Β―΅–Η –Λ-1 (–£–Η―²–Η –£–Α–Ι―¹–Φ–Α–Ϋ–Α, –ë–Ψ―Ä–Η –Γ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤–Α, –£–Α–Μ–Η –®–Ϋ–Β–Β―Ä–Α βÄ™ –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Α 1955 –≥–Ψ–¥–Α, ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –Ψ–Ϋ –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β), –Λ-3 (–£–Α–Μ–Β―Ä―΄ –Γ–Ϋ–Ψ–Ω–Η–Κ–Ψ–≤–Α βÄ™ –≤―΄–Ω―É―¹–Κ 1954 –≥–Ψ–¥–Α, ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ ―²–Ψ–Ε–Β –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β) –Η –Φ–Ψ–Η βÄ™ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Η.
–£ 1970-1980-―Ö –≥–Ψ–¥–Α―Ö –Φ―΄ –Ω―Ä–Β–≤–Ψ―¹―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η ―²―É―Ä–Β―Ü–Κ–Η–Β –£–€–Γ, ―É―¹–Η–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β 6-–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –Γ–®–ê, –≤ ―²―Ä–Η ―Ä–Α–Ζ–Α, –Α ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ βÄ™ –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α―²―¨ ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ–Ψ βÄ™ –Ϋ–Α–Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ―²! –ö―Ä–Ψ–Φ–Β –Ψ–±―â–Β–≥–Ψ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Η, ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Ω–Ψ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ- –Η ―Ä–Α–¥–Η–Ψ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Β –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ―É. –≠―²–Ψ, ―²–Α–Κ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Α―è ―΅–Α―¹―²―¨ –Φ–Ψ–Η―Ö –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι. –î–Ψ–±–Α–≤–Η―²―¨ –Ϋ–Α–¥–Ψ, ―΅―²–Ψ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―è –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α –±―É–Φ–Α–≥–Β βÄ™ –Ψ–Ϋ–Η –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β. –®―²–Α–± ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Μ –≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Η ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Α–Φ–Η, –Η –≤–Ζ–Α–Η–Φ–Ψ–¥–Β–Ι―¹―²–≤―É―é―â–Η–Φ–Η ―¹–Η–Μ–Α–Φ–Η: ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―²–Α–Φ–Η –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ–Ψ–Ι –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Η, ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ―΄–Φ–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ–Η –Η –Κ–Α―²–Β―Ä–Α–Φ–Η –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Φ–Η ―¹–Η–Μ–Α–Φ–Η.
–€–Ψ―è –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Α―è –Ζ–Α–¥–Α―΅–Α –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄ –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η –≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α, ―¹–Η–≥–Ϋ–Α–Μ―¨―â–Η–Κ–Η, ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Η―¹―²―΄ –Η –≥–Η–¥―Ä–Ψ–Α–Κ―É―¹―²–Η–Κ–Η ―É–Φ–Β–Μ–Η ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Α―²―¨ –Β–≥–Ψ –Η, –Κ–Α–Κ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―², –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –≥―Ä–Α–Φ–Ψ―²–Ϋ–Ψ –≤–Β―¹―²–Η ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ―É –Η –Ω–Ψ–Η―¹–Κ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –Η ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ –Α―²–Α–Κ–Ψ–≤–Α―²―¨ –Β–≥–Ψ.

–ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Η ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ ―É–≤–Μ–Β―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η ―¹ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ―²–¥–Α―΅–Β–Ι
–†–Α–Ζ–≤–Β–¥–Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Α ―É –Φ–Β–Ϋ―è –±―΄–Μ–Α –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Α ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ: ―è ―¹―²–Α–≤–Η–Μ –Ζ–Α–¥–Α―΅–Η –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Β, –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β, –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ ―¹–±–Ψ―Ä―΄, –Β–Ε–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Η–Ζ–¥–Α–≤–Α–Μ –Η–Μ–Η –Κ–Ψ―Ä―Ä–Β–Κ―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ ―¹–±–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Κ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ–Ψ–≤ –Ω–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Β (―¹–Β–Φ–Η–Ϋ–Α―Ä―΄, ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ–Η, ―²–Α–±–Μ–Η―Ü―΄). –ß–Α―¹―²―¨ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ–Α –Ω–Β―΅–Α―²–Α–Μ, –Α ―΅–Α―¹―²―¨ –≤–Ϋ–Β–¥―Ä―è–Μ –≤ –≤–Η–¥–Β ―É–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ ―¹–Κ–Ψ–Φ–Ω–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―³–Ψ―²–Ψ–Α–Μ―¨–±–Ψ–Φ–Ψ–≤. –ü–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ –¥–Α–≤–Α–Μ ―²–Β–Κ―É―â―É―é –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ―É –Ω–Ψ –Γ―Ä–Β–¥–Η–Ζ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ―É ―²–Β–Α―²―Ä―É, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –≤–Β–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α –ö–ü –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η. –ù–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö ―ç―²―É ―Ä–Α–Ζ–Ε―ë–≤–Α–Ϋ–Ϋ―É―é –Ω–Η―â―É –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≥–Μ–Ψ―²–Η―²―¨. –ù–Α –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Κ–Α―Ö, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Η –Φ–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö, –≤ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ –Ψ―²–≤–Β―΅–Α–Μ–Η –Ϋ–Α ¬Ϊ4¬Μ –Η ¬Ϊ5¬Μ. –ö ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Η–≤―΄–Κ–Μ–Η, –Η –≤ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Β–Φ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Κ–Η ―¹―²–Α–Μ–Η –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η βÄ™ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä―è–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Α―Ä–Α –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Ϋ–Α –≤―΄–±–Ψ―Ä, –Ψ–¥–Η–Ϋ-–¥–≤–Α ―à―²–Α–±–Α –Η –≤―¹―ë ―ç―²–Ψ –Ζ–Α –Ψ–¥–Η–Ϋ –¥–Β–Ϋ―¨.
–£ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –Φ―΄ (―è βÄ™ –Κ–Α–Κ –Ψ–±―â–Η–Ι ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―¨, –Α –Φ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ –¦―ë―à–Α –ö–Ψ–≥–Ψ–Φ―Ü–Β–≤ βÄ™ –Κ–Α–Κ –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ–Ζ–Η–¥–Α―²–Β–Μ―¨) –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Β―à―²–Α―²–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä–Η―ë–Φ–Ϋ―΄–Ι ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä –Ϋ–Α –Ω―è―²―¨-–¥–Β―¹―è―²―¨ –Ω–Ψ―¹―²–Ψ–≤ ―¹ –Α–Ϋ―²–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ω–Ψ–Μ–Β–Φ. –Γ–Ψ–±―Ä–Α–≤ –≤―¹–Β―Ö –û–Γ–ù–ê–½–Ψ–≤―Ü–Β–≤ ―¹ –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Ω–Ψ–¥ ―¹–≤–Ψ―ë –Κ―Ä―΄–Μ–Ψ, –Φ―΄ –≤–Β–Μ–Η ―Ä–Α–¥–Η–Ψ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ―É –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹―É―é―â–Η―Ö –Ϋ–Α―¹ –Ψ–±―ä–Β–Κ―²–Ψ–≤ βÄ™ ―²―É―Ä–Β―Ü–Κ–Η―Ö, –≥―Ä–Β―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –£–€–Γ –Η 6-–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α –Γ–®–ê. –ü–Ψ –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Κ–Β ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨―¹―²–≤–Α βÄ™ –Ϋ–Β–Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ. –ü–Ψ –Δ―É―Ä―Ü–Η–Η –Φ―΄ –±―΄–Μ–Η –Ζ–Α―΅–Α―¹―²―É―é –Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Η―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η–Η, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ ―É –Ϋ–Α―à–Η―Ö ¬Ϊ―¹―²–Α―Ä–Η―΅–Κ–Ψ–≤¬Μ-–Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ–Ψ–≤ –±―΄–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Η –Ω–Β―Ä―¹–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―¹–Β–Κ―Ä–Β―²―΄ ―Ä–Α–Ζ–≥–Α–¥―΄–≤–Α–Ϋ–Η―è. –ö―Ä–Ψ–Φ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –Φ―΄ ―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ –û–Γ–ù–ê–½ –Η –Ω–Ψ―¹―΄–Μ–Α–Μ–Η –Η―Ö –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö –Ϋ–Α –±–Ψ–Β–≤―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É. –û–Ϋ–Η –Ω―Ä–Η–≤–Ψ–Ζ–Η–Μ–Η –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ―΄–Ι –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ.
–Γ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Φ, –≤―¹―ë –±―΄–Μ–Ψ ¬Ϊ–û'–Κ–Β–Ι!¬Μ βÄ™ –Φ―΄ –Ϋ–Α ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–Φ ―¹―΅–Β―²―É, –Ϋ–Α –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–Φ ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Β. –†–Α–±–Ψ―²–Α–Μ ―è ―¹ ―É–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η–Β–Φ, ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ, ―¹ –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ-―²–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Η―¹–Κ–Ψ―Ä–Κ–Ψ–Ι, –Η–Ϋ–Η―Ü–Η–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ϋ―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨―¹―²–≤―É. –‰ –Ϋ–Η–Κ―É–¥–Α –Ϋ–Β ―Ö–Ψ―²–Β–Μ ―É―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨.
–ö―É–¥–Α –Ϋ–Β ―Ö–Ψ―²–Β–Μ, βÄ™ ―²―è–Ϋ―É–Μ–Η
–£ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥–Ψ–≤, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―è –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ―¹―è –Ζ–Α –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α ―à―²–Α–±–Α –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η (–Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α ―¹―Ä–Ψ–Κ–Ψ–Φ –¥–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É–≥–Ψ–¥–Α –Η –¥–Α–Ε–Β –Ψ–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –≤–Ζ―΄―¹–Κ–Α–Ϋ–Η–Β –Ψ―² –ù–® ―³–Μ–Ψ―²–Α βÄ™ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―², –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–≤–Α–Μ–Η), ―è –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Μ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α –±–Ψ–Β–≤―΄–Β –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η. –€–Β–Ϋ―è –Ω―Ä–Η–Φ–Β―²–Η–Μ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ ―à―²–Α–±–Α ―³–Μ–Ψ―²–Α –Η –¥–Α–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É –Κ–Α–¥―Ä–Ψ–≤–Η–Κ–Α–Φ –Ω–Ψ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ ―¹–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–Ι. –û–Ϋ–Η –Ϋ–Α―à–Μ–Η –Φ–Β–Ϋ―è –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β, –≤ –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Β, –Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η ―É–≥–Ψ–≤–Α―Ä–Η–≤–Α―²―¨ –Ω–Β―Ä–Β–Ι―²–Η ―¹–Μ―É–Ε–Η―²―¨ –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ϋ―΄–Ι –Ω―É–Ϋ–Κ―² ―³–Μ–Ψ―²–Α. –· –Ψ―²–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è, ―¹–Ψ―¹–Μ–Α–≤―à–Η―¹―¨ –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ―é –Ϋ–Β–≤―΄–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Η –Ϋ–Β―É–≤–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Κ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨―¹―²–≤―É, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―É –Φ–Β–Ϋ―è –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ―è–Μ–Η―¹―¨.

–î–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α―é –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –Ζ–Α–¥–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ―É –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ –Μ–Ψ–¥–Κ–Α–Φ, –≤―΄―Ö–Ψ–¥―è―â–Η–Φ –Ϋ–Α –±–Ψ–Β–≤―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É –≤ –Γ―Ä–Β–¥–Η–Ζ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä–Β
–· –Ω―΄―²–Α–Μ―¹―è –Ω―Ä–Ψ–¥–≤–Η–Ϋ―É―²―¨―¹―è ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –û–¥–Η–Ϋ ―Ä–Α–Ζ βÄ™ –Ϋ–Α ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä―É –≤ –ü–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ–Ψ–Β, –Ϋ–Ψ –≤–Ζ–≤–Β―¹–Η–≤ –≤―¹―ë, ―¹–Α–Φ –Ω–Β―Ä–Β–¥―É–Φ–Α–Μ, –Η –£–Α–Μ–Β―Ä–Α –ü–Ψ–Ζ–¥–Ϋ―è–Κ–Ψ–≤ –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β ¬Ϊ–≤―΄―Ä–≤–Α–Μ¬Μ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ –Ψ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Η –Η–Ζ –Ω–Α–Ω–Κ–Η ¬Ϊ–Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–Ω–Η―¹―¨ –™–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ―É¬Μ. –î–≤–Α–Ε–¥―΄ ¬Ϊ–Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α–Μ―¹―è¬Μ –Ϋ–Α –Κ–Α–Φ―΅–Α―²―¹–Κ–Η–Β ―³–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η–Η. –ü–Β―Ä–≤―΄–Ι ―Ä–Α–Ζ ―²–Α–Φ–Ψ―à–Ϋ–Η–Ι –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–≥–Α –Ϋ–Β ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η–Μ―¹―è –Η–¥―²–Η –Ω–Ψ –Ψ–±–Φ–Β–Ϋ―É –Ϋ–Α –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ϋ–Η–Ε–Β: ―¹ ―³–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η–Η –Ϋ–Α –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η―é, –Α –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ζ –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Β –Ψ―²–¥–Α–Μ–Ψ –Φ–Ψ―ë –Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–Β –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ. –Δ–Α–Κ–Η–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ, –Κ―É–¥–Α –Ϋ–Β ―Ö–Ψ―²–Β–Μ βÄ™ ―²―è–Ϋ―É–Μ–Η, –Ϋ–Α―¹―²–Α–Η–≤–Α–Μ–Η, –Α –Κ―É–¥–Α ―Ö–Ψ―²–Β–Μ βÄ™ –Ϋ–Β –Ω―É―¹―²–Η–Μ–Η.

–ë―É–¥―É―΅–Η –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ―΄–Φ –¥–Β–Ε―É―Ä–Ϋ―΄–Φ, –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α ―É–Ζ–Ϋ–Α―ë―à―¨ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ―É―é –Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η―é –Ψ ―¹–Β–±–Β
–û ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β –Ω―É―¹―²–Η–Μ–Η, ―É–Ζ–Ϋ–Α–Μ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ. –Γ―²–Ψ―é –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ―΄–Φ –¥–Β–Ε―É―Ä–Ϋ―΄–Φ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η. –†–Α–Ζ–¥–Α―ë―²―¹―è –Ζ–≤–Ψ–Ϋ–Ψ–Κ –±–Β–Μ–Ψ–≥–Ψ ―²–Β–Μ–Β―³–Ψ–Ϋ–Α ¬Ϊ–£–ß¬Μ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ¬Ϊ–Κ–Ψ–Φ–Ω–Α―¹¬Μ (–€–Ψ―¹–Κ–≤–Α). –û―²–¥–Β–Μ –Κ–Α–¥―Ä–Ψ–≤ –Δ–û–Λ –Ω―Ä–Ψ―¹–Η―² –Κ–Ψ–Φ–¥–Η–≤–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Α –Ϋ–Α ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä. –Θ–Ζ–Ϋ–Α―é –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹ –Δ–Ψ–Μ–Η –®–Β–±–Α–Ϋ–Η–Ϋ–Α –Η, –Ζ–Ϋ–Α―è, ―΅―²–Ψ –±―É–Φ–Α–≥–Η –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–¥ –Ω–Ψ―à–Μ–Η, ―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α―é, –Κ–Α–Κ –Φ–Ψ–Η –¥–Β–Μ–Α. –Δ–Ψ–Μ―è ―É–¥–Η–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤–Ψ―¹–Κ–Μ–Η―Ü–Α–Β―²: βÄ™ ¬Ϊ–Δ–Α–Κ ―²–≤–Ψ–Η ―²–Α–Φ ―΅―²–Ψ-―²–Ψ ―²–Β–±―è –Ϋ–Β –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Α―é―²¬Μ (–Ω―Ä–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ―¹―è!). –ù–Η–Κ―²–Ψ –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Β –≤―΄–Ζ―΄–≤–Α–Μ, ―¹–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Β –±–Β―¹–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ, –Ϋ–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ –Ψ–± –Ψ―²–Κ–Α–Ζ–Β βÄ™ ―²–Α–Κ –≤―¹―ë –Φ–Ψ–Μ―΅–Κ–Ψ–Φ, –Ϋ–Α ¬Ϊ―²–Ψ―Ä–Φ–Ψ–Ζ–Α―Ö¬Μ. –ê –≤―Ä–Ψ–¥–Β –±―΄ –Γ―²–Α―¹ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤ ―¹―΅–Η―²–Α–Μ―¹―è, –Β―¹–Μ–Η –Ϋ–Β –¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ, ―²–Ψ –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Η–Φ ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Β–Φ. –£–Φ–Β―¹―²–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η, –Ε–Η–Μ–Η –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –¥–Ψ–Φ–Β, –Ε―ë–Ϋ―΄ ―¹–Ψ–≤–Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ –Κ―Ä–Ψ–Η–Μ–Η –Ϋ–Α―Ä―è–¥―΄, –¥–Α–Ε–Β –Ω–Β―Ä–Β–Ω–Η―¹―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ ―à―²–Α–±–Α –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –≤ –€–Α–≥–Α–¥–Α–Ϋ–Β.
–‰―¹―Ö–Ψ–¥―è –Η–Ζ –Α―³–Ψ―Ä–Η–Ζ–Φ–Α: ¬Ϊ–ß―²–Ψ –Ϋ–Η –¥–Β–Μ–Α–Β―²―¹―è βÄ™ –≤―¹―ë –¥–Β–Μ–Α–Β―²―¹―è –Κ –Μ―É―΅―à–Β–Φ―É¬Μ, –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Μ―É―΅―à–Β, ―΅―²–Ψ ―è –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ –Ϋ–Α –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ―É, ―Ö–Ψ―²―è –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―Ö–Ψ―²–Β–Μ –Ω–Ψ–±―΄–≤–Α―²―¨ ―²–Α–Φ –Η –Ω–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η―²―¨ –≤ ―²–Β―Ö –Κ―Ä–Α―è―Ö.
–®―²–Α–±–Ϋ–Α―è ―¹–Μ―É–Ε–±–Α –Ϋ–Β –Μ–Β–≥―΅–Β
–Θ―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ ―¹–Μ―É–Ε–±–Α –≤ ―à―²–Α–±–Β –±―΄–Μ–Α –Μ–Β–≥―΅–Β, ―΅–Β–Φ –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö, –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥―É. –ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, ―¹―²–Ψ–Μ –≤ –Κ–Α–±–Η–Ϋ–Β―²–Β –Ϋ–Β –Κ–Α―΅–Α–Μ―¹―è –Η ¬Ϊ―³–Β–Ι―¹¬Μ –Ϋ–Β –Κ–Ψ–Μ–Ψ–Μ–Η –Μ–Β–¥―è–Ϋ―΄–Β –±―Ä―΄–Ζ–≥–Η, –Ϋ–Ψ...
–£ –Φ–Ψ―Ä–Β ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Β ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²―΄ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Κ–Α–Κ –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Β –≥―Ä―É–Ω–Ω ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α–Φ–Η (–Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι ―à―²–Α–±), ―²–Α–Κ –Η –Ψ–¥–Η–Ϋ–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö. –ö–Α–Κ-―²–Ψ ―Ä–Α–Ζ ―è –≤―΄―à–Β–Μ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Β ¬Ϊ–Ϋ–Β –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι¬Μ ―³–Β–Ψ–¥–Ψ―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –±―΄–Μ –Ϋ–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―Ä–Β―à–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Μ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Ω―΄―²–Α –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄. –½–Α–¥–Α―΅–Β–Ι –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α –±―΄–Μ–Α ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Α –Ζ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Β–≥–Ψ –≤ –ß―ë―Ä–Ϋ–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä–Β –Ψ―²―Ä―è–¥–Α –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι 6-–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α –Γ–®–ê.
–ß―²–Ψ–±―΄ ¬Ϊ―É―Ö–≤–Α―²–Η―²―¨¬Μ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –±–Β–Ζ–Ψ―à–Η–±–Ψ―΅–Ϋ–Ψ, ―è ―É–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Ϋ–Α―Ä―É―à–Η―²―¨ 24-–Φ–Η–Μ―¨–Ϋ―É―é –Ζ–Ψ–Ϋ―É. –™–Ψ―¹–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü–Α –Δ―É―Ä―Ü–Η–Η βÄ™ 3 –Φ–Η–Μ–Η, –Ω–Ψ ¬Ϊ–≤–Ζ–Α–Η–Φ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η¬Μ βÄ™ 12 –Φ–Η–Μ―¨, –Α –Ϋ–Α―à –™–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Α–Μ –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β 24-―Ö –Φ–Η–Μ―¨. –ü―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –≤–Ζ―è–≤ –Ϋ–Α ―¹–Β–±―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Ψ–Ι, –Ζ–Α–Μ–Β–Ζ –Ω–Ψ―΅―²–Η –≤ ¬Ϊ–¥―΄―Ä–Κ―É¬Μ –ë–Ψ―¹―³–Ψ―Ä–Α. –½–Α –¥–≤–Α ―΅–Α―¹–Α, –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―è –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α–Μ –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―Ü–Β–≤, –¥–Α–Μ –≤–Ψ―¹–Β–Φ―¨ –¥–Ψ–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η–Ι, –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä―è –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ϋ–Α―à–Η―Ö –Ζ–Α–≤–Β―¹ –Ϋ–Α–≤–Β–Μ–Η―¹―¨, –Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η ―¹–Μ–Β–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Η―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ–Η―¹―¨. –ù–Α―à–Η –¥–Ψ–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η―è –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ –Α–≤–Η–Α―Ü–Η―è –Ϋ–Β –Μ–Β―²–Α–Μ–Α –Η–Ζ-–Ζ–Α –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ–Ι –Ω–Ψ–≥–Ψ–¥―΄. –‰ ―²–Α–Κ–Η–Β ¬Ϊ―Ö―É–Μ–Η–≥–Α–Ϋ―¹―²–≤–Α¬Μ –±―΄–Μ–Η –≤ –Φ–Ψ–Β–Ι –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ–Β –Ϋ–Β –Ψ–¥–Η–Ϋ ―Ä–Α–Ζ.
–£–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Ι –Μ―é–±–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –Η –Φ–Α―¹―à―²–Α–±–Α ―à―²–Α–± –¥–Β–Μ–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α ―²―Ä–Η ―΅–Α―¹―²–Η: –Ψ–¥–Ϋ–Α βÄ™ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Β–Ι –Η –Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Β–Ε―É―Ä―¹―²–≤–Α –≤ –ë–Α–Μ–Α–Κ–Μ–Α–≤―¹–Κ–Ψ–Ι ―à―²–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Β –Ϋ–Α –Ζ–Α―â–Η―â―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –ö–ü; –≤―²–Ψ―Ä–Α―è βÄ™ –≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Η –Η ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Α–Φ–Η, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Η ―¹―Ä–Β–¥–Η–Ζ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Φ–Η –Ϋ–Α –½–ö–ü ―³–Μ–Ψ―²–Α –≤ –£–Β―Ä―Ö–Ϋ–Β-–Γ–Α–¥–Ψ–≤–Ψ–Φ; –Η ―²―Ä–Β―²―¨―è βÄ™ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Α–Φ–Η –Η ―¹–±–Ψ―Ä –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ψ―² –Ϋ–Η―Ö –Ϋ–Α –Α―²–Α–Κ―É–Β–Φ–Ψ–Φ –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Β –Η–Μ–Η –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι ―à―²–Α–± –Ϋ–Α –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Ω–Μ–Α–≤–±–Α–Ζ–Β –Η–Μ–Η ―¹―É–¥–Ϋ–Β.
–ü–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Α―à–Η ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Κ–Η –Η –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²–Η–Β –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α–Φ ―à―²–Α–±–Ψ–≤ –Η –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Ψ―² –≤―΄―à–Β―¹―²–Ψ―è―â–Η―Ö ¬Ϊ–Κ–Ψ–Ω–Α―²–Β–Μ–Β–Ι¬Μ –±―΄–Μ–Η ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ―΄ ―¹ –≤―΄–Β–Ζ–¥–Α–Φ–Η –Ϋ–Α –Φ–Β―¹―²–Α, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –≤ –Λ–Β–Ψ–¥–Ψ―¹–Η―é, –Η –≤ –û–¥–Β―¹―¹―É. –ù–Β–Μ―¨–Ζ―è ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ ―É –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ ―à―²–Α–±–Α –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ ¬Ϊ–Μ―é–±–Η–Φ–Ψ–≥–Ψ¬Μ –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α. –Θ –Φ–Β–Ϋ―è, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –±―΄–Μ–Η –≤ –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η ―³–Ψ―²–Ψ–Μ–Α–±–Ψ―Ä–Α―²–Ψ―Ä–Η―è, ―΅–Β―Ä―²―ë–Ε–Ϋ–Η–Κ–Η –Η –ù–ü–Π βÄ™ ―ç―²–Ψ 20-40 –û–Γ–ù–ê–½–Ψ–≤―Ü–Β–≤, –≤–Κ–Μ―é―΅–Α―è –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ –Η –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ–Ψ–≤. –Θ –¥―Ä―É–≥–Η―Ö ―³–Μ–Α–≥―¹–Ω–Β―Ü–Ψ–≤ βÄ™ ―É–Ζ–Β–Μ ―¹–≤―è–Ζ–Η, ―à–Η―³―Ä–Ω–Ψ―¹―² ―¹ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥―è―â–Η–Φ–Η –Ϋ–Α –¥–Β–Ε―É―Ä―¹―²–≤–Ψ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Α–Φ–Η, –Κ–Α–±–Η–Ϋ–Β―²―΄ ―¹ –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ¬Ϊ–Μ–Α–±–Ψ―Ä–Α–Ϋ―²–Α–Φ–Η¬Μ βÄ™ ―à―²–Α–±–Ϋ―΄–Φ–Η ―Ä–Α–Ζ–≥–Η–Μ―¨–¥―è―è–Φ–Η. –½–Α –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―è–Φ –Ϋ–Α ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è―Ö –Φ―΄ ―²–Ψ–Ε–Β –Ψ―²–≤–Β―΅–Α–Μ–Η.
–†–Α–¥–Ψ―¹―²–Η –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η
–î–Α, –Ϋ–Α–≥―Ä―É–Ζ–Κ–Α –±―΄–Μ–Α –±–Ψ–Μ―¨―à–Α―è, –Ϋ–Ψ –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Α –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Μ–Η –≤―¹–Β–≥–¥–Α –≤ ―É–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è βÄ™ –Μ–Β―²–Ψ–Φ. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Λ-3 –£–Α–Μ–Β―Ä–Α –Γ–Ϋ–Ψ–Ω–Η–Κ–Ψ–≤ –Μ―é–±–Η–Μ –Ψ―²–≥―É–Μ–Η–≤–Α―²―¨ –≤ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β –≥–Ψ–¥–Α. –û–Ϋ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ: βÄ™ ¬Ϊ–ê –≤–¥―Ä―É–≥ –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Α –Ϋ–Α―΅–Ϋ―ë―²―¹―è, –Α –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ –Ϋ–Β –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ!¬Μ. –ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –±―΄–Μ–Η –Ψ–¥–Η–Ϋ-―²―Ä–Η ―΅–Η―¹―²―΄―Ö –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –¥–Ϋ―è –≤ –Φ–Β―¹―è―Ü, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Β―¹―²―¨ –Ϋ–Α –Κ–Α―²–Β―Ä –Η ―É–Κ–Α―²–Η―²―¨ –Ϋ–Α –Ϋ–Ψ―΅―ë–≤–Κ―É –≤ –ë–Α―²–Η–Μ–Η–Φ–Α–Ϋ –Η–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ–Κ–Α―²–Η―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Β –Ω–Ψ –°–Ε–Ϋ–Ψ–Φ―É –±–Β―Ä–Β–≥―É –ö―Ä―΄–Φ–Α.
–· –Ω―Ä–Η–Ψ–±―Ä―ë–Μ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β ¬Ϊ–•–Η–≥―É–Μ–Η¬Μ –£–ê–½-2101 –≤ 1971 –≥–Ψ–¥―É, –≤―²–Ψ―Ä―΄–Β –£–ê–½-2103 βÄ™ –≤ 1976 –≥–Ψ–¥―É. –£―¹–Β–≥–¥–Α –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è –Μ―é–±–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é, –Μ―é–±–Ψ–Ι ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Η–Ϋ―É―²–Κ–Ψ–Ι, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤–Β―΅–Β―Ä–Κ–Ψ–Φ ―¹ ―¹–Β–Φ―¨―ë–Ι ―¹–Φ–Ψ―²–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –Ω–Μ―è–Ε –≤ –¦–Α―¹–Ω–Η –Η–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ–Κ–Α―²–Η―²―¨―¹―è –Ω–Ψ ¬Ϊ–±–Β―Ä–Φ―É–¥―¹–Κ–Ψ–Φ―É ―²―Ä–Β―É–≥–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ―É¬Μ βÄ™ –≤–¥–Ψ–Μ―¨ –°–ë–ö ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –·–Μ―²―É, –ê–Μ―É―à―²―É –Η –Ω–Β―Ä–Β–≤–Α–Μ –≤ –Γ–Η–Φ―³–Β―Ä–Ψ–Ω–Ψ–Μ―¨ –Η–Μ–Η ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –ê–Ι-–ü–Β―²―Ä–Η –Η –ö―É–Ι–±―΄―à–Β–≤―¹–Κ―É―é –¥–Ψ–Μ–Η–Ϋ―É –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι, –Ϋ–Α –Γ–Β–≤–Α―¹―²–Ψ–Ω–Ψ–Μ―¨.

–ë–Α–Μ–Α–Κ–Μ–Α–≤–Α. –½–Ψ–Μ–Ψ―²–Ψ–Ι –Ω–Μ―è–Ε. –Δ–Α–Κ ―è –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²―΄–≤–Α–Μ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Κ–Α
–ï–Ε–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ–Ψ –¥–Ψ 1979 –≥–Ψ–¥–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ―¹―è –≤–Ϋ―É–Κ, –Φ―΄ –Β–Ζ–¥–Η–Μ–Η –≤ –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Α –≤―¹–Β–Ι ―¹–Β–Φ―¨―ë–Ι –Η –≤ –€–Ψ–Μ–¥–Α–≤–Η―é, –Η –≤ –½–Α–Κ–Α―Ä–Ω–Α―²―¨–Β, –Ϋ–Α –ö–Α–≤–Κ–Α–Ζ –¥–Ψ –Γ―É―Ö―É–Φ–Η, –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥ –Η –ü―Ä–Η–±–Α–Μ―²–Η–Κ―É ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –€–Ψ―¹–Κ–≤―É –Η–Μ–Η –ö–Η–Β–≤. –£–Ω–Β―΅–Α―²–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι –Η ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Ι βÄ™ –Φ–Α―¹―¹–Α, –Α –Β―â―ë –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ζ–Α―Ä―è–¥–Α –±–Ψ–¥―Ä–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Α –≥–Ψ–¥ –Κ–Α–Κ –Ψ―² –Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–¥―΄, ―²–Α–Κ –Η –Ψ―² –≤―¹―²―Ä–Β―΅ ―¹ ―Ä–Ψ–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η. –Γ–Β–Ι―΅–Α―¹ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β―² ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Η –Ϋ–Β―² –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η.
–ü–Β–Ϋ―¹–Η–Ψ–Ϋ –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ―΄–Ι –Η –Ϋ–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨. –•–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Β―²―¹―è
–ù–Α ―΅–Β―²―΄―Ä–Β –≥–Ψ–¥–Α ―è ¬Ϊ–Ω–Β―Ä–Β―¹–Η–¥–Β–Μ¬Μ ―¹–≤–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―² –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α –Ω–Β–Ϋ―¹–Η―é (45 –Μ–Β―²), ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ –Η ―¹–Α–Φ –±–Ψ―è–Μ―¹―è (–Α –Κ–Α–Κ ―²–Α–Φ –Ϋ–Α –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ–Κ–Β?!), –Η –Ϋ–Β ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Η –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Α―²―¨. 1 ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä―è 1980 –≥–Ψ–¥–Α ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ―¹―è –Ω―Ä–Ψ―â–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –±–Α–Ϋ–Κ–Β―². –ë―΄–Μ–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ―΄―Ö, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Μ―¨―¹―²–Η–≤―΄―Ö ―Ä–Β―΅–Β–Ι, –Α–¥―Ä–Β―¹–Ψ–≤, –≥―Ä–Α–Φ–Ψ―², –Ω–Ψ–¥–Α―Ä–Κ–Ψ–≤, –Ζ–Α–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Η–Ι –Ψ―² –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ ―à―²–Α–±–Α, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Η –Φ–Ψ–Η―Ö ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥―΅–Η–Κ–Ψ–≤, –Η, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ –Ε–Β, –±―΄–Μ–Α –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ―¹–Κ–Α―è –Φ–Β–¥–Α–Μ―¨.
–ê –Β―â―ë –¥–Ψ –Ϋ–Ψ―è–±―Ä―¨―¹–Κ–Η―Ö –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―è –Ϋ–Α―΅–Α–Μ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ –≤ –≥–Η–¥―Ä–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Η –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α –Ϋ–Α ―¹―É–¥–Α―Ö ―¹–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Ψ–Φ, –Ζ–Α―²–Β–Φ ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Ψ–Φ, –Η ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ε–Β ―¹–¥–Α–Μ –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²―΄ –Ϋ–Α –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Η–Β –≤–Η–Ζ―΄. –½–Α ―²―Ä–Η –≥–Ψ–¥–Α ―è –Ω–Β―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η–Μ –™–Γ-401, –™–Γ-402, ¬Ϊ–¦–Η–Φ–Α–Ϋ¬Μ, ¬Ϊ–ê–Ι―²–Ψ–¥–Ψ―Ä¬Μ –Η –Ψ–±–Μ–Α–Ζ–Η–Μ –≤―¹–Β –Ζ–Α–Κ–Ψ―É–Μ–Κ–Η –ß―ë―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è –Ψ―² –Κ–Α–≤–Κ–Α–Ζ―¹–Κ–Η―Ö –¥–Ψ –¥―É–Ϋ–Α–Ι―¹–Κ–Η―Ö –Η –¥–Ϋ–Β–Ω―Ä–Ψ–±―É–≥―¹–Κ–Η―Ö.
–ù–Α –≥–Η–¥―Ä–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö ―¹―É–¥–Α―Ö ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ–Φ–Β―Ä―΄ –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ, –Ζ–Α–Φ–Β―Ä―΄ –≥–Η–¥―Ä–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η–Η, –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–≤–Α–Μ–Η ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Β ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Η–Β ―É―΅–Β–Ϋ–Η―è –≤ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β –Ϋ–Α–≤–Η–≥–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α. –†–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Η ―¹ ¬Ϊ–Ϋ–Α―É–Κ–Ψ–Ι¬Μ, –¥–Α–Ε–Β ―¹–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Κ–Η–Ϋ–Ψ –¥–Μ―è ―Ä–Β–Κ–Μ–Α–Φ―΄ –Η –Ψ–±–Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –≤―΄–¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α –≥–Ψ―¹–Ω―Ä–Β–Φ–Η―é ―ç―Ö–Ψ–Μ–Ψ―²–Α –±–Ψ–Κ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±–Ζ–Ψ―Ä–Α. –£–Ψ–Ζ–Η–Μ–Η –Ϋ–Α–≤–Η–≥–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≥―Ä―É–Ζ―΄: –Α―Ü–Β―²–Ψ–Ϋ, –±―É–Η, ―è–Κ–Ψ―Ä―è, –Κ–Α―Ä―²―΄, ―¹―²–Β–Μ–Μ–Α–Ε–Η, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β ―¹–Β–Φ―¨–Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –≤ ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Β –≥–Η–¥―Ä–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ―΄ –Η –Ϋ–Α –Φ–Α―è–Κ–Η –ß―ë―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è –Η –¥–Β–Μ–Α–Μ–Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Β –¥―Ä―É–≥–Ψ–Β.
–£―¹―ë ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Φ–Ϋ–Β ¬Ϊ―²―è–Ϋ―É–Μ–Η¬Μ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Η–Β –≤–Η–Ζ―΄ ―¹–Ψ ―¹―¹―΄–Μ–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Α ¬Ϊ–Ψ–±–Μ–Α–¥–Α–Ϋ–Η–Β¬Μ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Α–Ι–Ϋ–Ψ–Ι, –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Η –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η ―¹ ―¹―É–¥–Ϋ–Α –Ϋ–Α ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ.
–ù–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü, ―è, –Ω–Μ―é–Ϋ―É–≤ –Ϋ–Α –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö, –Ψ―²–Κ―Ä―΄–Μ –≤–Η–Ζ―É ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –≥–Η–¥―Ä–Ψ―³–Η–Ζ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―², ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ―²–Ψ―² –Ε–Β –ö―Ä―΄–Φ―¹–Κ–Η–Ι –Ψ–±–Κ–Ψ–Φ, –Η ―É―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ-–Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Β ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ ¬Ϊ–ï–≤–Ω–Α―²–Ψ―Ä–Η―è¬Μ –Γ–Η–±–Η―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è –ê–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η –Ϋ–Α―É–Κ –Γ–Γ–Γ–†, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Ω–Ψ–±―΄–≤–Α–Μ –≤ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―è―Ö –Ψ―² ―΅–Β―²–≤―ë―Ä―²–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α. –î–Ψ–Μ―¨―à–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ –Η ¬Ϊ–Μ―é–±–Β–Ζ–Ϋ–Β–Β¬Μ –Φ–Ψ–Β–Φ―É ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä―É, –±―΄–Μ ―²―Ä–Β―²―¨–Η–Φ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α: –Κ–Α―Ä―²―΄, ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Β –Ω―Ä–Η–±–Ψ―Ä―΄ –Η –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α βÄ™ ―ç―²–Ψ –Φ–Ψ―è ―¹―²–Η―Ö–Η―è!
–£ ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Η―Ö–Η–Η
–†–Α–±–Ψ―²–Α –Ϋ–Α ¬Ϊ–≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ–Κ–Β¬Μ ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ω–Ψ―Ä–Α–Ζ–Η–Μ–Α ―¹–≤–Ψ–Η–Φ ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι―¹―²–≤–Η–Β–Φ, ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é, –Ϋ–Β―É―²–Ψ–Φ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é, ―Ö–Ψ―²―è –Η –≤ –≥–Η–¥―Ä–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Η –±―΄–≤–Α–Μ–Η ¬Ϊ–≤–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β¬Μ.
(–±―΄–≤―à–Η–Ι ―Ä―΄–±–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Ι –Φ–Ψ―Ä–Ψ–Ζ–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―²―Ä–Α―É–Μ–Β―Ä) –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ―è–Μ―¹―è –£―΄―΅–Η―¹–Μ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ―É ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä―É –Γ–Η–±–Η―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è –ê–ù –Γ–Γ–Γ–†. –ü–Μ–Α–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β ―Ä–Α–±–Ψ―² –Η ―¹–Ϋ–Α–±–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Ι ―à–Μ–Ψ –Ψ―²―²―É–¥–Α. –†–Β–Ι―¹―΄ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Ψ―² 30 –¥–Ψ 70 ―¹―É―²–Ψ–Κ –Ω–Ψ –≤―¹–Β–Φ―É –ß―ë―Ä–Ϋ–Ψ–Φ―É –Φ–Ψ―Ä―é ―¹ –Ζ–Α―Ö–Ψ–¥–Α–Φ–Η –≤ –ë–Ψ–Μ–≥–Α―Ä–Η―é. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Μ–Η –≤–Α–Μ―é―²―É –≤ –≤–Η–¥–Β ¬Ϊ–±–Ψ–Ϋ¬Μ, ―΅―²–Ψ ―è–≤–Μ―è–Μ–Ψ―¹―¨ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Φ –Ω–Ψ–¥―¹–Ω–Ψ―Ä―¨–Β–Φ –Η –Ω–Ψ–≤–Ψ–¥–Ψ–Φ –¥–Μ―è ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ―¹–Β―â–Β–Ϋ–Η–Ι –≤–Α–Μ―é―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Α–≥–Α–Ζ–Η–Ϋ–Α. –½–Η–Φ–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ―è–Μ–Η, ―΅―²–Ψ-―²–Ψ ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–¥–Β–Μ―΄–≤–Α–Μ–Η, –Φ–Ψ–¥–Β―Ä–Ϋ–Η–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η. –û―²–Ω―É―¹–Κ–Α ―¹ –Ψ―²–≥―É–Μ–Α–Φ–Η –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ ―²―Ä–Η-―΅–Β―²―΄―Ä–Β –Φ–Β―¹―è―Ü–Α. –ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, ―É―¹–Ω–Β–≤–Α–Μ–Η ―¹―ä–Β–Ζ–¥–Η―²―¨ –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥.
–®―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Α―è, ―¹―É–¥–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Α―è ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ–Φ ―¹―É–¥–Ϋ–Β ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Α –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –¥–Μ―è –Ϋ–Α―É–Κ–Η. –î–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –Ψ―à–Η–±–Κ–Α –≤ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –Φ–Β―¹―²–Α –Ω–Ψ ―è–Ω–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Ω―É―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤–Ψ–Ι ―¹–Η―¹―²–Β–Φ–Β –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–≤―΄―à–Α–Μ–Α 16 –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤. –ü―Ä–Η –Ω–Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Β βÄ™ ―¹–Ϋ―è―²–Η―é –±―É–Β–≤, –Φ–Α–Ϋ–Β–≤―Ä–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η ―¹ –Κ–Α–±–Β–Μ–Β–Φ –Ζ–Α –Κ–Ψ―Ä–Φ–Ψ–Ι, –¥–Μ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ―é 2000 –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤, –Φ–Β–Ε–¥―É ―¹–≤–Α―è–Φ–Η –±―΄–≤―à–Η―Ö –≥–Α–Ζ–Ψ–≤―΄―Ö –≤―΄―à–Β–Κ ¬Ϊ–Γ–Η–≤–Α―à¬Μ –Η–Μ–Η –≤ –Ω–Ψ―²–Ψ–Κ–Β ―à–Ϋ―΄―Ä―è―é―â–Η―Ö ―¹―É–¥–Ψ–≤ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ¬Ϊ–Η–Ζ–≤–Ψ―Ä–Α―΅–Η–≤–Α―²―¨―¹―è¬Μ –¥–Ψ –Ω–Ψ―²–Α. –‰–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α βÄ™ ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ–Β ―É–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Η–Β –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ―É―Ä―¹–Α. –ù–Α–¥–Ψ ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ ¬Ϊ–Κ―É–Ω―Ü―΄¬Μ –Ϋ–Β –Ϋ–Α–Β―Ö–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –Κ–Α–±–Β–Μ―¨. –ü―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ―²–≥–Ψ–Ϋ―è―²―¨ –Η―Ö –Ω–Ψ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ –Θ–ö–£ ¬Ϊ–Ϋ–Α –≤―¹–Β―Ö ―è–Ζ―΄–Κ–Α―Ö¬Μ. –ö–Ψ–≥–¥–Α –±―Ä–Α–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ–±―΄ –≥―Ä―É–Ϋ―²–Α –Ϋ–Α ―¹―²–Ψ–Ω–Β, –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–Μ–Η ―¹–Β–±–Β –≤―¹–Β–Ψ–±―â–Β–Β –Κ―É–Ω–Α–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä―è–Φ–Ψ –≤ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Β –Φ–Ψ―Ä―è.
–£ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Ι –≤―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Κ–Α–Κ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ―¹–Η–±–Η―Ä―¹–Κ–Η–Β, –Μ–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Η–Β –Η –Φ–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Β ―É―΅―ë–Ϋ―΄–Β –Η–Ζ ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö –ù–‰–‰, ―²–Α–Κ –Η –±–Ψ–Μ–≥–Α―Ä―΄, –Ω–Ψ –Ζ–Α–Κ–Α–Ζ―É –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Φ―΄ –Η ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Η, –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η –≥―Ä–Ψ–Φ–Κ–Ψ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ¬Ϊ–Φ–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ–Η¬Μ. –û–± –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―è―Ö ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ ―¹―É–¥–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ-–Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η―Ö ―¹―É–¥–Ψ–≤ ―è –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Μ ―¹―²–Α―²―¨―é, ―Ö–Ψ―²–Β–Μ –Ω―Ä–Ψ―²–Ψ–Μ–Κ–Ϋ―É―²―¨ –Β―ë –≤ –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ ¬Ϊ–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―³–Μ–Ψ―²¬Μ, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Ω–Β―΅–Α―²–Α–Ϋ–Α –Ψ–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Α ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ ―¹–±–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Κ–Β, –Η–Ζ–¥–Α–≤–Α–Β–Φ–Ψ–Φ –Γ–Η–±–Η―Ä―¹–Κ–Η–Φ –Ψ―²–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –ê–ù –Γ–Γ–Γ–†.
–Δ–Α–Κ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α―²―¨ –≤―¹―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨
–ù–Α ―ç―²–Ψ–Φ ―¹―É–¥–Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α―²―¨ –¥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Α –¥–Ϋ–Β–Ι ―¹–≤–Ψ–Η―Ö, –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –Ϋ–Α–Ω―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α ―É–Φ–Β–Μ–Ψ –Η –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ―΅–Β―²–Α–Μ–Α―¹―¨ ―¹ –Ψ―²–¥―΄―Ö–Ψ–Φ. –î–≤―É―Ö–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α―Ö–Ψ–¥―΄ –≤ –£–Α―Ä–Ϋ―É –±―΄–Μ–Η ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Κ–Α–Ε–¥―΄–Β 10 ―¹―É―²–Ψ–Κ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è –Η –±–Ψ–Μ–Β–Β –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β βÄ™ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ 70 ―¹―É―²–Ψ–Κ. –£―¹―ë –Ζ–Α–≤–Η―¹–Β–Μ–Ψ –Ψ―² –Ζ–Α–¥–Α―΅ ―²–Ψ–Ι –Η–Μ–Η –Η–Ϋ–Ψ–Ι ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η. –ù–Α―É―΅–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –≤ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ –±―΄–Μ –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ―΄–Φ, –Ϋ–Ψ –≤ –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Ι –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–Ι ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η –Ω–Ψ―è–≤–Μ―è–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β –Μ–Η―Ü–Α. –ë―΄–Μ–Ψ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η―²―¨ ―¹―²–Α―Ä―΄―Ö –¥―Ä―É–Ζ–Β–Ι –Η –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Η―²―¨―¹―è ―¹ –Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–Κ–Α–Φ–Η.
–¦―é–¥–Η –Ϋ–Α―É–Κ–Η –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ―΄, ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄, –Ϋ–Β–Ψ―Ä–¥–Η–Ϋ–Α―Ä–Ϋ―΄, –Η –±―΄―²―¨ ―¹ –Ϋ–Η–Φ–Η ―Ä―è–¥–Ψ–Φ –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ. –û–¥–Η–Ϋ –Ϋ–Β–Ζ–Α–Φ–Β―²–Ϋ―΄–Ι –Η –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ ¬Ϊ–Ζ–Α―²―ë―Ä―²―΄–Ι¬Μ –Φ―É–Ε–Η―΅–Ψ–Κ, –Ψ–±―¹–Μ―É–Ε–Η–≤–Α―é―â–Η–Ι –±–Ψ―Ä―²–Ψ–≤―É―é –≠–£–€, –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―΅–Α―¹―²–Ψ ¬Ϊ–Ζ–Α–≥―É–Μ–Η–≤–Α–Μ¬Μ. –ö ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Η–≤―΄–Κ–Μ–Η –≤―¹–Β. –ö–Α–Κ–Ψ–≤–Ψ –Ε–Β –±―΄–Μ–Ψ –Φ–Ψ―ë ―É–¥–Η–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―è ―É–≤–Η–¥–Β–Μ –Β–≥–Ψ –Ζ–Α–≥–Ψ―Ä–Α―é―â–Η–Φ –Ϋ–Α ―à–Μ―é–Ω–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Α–Μ―É–±–Β –Η ―΅–Η―²–Α―é―â–Η–Φ –Κ–Α–Κ―É―é-―²–Ψ ―Ö―É–¥–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Κ–Ϋ–Η–≥―É –Ϋ–Α –Α–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ ―è–Ζ―΄–Κ–Β. –û–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è, –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Β―² ―è–Ζ―΄–Κ! –£–Ψ―² –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä –Ϋ–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ―²–Α –≤ –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Κ–Β ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α (–≤–Ϋ–Β―à–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ψ–±–Φ–Α–Ϋ―΅–Η–≤–Α).
–ö–Α–Ε–¥―΄–Ι –Ζ–Α―Ö–Ψ–¥ –≤ –£–Α―Ä–Ϋ―É –±―΄–Μ –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ¬Ϊ–Γ–Μ―΄–Ϋ―΅–Β–≤ –ë―Ä―è–≥–Ψ–Φ¬Μ, –Α –Ω–Η–Μ–Η –≤ ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Ψ –Η –≥―Ä–Ψ–Φ–Κ–Ψ, –Ϋ–Ψ –Η ―ç–Κ―¹–Κ―É―Ä―¹–Η―è–Φ–Η, –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ―É–Β–Φ―΄–Φ–Η –±–Ψ–Μ–≥–Α―Ä―¹–Κ–Η–Φ –™–Ψ―¹–Κ–Ψ–Φ–Η―²–Β―²–Ψ–Φ –≥–Β–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η–Η, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Φ―΄ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Η. –€―΄ –Ω–Ψ―¹–Β―²–Η–Μ–Η –≤―¹–Β –±―΄–≤―à–Η–Β –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β ―¹―²–Ψ–Μ–Η―Ü―΄, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –≤ –ë–Ψ–Μ–≥–Α―Ä–Η–Η –Ϋ–Β–Φ―΄―¹–Μ–Η–Φ–Ψ–Β –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ, –Φ―É–Ζ–Β–Ι ―é–Φ–Ψ―Ä–Α –≤ –™–Α–±―Ä–Ψ–≤–Ψ, –ö–Ψ―à–Ϋ―É, –ü–Μ–Ψ–≤–¥–Η–≤, –Δ–Ψ–Μ–±―É―Ö–Η–Ϋ, –≤―¹–Β ¬Ϊ–½–Μ–Α―²–Ϋ–Η –ü―è―¹―΄―Ü–Η¬Μ, ¬Ϊ–î―Ä―É–Ε–±―ɬΜ, –Γ–Ψ–Μ–Ϋ–Β―΅–Ϋ―΄–Ι –±–Β―Ä–Β–≥ –Ψ―² –ê–Μ–±–Β–Ϋ―΄-–£–Α–Μ―¨―΅–Η–Κ–Α –Ϋ–Α –≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Β –¥–Ψ –ù–Β―¹–Β–±―΄―Ä–Α-–ë―É―Ä–≥–Α―¹–Α –Ϋ–Α ―é–≥–Β.
–Γ―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤ ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―É―²–Β―à–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ
–Ξ–Ψ―΅―É ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –Φ–Β–Ϋ―è –≤ ¬Ϊ–Ζ–Α–≥―Ä–Α–Ϋ–Κ–Β¬Μ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―à–Φ–Ψ―²–Κ–Η, –Ϋ–Ψ –Η ¬Ϊ–Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ–Κ–Η¬Μ. –· –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Η ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β, –Ϋ–Η –Ω–Ψ–Ζ–Ε–Β –Ϋ–Β –Ε–Α–Μ–Β–Μ ―¹–Κ―É–¥–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Α–Μ―é―²―΄ –Ϋ–Α ―ç–Κ―¹–Κ―É―Ä―¹–Η–Η –Η –Ω–Ψ―¹–Β―â–Β–Ϋ–Η–Β –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ω―Ä–Η–Φ–Β―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι –Η –Φ―É–Ζ–Β–Β–≤. –£ 1956 –≥–Ψ–¥―É –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–Ε–Κ–Ψ –Η –Ϋ–Β–¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Α―²–Α–Μ―¹―è –Ω–Ψ –™–Ψ–Μ–Μ–Α–Ϋ–¥–Η–Η –≤–¥–≤–Ψ–Β–Φ ―¹ –Δ–Ψ–Μ–Β–Ι –®–Β–±–Α–Ϋ–Η–Ϋ―΄–Φ. –ü―Ä–Η ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Κ–Β –≤ –ö–Β–Ι–Ω―²–Α―É–Ϋ–Β –Ω–Ψ―¹–Β―â–Α–Μ–Η –Κ―Ä–Α–Β–≤–Β–¥―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Φ―É–Ζ–Β–Ι, ―Ö―É–¥–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –≤―΄―¹―²–Α–≤–Κ―É –Η–Φ–Ω―Ä–Β―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Η―¹―²–Ψ–≤ –Η –≤―¹―è―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Κ―É–±–Η―¹―²–Ψ–≤, –Ω―Ä–Ψ–Β―Ö–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Ζ–Α–Ω–Ψ–≤–Β–¥–Ϋ–Η–Κ –Ϋ–Α –Φ―΄―¹ –î–Ψ–±―Ä–Ψ–Ι –ù–Α–¥–Β–Ε–¥―΄. –£ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α ―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–≤―΄―Ö ―¹―É–¥–Α―Ö 1959-1961 –≥–Ψ–¥–Α―Ö –≤ –£–Β–Ϋ–Β―Ü–Η–Η –±―΄–Μ –Ϋ–Α –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Β –¦–Η–¥–Ψ –Η –≤–Ψ –î–≤–Ψ―Ä―Ü–Β –î–Ψ–Ε–¥–Β–Ι, –≤ –™–Β–Ϋ―É–Β βÄ™ –≤ –Φ―É–Ζ–Β–Β –Ξ―Ä–Η―¹―²–Ψ―³–Ψ―Ä–Α –ö–Ψ–Μ―É–Φ–±–Α –Η –Ϋ–Α –Κ–Μ–Α–¥–±–Η―â–Β –ö–Α–Φ–Ω–Ψ-–Γ–Α–Ϋ―²–Α, ―²―Ä–Η–Ε–¥―΄ –±―Ä–Ψ–¥–Η–Μ –≤ ―Ä–Α–Ζ–≤–Α–Μ–Η–Ϋ–Α―Ö –ü–Ψ–Φ–Ω–Β–Η, –Β–Ζ–¥–Η–Μ –Μ―é–±–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –Κ―Ä–Α―²–Β―Ä―΄ –≠―²–Ϋ―΄.

1961 –≥–Ψ–¥. –· –Η –Φ–Ψ–Ι –¥―Ä―É–≥, –Κ–Ψ–Κ ―¹ ―²–Β–Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α ¬Ϊ–Λ–Α―²–Β–Ε¬Μ, –Κ–Ψ―Ä–Φ–Η–Φ –≥–Ψ–Μ―É–±–Β–Ι –Ϋ–Α –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Η –Γ–≤―è―²–Ψ–≥–Ψ –€–Α―Ä–Κ–Α –≤ –£–Β–Ϋ–Β―Ü–Η–Η
–£ –ê–Μ–±–Α–Ϋ–Η–Η –Η –ù–Ψ–≤–Ψ–Ι –™–≤–Η–Ϋ–Β–Β –Ψ–±―ä–Β–Ζ–¥–Η–Μ –Ω–Ψ–Μ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄. –£ –†–Ψ―¹–Α―Ä–Η–Ψ (–ê―Ä–≥–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ–Α) –Ω–Ψ–±―΄–≤–Α–Μ –≤ –Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–Φ –Φ―É–Ζ–Β–Β. –ü–Ψ–Ζ–¥–Ϋ–Β–Β –≤ 1988-1989 –≥–Ψ–¥–Α―Ö –Ω–Ψ–Κ–Α―²–Α–Μ–Η –Ϋ–Α―¹ –Ω–Ψ –≤―¹–Β–Φ―É –ö–Α―Ä–Α―΅–Η (–ü–Α–Κ–Η―¹―²–Α–Ϋ) ―¹ –Ω–Ψ―¹–Β―â–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―Ö―Ä–Α–Φ–Ψ–≤ –Η –Φ―É–Ζ–Β–Β–≤. –£ –Γ–Η―Ä–Η–Η –Β–Ζ–¥–Η–Μ–Η –≤ ―à–Ψ–Ω-―ç–Κ―¹–Κ―É―Ä―¹–Η–Η –Η–Ζ –Δ–Α―Ä―²―É―¹–Α –≤ –¦–Α―²–Α–Κ–Η―é, –Ξ–Ψ–Φ―¹–Κ –Η –Β―â–Β –Κ―É–¥–Α-―²–Ψ. –≠―²–Ψ, –Ϋ–Β ―¹―΅–Η―²–Α―è ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ –≤ –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Φ –Ω–Ψ―Ä―²―É, –≥–¥–Β ―¹―²–Ψ―è–Μ–Η, –Φ―΄ ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Ω–Β―à–Κ–Ψ–Φ –Η –≤ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä, –Η –Ϋ–Α ―¹–Α–Φ―΄–Β –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Β –Ψ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―΄ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤, –Ω–Ψ―¹–Β―â–Α―è –Ω–Ψ –Ω―É―²–Η –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Α–≥–Α–Ζ–Η–Ϋ―΄, –Ϋ–Ψ –Η –Ω–Α―Ä–Κ–Η, –Φ―É–Ζ–Β–Η. –Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ―Ä–Α―¹–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö ¬Ϊ–Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ–Ψ–Κ¬Μ.

–™–Β–Ϋ―É―è, 1962 –≥–Ψ–¥. –ö–Μ–Α–¥–±–Η―â–Β –ö–Α–Φ–Ω–Ψ-–Γ–Α–Ϋ―²–Α
–ö–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α―¹―¨ –≥–Ψ―Ä–±–Α―΅–Β–≤―¹–Κ–Α―è –Ω–Β―Ä–Β―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ–Α, ¬Ϊ–Ϋ–Α―É–Κ–Α¬Μ –Ζ–Α―à–Α―²–Α–Μ–Α―¹―¨. –Γ–Η–±–Η―Ä―¹–Κ–Ψ–Β –Ψ―²–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –ê–ù –Γ–Γ–Γ–† –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―²―¨ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Β –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ–Β ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ –≤ –ü–Ψ–Μ―¨―à–Β (–±―΄–Μ –Ζ–Α–Κ–Α–Ζ –Ϋ–Α ―à–Β―¹―²―¨-–≤–Ψ―¹–Β–Φ―¨ ―¹―É–¥–Ψ–≤), –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Α–≥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Β―Ä–Β―¹–Α–¥–Η―²―¨ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε ¬Ϊ–ï–≤–Ω–Α―²–Ψ―Ä–Η–Η¬Μ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é. –ù–ΨβÄΠ –Ψ―² ―¹―É–¥–Ϋ–Α –Ψ―²–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Η–Ζ-–Ζ–Α –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤–Η―è ―³–Η–Ϋ–Α–Ϋ―¹–Ψ–≤ –Η –Ω–Ψ ―ç―²–Ψ–Ι –Ε–Β –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–¥–Α–Μ–Η –ù–‰–Γ ¬Ϊ–ï–≤–Ω–Α―²–Ψ―Ä–Η―è¬Μ ¬Ϊ–Ϋ–Α –Η–≥–Ψ–Μ–Κ–Η¬Μ, ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ –Ϋ–Α –Φ–Β―²–Α–Μ–Μ–Ψ–Μ–Ψ–Φ. –ü–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι ―Ä–Β–Ι―¹ –Φ―΄ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Α–Μ–Η –≤ –Ψ–Κ―²―è–±―Ä–Β 1988 –≥–Ψ–¥–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤―΄, –Φ–Ψ–Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ–Α―à–Ϋ–Η–Κ–Η, –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Μ–Η―¹―¨, –Ψ―²–Φ–Β―΅–Α―è 35-–Μ–Β―²–Η–Β –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η―è ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α. –ü―Ä–Ψ–≤–Β–Μ–Η –Φ―΄ ―¹–≤–Ψ―é ¬Ϊ–Κ–Ψ―Ä–Φ–Η–Μ–Η―Ü―É¬Μ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Γ―Ä–Β–¥–Η–Ζ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä–Β, –Γ―É―ç―Ü–Κ–Η–Ι –Κ–Α–Ϋ–Α–Μ, –‰–Ϋ–¥–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ –≤ –ö–Α―Ä–Α―΅–Η, –Η ―²–Α–Φ ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –≤―΄–±―Ä–Ψ―à–Β–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥, –Α –Φ―΄, –Ϋ–Β–¥–Β–Μ―é ¬Ϊ–Ω–Ψ–Κ–Α–Ι―³–Ψ–≤–Α–≤¬Μ –≤ –≥–Ψ―¹―²–Η–Ϋ–Η―Ü–Β –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Α–Μ―é―²–Β, –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―²–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Β –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤―É.
–Γ–Μ―É–Ε–±–Α –Ϋ–Α ―¹–Ω–Α―¹–Α―²–Β–Μ–Β
–ü–Ψ–Η―¹–Κ–Α–≤ –Β―â–Β –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Ψ–≤―É―é ―Ä–Α–±–Ψ―²―É, –Α –Φ–Ϋ–Β ―É–Ε–Β –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨ 57 –Μ–Β―² -- –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―² –≤–Β―¹―¨–Φ–Α ―¹–Ψ–Μ–Η–¥–Ϋ―΄–Ι –¥–Μ―è –Φ–Ψ―Ä–Β–Ω–Μ–Α–≤–Α―²–Β–Μ―è, ―è ―É―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ―¹―è –≤ –Α–≤–Α―Ä–Η–Ι–Ϋ–Ψ-―¹–Ω–Α―¹–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É (–ê–Γ–Γ) –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Ψ–Φ –Ϋ–Α . –†–Α–±–Ψ―²–Α –≤ –ê–Γ–Γ –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Μ–Α –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É –Ω–Ψ –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η β³• 1, ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ –Ω–Ψ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―²―Ä–Β–≤–Ψ–≥–Β. –£ –¥–Β–Ε―É―Ä―¹―²–≤–Ψ –Ω–Ψ ―³–Μ–Ψ―²―É –Ζ–Α―¹―²―É–Ω–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –Ϋ–Β–¥–Β–Μ―é ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –¥–≤–Β, –Ϋ–Ψ ―ç―²–Ψ –Ω–Ψ –≥―Ä–Α―³–Η–Κ―É, –Α –≤ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η βÄ™ –Ϋ–Α–Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ―². –ü―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ –Ϋ–Α –±―É–Κ―¹–Η―Ä–Β ―¹–Η–¥―è―² –Η–Μ–Η –≤―¹–Β, –Η–Μ–Η –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Α ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α, ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–≤–Α―²―¨ –≤―΄―Ö–Ψ–¥ –Η–Ζ –±–Α–Ζ―΄ –Ζ–Α 30 –Φ–Η–Ϋ―É―², –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥, –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Η –Η ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Η–Β –≤ –Μ―é–±–Ψ–Ι –Ζ–Ψ–Ϋ–Β –ß–Λ –Η –¥–Α–Ε–Β ―É –ë–Ψ―¹―³–Ψ―Ä–Α. –ï―¹–Μ–Η –Ω–Ψ ―³–Μ–Ψ―²―É –Η–Μ–Η –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Ι –±–Α–Ζ–Β –Ψ–±―ä―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Α –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ⳕ 3, ―²–Ψ ―É –Ϋ–Α―¹ –≤ –ê–Γ–Γ βÄ™ –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ⳕ 2, ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ ―¹ –≤―΄–Ζ–Ψ–≤–Ψ–Φ –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –Ϋ–Α ―¹―É–¥–Α.
–£–Ψ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Β 1989 –≥–Ψ–¥–Α ―¹―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Ϋ–Α –±–Ψ–Β–≤―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É –≤ –Γ―Ä–Β–¥–Η–Ζ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä–Β, –Ω–Ψ–±―΄–≤–Α–Μ–Η ―¹ ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä–Ψ–Ι –≤–Ψ –≤―¹–Β―Ö ―²–Ψ―΅–Κ–Α―Ö ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Κ–Η –≤ –Β–≥–Ψ –≤–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η, –Ζ–Α―à–Μ–Η –≤ –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –≥―Ä–Β―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Ψ―Ä―² –ö–Α–Μ–Α–Φ–Α–Ϋ―²–Α –Η –Ζ–Α―²–Β–Φ, –≤―΄―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–≤ –Φ–Ψ―²–Ψ―Ä–Β―¹―É―Ä―¹, –Φ–Β―¹―è―Ü ―¹―²–Ψ―è–Μ–Η –≤ –Δ–Α―Ä―²―É―¹–Β. –ë–Β―Ä―É―¹―¨ ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±–Β –±―΄–Μ–Ψ –Μ–Β–≥―΅–Β –Η –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ–Β–Ι, ―΅–Β–Φ –≤ ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Ι –±–Α–Ζ–Β –Γ–Β–≤–Α―¹―²–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Β. –£ –Φ–Ψ―Ä–Β -- ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≤–Α―Ö―²―΄, ―Ä–Β–Ε–Η–Φ, –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ϋ–Α ―Ä–Α–±–Ψ―²–Β (–Β–Ζ–¥–Η―²―¨ –Ϋ–Β –Ϋ–Α–¥–Ψ!), ―É―΅–Β–Ϋ–Η―è –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η―è –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²―¨ –Μ–Β–≥–Κ–Ψ βÄ™ –≤―¹–Β –Μ―é–¥–Η –Ϋ–Α –Φ–Β―¹―²–Β. –ù–Β –Ϋ–Α–¥–Ψ –Η―Ö ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α―²―¨ (–Η–Μ–Η –Ω―Ä–Η–≤–Ψ–¥–Η―²―¨ –≤ ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ), ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Β –û–î –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―à―²–Α–±–Α –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²―¨ –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―² –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―²―΄ –Η–Μ–Η –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Β –Ω–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Η ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–Ζ―²–Η –Ω–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ. –½–Α–≤–Β–Μ–Η―¹―¨, ―¹–Ϋ―è–Μ–Η―¹―¨ –Η –Ω–Ψ―à–Μ–Η.
–û–±―΄―΅–Ϋ–Ψ –Φ―΄ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Η, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤–Β―²–Β―Ä–Ψ–Κ ―¹–≤–Β–Ε–Β–Μ, –Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ω–Μ–Α–≤―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η ―¹–Α–Φ–Η –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è―²―¨ –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–Ζ–Κ–Η, –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ–Ω–Α–¥–Α–Μ–Η –≤ –Ω–Β―Ä–Β–¥–Β–Μ–Κ–Η. –Γ―²–Ψ―è―²―¨ ―É –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –±–Ψ―Ä―²–Α –Ω―Ä–Η –≤–Ψ–Μ–Ϋ–Β ¬Ϊ–¥–Ψ –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Α¬Μ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Α–Ω―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ, –Α –Β―¹–Μ–Η –Β―â–Β –Η –≤―΄―¹–Α–Ε–Η–≤–Α―²―¨ –Ω–Ψ ―à―²–Ψ―Ä–Φ―²―Ä–Α–Ω―É –Μ―é–¥–Β–Ι! –û–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ –Φ―΄ ―²–Α–Κ ¬Ϊ–Ω―Ä–Η―¹–Μ–Ψ–Ϋ–Η–Μ–Η―¹―¨¬Μ –Κ –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–Φ―É –±–Ψ―Ä―²―É, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α–Κ―²–Ψ―É–Ζ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Α–≤–Ψ–Φ –Κ―Ä―΄–Μ–Β –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Α ―¹–Ψ–≥–Ϋ―É–Μ–Ψ –Ϋ–Α 90 (–Η–Ζ –≤–Β―Ä―²–Η–Κ–Α–Μ–Η –≤ –≥–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ψ–Ϋ―²–Α–Μ―¨), ―à–Μ―é–Ω–Κ―É ―Ä–Α–Ζ–±–Η–Μ–Ψ –≤ ―â–Β–Ω–Κ–Η, ―à–Μ―é–Ω–±–Α–Μ–Κ―É –¥–Β―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ, –Α –≤ –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η–Η –±–Α―Ä–Ψ–Κ–Α–Φ–Β―Ä―΄ –≤–Ψ–≥–Ϋ―É–Μ–Ψ ―à–Ω–Α–Ϋ–≥–Ψ―É―²―΄. –£ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ζ –Ω―Ä–Η –Ψ―²―Ö–Ψ–¥–Β –Ψ―² ―ç―¹–Φ–Η–Ϋ―Ü–Α –Ϋ–Α–Φ–Ψ―²–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –≤–Η–Ϋ―² ―¹–Β―²–Κ―É, ―¹–Ω―É―â–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Ζ–Α –Β–≥–Ψ –±–Ψ―Ä―² –¥–Μ―è –Κ―É–Ω–Α–Ϋ–Η―è –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α. –Γ―²–Ψ―è–Μ–Η –Ϋ–Α –Φ–Β―¹―²–Β, –Ω–Ψ–Κ–Ψ―Ä―è―è―¹―¨ ―¹―É–¥―¨–±–Β, –¥–Ψ ―²–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ–≥–Ψ–¥–Α –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ–Η–Μ–Α ―¹–Ω―É―¹―²–Η―²―¨ –≤–Ψ–¥–Ψ–Μ–Α–Ζ–Ψ–≤. –ë―΄–Μ–Η –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β ―ç–Ω–Η–Ζ–Ψ–¥―΄, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α–¥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Η―²―¨ –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ϋ―É―é –≤―΄–¥–Β―Ä–Ε–Κ―É –Η ¬Ϊ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à―É―é –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ―É―é –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ―É¬Μ. –Γ–Β–Ι―΅–Α―¹ –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Β―à―¨ -- –≤–Ζ–¥―Ä–Α–≥–Η–≤–Α–Β―à―¨ –Η –Ϋ–Β –≤–Β―Ä–Η―à―¨, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―¹ ―²–Ψ–±–Ψ–Ι –Η –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –¥–Β–Μ–Β.
–ï―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―³–Η–Ϋ–Α–Μ
–£ ―¹–Β―Ä–Β–¥–Η–Ϋ–Β 1990 –≥–Ψ–¥–Α –±―É–Κ―¹–Η―Ä –±―΄–Μ –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ –Ϋ–Α ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―² –≤ –≤ –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Ψ–Ι –Η –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Ψ–Ι –£–Α―Ä–Ϋ–Β. –ö–Ψ–≥–¥–Α –≤―¹―ë ―Ä–Α―¹–Κ–Η–¥–Α–Μ–Η –Ω–Ψ –≤–Η–Ϋ―²–Η–Κ–Α–Φ –Η ―Ä–Α―¹―²–Α―â–Η–Μ–Η –Ω–Ψ ―Ü–Β―Ö–Α–Φ, –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¹―è –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α –≤–Ζ–Α–Η–Φ–Ψ―Ä–Α―¹―΅–Β―²―΄ –Φ–Β–Ε–¥―É –Γ–Γ–Γ–† –Η –ë–Ψ–Μ–≥–Α―Ä–Η–Β–Ι –≤ –¥–Ψ–Μ–Μ–Α―Ä–Α―Ö, –Η, ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α―¹―¨ –Κ–Ψ―Ä―Ä–Β–Κ―²–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Α ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Β–¥–Ψ–Φ–Ψ―¹―²–Η –≤ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―É ―¹–Ψ–Κ―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η―è ―Ä–Α–±–Ψ―². –· ¬Ϊ–≤–Ψ–Β–≤–Α–Μ¬Μ ―¹ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ω―Ä–Β–¥–Α–Φ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ ―ç―²–Α –Ω–Ψ–¥–Μ–Α―è –Φ–Η―¹―¹–Η―è –±―΄–Μ–Α –Ω–Ψ―Ä―É―΅–Β–Ϋ–Α, –Κ–Ψ–Β-―΅―²–Ψ –Ψ―²―¹―²–Ψ―è–Μ, ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Η –Ϋ–Α –Ω–Μ–Β―΅–Η ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α –±―É–Κ―¹–Η―Ä–Α, –Α –Ϋ–Α ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨ –Κ―Ä–Β―¹―².
–½–Η–Φ–Ψ–Ι ―¹–≤–Α–Μ–Η–Μ–Α―¹―¨ –¥―Ä―É–≥–Α―è –Ϋ–Α–Ω–Α―¹―²―¨ βÄ™ –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Β –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―²–Ψ–≤. –ù–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹―΄―Ä–Ψ–Κ–Ψ–Ω―΅―ë–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Μ–±–Α―¹―΄, –Ϋ–Ψ –Η –Ψ–±―΄–Κ–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Κ–Α–Ω―É―¹―²―΄ –Η –Κ–Α―Ä―²–Ψ―à–Κ–Η, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ –±–Ψ–Μ–≥–Α―Ä―΄ ―¹–Ϋ–Α–±–Ε–Α―²―¨ –Ϋ–Α―¹ –Ω–Β―Ä–Β―¹―²–Α–Μ–Η, –Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–Ζ –Η–Ζ –Γ–Β–≤–Α―¹―²–Ψ–Ω–Ψ–Μ―è –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―²–Η–Μ―¹―è. –®―ë–Μ ―¹–Ϋ–Β–≥, ―¹―²–Α–Μ–Ψ ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ–Ψ, –Α ―¹–Κ–≤–Ψ–Ζ―¨ –¥―΄―Ä–Κ–Η –≤ –±–Ψ―Ä―²–Α―Ö –Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Α―Ö –Κ–Α―é―² ―¹–≤–Η―¹–Α–Μ–Η –Κ―Ä―΄―¹–Η–Ϋ―΄–Β ―Ö–≤–Ψ―¹―²―΄. –ù–Α –±―É–Κ―¹–Η―Ä–Β –Ψ―¹―²–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Φ–Β–Ϋ–Β–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ―΄ ―à―²–Α―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ ―É–Β―Ö–Α–≤―à–Η–Β –≤ –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―²–Η―²―¨―¹―è –Η–Ζ-–Ζ–Α –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤–Η―è –Ψ–Κ–Α–Ζ–Η–Η. –ü–Ψ―²–Ψ–Φ, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –≤―¹―ë –Ϋ–Α–Μ–Α–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨, –Ϋ–Ψ ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―²―Ä―É–¥–Ϋ―΄–Ι –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥.
–· –Ζ–Α–≥―Ä―É―¹―²–Η–Μ, –Ω–Β―Ä―¹–Ω–Β–Κ―²–Η–≤–Α –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η―è ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Α –Ψ―²–Ψ–¥–≤–Η–≥–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤―¹―ë –¥–Α–Μ―¨―à–Β –Η –¥–Α–Μ―¨―à–Β, –≤–Α–Μ―é―²–Ϋ―΄–Β –Φ–Α–≥–Α–Ζ–Η–Ϋ―΄ –≤ –Γ–Ψ―é–Ζ–Β –Ζ–Α–Κ―Ä―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨, –Α –Ψ–± –Ψ–Ω–Μ–Α―²–Β –≤ –¥–Ψ–Μ–Μ–Α―Ä–Α―Ö –Β―â―ë –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Μ―΄―à–Ϋ–Ψ. –ö –Μ–Β―²―É –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Η –Ω―Ä–Η–Β―Ö–Α―²―¨ –¥–Ψ―΅–Κ–Α ―¹ –≤–Ϋ―É–Κ–Α–Φ–Η –Η–Ζ –½–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Ψ–Ι –¦–Η―Ü―΄.
–£―¹―ë ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Η–≤–Β–Μ–Ψ –Κ –Φ―΄―¹–Μ–Η: βÄ™ ¬Ϊ–ê ―΅–Β–≥–Ψ ―è –Ζ–¥–Β―¹―¨ ―¹–Η–Ε―É?!¬Μ –Η –Κ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―é ¬Ϊ–Ζ–Α–≤―è–Ζ–Α―²―¨¬Μ. –ö –Φ–Α―é 1991 –≥–Ψ–¥–Α ―è –Ϋ–Α ―΅―É–Ε–Ψ–Φ ―¹―É–¥–Ϋ–Β –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―²–Η–Μ―¹―è –Η–Ζ –ë–Ψ–Μ–≥–Α―Ä–Η–Η –Η ―Ä–Α―¹―¹―΅–Η―²–Α–Μ―¹―è ―¹ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ψ–Ι. –ë―΄–Μ–Ψ –Φ–Ϋ–Β –≤ ―²―É –Ω–Ψ―Ä―É –Ω–Ψ―΅―²–Η 60 –Μ–Β―², ―²–Α–Κ ―΅―²–Ψ –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Η ―²―Ä―É–¥–Ψ–≤–Ψ–Ι –¥–Ψ–Μ–≥ –Ω–Β―Ä–Β–¥ –†–Ψ–¥–Η–Ϋ–Ψ–Ι ―è –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Μ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é.
–½–Α–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―É―²–Η ¬Ϊ–Ψ―² ―¹―²–Α―Ä―à–Β–≥–Ψ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α –¥–Ψ ―¹―²–Α―Ä―à–Β–≥–Ψ –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Α¬Μ
–Γ–Ψ–±―Ä–Α–≤ –≤―¹―ë ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Φ–Ϋ–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Ψ, ―è –Ψ–Κ―É–Ϋ―É–Μ―¹―è –≤ –¥–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ―É –¥–Α―΅–Η –Η ―Ä–Α―¹―¹―΅–Η―²–Α–Μ―¹―è ―¹ ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η–Φ–Η. –ü–Ψ–Μ―É―΅–Α―è –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–Μ–Η―΅–Ϋ―É―é –Ω–Β–Ϋ―¹–Η―é, –≥–Ψ–¥ –Ϋ–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ, –Ϋ–Α―¹–Μ–Α–Ε–¥–Α–Μ―¹―è –Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–¥–Ψ–Ι, ―¹–Β–Φ―¨―ë–Ι, –≤–Ϋ―É–Κ–Α–Φ–Η, –¥–Α―΅–Β–Ι –Η –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Ψ–Ι. –ù–Ψ... –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α―¹―¨ ―²–Α ―¹–Α–Φ–Α―è ―΅–Β―Ö–Α―Ä–¥–Α! –‰–Ϋ―³–Μ―è―Ü–Η―è ―¹―²–Α–Μ–Α –Ω–Β―Ä–Β–Ω―Ä―΄–≥–Η–≤–Α―²―¨ ―Ü–Β–Ϋ―΄. –€–Ψ–≥―É –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ ―è –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–Μ –Ω–Ψ –≤–Κ–Μ–Α–¥―É –≤ ―¹–±–Β―Ä–Κ–Α―¹―¹―É, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –≤―¹―ë –±―΄–Μ–Ψ ―É–Ε–Β –≤–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ψ –≤ –Κ–Α–Φ–Ϋ–Η –Ϋ–Α –¥–Α―΅–Β. –î–Β–Ϋ–Β–≥ ―¹―²–Α–Μ–Ψ –Κ–Α―²–Α―¹―²―Ä–Ψ―³–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Ϋ–Β ―Ö–≤–Α―²–Α―²―¨. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ϋ–Α―à―ë–Μ ―Ä―è–¥–Ψ–≤–Ψ–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ –Ϋ–Α –Ω–Μ–Α–≤–¥–Ψ–Κ–Β (–Κ–Α–Κ –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ ¬Ϊ–Ω―Ä–Η –Φ–Ψ―Ä–Β¬Μ) –Η –Ω―Ä–Ψ–¥–Α–Μ―¹―è –Ζ–Α –Ω―Ä–Ψ–¥–Ω–Α–Β–Κ, ―΅―²–Ψ –≤ ―²–Ψ –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –±―΄–Μ–Ψ –Ψ―â―É―²–Η–Φ―΄–Φ –Ω–Ψ–¥―¹–Ω–Ψ―Ä―¨–Β–Φ, –Η, –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β, –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ―΄–Φ (–≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²–Β ―²–Α–Μ–Ψ–Ϋ―΄ –Ϋ–Α 1 –Κ–Η–Μ–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ –Φ―è―¹–Α –Η 200 –≥―Ä–Α–Φ–Φ–Ψ–≤ –Φ–Α―¹–Μ–Α –≤ –Φ–Β―¹―è―Ü).
–ù–Α―à –Ω–Μ–Α–≤–¥–Ψ–Κ ―¹–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α ―¹―²–Ψ―è–Μ –≤ –ë–Α–Μ–Α–Κ–Μ–Α–≤–Β –≤ –Ω―è―²–Η –Φ–Η–Ϋ―É―²–Α―Ö ―Ö–Ψ–¥―¨–±―΄ –Ψ―² –¥–Ψ–Φ–Α (―³–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η!), –Ζ–Α―²–Β–Φ –Β–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–Β―²–Α―â–Η–Μ–Η –≤ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―É―é –±―É―Ö―²―É (–±―É―Ö―²―É –Δ―Ä–Ψ–Η―Ü–Κ―É―é), –±–Μ–Η–Ε–Β –Κ –‰–Ϋ–Κ–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ―É. –Γ―²–Α–Μ–Ψ –Ϋ–Β ―²–Α–Κ –±–Β–Ζ–Ζ–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Ψ, –Α –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―² ―Ö―É–Ε–Β: –Ϋ–Α–¥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Β–Ζ–¥–Η―²―¨ (–Α –Ϋ–Β ―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨!) –Ϋ–Α –≤–Α―Ö―²―É, ―²–Α―â–Η―²―¨ ―¹ ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι ―¹―É–¥–Ψ―΅–Κ–Η ―¹ –Β–¥–Ψ–Ι (–Α –Ϋ–Β –Ζ–Α–±–Β–≥–Α―²―¨ –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι –Ϋ–Α –Ψ–±–Β–¥ –Η ―É–Ε–Η–Ϋ), –Ϋ―É –Η ―²–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ–Β.
–û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ ―Ö―É–Ε–Β ―¹―²–Α–Μ–Ψ –≤–Β–Ζ–¥–Β: –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –Η ―¹―É–¥–Α –Ω–Β―Ä–Β―¹―²–Α–Μ–Η –Ω–Μ–Α–≤–Α―²―¨ –Η –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α―²―¨ –≤–Α–Μ―é―²―É, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ –Η –Ζ–Α―Ä–Ω–Μ–Α―²―É, –±–Β–Ζ―Ä–Α–±–Ψ―²–Η―Ü–Α –≤–Ψ–Ζ―Ä–Ψ―¹–Μ–Α, –Α –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―É―Ä–Ψ–≤–Β–Ϋ―¨ ―É–Ω–Α–Μ. –†–Α–±–Ψ―΅–Β–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ―É –Φ–Ψ–Β–≥–Ψ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²–Α –Ϋ–Α–Ι―²–Η –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –Α –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨―¹―è –±–Η–Ζ–Ϋ–Β―¹–Ψ–Φ ―è –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Μ–Β–Ϋ, –Ϋ–Β ―É–Φ–Β―é, –Ϋ–Β –Ϋ–Α―É―΅–Β–Ϋ –¥–Α –Η ―¹―²–Α―Ä. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α―é ―²―Ä―É–¥–Η―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –Ω–Μ–Α–≤–¥–Ψ–Κ–Β, –≥–¥–Β –Β―¹―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Η –Ω–Μ―é―¹―΄, –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö βÄ™ ―²―Ä–Ψ–Β ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö ―¹―É―²–Ψ–Κ –Φ–Β–Ε–¥―É –≤–Α―Ö―²–Α–Φ–Η.
–£–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Ψ, –Ψ―² –≤―¹–Β―Ö –≤–Ϋ–Β―à–Ϋ–Η―Ö –Κ–Α―²–Α–Κ–Μ–Η–Ζ–Φ–Ψ–≤ –≤ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η ―Ä–Α―¹―²–Β―Ä–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄ –Η ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –≤–Ϋ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Η―Ö –Ω–Β―Ä–Β–Ε–Η–≤–Α–Ϋ–Η–Ι –Ψ―² ―ç―²–Ψ–≥–Ψ, –≤ ―è–Ϋ–≤–Α―Ä–Β 1995 –≥–Ψ–¥–Α ―è –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –Η–Ϋ―³–Α―Ä–Κ―², ―΅―²–Ψ –¥–Α–Μ–Ψ –Ω–Ψ–≤–Ψ–¥ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –±―Ä–Ψ―¹–Η―²―¨ –Κ―É―Ä–Η―²―¨. –ü–Ψ―΅–Β–Φ―É ―è –Ϋ–Β ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β?! –ö –Φ–Α―é –≤―΄–Κ–Α―Ä–Α–±–Κ–Α–Μ―¹―è –Η, ―΅―É―²―¨ –Ψ–Κ–Μ–Β–Φ–Α–≤―à–Η―¹―¨, –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α―é ―²―Ä―É–¥–Η―²―¨―¹―è –Η –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Η―²―¨―¹―è.
–Λ–Η–Μ–Ψ―¹–Ψ―³―¹–Κ–Η–Β ―Ä–Α–Ζ–¥―É–Φ―¨―è. –£―¹―ë –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨
–î–Ψ–≤–Ψ–Μ–Β–Ϋ –Μ–Η ―è –Ω―Ä–Ψ–Ι–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ω―É―²–Β–Φ? –ü–Ψ–Ε–Α–Μ―É–Ι, –¥–Α: ―è –Β―â―ë –Ε–Η–≤ –Η ―ç―²–Ψ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β; ―¹–Α–Φ, –Ε–Β–Ϋ–Α, –¥–Β―²–Η –Η –≤–Ϋ―É–Κ–Η βÄ™ –Ϋ–Β ―É―Ä–Ψ–¥―΄ –Η –Ϋ–Β ―Ö―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Κ–Η; –Ε–Η–Μ–Η―â–Ϋ–Ψ –Η –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Β, –Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ; –Η–Φ–Β–Β―²―¹―è –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Α―è –¥–Α―΅–Α –Ϋ–Α –Φ―΄―¹–Β –Λ–Η–Ψ–Μ–Β–Ϋ―² –≤ –Κ–Ψ–Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Β, –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ–Ψ–Φ –≤ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Β "–Π–Α―Ä―¹–Κ–Η–Φ ―¹–Β–Μ–Ψ–Φ"; "–•–Η–≥―É–Μ―¨-2103" –Β―â―ë –±–Β–≥–Α–Β―², –Ϋ–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α –≤–Β―¹―¨–Φ–Α –Ω–Ψ―΅―²–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―² βÄ™ 21 –≥–Ψ–¥.
–Γ–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²–Α –Ϋ–Β ―΅―É–≤―¹―²–≤―É―é –Η–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ ―¹―²–Α―Ä–Α―é―¹―¨ –Ϋ–Β –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α―²―¨. –ü–Β–Ϋ―¹–Η―è –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ 150 –¥–Ψ–Μ–Μ–Α―Ä–Ψ–≤ (–≤ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η 200 –¥–Ψ–Μ–Μ–Α―Ä–Ψ–≤) –Η ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α –¥–Α―ë―² –≤ –Φ–Β―¹―è―Ü –Β―â―ë –Ψ–¥–Ϋ―É –Ω–Β–Ϋ―¹–Η―é, –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α ―΅―É―²―¨ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β, –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β. –€–Α–Μ–Ψ–≤–Α―²–Ψ, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ω–Ψ ―¹―Ä–Α–≤–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é ―¹ –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ –±―΄–≤―à–Η–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ ―¹―É–±–Φ–Α―Ä–Η–Ϋ―΄, –Ϋ–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β, ―΅–Β–Φ ―É –±―΄–≤―à–Η―Ö ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η―Ö –Η –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ–Ψ–≤ –Ϋ–Α –Θ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ–Β (25-35 –¥–Ψ–Μ–Μ–Α―Ä–Ψ–≤ –Ω–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η―é –Ϋ–Α ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä―¨ 1997 –≥–Ψ–¥–Α).
–ù–Β –Ω―Ä–Β―¹―²–Η–Ε–Ϋ–Α―è, –Ϋ–Β –Ψ―³–Η―¹–Ϋ–Α―è ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α –Ϋ–Α –¥–Ψ–Κ–Β: ―¹―É―²–Ψ―΅–Ϋ―΄–Β –¥–Β–Ε―É―Ä―¹―²–≤–Α ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ―²―Ä–Ψ–Β –Ϋ–Α ―΅–Β―²–≤–Β―Ä―²―΄–Β ―¹―É―²–Κ–Η –Ω–Μ―é―¹ ―²―Ä–Η-–Ω―è―²―¨ ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η―Ö –¥–Ϋ–Β–Ι –≤ –Φ–Β―¹―è―Ü –Ϋ–Α –¥–Ψ–Κ–Ψ–≤―΄–Β –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η, –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Κ–Η, –Ζ–Α―΅―ë―²―΄ –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Ψ–±―â–Η–Β –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η―è. –Δ–Α–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Β–Ε–Η–Φ ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–Β―² –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨―¹―è –¥–Α―΅–Β–Ι, –Ϋ–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Μ―è ―¹–Α–Φ–Ψ―É–¥–Ψ–≤–Μ–Β―²–≤–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Η―è –Η –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―¨―è.
–î–≤―É―Ö―ç―²–Α–Ε–Ϋ―΄–Ι –¥–Ψ–Φ ―è ―É―¹–Ω–Β–Μ –≤–Ψ–Ζ–≤–Β―¹―²–Η –Η –Ψ―²―à―²―É–Κ–Α―²―É―Ä–Η―²―¨ –Β―â―ë –≤ 1991 –≥–Ψ–¥―É –Ϋ–Α –≤–Α–Μ―é―²―É –Η –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η, –Ζ–Α―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β. –£ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Β –≥–Ψ–¥―΄ –Ω–Ψ―²–Η―Ö–Ψ–Ϋ―¨–Κ―É –Ω–Ψ –Φ–Β―Ä–Β ―¹–Η–Μ –Η –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι –Ω―Ä–Η–≤–Ψ–¥–Η–Μ –≤–Ϋ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≤ –Ψ–±–Η―²–Α–Β–Φ―΄–Ι –Η ―ç―¹―²–Β―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –≤–Η–¥ (–Ω–Ψ–Μ―΄, –Ω–Ψ―²–Ψ–Μ–Κ–Η, ―¹―²–Β–Ϋ―΄-–Ψ–±–Ψ–Η, –Μ–Β―¹―²–Ϋ–Η―Ü–Α, ―¹―²―ë–Κ–Μ–Α, ―Ä–Β―à―ë―²–Κ–Η) –Η –Ψ–±―É―¹―²―Ä–Α–Η–≤–Α–Μ ―É―΅–Α―¹―²–Ψ–Κ.
–ö–Μ―É–±–Ϋ–Η–Κ―É, ―΅–Β―Ä–Β―à–Ϋ―é, –Ω–Β―Ä―¹–Η–Κ–Η, –≤–Η–Ϋ–Ψ–≥―Ä–Α–¥ –Β–¥–Η–Φ ¬Ϊ–Ψ―² –Ω―É–Ζ–Α¬Μ –Η –≤―¹―è–Κ–Ψ–Ι –Ζ–Β–Μ–Β–Ϋ―¨―é –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ―΄. –ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, ―ç―²–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Β, –Ψ―â―É―²–Η–Φ–Ψ–Β –Ω–Ψ–¥―¹–Ω–Ψ―Ä―¨–Β –¥–Μ―è –≤―¹–Β―Ö ―²―Ä―ë―Ö ―¹–Β–Φ–Β–Ι: –¥–Ψ―΅–Κ–Η ―¹ –Ζ―è―²–Β–Φ –Η –≤–Ϋ―É–Κ–Α–Φ–Η, ―¹―΄–Ϋ–Α ―¹ –Ϋ–Β–≤–Β―¹―²–Κ–Ψ–Ι (–Ω–Ψ–Κ–Α –±–Β–Ζ –¥–Β―²–Β–Ι) –Η –¥–Μ―è –Ϋ–Α―¹. –£ ―Ä–Α―¹―΅―ë―²–Β –Ϋ–Α –Ϋ–Η―Ö (–¥–Β―²–Β–Ι –Η –≤–Ϋ―É–Κ–Ψ–≤) –Η ―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ–Α―¹―¨ –¥–Α―΅–Α, –Ϋ–Ψ, –Κ ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Ϋ–Η―é, ―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α–Β―² ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹―΄–Ϋ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Φ–Α―¹―²–Β―Ä―¹―²–≤–Ψ–Φ –¥–Β―Ä–Β–≤―è–Ϋ―â–Η–Κ–Α, ―¹–≤–Α―Ä―â–Η–Κ–Α –Η –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β –Φ–Α―¹―²–Β―Ä–Α –Ϋ–Α –≤―¹–Β ―Ä―É–Κ–Η. –ù–Α–¥–Β―é―¹―¨, –¥―Ä―É–≥–Η–Β ―Ä–Ψ–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η –Ψ―Ü–Β–Ϋ―è―² –≤–Ψ–Ζ–¥–≤–Η–≥–Ϋ―É―²–Ψ–Β –Ϋ–Α–Φ–Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β...

–î–Ψ–Φ –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ, –¥–Β―Ä–Β–≤―¨―è –Ω–Ψ―¹–Α–Ε–Β–Ϋ―΄, –¥–Β―²–Η –≤―΄―Ä–Α―â–Β–Ϋ―΄.
–ß–Β–≥–Ψ –Β―â–Β –Ε–Β–Μ–Α―²―¨ –Ψ―² –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η?
–€–Ψ―è –Ε–Β–Ϋ–Α –Η ―è –Ϋ–Α –¥–Α―΅–Β –≤ βÄ€–Π–Α―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ –Γ–Β–Μ–ΒβÄù
¬Ϊ–•–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Ω―Ä–Ψ–Ε–Η―²―¨ βÄ™ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ–Β –Ω–Β―Ä–Β–Ι―²–Η¬Μ
–ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, ―è –Φ–Β―΅―²–Α–Μ –Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω―É―²–Η. –ù–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Η–Ζ-–Ζ–Α –Α–≤–Α―Ä–Η–Η 1966 –≥–Ψ–¥–Α (–≤–Ψ–Ζ–≥–Ψ―Ä–Α–Ϋ–Η–Β ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥―΄ –Η –Ω–Ψ–Ε–Α―Ä –≤ 1-–Φ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Β). –ü–Ψ―¹–Μ–Β ―É–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –≤ –Ζ–Α–Ω–Α―¹ –≤ 1980 –≥–Ψ–¥―É –Ϋ–Α ―¹–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Ψ–≤–Β―²–Β –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ―¹―è –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ –Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Β–Ζ–¥–Β –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥, –Ϋ–Ψ –¥–Β―²–Κ–Η, ―Ä–Ψ–¥–Η–≤―à–Η–Β―¹―è –≤ –ë–Α–Μ–Α–Κ–Μ–Α–≤–Β, –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Η–Μ–Η –Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–≥–Ψ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Α, ―Ö–Ψ―²―è –Η ―¹―΅–Η―²–Α―é―² –ü–Η―²–Β―Ä ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –≤―²–Ψ―Ä―΄–Φ ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ψ–Φ. –ê –Ϋ–Α–Φ βÄ™ ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―è–Φ –Ε–Α–Μ–Κ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –±―Ä–Ψ―¹–Α―²―¨ –Ϋ–Β–¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Ϋ―É―é ―²―Ä―ë―Ö–Κ–Ψ–Φ–Ϋ–Α―²–Ϋ―É―é –Κ–≤–Α―Ä―²–Η―Ä―É ―É–Μ―É―΅―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Α, –≥–Α―Ä–Α–Ε –≤ –¥–Β―¹―è―²–Η –Φ–Η–Ϋ―É―²–Α―Ö ―Ö–Ψ–¥―¨–±―΄ –Ψ―² –¥–Ψ–Φ–Α –Η –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β –ö―Ä―΄–Φ. –ù–Η–Κ―²–Ψ –Ε–Β –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Μ, ―΅―²–Ψ ―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ, ―Ä–Ψ–≤ –±―É–¥–Β―² ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¨―¹―è –≤―¹―ë –≥–Μ―É–±–Ε–Β, –Α –≤–Η–Ζ–Η―²―΄ –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥ –≤―¹―ë ―Ä–Β–Ε–Β –Η ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Β–Β. –£ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β 80-―Ö –≥–Ψ–¥–Ψ–≤ –≤―¹–Ω―΄―Ö–Ϋ―É–Μ–Α –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–¥–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ζ―è―²―è –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Η –Ϋ–Α –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ―É―é ―Ä–Α–±–Ψ―²―É –≤ –€–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η, –Ϋ–Ψ ―΅―¨–Η–Φ-―²–Ψ –≤―΄―à–Β―¹―²–Ψ―è―â–Η–Φ –≤–Ψ–Μ–Β–≤―΄–Φ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Β–≥–Ψ –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η –≤ –½–Α–Ω–Α–¥–Ϋ―É―é –¦–Η―Ü―É.
–€–Ψ―è –†–Ψ–¥–Η–Ϋ–Α βÄ™ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥, –≤ –ü–Η―²–Β―Ä–Β –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Η –¥–Β―²―¹―²–≤–Ψ, ―é–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –‰ –≤–Ζ―Ä–Ψ―¹–Μ–Α―è –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –±―΄–Μ–Α ―²–Β―¹–Ϋ–Ψ ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Α ―¹ –Ϋ–Η–Φ. –Ϋ–Ψ ―è –Μ―é–±–Μ―é –Η –ö―Ä―΄–Φ, –Ϋ–Α―à ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–Ι –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ –Γ–Β–≤–Α―¹―²–Ψ–Ω–Ψ–Μ―¨ –Η ―É―é―²–Ϋ–Ψ–Β –≥–Ϋ―ë–Ζ–¥―΄―à–Κ–Ψ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Μ―è ―Ä―΄–± βÄ™ –ë–Α–Μ–Α–Κ–Μ–Α–≤―É (–≥―Ä–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β βÄ™ ¬Ϊ―Ä―΄–±―¨–Β –≥–Ϋ–Β–Ζ–¥–Ψ¬Μ). –ï―¹–Μ–Η –Ϋ–Β –Ψ–±–Ψ―¹―²―Ä―è―²―¨ –Ψ―¹–Ψ–±–Ψ, –Ϋ–Β –Ζ–Α–Κ–Μ–Η–Ϋ–Η–≤–Α―²―¨―¹―è, –Ϋ–Β –Ϋ―΄―²―¨ –Ψ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–Φ, –Ψ –ü–Η―²–Β―Ä–Β, βÄ™ –Ε–Η―²―¨ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ!
–· βÄ™ –Ψ–Ω―²–Η–Φ–Η―¹―² –Η –Ϋ–Α–¥–Β―é―¹―¨, ―΅―²–Ψ –Ζ–¥―Ä–Α–≤―΄–Ι ―¹–Φ―΄–Μ –Ω–Ψ–±–Β–¥–Η―² –Ϋ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ―É―é –¥―É―Ä–Ψ―¹―²―¨. –€–Β–Ε–¥―É –†–Ψ―¹―¹–Η–Β–Ι –Η –Θ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Η―² ―ç―Ä–Α –Β–≤―Ä–Ψ–Ω–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–¥―Ä―É–Ε–Β―¹―²–≤–Α. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ, –±–Ψ―é―¹―¨, ―΅―²–Ψ –±―É–¥–Β―² ―ç―²–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β...
–£―¹–Β–Φ –¥―Ä―É–Ζ―¨―è–Φ-–Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Α–Φ –Ω–Μ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι, –≥–Ψ―Ä―è―΅–Η–Ι –Ω–Ψ ―é–Ε–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Η–≤–Β―² –Η ―¹–Β―Ä–¥–Β―΅–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ–Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η―è –Ε–Η―²―¨ –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ –¥–Ψ ―¹―²–Α –Μ–Β―²!
–Γ–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²―΅–Β―²–Α –Η –Β–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Ω–Η―¹–Κ–Α –Ϋ–Α―΅–Η―¹―²–Ψ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Β–Ϋ―΄ 18 ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä―è 1997 –≥–Ψ–¥–Α βÄ™ –Ζ–Α –¥–Β―¹―è―²―¨ –¥–Ϋ–Β–Ι –¥–Ψ –Φ–Ψ–Β–≥–Ψ 66-–Μ–Β―²–Η―è.
–†.S. –ï―â–Β –Κ–Ψ–Β-―΅―²–Ψ –¥–Μ―è ―Ä–Α–Ζ–Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι. –™–Ψ–¥–Α –¥–≤–Α –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥ –ë–Α–Μ–Α–Κ–Μ–Α–≤―É –Ω–Ψ–Κ–Η–Ϋ―É–Μ–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ―è―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α. –¦―é–¥–Η –Ϋ–Α –Ϋ–Α–±–Β―Ä–Β–Ε–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Μ–Α–Κ–Α–Μ–Η: –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ―΄, –Ϋ–Ψ –Η ―É –Ϋ–Α―¹ βÄ™ –Φ―É–Ε–Η–Κ–Ψ–≤ –Ϋ–Α–Κ–Α―²―΄–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ ¬Ϊ―¹–Κ―É–Ω–Α―è –Φ―É–Ε―¹–Κ–Α―è¬Μ... –ê ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ ―É –Ω―Ä–Η―΅–Α–Μ–Α –Ϋ–Α ―²–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β ―¹―²–Ψ–Η―² –Ψ–¥–Ϋ–Α –Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –ü–¦ –£–€–Γ –Θ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―΄.
–ö–Α–Κ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –ß–Λ –£.–ê.–ö―Ä–Α–≤―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ –≤ –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Β –Ψ―¹―²–Α―ë―²―¹―è 155-―è –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Α –ü–¦. –£ ―ç―²–Ψ–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Β, –±–Α–Ζ–Η―Ä―É―é―â–Β–Ι―¹―è –≤ –Γ–Β–≤–Α―¹―²–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Β, –±―΄–Μ–Ψ –≤–Ψ―¹–Β–Φ―¨ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ. –û–¥–Ϋ―É –Ψ―²–¥–Α–Μ–Η –Θ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ–Β, –¥–≤–Β ―¹–Ω–Η―¹―΄–≤–Α―é―²―¹―è –≤ –û–Λ–‰, –Η―²–Ψ–≥–Ψ –Ψ―¹―²–Α―²–Ψ–Κ βÄ™ –Ω―è―²―¨ –ü–¦. –‰–Ζ –Ϋ–Η―Ö ―²―Ä–Η –Ψ–Ω―΄―²–Ψ–≤―΄―Ö –Η –¥–≤–Β –≤ –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –‰–Ζ ―ç―²–Η―Ö –¥–≤―É―Ö βÄ™ –Ψ–¥–Ϋ–Α ¬Ϊ–£–Α―Ä―à–Α–≤―è–Ϋ–Κ–Α¬Μ –≤―΄―²―è–≥–Η–≤–Α–Β―² –≤―¹–Β ―É―΅–Β–Ϋ–Η―è –Η –Ω―Ä–Ψ―΅–Η–Β –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η―è, –Η –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Ι –¥–Β―Ä–Ε–Η―²―¹―è –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Α –Η –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Α―è –±–Α–Ζ–Α. –£―²–Ψ―Ä–Α―è –ü–¦, –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è, –Ϋ–Β–¥–≤–Η–Ε–Η–Φ–Α.
–ê ―É ―²―É―Ä–Ψ–Κ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ 21 –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α, –Η–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö, –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, –¥–Β―¹―è―²–Ψ–Κ 209 –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Α. –î–≤–Β –ü–¦ –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β―¹―É―² –±–Ψ–Β–≤―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É –≤ –ß―ë―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β, –≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Ψ, ―É –Ϋ–Α―à–Η―Ö –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤.
–û–±–Η–¥–Ϋ–Ψ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―Ä―É―à–Η―²―¹―è –¥–Β–Μ–Ψ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ―É ―²―΄ –Ω–Ψ―¹–≤―è―²–Η–Μ –Η –Ψ―²–¥–Α–Μ –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –≤―¹―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨.
–ê –Γ–Β–≤–Α―¹―²–Ψ–Ω–Ψ–Μ―¨ –≤―¹―ë –±–Ψ–Μ–Β–Β –Ζ–Α―¹―²–Α–≤–Μ―è―é―² –Ζ–Α–±―΄–≤–Α―²―¨ –Ψ ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η―è―Ö ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α. –Γ–Μ–Ψ–≤–Α ¬Ϊ–¦–Β–≥–Β–Ϋ–¥–Α―Ä–Ϋ―΄–Ι –Γ–Β–≤–Α―¹―²–Ψ–Ω–Ψ–Μ―¨ βÄ™ –≥–Ψ―Ä–¥–Ψ―¹―²―¨ ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η―Ö –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤¬Μ –Ζ–≤―É―΅–Α―² –≤―¹―ë ―Ä–Β–Ε–Β –Η ―Ä–Β–Ε–Β. –Γ―²–Α―Ä–Α–Β–Φ―¹―è –±–Ψ―Ä–Ψ―²―¨―¹―è, –Ϋ–Ψ –Η –≤–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ –Κ –£–Α–Φ: ¬Ϊ–Γ–Ω–Α―¹–Η―²–Β –Ϋ–Α―¹, ―¹–Ω–Α―¹–Α–Ι―²–Β –Γ–Β–≤–Α―¹―²–Ψ–Ω–Ψ–Μ―¨!¬Μ.
–ï―â–Β ―Ä–Α–Ζ (–Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ!) –Ε–Φ―É –£–Α―à–Η –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²―¹–Κ–Η–Β –Μ–Α–Ω―΄!
–Γ–Β–≤–Α―¹―²–Ψ–Ω–Ψ–Μ―¨
―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä―¨ 1997 –≥–Ψ–¥–Α
–ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―²

01.05.201503:0501.05.2015 03:05:20
0
30.04.201523:4330.04.2015 23:43:21
55-―è –£–Γ–Δ–†–ï–ß–ê –Θ "–Γ–Δ–ï–†–ï–™–Θ–©–ï–™–û" - 11 –Α–Ω―Ä–Β–Μ―è 2015 –≥–Ψ–¥–Α
–ü–†–‰–£–ï–Δ–Γ–Δ–£–‰–ï –€–û–Γ–ö–£–‰–ß–ï–ô –û–î–ù–û–ö–ê–®–ù–‰–ö–ê–€
–½–¥–Β―¹―¨ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―É–≤–Η–¥–Β―²―¨ ―Ä–Β–Ω–Ψ―Ä―²–Α–Ε ―¹ ―ç–Κ―¹–Κ―É―Ä―¹–Α–Φ–Η –≤ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–Β
–ü–·–Δ–‰–î–ï–Γ–·–Δ–ê–· –£–Γ–Δ–†–ï–ß–ê –Θ ¬Ϊ–Γ–Δ–ï–†–ï–™–Θ–©–ï–™–û¬Μ.
.

–ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ï–≤–≥–Β–Ϋ―¨–Β–≤–Η―΅ –½–Α–≥―É―¹–Κ–Η–Ϋ. –‰–Ϋ–Η―Ü–Η–Α―²–Ψ―Ä –Η ―É―΅―Ä–Β–¥–Η―²–Β–Μ―¨ –Β–Ε–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –≤―¹―²―Ä–Β―΅ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ–Α―à–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ 46-49-53 –≤–Ψ –≤―²–Ψ―Ä―É―é ―¹―É–±–±–Ψ―²―É –Α–Ω―Ä–Β–Μ―è
–ü–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ –Φ–Η–Ϋ–Ψ–Ϋ–Ψ―¹―Ü―É ¬Ϊ–Γ―²–Β―Ä–Β–≥―É―â–Η–Ι¬Μ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Β–Ϋ –≤―¹–Β–Φ –Ω–Η―²–Β―Ä―Ü–Α–Φ, ―²–Β–Φ –±–Ψ–Μ–Β–Β –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Α–Φ. –™–Β―Ä–Ψ–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è –Β–≥–Ψ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―è –Ζ–Α―¹–Μ―É–Ε–Η–≤–Α–Β―² –Ω―Ä–Β–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è...
–£ –Ζ–Β–Μ―ë–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Φ–Μ–Β–Ϋ–Η–Η ―¹―²–Α―Ä–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Α―Ä–Κ–Α, –Η–Ζ―è―â–Ϋ―΄–Ι –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ, –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―² ―ç―¹―²–Β―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β ―É–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η–Β. –ö–Ψ–≥–¥–Α ―É ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Α ¬Ϊ46-49-53¬Μ (–≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ 1–ë–£–£–€–Θ 1953 –≥–Ψ–¥–Α) –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Μ–Ψ –Ϋ–Α–Φ–Β―Ä–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α–Ι―²–Η –Φ–Β―¹―²–Ψ –Η –≤―Ä–Β–Φ―è –¥–Μ―è –Β–Ε–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –≤―¹―²―Ä–Β―΅, –±―΄–Μ–Ψ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Ψ: –Ζ–¥–Β―¹―¨, –≤–Ψ –≤―²–Ψ―Ä―É―é ―¹―É–±–±–Ψ―²―É –Α–Ω―Ä–Β–Μ―è.
–ü―Ä–Ψ―à–Μ–Η –¥–≤–Β –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Η –Η –≤ –Α–Ω―Ä–Β–Μ–Β 1963 –≥–Ψ–¥–Α - ―²―Ä–Β―²―¨―è, ¬Ϊ–Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è¬Μ. –û ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Α –Η–Φ–Β–Β―² –Ω―Ä–Α–≤–Ψ –Η–Φ–Β–Ϋ–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―²–Α–Κ, –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Ϋ–Β –¥–Ψ–≥–Α–¥―΄–≤–Α–Μ―¹―è... –ü―Ä–Η–Ε–Η–≤―É―²―¹―è –Μ–Η –Η –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –Μ–Η –Ω―Ä–Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤―É―é―² –Α–Ω―Ä–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η–Β –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Η?.. –û―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –¥–Μ―è ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι –±―΄–Μ–Η. –ö –Ω―è―²–Η–Μ–Β―²–Ϋ–Η–Φ ―é–±–Η–Μ–Β―è–Φ ―¹–Ψ –¥–Ϋ―è –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Α –Ϋ–Α―à –û―Ä–≥–Κ–Ψ–Φ–Η―²–Β―² ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ –≤―¹–Β–Ψ–±―â–Η–Β (–Ω–Ψ –Φ–Β―Ä–Β –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η!) ―¹―ä–Β–Ζ–¥―΄ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ–Α―à–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―¹–Ψ –≤―¹–Β―Ö ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–≤, –Η–Ζ –≤―¹–Β―Ö –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤. –‰ ―ç―²–Ψ, –Ω―Ä–Η –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Κ–Β ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α, –Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Μ―è–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Β―É–Κ–Ψ―¹–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ.
–ü–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ―è―è –Ϋ–Α―à–Α –≤―¹–Β–Ψ–±―â–Α―è –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ–Α―¹―¨ –≤ –Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β 60-–Μ–Β―²–Η―è ―¹–Ψ –¥–Ϋ―è –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η―è ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α.
–Θ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö –Μ–Η –±―΄–≤–Α–Β―² ―²–Α–Κ–Ψ–Β? –Λ–Α–Ϋ―²–Α―¹―²–Η–Κ–Α!..
–ö–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –±―΄, –¥–Μ―è –Ω–Η―²–Β―Ä―¹–Κ–Η―Ö ¬Ϊ―Ä–Β–≥–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö¬Μ –≤―¹―²―Ä–Β―΅ ―É ¬Ϊ–Γ―²–Β―Ä–Β–≥―É―â–Β–≥–Ψ¬Μ –Ϋ–Β―² –Ω―Ä―è–Φ–Ψ–Ι –Ϋ–Α–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²–Η....
–ù–û –€–Ϊ –‰–Ξ –ü–û–¦–°–ë–‰–¦–‰! –‰ –ï–•–ï–™–û–î–ù–û –•–î–ê–¦–‰ –‰ –•–î–¹–€ –Γ –ù–ï–Δ–ï–†–ü–ï–ù–‰–ï–€!
–Δ–Ψ–Φ―É –Ω―Ä―è–Φ–Ψ–Β ―¹–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ βÄ™ 55-―è –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α ―É ¬Ϊ–Γ―²–Β―Ä–Β–≥―É―â–Β–≥–Ψ¬Μ –≤–Ψ 2-―é ―¹―É–±–±–Ψ―²―É βÄ™ 11 –Α–Ω―Ä–Β–Μ―è 2015 –≥–Ψ–¥–Α!
...–ë―΄―²―¨ –Φ–Ψ–Ε–Β―², ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –Η–Ζ –≤―΄―à–Β―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Φ–Ψ–≥―É―² –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ–Η―²―¨ ―¹–Μ–Ψ–≤–Α –£–Η―²–Α–Μ–Η―è –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ―Ü–Β–≤–Α:
¬Ϊ–≠–Δ–û –ù–ê–®–ï!
–Δ–ê–ö –•–ï –ö–ê–ö –‰ –Δ–û, –ß–Δ–û –ü–û–î–£–û–î–ù–Ϊ–ô –Λ–¦–û–Δ –ù–ï –Γ–¦–Θ–•–ë–ê –‰ –ù–ï –£–‰–î –î–ï–·–Δ–ï–¦–§–ù–û–Γ–Δ–‰.
–≠–Δ–û –Γ–Θ–î–§–ë–ê –‰ –†–ï–¦–‰–™–‰–·.
–‰ –€–Ϊ –≠–Δ–‰–€ –™–û–†–î–‰–€–Γ–·!¬Μ

–ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –½–Α–≥―É―¹–Κ–Η–Ϋ (―¹–Ω―Ä–Α–≤–Α) –≤ –Κ―Ä―É–≥―É –¥―Ä―É–Ζ–Β–Ι –≠―Ä–Ϋ―¹―² –‰–Μ―¨–Η–Ϋ, –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –¦–Α–Ω―Ü–Β–≤–Η―΅, –£―è―΅–Β―¹–Μ–Α–≤ –ö–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Ψ–≤ - –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―é―² –Κ–Α–Κ –≤―¹―ë –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –±–Ψ–Μ–Β–Β 50 –Μ–Β―² ―²–Ψ–Φ―É –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥βÄΠ

–Θ ¬Ϊ–Γ―²–Β―Ä–Β–≥―É―â–Β–≥–Ψ¬Μ. –‰–≥–Ψ―Ä―¨ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤. –ù–Β–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ω–Ψ–Ϋ―¹–Ψ―Ä –Β–Ε–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –≤―¹―²―Ä–Β―΅ ―É ¬Ϊ–Γ―²–Β―Ä–Β–≥―É―â–Β–≥–Ψ¬Μ ―¹ –Γ–Β–Φ―ë–Ϋ–Ψ–Φ - –≤–Ϋ―É–Κ–Ψ–Φ –¦–Α―Ä–Η―¹―΄ –‰–Μ―¨–Η–Ϋ–Ψ–Ι (–Κ–Α–¥–Β―² –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ö–Α–¥–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Α), –±–Β―¹–Β–¥–Α –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η―² ―¹ –£–Α–¥–Η–Φ–Ψ–Φ - ―¹―΄–Ϋ–Ψ–Φ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Α –Γ–Α–≤–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ

–°–±–Η–Μ–Β–Ι –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Α –Η–Ζ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α - –‰–≥–Ψ―Ä―¨ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤ –≤ –Κ―Ä―É–≥―É –¥―Ä―É–Ζ–Β–Ι. –Γ–Μ–Β–≤–Α –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Ψ: –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –½–Α–≥―É―¹–Κ–Η–Ϋ, –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä –ü–Ψ–Μ―è–Κ, –‰–≥–Ψ―Ä―¨ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤, –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –¦–Α–Ω―Ü–Β–≤–Η―΅, –¦–Β–Ψ–Ϋ–Η–¥ –ö–Α―Ä–Α―¹―ë–≤, –£–Μ–Α–¥–Μ–Β–Ϋ –™―Ä―É–Ζ–¥–Β–≤, –‰–Μ―¨―è –≠―Ä–Β–Ϋ–±―É―Ä–≥


–Θ―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Η 55-–Ι –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ–Α―à–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―É –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ–Α ¬Ϊ–Γ―²–Β―Ä–Β–≥―É―â–Β–Φ―É¬Μ

–û―²―΅―ë―² –Ω―Ä–Β–¥―¹–Β–¥–Α―²–Β–Μ―è –û–ö –£–Α–Μ–Β―Ä–Η―è –Ξ–Ψ–¥―΄―Ä–Β–≤–Α –Ψ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Β –Ζ–Α –≥–Ψ–¥.
11 –Α–Ω―Ä–Β–Μ―è 2015–≥. ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ–Α―¹―¨ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Α―è –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ–Α―à–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ω–Ψ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Η–Η –Η 1 –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ―É –£–£–€–Θ.
–Θ –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ–Α –Φ–Η–Ϋ–Ψ–Ϋ–Ψ―¹―Ü―É "–Γ―²–Β―Ä–Β–≥―É―â–Η–Ι" ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ 37 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β 26 –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ "46-49-53", –≥–Ψ―¹―²–Η, ―Ä–Ψ–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η –Η ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Α―é―â–Η–Β –Ϋ–Α―¹ –Μ–Η―Ü–Α.
–£―¹–Β –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ –Ω–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Β - –≤–Ψ–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Η ―Ü–≤–Β―²―΄ –Κ –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ―É –Η ―¹―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤―¹–Β –≤–Φ–Β―¹―²–Β. –€–Η–Ϋ―É―²–Α –Φ–Ψ–Μ―΅–Α–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ ―É―à–Β–¥―à–Η–Φ - –™.–†.–ê–†–ù–û, –°.–‰.–ê–Γ–ê–Λ–û–£, –ê.–ù.–ù–‰–½–û–£–ö–‰–ù, –î.–‰.–€–ê–Γ–¦–û–£–Γ–ö–‰–ô –Η –€.–ë.–£–ï–†–ë–¦–û–£–Γ–ö–ê–·.
–ù―΄–Ϋ–Β―à–Ϋ–Η–Β –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Β―¹―²–≤―É: –≤ –ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Β –Ω―Ä–Ψ–Ε–Η–≤–Α–Β―² 42 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α, –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β - 16, –≤ –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α―Ö –†–Ψ―¹―¹–Η–Η, –≤–Κ–Μ―é―΅–Α―è –Γ–Β–≤–Α―¹―²–Ψ–Ω–Ψ–Μ―¨ - 15 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –Ϋ–Α –Θ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ–Β - 2, –≤ –ü―Ä–Η–±–Α–Μ―²–Η–Κ–Β - 6 –Η –≤ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Φ –Ζ–Α―Ä―É–±–Β–Ε―¨–Β - 6 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ. –Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α―¹ ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ 82 –Η–Ζ 307 –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤, –≤―΄–Ω―É―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Η–Ζ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –≤ 1953 –≥–Ψ–¥―É, –Η 5 –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤, –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–≤―à–Η―Ö –¥―Ä―É–≥–Η–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α.

–€–Η–Ϋ―É―²–Α –Φ–Ψ–Μ―΅–Α–Ϋ–Η―è

–ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ö–Α–Μ–Α―à–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –≤―΄―¹―²―É–Ω–Η–Μ ―¹ ―é–Φ–Ψ―Ä–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹ ―Ü–Β–Μ―¨―é –Ω―¹–Η―Ö–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ζ–≥―Ä―É–Ζ–Κ–Η
–Δ–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Η –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²―΄!
–· ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Α―é –≤–Α–Φ, ―΅―²–Ψ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅ –ö–Α–Μ–Α―à–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―¹–Α–Φ―΄–Ι ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Η–Ζ –≤―¹–Β―Ö –≤–Α―¹ (–Ω―Ä–Η–Φ. –î–Β–Ϋ―¨ ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è 18 –Φ–Α―Ä―²–Α 1929 –≥–Ψ–¥–Α). –≠―²–Ψ –Ζ–Α –Ω–Ψ–¥–Ω–Η―¹―¨―é –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Α –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Α –ü―É―²–Η–Ϋ–Α –Η –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ ―¹―²–Α―Ä―à–Β–≥–Ψ –£–Α–Μ–Β―Ä–Η―è –Ξ–Ψ–¥―΄―Ä–Β–≤–Α, ―É –Φ–Β–Ϋ―è ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Κ–Α –Β―¹―²―¨. –‰ –≤–Ψ―², –Ϋ–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Ι –Ω―Ä–Β–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―², ―΅―É–≤―¹―²–≤―É―é ―¹–Β–±―è –≤―¹–Β –Μ―É―΅―à–Β –Η –Μ―É―΅―à–Β! –Θ–Ε–Β –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α―é, ―΅―²–Ψ –¥–Β–Μ–Α―²―¨, –Ϋ–Ψ –Μ―É―΅―à–Β!
–Δ–Ψ–≥–¥–Α ―è ―¹―²–Α–Μ ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨ ¬Ϊ–•–Η―²―¨ –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Ψ!¬Μ, –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α―΅―É ―²–Α–Κ―É―é. –‰ –≤–Ψ―², –Ε–Η–≤―É –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Ψ, –≤–¥―Ä―É–≥ ―ç―²–Α ―¹–Α–Φ–Α―è –¦–Β–Ϋ–Α –€–Α–Μ―΄―à–Β–≤–Α –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² –Ψ ―²–Α–Κ–Η―Ö –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Α―Ö βÄ™ –Κ―Ä–Η–≤―΄–Β –Ϋ–Ψ–≥–Η, –≤―΄–Ω–Α–¥–Α―é―² –≤–Ψ–Μ–Ψ―¹―΄, ―Ä–Α―¹―²–Β―² –Ε–Η–≤–Ψ―² –Η ―².–¥., –≤ –Ψ–±―â–Β–Φ, –≤―¹–Β –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Η –≤–Ϋ–Β–Φ–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –±–Β―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –· ―²–Ψ–≥–¥–Α –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―é: ¬Ϊ–¦―é―¹―è, ―΅―²–Ψ –¥–Β–Μ–Α―²―¨?¬Μ –û–Ϋ–Α –Ψ―²–≤–Β―΅–Α–Β―², ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ ―²–Α–Κ: ¬Ϊ–†–Α―¹―¹–Ψ―¹–Β―²―¹―è, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β―¹―²–Α–Ϋ―¨ –≤–Ψ–¥–Κ―É –Ω―¨―è–Ϋ―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨¬Μ. –‰ –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É ―è –≤ –Ζ–Α–≤―è–Ζ–Κ–Β –Κ―Ä―É―²–Ψ–Ι, ―É–Ε–Β ―²―Ä–Β―²–Η–Ι –¥–Β–Ϋ―¨. –ë–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä―é –Ζ–Α –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β!

–£ –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η–Β –≤―΄―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Β–¥―¹–Β–¥–Α―²–Β–Μ―è –û–ö –û–Μ–Β–≥ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –™–Ψ―Ä–Μ–Ψ–≤ –Ζ–Α―΅–Η―²–Α–Μ –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ―² –Κ–Α–Ω.1―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ö–Α―¹–Α―²–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Α –Η –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤ –†–Β―¹–Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Η –ë–Β–Μ–Α―Ä―É―¹―¨
–Θ–≤–Α–Ε–Α–Β–Φ―΄–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ï–≤–≥–Β–Ϋ―¨–Β–≤–Η―΅! –î–Ψ―Ä–Ψ–≥–Η–Β –≥–Β―Ä–Ψ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²―΄-–Ω–Β―Ä–≤–Ψ–±–Α–Μ―²―΄ 46-49-53!
–€―΄, –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü―΄ –Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η, –Η–¥―É―â–Η–Β –Ζ–Α –≤–Α–Φ–Η –≤ –Κ–Η–Μ―¨–≤–Α―²–Β―Ä, 50-56-60, –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Μ―è–Β–Φ –≤–Α―¹ ―¹ –Κ―Ä–Α―¹–Η–≤–Ψ–Ι ―é–±–Η–Μ–Β–Ι–Ϋ–Ψ–Ι –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Β–Ι ―É –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ–Α "–Γ―²–Β―Ä–Β–≥―É―â–Β–Φ―É". –ü―è―²―¨–¥–Β―¹―è―² –Ω―è―²―΄–Ι ―Ä–Α–Ζ –½–Β–Φ–Μ―è –Ζ–Α–≤–Β―Ä―à–Α–Β―² ―¹–≤–Ψ–Ι –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ―² –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥ –Γ–Ψ–Μ–Ϋ―Ü–Α –Η –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι ―Ä–Α–Ζ –≤–Ψ –≤―²–Ψ―Ä―É―é ―¹―É–±–±–Ψ―²―É –Α–Ω―Ä–Β–Μ―è –Φ―΄ ―è–≤–Μ―è–Β–Φ―¹―è ―¹–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ―è–Φ–Η –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Η, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η―à–Κ–Η ―¹–Ψ―Ä–Ψ–Κ–Ψ–≤―΄―Ö –≥–Ψ–¥–Ψ–≤, –Ψ―²–±―Ä–Ψ―¹–Η–≤ –Ω–Ψ–≤―¹–Β–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ―΄–Β –¥–Β–Μ–Α, –Ζ–Α–±―΄–≤ –Ψ –±–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ―è―Ö –Η –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²–Β, –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥―è―² –Ϋ–Α ―¹–≤―è―²–Ψ–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ ―É –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ–Α "–Γ―²–Β―Ä–Β–≥―É―â–Β–Φ―É", ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η―²―¨―¹―è ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―¹―²―¨―é.
–£―΄ –≤―¹–Β–Ι ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α–Β―²–Β –≤–Β–Μ–Η–Κ―É―é ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ―É―é ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η―é - "–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Β –±―Ä–Α―²―¹―²–≤–Ψ –Ϋ–Β―Ä―É―à–Η–Φ–Ψ". –€―΄ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Η, –±―Ä–Ψ―¹–Η–≤―à–Η–Β ―¹–≤–Ψ–Ι ―è–Κ–Ψ―Ä―¨ –≤ ―¹–Η–Ϋ–Β–Ψ–Κ–Ψ–Ι –ë–Β–Μ–Α―Ä―É―¹–Η, –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ–Β–Φ –≤ –≤–Α―à―É ―΅–Β―¹―²―¨ –Ϋ–Α –ë―Ä–Β―¹―²―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ―Ä–Β–Ω–Ψ―¹―²–Η –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Β–≤―¹–Κ–Η–Ι ―³–Μ–Α–≥ –Η –≤―΄–Ω―¨–Β–Φ, –Κ–Α–Κ –≤ ―é–Ϋ―΄–Β –≥–Ψ–¥―΄, –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β 50 –≥―Ä–Α–Φ–Φ–Ψ–≤ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ω–Η―Ä―²–Α –Ζ–Α –≤–Α―à–Β –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―¨–Β.
–ü―É―¹―²―¨ ―¹―΅–Α―¹―²―¨–Β, ―É–¥–Α―΅–Α, ―É―¹–Ω–Β―Ö ―¹–Ψ–Ω―É―²―¹―²–≤―É―é―² –≤–Α–Φ. –ü–Ψ –Ω–Ψ―Ä―É―΅–Β–Ϋ–Η―é –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤ ―Ä–Β―¹–Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Η –ë–Β–Μ–Α―Ä―É―¹―¨ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ö–Α―¹–Α―²–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –£–Α–Μ–Β―Ä–Η–Ι –Λ–Β–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η―΅.

–ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η–Ι –î―Ä―é–Ϋ–Η–Ϋ, –‰–≥–Ψ―Ä―¨ –ö―É–Μ–Η–Κ–Ψ–≤, –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ù–Α―É–Φ–Ψ–≤, –ê–Ω–Ψ–Μ–Μ–Ψ―¹ –Γ–Ψ―΅–Η―Ö–Η–Ϋ - –Ϋ–Α―à–Η –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü―΄

–î–≤–Ψ―Ä ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α. –ù.–ù–Α―É–Φ–Ψ–≤, –ê.–Γ–Ψ―΅–Η―Ö–Η–Ϋ, –°.–™―Ä–Ψ–Φ–Ψ–≤ βÄî –≤–Ψ –¥–≤–Ψ―Ä–Β –£–£–€–Θ–ü–ü, 1950 –≥–Ψ–¥

–Δ–Β –Ε–Β –Ω–Β―Ä―¹–Ψ–Ϋ–Α–Ε–Η, –Ϋ–Ψ ―É–Ε–Β ―΅–Β―Ä–Β–Ζ 65 –Μ–Β―²

–£–Α–¥–Η–Φ - ―¹―΄–Ϋ –ê.–Γ–Α–≤–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, –≠.–‰–Μ―¨–Η–Ϋ, –£.–¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ―Ü–Β–≤

–Γ―²–Α–Μ–Η–Ι –Λ–Η–Μ―¨, –£–Α–Μ–Β―Ä–Η–Ι –Ξ–Ψ–¥―΄―Ä–Β–≤, –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –€–Α–Μ―¨–Κ–Ψ–≤

–°.–ö–Μ―É–±–Κ–Ψ–≤, –ï.–î―Ä―é–Ϋ–Η–Ϋ, –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –ü―Ä–Β–Ϋ

–Λ―É―Ä―à–Β―² –≥–Ψ―²–Ψ–≤

–ü–Ψ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η–Η ―³―É―Ä―à–Β―²–Α –Ω–Β―Ä–Β―à–Μ–Η –Κ –Ζ–Α–¥―É―à–Β–≤–Ϋ―΄–Φ –±–Β―¹–Β–¥–Α–Φ

–ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η–Ι –£–Β―Ä–Β―¹–Ψ–≤, –¦–Α―Ä–Η―¹–Α –‰–Μ―¨–Η–Ϋ–Α, –¦―é–¥–Φ–Η–Μ–Α –ö–Α–Μ–Α―à–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤–Α, –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ö–Α–Μ–Α―à–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –ë–Ψ―Ä–Η―¹ –€–Ψ―¹–Η–Ϋ


–ö–Η―Ä–Η–Μ–Μ –€–Α―Ä–≥–Α―Ä―è–Ϋ―Ü - –≤ ―Ä–Α–Ζ–¥―É–Φ―¨–Β, –≠―Ä–Ϋ―¹―² –‰–Μ―¨–Η–Ϋ, –ù–Α―²–Α–Μ―¨―è –Ξ–Ψ–¥―΄―Ä–Β–≤–Α

–Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –ü―Ä–Β–Ϋ, –ê–Ω–Ψ–Μ–Μ–Ψ―¹ –Γ–Ψ―΅–Η―Ö–Η–Ϋ, –£–Α–Μ–Β―Ä–Η–Ι –Ξ–Ψ–¥―΄―Ä–Β–≤

–£–Α–¥–Η–Φ –Γ–Α–≤–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι, –ê–Μ–Β–Κ―¹.–€–Α–Μ―¨–Κ–Ψ–≤, –‰–≥–Ψ―Ä―¨ –ü–Α–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ–Η―¹ βÄ™ –Ω―Ä–Ψ―â–Α–Ϋ–Η–Β –Η –¥–Ψ –Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö –≤―¹―²―Ä–Β―΅

–†―É–¥–Ψ–Μ―¨―³ –Γ–Α―Ö–Α―Ä–Ψ–≤ βÄî ¬Ϊ–ß–Β―¹―²―¨ –Η–Φ–Β―é¬Μ

–ö–Η―Ä–Η–Μ–Μ –€–Α―Ä–≥–Α―Ä―è–Ϋ―Ü βÄî –Κ–Α–Κ ―è ―É―¹―²–Α–Μ –Ψ―² –≤―¹–Β–≥–Ψ ―ç―²–Ψ–≥–ΨβÄΠ

–ù.–½–Α–≥―É―¹–Κ–Η–Ϋ, –û.–™–Ψ―Ä–Μ–Ψ–≤, –°.–™―Ä–Ψ–Φ–Ψ–≤ βÄ™ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Β–Ϋ –±–Α–Μ–Μ, ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ ―¹―²–Ψ–Μ

–Γ–¦–ï–î–Θ–°–©–ê–· –£–Γ–Δ–†–ï–ß–ê –£–û –£–Δ–û–†–Θ–° –Γ–Θ–ë–ë–û–Δ–Θ 9 –ê–ü–†–ï–¦–· 2016 –™–û–î–ê
30.04.201523:4330.04.2015 23:43:21
0
30.04.201514:3030.04.2015 14:30:51
30.04.201514:3030.04.2015 14:30:51
–Γ―²―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü―΄:
–ü―Ä–Β–¥.
|
1
|
...
|
94
|
95
|
96
|
97
|
98
|
...
|
865
|
–Γ–Μ–Β–¥.
|









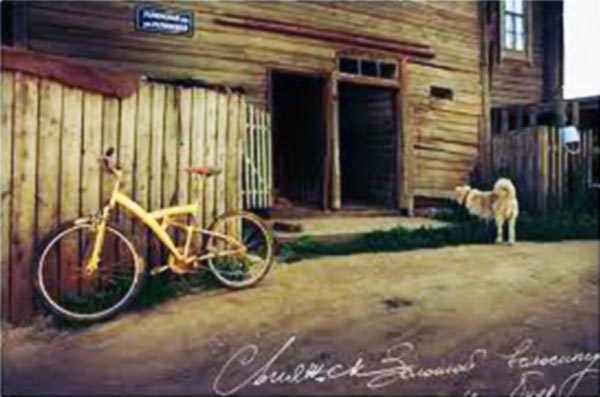





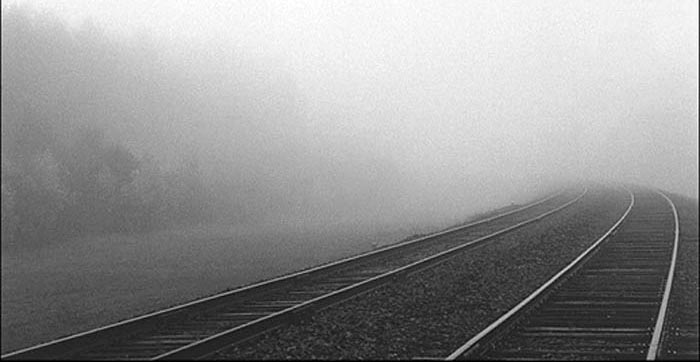








































.jpg)


