–ë–Α–Ϋ–Ϋ–Β―Ä

–‰–‰ –¥–Μ―è –Ψ–±―ä–Β–Κ―²–Ψ–≤ ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ―ç–Ϋ–Β―Ä–≥–Β―²–Η–Κ–Η
|
–£―¹–Κ–Ψ―Ä–Φ–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹ –Κ–Ψ–Ω―¨―è
0
04.02.201007:5204.02.2010 07:52:33
–®–Η―à–Κ–Η–Ϋ –ö–Η―Ä–Η–Μ–Μ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅.  –û–Ϋ–Η –±―΄–Μ–Η –Ω–Β―Ä–≤―΄–Φ–Η. –ü–Β―Ä–≤―΄–Ι –≤―΄–Ω―É―¹–Κ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α–±–Ψ―Ä–Α 1944-1948 –≥–≥. –Γ–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤–Β―Ü 1948 –≥–Ψ–¥–Α –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Α –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –Γ–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≤. –û–Ϋ–Η –±―΄–Μ–Η –Ω–Β―Ä–≤―΄–Φ–Η. –ü–Β―Ä–≤―΄–Ι –≤―΄–Ω―É―¹–Κ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α–±–Ψ―Ä–Α 1944-1948 –≥–≥. –Γ–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤–Β―Ü 1948 –≥–Ψ–¥–Α –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Α –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –Γ–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≤.–®–Η―à–Κ–Η–Ϋ –ö–Η―Ä–Η–Μ–Μ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅. –ö–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –≤ –Ψ―²―¹―²–Α–≤–Κ–Β, ―¹―΄–Ϋ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 1-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–≤―à–Β–≥–Ψ –≤ 1930-–Β –≥–Ψ–¥―΄ –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Ψ–Ι ¬Ϊ–½–≤–Β–Ζ–¥–Α¬Μ, –Α ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β, –≤ 1919-–Φ –≥–Ψ–¥―É, ―¹–Μ―É–Ε–Η–≤―à–Β–≥–Ψ ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Ψ–Φ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Β ¬Ϊ–ü–Α–Ϋ―²–Β―Ä–Α¬Μ, –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Η–≤―à–Β–Ι –Α–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι ―ç―¹–Φ–Η–Ϋ–Β―Ü ¬Ϊ–£–Η―²―²–Ψ―Ä–Η―è¬Μ. –£ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β ―²–Η―Ö–Η–Ι, –Ϋ–Β–Ζ–Α–Φ–Β―²–Ϋ―΄–Ι –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ –®–Η―à–Κ–Η–Ϋ, –≤―¹–Β–≥–¥–Α ―¹―²–Ψ―è–≤―à–Η–Ι –≥–¥–Β-―²–Ψ –Ϋ–Α ―à–Κ–Β–Ϋ―²–Β–Μ–Β, –Ϋ–Η―΅–Β–Φ –Ψ―¹–Ψ–±―΄–Φ –Ϋ–Β –≤―΄–¥–Β–Μ―è–Μ―¹―è, ―Ä–Α–Ζ–≤–Β ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η―¹―²―Ä–Α―¹―²–Η–Β–Φ –Κ ―¹–Μ–Η–≤–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Φ―É –Φ–Α―¹–Μ―É (–Ζ–Α ―΅―²–Ψ –Η–Φ–Β–Μ –Ω―Ä–Ψ–Ζ–≤–Η―â–Β ¬Ϊ–Φ–Α―¹–Μ–Ψ–Β–¥¬Μ), –Η ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–Ϋ―¨–Κ–Ψ–Β –¥–Β–Μ–Ψ βÄî ―Ä–Α–Ζ–≤–Β ―΅―²–Ψ! βÄî –Ζ–Α–≤–Η–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―Ü–Β–Μ–Β―É―¹―²―Ä–Β–Φ–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –≤ ―É―΅–Β–±–Β. –ü–Ψ –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Κ–Α–Φ –≤ –Α―²―²–Β―¹―²–Α―²–Β –Ζ―Ä–Β–Μ–Ψ―¹―²–Η –Ψ–Ϋ –≤–Ψ―à–Β–Μ –≤ –Ω–Β―Ä–≤―É―é –¥–Β―¹―è―²–Κ―É –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –Ω―Ä–Α–≤–Ψ –≤―΄–±–Ψ―Ä–Α –Φ–Β―¹―²–Α –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Β–Ι ―É―΅–Β–±―΄ –Η –Ω–Ψ―à–Β–Μ –≤ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Ψ―Ä―É–Ε–Η―è, –≥–¥–Β –≤―¹–Β ―à–Β―¹―²―¨ –Μ–Β―² –±―΄–Μ ―¹―²–Α–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ ―¹―²–Η–Ω–Β–Ϋ–¥–Η–Α―²–Ψ–Φ –Η –Ω–Ψ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η–Η –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ –≤ –Α–¥―ä―é–Ϋ–Κ―²―É―Ä–Β. –½–Α―â–Η―²–Η–≤ –¥–Η―¹―¹–Β―Ä―²–Α―Ü–Η―é –Ϋ–Α ―¹–Ψ–Η―¹–Κ–Α–Ϋ–Η–Β ―É―΅–Β–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Η –Κ–Α–Ϋ–¥–Η–¥–Α―²–Α ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ϋ–Α―É–Κ, ―¹―²–Α–Μ ―¹–Ψ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –ù–‰–‰ –£–€–Λ. –‰, –Κ–Α–Κ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –Ϋ–Α –≤―¹―é –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É. –ü―Ä–Η―à–Β–Μ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Φ –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Ψ–Φ –Ϋ–Α –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Φ–Μ–Α–¥―à–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Η–Κ–Α, ―É―à–Β–Μ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ―²―Ä–Η–¥―Ü–Α―²―¨ –Μ–Β―² –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ψ–Φ 1-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α ―¹ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –≤–Β–¥―É―â–Β–Ι –Μ–Α–±–Ψ―Ä–Α―²–Ψ―Ä–Η–Η –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―²–Α, –≤–Μ–Ψ–Ε–Η–≤ ―¹–≤–Ψ–Η –Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è, –Ψ–Ω―΄―² –Η ―²–≤–Ψ―Ä―΅–Β―¹–Κ―É―é ―ç–Ϋ–Β―Ä–≥–Η―é –≤ –±–Ψ–Μ–Β–Β ―΅–Β–Φ –Ω―è―²―¨–¥–Β―¹―è―² –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α–Ζ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ψ–Κ –Η ―²―Ä―É–¥–Ψ–≤ –Ω–Ψ ―¹–Η―¹―²–Β–Φ–Α–Φ ―¹–Α–Φ–Ψ–Ϋ–Α–≤–Ψ–¥―è―â–Η―Ö―¹―è ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥ –Η –≤–Β―Ä―²–Ψ–Μ–Β―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Η―¹–Κ–Α –±–Β―¹―à―É–Φ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ. –Γ–Α–Φ―΄–Ι –Ε–Β –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –Β–≥–Ψ ―²―Ä―É–¥, ―²–≤–Ψ―Ä―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι ―²―Ä―É–¥, –Α ―²–≤–Ψ―Ä―΅–Β―¹―²–≤–Ψ βÄî –Ω–Β―Ä–≤–Α―è –Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ―è―è –Ψ–Ω–Ψ―Ä–Ϋ―΄–Β ―¹―²―É–Ω–Β–Ϋ–Η –≤ –Ϋ–Α―É–Κ–Β, βÄî –Ω–Ψ–¥―Ä–Ψ–±–Ϋ–Β–Ι―à–Η–Ι, ―¹ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ζ–Α―Ä–Η―¹–Ψ–≤–Κ–Α–Φ–Η, –Ψ–±―ä–Β–Φ–Η―¹―²―΄–Ι –Κ–Ψ–Ϋ―¹–Ω–Β–Κ―² –Ω–Ψ –£–€–ü, –Κ–Α–Κ ―¹–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ–Α―è ―Ä–Β–Μ–Η–Κ–≤–Η―è, ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η―²―¹―è –¥–Ψ–Φ–Α. –ù–Α –Φ–Ψ–Β –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α―²―¨ –Β–≥–Ψ –≤ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Ϋ―΄–Ι –Φ―É–Ζ–Β–Ι –ö–Η―Ä–Η–Μ–Μ –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ –Ψ―²–Κ–Α–Ζ–Ψ–Φ. ¬Ϊ–Ξ–Ψ―΅―É, βÄî –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―², βÄî –≤–Ϋ―É–Κ–Α ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ, –ö–Ψ―¹―²―é, –Ζ–Α–Κ–Α–Ϋ―΅–Η–≤–Α―é―â–Β–≥–Ψ –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –≥–Ψ–¥―É 8-–Ι –Κ–Μ–Α―¹―¹, –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Η―²―¨ –≤ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β. –ü―Ä–Η–≥–Ψ–¥–Η―²―¹―è –Β–Φ―É. –£–Β–¥―¨ ―²–Β–Ω–Β―Ä–Β―à–Ϋ–Η–Φ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Α–Φ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ―É―é –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ―É –¥–Α―é―² –≤ –≥–Ψ―Ä–Α–Ζ–¥–Ψ –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β–Φ –Ψ–±―ä–Β–Φ–Β. –Γ–≤–Ψ–Η–Φ–Η ―É―à–Α–Φ–Η ―¹–Μ―΄―à–Α–Μ –Ϋ–Α "–ê–≤―Ä–Ψ―Ä–Β" –≤ –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β 50-–Μ–Β―²–Η―è ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α, –Κ–Α–Κ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, ―¹―²–Ψ―è―â–Η―Ö –≤ ―¹―²―Ä–Ψ―é –≤–¥–Ψ–Μ―¨ –±–Ψ―Ä―²–Α, ―à–Μ―é–Ω–Κ―É –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Μ –Μ–Ψ–¥–Κ–Ψ–Ι¬Μ. –Θ–Ε–Β ―¹–Β–¥―¨–Φ–Ψ–Ι –≥–Ψ–¥ –ö–Η―Ä–Η–Μ–Μ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Β―² –≤ –Θ–Ϋ–Η–≤–Β―Ä―¹–Η―²–Β―²–Β –Ω–Β–¥–Α–≥–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Α―¹―²–Β―Ä―¹―²–≤–Α, ―É―΅–Η―² –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β–Ε―¨ –Φ–Β―²–Ψ–¥–Η–Κ–Α–Φ –Ψ―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Ι, ―Ä–Α–Ζ―Ä–Α–±–Α―²―΄–≤–Α–Β―² ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤―É―é―â–Η–Β –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²―΄. –£–Ψ―² ―²–Α–Κ –Μ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Η―΅–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α―²―¨ –Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―¹–Κ―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ, –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ ―Ä―É–Κ–Ψ–Ω–Η―¹–Ϋ–Ψ–Φ –Μ–Η―¹―²–Κ–Β, –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Ψ –Η–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ ―¹–≤–Ψ―é ―¹–Ψ―Ä–Ψ–Κ–Α–Μ–Β―²–Ϋ―é―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É ―É―΅–Β–Ϋ–Ψ–≥–Ψ-–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ι–Ϋ–Η–Κ–Α –Ω–Ψ –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η―é –±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –†–Ψ–¥–Η–Ϋ―΄. –£–Ψ–Η―¹―²–Η–Ϋ―É –Κ―Ä–Α―²–Κ–Ψ―¹―²―¨ βÄî ―¹–Β―¹―²―Ä–Α ―²–Α–Μ–Α–Ϋ―²–Α! –£–Ψ―² ―²–Β–±–Β –Η ¬Ϊ―²–Η―Ö–Η–Ι¬Μ, –≤–Ψ―² ―²–Β–±–Β –Η ¬Ϊ–Ϋ–Β–Ζ–Α–Φ–Β―²–Ϋ―΄–Ι¬Μ, –Ϋ–Η―΅–Β–Φ –Ϋ–Β –≤―΄–¥–Β–Μ―è―é―â–Η–Ι―¹―è –®–Η―à–Κ–Η–Ϋ! –û―²–Β―Ü. –®–Η―à–Κ–Η–Ϋ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –™–Β–Ψ―Ä–≥–Η–Β–≤–Η―΅. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä - –£–†–‰–î 1922 - –®–Η―à–Κ–Η–Ϋ –ê.–™.  –ù–Α–Η–±–Ψ–Μ–Β–Β –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Α –≤ ―²–Β –¥–Ϋ–Η (–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ê.–ù.–ë–Α―Ö―²–Η–Ϋ, –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Α―Ä –£.–™.–‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤). –Θ―²―Ä–Ψ–Φ 24 –Η―é–Μ―è, –Ψ–Ϋ–Α, ―¹–Μ–Β–¥―É―è –Ω–Ψ–¥ –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω–Ψ–Φ, –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–Μ–Α –≤ –ö–Ψ–Ω–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Β –¥–≤–Β –±―Ä–Η―²–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Β –ü–¦ ―²–Η–Ω–Α "–ï", –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Η–Β―¹―è –≤ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η. –ê.–ù.–ë–Α―Ö―²–Η–Ϋ, ―Ä–Β―à–Η–≤ –Α―²–Α–Κ–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ–±–Β –ü–¦, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ "–ü–Α–Ϋ―²–Β―Ä―É" –Φ–Β–Ε–¥―É –Ϋ–Η–Φ–Η. –ö–Ψ–≥–¥–Α –¥–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ –ü–¦ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α ―Ä–Α―¹―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Β ―¹–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –¥–Ψ 6 –Κ–Α–±–Β–Μ―¨―²–Ψ–≤―΄―Ö, "–ü–Α–Ϋ―²–Β―Ä–Α" –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β–Μ–Α –≤―΄―¹―²―Ä–Β–Μ –Η–Ζ –Ω―Ä–Α–≤–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Φ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Α–Ω–Ω–Α―Ä–Α―²–Α, –Α 4 –Φ–Η–Ϋ―É―²―΄ ―¹–Ω―É―¹―²―è, –Ψ―²–≤–Β―Ä–Ϋ―É–≤ –Ϋ–Α 20 –≥―Ä–Α–¥―É―¹–Ψ–≤ –≤–Ω―Ä–Α–≤–Ψ, –≤―΄–Ω―É―¹―²–Η–Μ–Α ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥―É –Η–Ζ –Μ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Φ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Α–Ω–Ω–Α―Ä–Α―²–Α –≤–Ψ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –ü–¦. –ù–Ψ –≤–Ζ―Ä―΄–≤–Ψ–≤ –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É-―²–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ. –û–¥–Ϋ–Α –Η–Ζ –±―Ä–Η―²–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –ü–¦ –¥–Α–Μ–Α ―Ö–Ψ–¥, –¥―Ä―É–≥–Α―è –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α –Φ–Β―¹―²–Β. –û–Ω–Η―¹–Α–≤ –Ω–Ψ–¥ –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι ―Ü–Η―Ä–Κ―É–Μ―è―Ü–Η―é –≤–Μ–Β–≤–Ψ, –ü–¦ "–ü–Α–Ϋ―²–Β―Ä–Α" –≤―΄―¹―²―Ä–Β–Μ–Η–Μ–Α –Ω–Ψ –Ϋ–Β–Ω–Ψ–¥–≤–Η–Ε–Ϋ–Ψ–Ι ―Ü–Β–Μ–Η –¥–≤–Β ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥―΄ –Η–Ζ –Ϋ–Ψ―¹–Ψ–≤―΄―Ö –Α–Ω–Ω–Α―Ä–Α―²–Ψ–≤. –Δ–Ψ―Ä–Ω–Β–¥―΄ ―à–Μ–Η ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ, –Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η–Μ –Η―Ö ―¹–Μ–Β–¥. –ë―Ä–Η―²–Α–Ϋ―¹–Κ–Α―è –ü–¦ –¥–Α–Μ–Α ―Ö–Ψ–¥, ―Ä–Α–Ζ–≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Α―¹―¨, –Η –Ψ–±–Β ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥―΄ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Η –Φ–Η–Φ–Ψ. –£ ―ç―²–Ψ―² –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―² –¥―Ä―É–≥–Α―è –±―Ä–Η―²–Α–Ϋ―¹–Κ–Α―è –ü–¦ ―É―¹–Ω–Β–Μ–Α –≤―΄―¹―²―Ä–Β–Μ–Η―²―¨ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥―É, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Α –≤–¥–Ψ–Μ―¨ –±–Ψ―Ä―²–Α –ü–¦ "–ü–Α–Ϋ―²–Β―Ä–Α". –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α, –Ψ―²–≤–Β―Ä–Ϋ―É–≤ –≤–Ω―Ä–Α–≤–Ψ, ―É―à–Μ–Α –Ϋ–Α –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―É. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ–Α –Ω–Β―Ä–≤–Α―è ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ–Α―è –Α―²–Α–Κ–Α, –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –ü–¦ –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α –≤ –≥–Ψ–¥―΄ –™―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄. –û–Ϋ–Α –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ, ―΅―²–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è―é―² –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β ―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ―É―é –Η ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ―É―é ―É–≥―Ä–Ψ–Ζ―É...  –ù–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –Ω―Ä–Ψ–Ζ–≤―É―΅–Α–Μ ―¹–Η–≥–Ϋ–Α–Μ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―²―Ä–Β–≤–Ψ–≥–Η. –ü–¦ "–ü–Α–Ϋ―²–Β―Ä–Α" –Ω–Ψ–¥–Ψ―à–Μ–Α –±–Μ–Η–Ε–Β –Κ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤―É, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ –Ω–Ψ–≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Α –≤–Μ–Β–≤–Ψ –Ω–Ψ―΅―²–Η –Ϋ–Α 90 –≥―Ä–Α–¥―É―¹–Ψ–≤. –£ ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹–Ψ–Μ–Ϋ―Ü–Β –Ψ–Ω―É―¹–Κ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ζ–Α –≥–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ψ–Ϋ―², ―Ä–Α―¹―¹―²–Β–Μ–Η–≤ –Ω–Ψ –≤–Ψ–¥–Β –Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²–Η―¹―²–Ψ-–Ψ―Ä–Α–Ϋ–Ε–Β–≤―É―é ―¹–≤–Β―Ä–Κ–Α―é―â―É―é –¥–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Κ―É. –û–Ϋ–Ψ ―¹–Μ–Β–Ω–Η–Μ–Ψ –≥–Μ–Α–Ζ–Α ―¹–Η–≥–Ϋ–Α–Μ―¨―â–Η–Κ–Α–Φ –Ϋ–Α –±―Ä–Η―²–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è―Ö, –Ζ–Α―²―Ä―É–¥–Ϋ―è―è –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω–Α. –ö ―²–Ψ–Φ―É –Ε–Β –ü–¦ ―¹–±–Μ–Η–Ε–Α–Μ–Α―¹―¨ ―¹ –Φ–Η–Ϋ–Ψ–Ϋ–Ψ―¹―Ü–Α–Φ–Η –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α ―¹–Ψ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α, –Ψ―²–Κ―É–¥–Α –Β–Β –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ψ–Ε–Η–¥–Α–Μ–Η. –≠―²–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ–Η–Μ–Ψ –Β–Ι –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Α―²–Α–Κ–Η –Ϋ–Α –Φ–Β–Μ–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Μ–Β―¹–Β (15 - 25 –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤) –±―΄―¹―²―Ä–Ψ ―É–Ι―²–Η –≤ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―É –±–Ψ–Μ―¨―à–Η―Ö –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ. –£–Α―Ö―²―É –Ϋ–Β―¹ –Ϋ–Α –≥–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ψ–Ϋ―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―Ä―É–Μ―è―Ö –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―² –Λ.–€.–Γ–Φ–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, ―É –Ω―Ä–Η–±–Ψ―Ä–Ψ–≤ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–±–Ψ–Ι - –Ψ–Ω―΄―²–Ϋ―΄–Ι –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Η―¹―² –Λ.–£.–Γ–Α–Κ―É–Ϋ. –ö–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Α―Ä "–ü–Α–Ϋ―²–Β―Ä―΄" –£.–™.–‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¹―è –≤ –Ϋ–Ψ―¹–Ψ–≤―É―é ―΅–Α―¹―²―¨ –Μ–Ψ–¥–Κ–Η. –£ –Κ–Ψ―Ä–Φ–Ψ–≤–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –±–Ψ―Ü–Φ–Α–Ϋ –î.–Γ.–ö―É–Ζ―¨–Φ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι, –≤–Ψ–Ζ–≥–Μ–Α–≤–Μ―è–≤―à–Η–Ι –Ω–Α―Ä―²–Η–Ι–Ϋ―É―é –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―é "–ü–Α–Ϋ―²–Β―Ä―΄". –ß–Α―¹―΄ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η 21.05. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²―¨ –Ω–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Η–Β –Κ―Ä―΄―à–Κ–Η –Ϋ–Ψ―¹–Ψ–≤―΄―Ö ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄―Ö –Α–Ω–Ω–Α―Ä–Α―²–Ψ–≤. –ß–Β―Ä–Β–Ζ 11 –Φ–Η–Ϋ―É―² –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Α –Ϋ–Ψ–≤–Α―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Α: "–ù–Ψ―¹–Ψ–≤―΄–Β –Α–Ω–Ω–Α―Ä–Α―²―΄ - ―²–Ψ–≤―¹―¨!" –î–Ψ –±―Ä–Η―²–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Β –±–Ψ–Μ–Β–Β 4 - 5 –Κ–Α–±–Β–Μ―¨―²–Ψ–≤―΄―Ö. –£ 21.19 –ê.–ù.–ë–Α―Ö―²–Η–Ϋ ―¹–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ: "–ü―Ä–Α–≤―΄–Ι –Α–Ω–Ω–Α―Ä–Α―² - –Ω–Μ–Η!" –ß–Β―Ä–Β–Ζ –Ω–Ψ–Μ–Φ–Η–Ϋ―É―²―΄ "–ü–Α–Ϋ―²–Β―Ä–Α" –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β–Μ–Α –≤―΄―¹―²―Ä–Β–Μ –Η –Η–Ζ –Μ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Α–Ω–Ω–Α―Ä–Α―²–Α. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä, –Ω―Ä–Η–Μ―¨–Ϋ―É–≤ –Κ –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω―É, ―É–≤–Η–¥–Β–Μ –¥–≤–Α –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–≤―à–Η―Ö―¹―è –Η–Ζ-–Ω–Ψ–¥ –≤–Ψ–¥―΄ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―à–Ϋ―΄―Ö –Ω―É–Ζ―΄―Ä―è - ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥―΄ ―É―¹―²―Ä–Β–Φ–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α. –û–±–Μ–Β–≥―΅–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Ω–Α "–ü–Α–Ϋ―²–Β―Ä―É" –≤―΄–±―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Ψ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. "–£―¹–Β ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –≤ –Ϋ–Ψ―¹!" - ―¹–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –ê.–™.–®–Η―à–Κ–Η–Ϋ. –€–Ψ―Ä―è–Κ–Η –±―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Ϋ–Ψ―¹–Ψ–≤―É―é ―΅–Α―¹―²―¨ –ü–¦. –û–¥–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Α –Ζ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Α –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι –Ϋ–Ψ―¹–Ψ–≤–Α―è –¥–Η―³―³–Β―Ä–Β–Ϋ―²–Ϋ–Α―è ―Ü–Η―¹―²–Β―Ä–Ϋ–Α. "–ü–Α–Ϋ―²–Β―Ä–Α" –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –Ω–Ψ―à–Μ–Α –Ϋ–Α –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Β. –ß–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Β–Κ―É–Ϋ–¥ –Ω–Ψ―¹–Μ―΄―à–Α–Μ―¹―è –ù–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –≤–Η–¥–Β―²―¨, –Κ–Α–Κ ―É –±–Ψ―Ä―²–Α –±―Ä–Η―²–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Η–Ϋ–Ψ–Ϋ–Ψ―¹―Ü–Α –≤–Ζ–Φ–Β―²–Ϋ―É–Μ―¹―è ―¹―²–Ψ–Μ–± –Ψ–≥–Ϋ―è, –≤–Ψ–¥―΄ –Η –¥―΄–Φ–Α - –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω ―É–Ε–Β –±―΄–Μ –Ψ–Ω―É―â–Β–Ϋ. –½–Α–≥―Ä–Ψ―Ö–Ψ―²–Α–Μ–Η –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Η–Β –Ζ–Α–Μ–Ω―΄. "–ü–Α–Ϋ―²–Β―Ä–Α", ―Ä–Β–Ζ–Κ–Ψ –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Η–≤ –Κ―É―Ä―¹, ―¹–Ω–Β―à–Η–Μ–Α –≤―΄–Ι―²–Η –Η–Ζ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α –Α―²–Α–Κ–Η. –û–Ϋ–Α ―à–Μ–Α, –Β–¥–≤–Α –Ϋ–Β –Κ–Α―¹–Α―è―¹―¨ –¥–Ϋ–Η―â–Β–Φ –≥―Ä―É–Ϋ―²–Α. –ê –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Α ―É–≤–Β–Μ–Η―΅–Η–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ - 18βÄΠ20βÄΠ 25 –Φ. –½–Α –Κ–Ψ―Ä–Φ–Ψ–Ι –Ω–Ψ-–Ω―Ä–Β–Ε–Ϋ–Β–Φ―É ―Ä–Α–Ζ–¥–Α–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Η–Β –≤―΄―¹―²―Ä–Β–Μ―΄.  "–ü–Α–Ϋ―²–Β―Ä–Α" –≤―¹–Β –¥–Α–Μ―¨―à–Β –Η –¥–Α–Μ―¨―à–Β ―É―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α –Ϋ–Α –≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ. –ù–Α―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Η –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β ―¹―É―²–Κ–Η. 1 ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä―è –≤ 01.10 –ü–¦ "–ü–Α–Ϋ―²–Β―Ä–Α" –≤―¹–Ω–Μ―΄–Μ–Α. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ψ―²–Κ―Ä―΄–Μ –Μ―é–Κ –Η –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Α―Ä–Ψ–Φ –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ. –ù–Ψ―΅―¨ –±―΄–Μ–Α ―²–Β–Φ–Ϋ–Ψ–Ι. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η –≤–Β–Ϋ―²–Η–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –Μ–Ψ–¥–Κ―É, –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –Γ–Β―¹–Κ–Α―Ä–Α –≤―¹–Ω―΄―Ö–Ϋ―É–Μ –Ω―Ä–Ψ–Ε–Β–Κ―²–Ψ―Ä. –ï–≥–Ψ ―è―Ä–Κ–Η–Ι –Μ―É―΅ –Ζ–Α―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Ζ–Η–Μ –Ω–Ψ –≤–Ψ–¥–Β, –Ω―Ä–Η–±–Μ–Η–Ε–Α―è―¹―¨ –Κ "–ü–Α–Ϋ―²–Β―Ä–Β". –ü–¦ –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ζ–Η–Μ–Α―¹―¨ –Η –Μ–Β–≥–Μ–Α –Ϋ–Α –≥―Ä―É–Ϋ―² –Ϋ–Α –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Β 30 –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤. –£ 05.45 "–ü–Α–Ϋ―²–Β―Ä–Α" –≤―¹–Ω–Μ―΄–Μ–Α –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω–Ϋ―É―é –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―É. –£ 06.30 –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –®–Β–Ω–Β–Μ–Β–≤―¹–Κ–Η–Ι –Φ–Α―è–Κ. –û–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Η–≤―à–Η―¹―¨, "–ü–Α–Ϋ―²–Β―Ä–Α" –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―². –ï–¥–≤–Α –Φ–Η–Ϋ–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Φ–Α―è–Κ, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η–Μ –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω –Ϋ–Β–Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–Ι –ü–¦. –ù–Ψ –≤―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω –Η―¹―΅–Β–Ζ. –£–Η–¥–Η–Φ–Ψ, –ü–¦, –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–≤ "–ü–Α–Ϋ―²–Β―Ä―É", –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ―΅–Μ–Α ―É–Ι―²–Η –Ϋ–Α –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―É. –ö–Ψ–≥–¥–Α "–ü–Α–Ϋ―²–Β―Ä–Α" ―É–Ε–Β –Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–≤–Ψ―Ä, –Ω–Ψ―¹–Μ―΄―à–Α–Μ―¹―è ―¹–Κ―Ä–Β–Ε–Β―² - –Ψ–Ϋ–Α –Μ–Β–≤―΄–Φ –±–Ψ―Ä―²–Ψ–Φ –Ζ–Α–¥–Β–Μ–Α –Μ–Η–±–Ψ –Φ–Η–Ϋ―Ä–Β–Ω, –Μ–Η–±–Ψ ―¹–Ψ―Ä–≤–Α–≤―à―É―é―¹―è –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Κ–Α–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η 1918 –≥. –Η ―¹―Ä–Β–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―É―é –Μ―¨–¥–Ψ–Φ –Ϋ–Α–≤–Η–≥–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―É―é –≤–Β―Ö―É. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ε–Β –ü–¦ –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Μ, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ―² ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Β–Μ –Β―â–Β –Ϋ–Α ―²―Ä–Α–≤–Β―Ä–Ζ–Β –Δ–Ψ–Μ–±―É―Ö–Η–Ϋ–Α –Φ–Α―è–Κ–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –ü–¦ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ω–Ψ–¥ –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι. –£ 11.20 "–ü–Α–Ϋ―²–Β―Ä–Α" –≤―¹–Ω–Μ―΄–Μ–Α. –ù–Α–¥ –Φ–Ψ―Ä–Β–Φ –≤–Η―¹–Β–Μ–Α ―Ö–Φ―É―Ä–Α―è –Φ–≥–Μ–Α. –Γ–Μ–Β–≤–Α –Ω–Ψ –Κ―É―Ä―¹―É ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Α–Μ―¹―è ―¹–Η–Μ―É―ç―² –Δ–Ψ–Μ–±―É―Ö–Η–Ϋ–Α –Φ–Α―è–Κ–Α. –û―²―Ä―΄–≤–Α―è―¹―¨ –Ψ―² –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α, –ü–¦ "–ü–Α–Ϋ―²–Β―Ä–Α" –Ω―Ä–Ψ–±―΄–Μ–Α –Ω–Ψ–¥ –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι 28 ―΅–Α―¹–Ψ–≤ –Η –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Α 75 –Φ–Η–Μ―¨. –ü–Ψ ―²–Β–Φ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α–Φ ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―Ä–Β–Κ–Ψ―Ä–¥–Ψ–Φ. –î–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –≤–Ϋ―É―²―Ä–Η –ü–¦ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Ψ―¹–Μ–Ψ, ―΅―²–Ψ ―¹―²―Ä–Β–Μ–Κ–Α –±–Α―Ä–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Α –≤―΄―à–Μ–Α –Ζ–Α –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―΄ ―à–Κ–Α–Μ―΄ (―¹–≤―΄―à–Β 815 –Φ–Φ). –ê–Κ–Κ―É–Φ―É–Μ―è―²–Ψ―Ä–Ϋ–Α―è –±–Α―²–Α―Ä–Β―è –±―΄–Μ–Α –Ω–Ψ―΅―²–Η –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é ―Ä–Α–Ζ―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Α. –£ 13.00 "–ü–Α–Ϋ―²–Β―Ä–Α" –Ψ―²―à–≤–Α―Ä―²–Ψ–≤–Α–Μ–Α―¹―¨" –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²―¹–Κ–Ψ–Ι –≥–Α–≤–Α–Ϋ–Η.  –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α ¬Ϊ–ü–Α–Ϋ―²–Β―Ä–Α¬Μ. - –Δ–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄–Ι ―É–¥–Α―Ä –ü–¦ "–ü–Α–Ϋ―²–Β―Ä–Α" –±―΄–Μ ―É–¥–Α―΅–Ϋ―΄–Φ - –Ϋ–Ψ–≤–Β–Ι―à–Η–Ι, ―¹–Ω―É―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Μ–Η―à―¨ –≤ 1917 –≥. –Ϋ–Α –≤–Ψ–¥―É, –Φ–Η–Ϋ–Ψ–Ϋ–Ψ―¹–Β―Ü –±―Ä–Η―²–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α "–£–Η–Κ―²–Ψ―Ä–Η" –≤–Ψ–¥–Ψ–Η–Ζ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η–Β–Φ 1367 ―² –Ω–Ψ―à–Β–Μ –Ϋ–Α –¥–Ϋ–Ψ. –½–Α –¥–Ψ–±–Μ–Β―¹―²―¨, –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Β, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ü–¦ "–ü–Α–Ϋ―²–Β―Ä–Α" –ê.–ù.–ë–Α―Ö―²–Η–Ϋ –±―΄–Μ –≤–Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Η ―É–¥–Ψ―¹―²–Ψ–Β–Ϋ –≤―΄―¹―à–Β–Ι –≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥―΄ - –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Α –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –½–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η. –†–Β–≤–≤–Ψ–Β–Ϋ―¹–Ψ–≤–Β―² –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Ω–Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ψ―² 3 –¥–Β–Κ–Α–±―Ä―è 1919 –≥. –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥–Η–Μ 18 –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤ –ü–¦ "–ü–Α–Ϋ―²–Β―Ä–Α" –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ―΅–Α―¹–Α–Φ–Η. –ë―΄–Μ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―² –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―¹―΅–Β―² ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ζ–Α―²–Β–Φ –Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η―É–Φ–Ϋ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤ –±–Ψ―è―Ö –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ –™–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ–Η–Η –≤–Ψ –£―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Β. –™–Β―Ä–Ψ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥ –ü–¦ "–ü–Α–Ϋ―²–Β―Ä–Α" –±―΄–Μ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Φ –±–Ψ–Β–≤―΄–Φ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –ü–¦ –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α –≤ –≥–Ψ–¥―΄ –™―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –Η –Η–Ϋ–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ϋ―²–Β―Ä–≤–Β–Ϋ―Ü–Η–Η.  –£ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Β–Φ –ê.–™.–®–Η―à–Κ–Η–Ϋ ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ ―¹–¥–Α―²–Ψ―΅–Ϋ―΄–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –î-1 "–î–Β–Κ–Α–±―Ä–Η―¹―²" - –Η –¦-1 "–¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–Β―Ü" II ―¹–Β―Ä–Η–Η -  –£―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ 1948 –≥–Ψ–¥–Α –Ϋ–Β –¥–Ψ–≤–Β–Μ–Ψ―¹―¨, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ω―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Α –î–Ϋ–Β –£–€–Λ –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β, –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ, –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ–Β–Β –±―É–¥–Β―² ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É―è―¹―¨ ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Β―Ä–Φ–Η–Ϋ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η–Β–Ι, –Ψ–Ϋ–Η –Ω―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ–Β –≤–Η―Ä―²―É–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ.  –Γ–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–Μ―¹―è –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―¹–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –±–Η–Μ–Β―² –Η –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Α –≥―É–Μ―è–Ϋ―¨―è –≤ –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Α―Ä–Κ–Β –Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä―΄ –Η –Ψ―²–¥―΄―Ö–Α –Η–Φ. –Γ.–€.–ö–Η―Ä–Ψ–≤–Α. –≠―²–Ψ –≤–Β–¥―¨ –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Β –Η ―΅–Β―¹―²―¨, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –Ϋ–Α–¥–Ψ –Ψ–Ω―Ä–Α–≤–¥―΄–≤–Α―²―¨ - –ü–Β―¹–Ϋ―è –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Β–≤ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―¹–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –±–Η–Μ–Β―²–Ψ–Φ ―¹―²–Α–Μ–Α –¥–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Β–Φ –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ –¥–≤–Α–¥―Ü–Α―²–Η ―²―΄―¹―è―΅ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι, –Ω―Ä–Η―à–Β–¥―à–Η―Ö –Ϋ–Α ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω–Η–Ψ–Ϋ–Β―Ä―¹–Κ–Η–Ι –Κ–Ψ―¹―²–Β―Ä –≤ –Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –î–Ϋ―è –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α –Γ–Γ–Γ–†.  –‰ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü―΄ - –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Η –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α ―΅–Β―¹―²–Η –Λ–Μ–Α–≥–Α, –Λ–Μ–Ψ―²–Α –Η –û―²―΅–Η–Ζ–Ϋ―΄ –Ϋ–Β ―É―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Μ–Η. –Γ―É–¥―¨–±―΄ –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Β–≤ –Φ―΄ –Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Η –Ζ–Α –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Α–Φ–Η –Ψ―΅–Β―Ä–Κ–Α, ―¹–Μ–Η―à–Κ–Ψ–Φ –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ –Ϋ–Η―Ö –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, –Κ―²–Ψ-―²–Ψ –Ϋ–Β ―¹―É―â–Β―¹―²–≤―É–Β―² –¥–Μ―è ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ–Α―à–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Α –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―², –Η –¥–Μ―è –Ϋ–Α―¹, –Η –¥–Μ―è –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η. –Γ–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Β–≤ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Α –Ψ―¹―²–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Φ–Α–Μ–Ψ. –ù–Α –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Ι –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Β –Ω–Ψ ―¹–Μ―É―΅–Α―é 66-–Μ–Β―²–Η―è –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η―è ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α (–¥–≤–Α ―¹–¥–≤–Η–Ϋ―É―²―΄―Ö ―¹―²–Ψ–Μ–Η–Κ–Α –≤ –Κ–Α―³–Β) –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ–¥–Φ–Β―΅–Β–Ϋ–Ψ –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–Φ –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤–Η―΅–Β–Φ –î–Β―Ä–Ε–Α–≤–Η–Ϋ―΄–Φ: "–≤–Ψ―² –Φ―΄ –≤―¹–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―²―Ä–Β–Ω–Μ–Β–Φ―¹―è, –±–Α–Ι–Κ–Η –≤―¹―è–Κ–Η–Β ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ-–Ω–Β―Ä–Β―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ, –Α –ö–Ψ–Μ―è, –Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –≤–Ζ―è–Μ –Η –Κ–Ϋ–Η–≥―É –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Μ –Ψ –Ϋ–Α―¹. –ù–Α―¹ –Ϋ–Β –±―É–¥–Β―², –Α –Κ–Ϋ–Η–≥–Α –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Β―²―¹―è...  –û–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Α―è –Ζ–Α―¹–Μ―É–≥–Α –≤–Ψ –≤―¹–Β―Ö –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η―Ö –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è―Ö –Ω–Ψ ―É–≤–Β–Κ–Ψ–≤–Β―΅–Η–≤–Α–Ϋ–Η―é –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η –Ω―Ä–Η–Ϋ–Α–¥–Μ–Β–Ε–Η―² –Μ–Β―²–Ψ–Ω–Η―¹―Ü―É –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Α 1948 –≥–Ψ–¥–Α –Γ–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≤―É –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α―é –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤–Η―΅―É. –ï–Φ―É –Η –Ω―Ä–Β–¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Φ ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ –¥–Μ―è –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η―è –Ψ―΅–Β―Ä–Κ–Α –Ψ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Α―Ö.  –û–Ζ–Β―Ä–Ψ, –≤–Β―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –Ψ―¹―²–Α―²–Κ–Η ―³–Η–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö ―¹–≤–Α–Ι... –‰ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Φ–Η–≥ - ―Ü–≤–Β―²―É―â–Η–Ι –Η–≤–Α–Ϋ-―΅–Α–Ι! ¬Ϊ–ù–Α―¹ –±―΄–Μ–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α ―΅–Β–Μ–Ϋ–Β...¬Μ –¦–Η―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η-–≥―Ä―É―¹―²–Ϋ―΄–Φ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ―¹―è ―³–Ψ―²–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Μ–Α–Ε –Ϋ–Α –ü―É―à–Κ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Β ―¹–Μ–Ψ–≤–Α. –ù–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–¥–Β–Μ–Α–Β―à―¨, –Α–≤―²–Ψ―Ä―É 80 –Μ–Β―². 09.03.2009. –û–±―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Β –Κ –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö ―É―΅–Η–Μ–Η―â. 65-–Μ–Β―²–Ϋ–Β–Φ―É ―é–±–Η–Μ–Β―é –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α, 60-–Μ–Β―²–Η―é –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ψ–≤ –Δ–±–Η–Μ–Η―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, –†–Η–Ε―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö ―É―΅–Η–Μ–Η―â –Ω–Ψ―¹–≤―è―â–Α–Β―²―¹―è.–ü–Ψ–Ε–Α–Μ―É–Ι―¹―²–Α, –Ϋ–Β –Ζ–Α–±―΄–≤–Α–Ι―²–Β ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Α―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ–Α―à–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ –Ψ ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –±–Μ–Ψ–≥–Α, –Ω–Ψ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö ―É―΅–Η–Μ–Η―â, –Ψ –Ω–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö –Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Α―Ü–Η–Ι. –Γ–Ψ–Ψ–±―â–Α–Ι―²–Β ―¹–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ψ ―¹–Β–±–Β –Η ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ–Α―à–Ϋ–Η–Κ–Α―Ö, –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ―è―Ö: –≥–Ψ–¥―΄ –Η –Φ–Β―¹―²–Α ―¹–Μ―É–Ε–±―΄, ―É―΅–Β–±―΄, –Ω–Ψ–≤―΄―à–Β–Ϋ–Η―è –Κ–≤–Α–Μ–Η―³–Η–Κ–Α―Ü–Η–Η, –Φ–Β―¹―²–Ψ ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è, –Ε–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α, –Η–Ϋ―΄–Β –±–Η–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β ―¹–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è. –€―΄ ―¹―²―Ä–Β–Φ–Η–Φ―¹―è ―¹–Ψ–±―Ä–Α―²―¨ –≤―¹–Β –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Β –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ψ –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Α―Ö, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α―Ö, –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ―è―Ö –≤―¹–Β―Ö ―²―Ä–Β―Ö –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö ―É―΅–Η–Μ–Η―â. –ü―Ä–Ψ―¹―¨–±–Α –Ω―Ä–Η―¹―΄–Μ–Α―²―¨ –≤―¹–Β, ―΅–Β–Φ ―¹―΅–Η―²–Α–Β―²–Β –≤–Ω―Ä–Α–≤–Β –Ω–Ψ–¥–Β–Μ–Η―²―¨―¹―è, –≤―¹–Β, ―΅―²–Ψ, –Ω–Ψ –£–Α―à–Β–Φ―É –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é, –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Ι―²–Η –Ψ―²―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –≤ –Ϋ–Α―à–Β–Ι –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η. –£–Β―Ä―é–Ε―¹–Κ–Η–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–£–ù–ê), –™–Ψ―Ä–Μ–Ψ–≤ –û–Μ–Β–≥ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–û–ê–™), –€–Α–Κ―¹–Η–Φ–Ψ–≤ –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–€–£–£), –ö–Γ–£. 198188. –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥, ―É–Μ. –€–Α―Ä―à–Α–Μ–Α –™–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α, –¥–Ψ–Φ 11/3, –Κ–≤. 70. –ö–Α―Ä–Α―¹–Β–≤ –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅, –Α―Ä―Ö–Η–≤–Α―Ä–Η―É―¹. karasevserg@yandex.ru
04.02.201007:5204.02.2010 07:52:33
0
03.02.201007:3103.02.2010 07:31:00
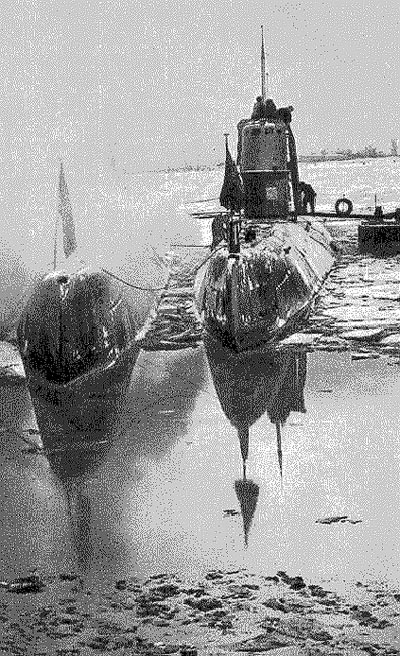 –ü–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Η–¥–Ψ―Ä–Α–Φ, –Κ―É–±―Ä–Η–Κ–Α–Φ –Η –Κ–Α―é―²–Α–Φ –Ω–Μ–Α–≤–Κ–Α–Ζ–Α―Ä–Φ―΄ –Ω―Ä–Ψ–Κ–Α―²–Η–Μ―¹―è ―¹–Μ―É―Ö: βÄ€–¦–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –Ω―Ä–Η―à–Β–ΜβÄΠβÄù - –™–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―², –Ϋ–Ψ–≤―΄–Ι –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ―¹―è. –€–Ψ–Ε–Β―² –Κ –Ϋ–Α–Φ? - –ö―²–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Β―², –Ω–Ψ―à–Β–Μ –≤ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―É –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Α―é―²..., - –¥–Β–Μ–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ―¹―²―¨―é. –ù–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü, –Ω―Ä–Ψ―è―¹–Ϋ―è–Β―²―¹―è: –Ω–Ψ―à–Β–Μ –≤ –Κ–Α―é―²―É –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α 93-–Ι. βÄ€–¦–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Ψ–≤βÄù, βÄ€―¹―²–Α―Ä―à–Η―Ö –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Ψ–≤βÄù –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α –Ω―Ä–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ, ―ç―²–Η –Κ–Α―²–Β–≥–Ψ―Ä–Η–Η ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è―é―² –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ―¹―²―è–Κ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Α. βÄ€–ö–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²―΄βÄù - ―ç―²–Ψ ―É–Ε–Β βÄ€―¹―²–Α―Ä–Η–Κ–ΗβÄù. –£ ―ç―²–Η―Ö –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η―è―Ö ―Ö–Ψ–¥―è―² –≤―¹–Β ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ―΄, –Η –¥–Α–Ε–Β ―΅–Α―¹―²―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ϋ–Α―à–Β–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ―²–Ψ–Ε–Β βÄ€–Κ–Α–Ω–Μ–Β–ΙβÄù βÄ™ –≤–Α–Ε–Ϋ―΄–Ι ―²–Α–Κ–Ψ–Ι, ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Η–Ι. –ü―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è―é, –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―¹–≤–Β–Ε–Β–Η―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Η―à–Κ―É –Ω–Ψ―²―Ä–Ψ―à–Η―², –Κ–Α–Κ –≤–Β–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –¥–Ψ –Ζ–Α–Ϋ―É–¥–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –¥–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―² –≤―¹―é –≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Η –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Β–≥–Ψ –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²―¹–Κ–Ψ–Ι –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –½–Α–Ψ–¥–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β–Ω―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, ―¹ –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö –Ε–Β ―¹–Μ–Ψ–≤ –Ω–Ψ–¥―΅–Β―Ä–Κ–Ϋ–Β―², ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ–Φ―É –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²―É –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–≤–Β–Ζ–Μ–Ψ –Ω–Ψ–Ω–Α―¹―²―¨ –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α –Ϋ–Α―à―É –Μ–Ψ–¥–Κ―É βÄ™ ―¹–Α–Φ―É―é –Μ―É―΅―à―É―é. –Δ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Φ―΄ –Μ―É―΅―à–Η–Β, –Ζ–Ϋ–Α–Μ –≤–Β―¹―¨ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε –Η ―²–≤–Β―Ä–¥–Ψ –≤–Β―Ä–Ψ–≤–Α–Μ ―ç―²–Ψ–Φ―É. –ù–Α –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö –±―΄–Μ–Ψ ―²–Ψ –Ε–Β ―¹–Α–Φ–Ψ–Β, ―²–Β ―²–Ψ–Ε–Β –±―΄–Μ–Η βÄ€―¹–Α–Φ―΄–Β –Μ―É―΅―à–Η–ΒβÄù. –ß―É–≤―¹―²–≤–Ψ –≥–Ψ―Ä–¥–Ψ―¹―²–Η –Ζ–Α ―¹–≤–Ψ–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –≤–Ψ –≤―¹–Β –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α –Ω―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ –Η –≤ ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ, –Η –≤ ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Β. –Γ–Ψ―Ä–Β–≤–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ζ–Α –Μ―É―΅―à–Η–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨, –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―É―é –Μ–Ψ–¥–Κ―É –±―΄–Μ–Ψ –Κ–Α–Κ –Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β, ―²–Α–Κ –Η –Ϋ–Β–≥–Μ–Α―¹–Ϋ–Ψ–Β, –Ϋ–Α –±―΄―²–Ψ–≤–Ψ–Φ ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Β. –≠–≥–Ψ–Η―¹―²–Η―΅–Ϋ–Ψ–Β ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ βÄ€―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –Μ―É―΅―à–Β–≥–ΨβÄù –Η–Φ–Β–Μ–Ψ –Ω–Α―²―Ä–Η–Ψ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ. –ù–Ψ–≤–Β–Ϋ―¨–Κ–Ψ–≥–Ψ –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α ―¹ –Ϋ–Β―²–Β―Ä–Ω–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ε–¥–Α–Μ–Η –≤ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹―Ä–Β–¥–Β, –Ϋ–Ψ –Β–Φ―É –Β―â–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è–Μ–Η –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Η ―¹–Ψ ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Ψ–Φ –Η –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ–Β–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ω–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Η―²―΅–Α―¹―²–Η. –Γ―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹―É–Β―²―¹―è, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, ―²–Β–Ψ―Ä–Β―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –±–Α–Ζ–Ψ–Ι –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α. –Δ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²―É ―¹–≤–Β―²–Η―² –Φ–Β―¹―è―΅–Η―à–Κ–Ψ –Ψ―Ä–≥–Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α βÄ€–Κ–Α–Ζ–Α―Ä–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–ΦβÄù –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η βÄ™ ―ç―²–Ψ ―è―¹–Ϋ–Ψ, –Κ–Α–Κ –¥–Β–Ϋ―¨. –£―¹–Β ―ç―²–Η–Φ –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ–Η. –£―Ä―É―΅–Η―² ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ –Β–Φ―É βÄ€–ö–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é –Κ–Ϋ–Η–Ε–Κ―É –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–ΑβÄù βÄ™ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –±–Μ–Α–Ϋ–Κ–Ψ–≤–Ψ–Β –Η–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Β, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―², –Ω–Ψ–Μ–Ζ–Α―è –Ϋ–Α –±―Ä―é―Ö–Β –Ω–Ψ ―²―Ä―é–Φ–Α–Φ –Η –≤―΄–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Κ–Α–Φ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Ψ–≤, –±―É–¥–Β―² –Ζ–Α―Ä–Η―¹–Ψ–≤―΄–≤–Α―²―¨ ―¹―Ö–Β–Φ―΄ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è –≤―¹–Β―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö ―¹–Η―¹―²–Β–Φ –Η –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ–Ψ–≤.  –ï―â–Β ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ –≤―΄–¥–Α―¹―² βÄ€–±–Β–≥―É–Ϋ–Κ–ΗβÄù βÄ™ –Ζ–Α―΅–Β―²–Ϋ―΄–Β –Μ–Η―¹―²―΄ –Ϋ–Α –¥–Ψ–Ω―É―¹–Κ –Κ ―¹–Α–Φ–Ψ―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ―É ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―é ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Ω–Ψ–¥―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ, –Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η―é ―è–Κ–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –Η ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤–Ψ–Ι –≤–Α―Ö―²―΄, –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –¥–Β–Ε―É―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―é, –Ζ–Α–Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Η―² –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–Κ–Α –Ϋ–Α ―¹–Μ―É–Ε–±–Β. –û―² –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―è ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Β–Ι ―³–Η–Ζ–Ζ–Α―Ä―è–¥–Κ–Η ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²―É –Ϋ–Β ―É–Ι―²–Η βÄ™ ―ç―²–Ψ ―É–¥–Β–Μ –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–≥–Ψ –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ –Ω―Ä–Η–±―΄–≤―à–Β–≥–Ψ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α. –ï―¹―²―¨ –Β―â–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η―à–Κ–Α βÄ™ βÄ€–≤–Ϋ–Β―à―²–Α―²–Ϋ―΄–Ι –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –¥–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–≤–Α―²–Β–Μ―¨βÄùβÄΠ –Θ –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Ω–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Η―²―΅–Α―¹―²–Η ―¹–≤–Ψ–Η ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―΄: –≥–¥–Β ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è, –Κ–Ψ–≥–¥–Α βÄ€–Κ―Ä–Β―¹―²–Η–Μ―¹―èβÄù, –Κ–Α–Κ ―É―΅–Η–Μ―¹―è, ―΅–Β–Φ―É –Ω–Ψ–Κ–Μ–Ψ–Ϋ―è–Μ―¹―è, –Κ―²–Ψ ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Η –Η ―².–¥., –Η ―².–Ω. –ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –≤ βÄ€–Ζ–Α–¥―É―à–Β–≤–Ϋ–Ψ–ΙβÄù –±–Β―¹–Β–¥–Β –Η–¥–Β―² –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Κ–Α ―ç―Ä―É–¥–Η―Ü–Η–Η, –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ζ―Ä–Β–Μ–Ψ―¹―²–Η. –Γ―Ä–Α–Ζ―É –Ε–Β –Ω–Ψ–¥–±―Ä–Α―¹―΄–≤–Α–Β―²―¹―è –Ω–Α―Ä–Α ―²–Β–Φ –¥–Μ―è –±–Μ–Η–Ε–Α–Ι―à–Β–Ι –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η–Η ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ–Α–Φ –Η –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Α–Φ, –Α –Β―¹–Μ–Η –¥–Β–Μ–Ψ –Ω–Ψ–Ι–¥–Β―² ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ, –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ–±–Ψ–≤–Α―²―¨ –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α –Η ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Φ –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η–Ι. –£―΄–Ω–Ψ―²―Ä–Ψ―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α –Ω―Ä–Β–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Α―é―² –≤ –Ψ―²–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Κ–Α―é―²―É. –Γ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―²–Α –Ψ–Ϋ –¥–Ψ―¹―²―É–Ω–Β–Ϋ –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–≥–Α–Φ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ―è, –Ϋ–Ψ ―¹ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Η–Φ ―¹―²–Α–Ε–Β–Φ. –Δ–Β –Ϋ–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ω―è―²―¹―è –≤–Μ–Β–Ζ―²―¨ –≤ –¥―É―à―É –Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–Κ–Α, –¥–Μ―è ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Β―â–Β –±―É–¥–Β―² –≤―Ä–Β–Φ―è, –Β–≥–Ψ –Ω–Μ―é―¹―΄ –Η –Φ–Η–Ϋ―É―¹―΄ ―Ä–Α―¹–Κ―Ä–Ψ–Β―² ―¹–Α–Φ–Α –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨. βÄ€–Γ―²–Α―Ä–Η―΅–Κ–Ψ–≤βÄù ―Ä–Α–¥―É–Β―² –Ω–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β βÄ€―³–Β–Ϋ–¥―Ä–Η–Κ–ΑβÄù –≤ –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Β. –£–Ψ-–Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö, –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ―¹―è ―à―²–Α―²–Ϋ―΄–Ι βÄ€–Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–≤–Α―é―â–Η–ΙβÄù. –ï―¹―²―¨ ―²–Α–Κ–Α―è –Ϋ–Β–≥–Μ–Α―¹–Ϋ–Α―è, –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–¥―É―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Η–Φ–Η –Θ―¹―²–Α–≤–Α–Φ–Η, –ö–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η ―Ä–Α―¹–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η―è–Φ–Η –Η –Ω―Ä–Ψ―΅–Η–Φ–Η ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―è―â–Η–Φ–Η –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Α–Φ–Η ―¹–Μ―É–Ε–Β–±–Ϋ–Α―è –Ϋ–Α–≥―Ä―É–Ζ–Κ–Α βÄ™ βÄ€–Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–≤–Α―é―â–Η–ΙβÄù. –≠―²–Ψ –Ϋ–Β –¥–Β–Ε―É―Ä–Ϋ―΄–Ι, –Ϋ–Β –≤–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι. –≠―²–Ψ ―¹–Κ–Ψ―Ä–Β–Β βÄ€–Ω–Α―¹―²―É―ÖβÄù, βÄ€–Ω–Ψ–≥–Ψ–Ϋ―è–Μ–ΑβÄù. –ï–≥–Ψ ―³―É–Ϋ–Κ―Ü–Η–Η βÄ™ –Ϋ–Β–¥―Ä–Β–Φ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ψ–Κ–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Η ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Α –Ζ–Α ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Η–Φ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Α –¥–Ϋ―è ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Φ: –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Β–Ι –Ω–Ψ–±―É–¥–Κ–Η, ―³–Η–Ζ–Ζ–Α―Ä―è–¥–Κ–Η, ―¹–Α–Ϋ–≥–Η–≥–Η–Β–Ϋ―΄, –Ω―Ä–Η–Β–Φ–Α –Ω–Η―â–Η, –≤–Β―΅–Β―Ä–Ϋ–Β–Ι –Ω―Ä–Ψ–≥―É–Μ–Κ–Η, –≤–Β―΅–Β―Ä–Ϋ–Β–Ι –Ω–Ψ–≤–Β―Ä–Κ–Η, –Ψ―²―Ö–Ψ–¥–Α –Κ–Ψ ―¹–Ϋ―É, –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ―¨ –Ζ–Α –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Β–Ι ―É–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤ –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥ –Η ―¹–≤–Ψ–Β–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η―è –Η―Ö –≤ ―΅–Α―¹―²―¨.  –Λ–Β–Ϋ–¥―Ä–Η–Κ βÄ™ ―¹–Α–Φ―΄–Ι –Φ–Μ–Α–¥―à–Η–Ι –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Η–Ι ―΅–Η–Ϋ, 14-–≥–Ψ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α –≤ ¬Ϊ–Δ–Α–±–Β–Μ–Η –Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α―Ö¬Μ –ü–Β―²―Ä–Α I. –î–Α–≤–Α–Μ –Ω―Ä–Α–≤–Ψ –Ϋ–Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –¥–≤–Ψ―Ä―è–Ϋ―¹―²–≤–Ψ. –ü–Β―²―Ä I. –™―Ä–Α–≤―é―Ä–Α –·. –Ξ―É–±―Ä–Α–Κ–Β–Ϋ–Α 1724 –≥. ―¹ –Ω–Ψ―Ä―²―Ä–Β―²–Α –ö. –€–Ψ–Ψ―Ä–Α 1717 (Peter I. Engraving by J. Hubrakena 1724 with Portrait of Karl Moor 1717). –ö–Ψ–Φ―É, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Β –Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ―¨–Κ–Ψ–Φ―É –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²―É, ―ç―²–Η–Φ –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨―¹―è? –Π–Β–Μ―΄–Ι –Ε–Β –Φ–Β―¹―è―Ü –Ψ–Ϋ –±―É–¥–Β―² ―¹–Η–¥–Β―²―¨ –≤ ―΅–Α―¹―²–Η –Ϋ–Α βÄ€–Κ–Α–Ζ–Α―Ä–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–ΗβÄù, –Β–Φ―É –Η –Κ–Α―Ä―²―΄ –≤ ―Ä―É–Κ–Η, –Ω―É―¹―²―¨ –±–Μ–Η–Ε–Β –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Η―²―¹―è ―¹ –±―΄―²–Ψ–Φ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α –Η –Β–≥–Ψ –Μ―é–¥―¨–Φ–Η. –ê ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―²–Ψ–≤ –Ω―Ä–Η–≤–Ϋ–Β―¹ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α! –î–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –Ω–Α―²―Ä―É–Μ―è βÄ™ ―Ä–Α–Ζ, –Β―â–Β –Ψ–¥–Η–Ϋ βÄ€–Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―²–Ψ―ÄβÄù βÄ™ –¥–≤–Α, –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Η ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Φ –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η–Ι –Ω–Ψ―²―è–Ϋ–Β―² βÄ™ ―²―Ä–Η. –ü–Ψ―¹–Μ–Β ―¹–¥–Α―΅–Η –Ζ–Α―΅–Β―²–Ψ–≤ βÄ™ –Β―â–Β –Ψ–¥–Η–Ϋ –¥–Β–Ε―É―Ä–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―é, –Α –Ω–Ψ–Κ–Α –Ϋ–Α–¥–Ψ –±―΄ –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ―΅–Α―â–Β ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –¥―É–±–Μ–Β―Ä–Ψ–Φ, –Ω―É―¹―²―¨ –Ϋ–Α–±–Η―Ä–Α–Β―²―¹―è –Ψ–Ω―΄―²–Α, –≤―¹–Β ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ε–Β ―¹–Η–¥–Η―² –Ϋ–Α βÄ€–Κ–Α–Ζ–Α―Ä–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–ΗβÄù. –ù–Β ―É―¹–Ω–Β–Μ –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² ―Ä–Α―¹–Ω–Α–Κ–Ψ–≤–Α―²―¨ ―΅–Β–Φ–Ψ–¥–Α–Ϋ, –Κ–Α–Κ –≤ –Κ–Α―é―²―É –≤―Ä―΄–≤–Α–Β―²―¹―è, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –±–Β–Ζ ―¹―²―É–Κ–Α βÄ™ –≤―¹–Β ―¹–≤–Ψ–Η! βÄ™ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―², –Ω–Ψ –≤–Η–¥―É ―²–Ψ–Ε–Β –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Ι, –Ϋ–Ψ ―É–Ε–Β ―¹–Α–Φ–Ψ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι, –≤ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α―Ö ―É–Ε–Β ―΅―É―²―¨ –Ω–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η–≤―à–Η–Ι: - –Δ―΄ –Ϋ–Α―à? βÄ™ –£–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ –Ω–Ψ–¥―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Β–≤–Α–Β―²: βÄ€–Δ―΄ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ –Ϋ–Α –Ϋ–Α―à―É –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―É―é –Μ–Ψ–¥–Κ―É?βÄù - ? ? ? βÄ™ –Ω–Ψ–Ε–Η–Φ–Α–Β―² –Ω–Μ–Β―΅–Α–Φ–Η –Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ―¨–Κ–Η–Ι. - –ù―É, –Ϋ–Α 93-―é? βÄ™ –≤–Ψ–Ζ–Φ―É―â–Α–Β―²―¹―è –Ϋ–Β–Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Μ–Η–≤–Ψ―¹―²―¨―é –Ϋ–Β–Ζ–≤–Α–Ϋ―΄–Ι –≥–Ψ―¹―²―¨. - –î–Α, - –Μ–Β–Ω–Β―΅–Β―² –Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ―¨–Κ–Η–Ι. - –ê –Κ–Α–Κ ―³–Α–Φ–Η–Μ–Η―è? βÄ™ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹―É–Β―²―¹―è –≥–Ψ―¹―²―¨. - –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤βÄΠ - –Γ–Φ–Ψ―²―Ä–Η-–Κ–Α, –Α ―è –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤! –î–Β―Ä–Ε–Η βÄ€–£–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–ΜβÄù, ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ ―²―΄ –±―É–¥–Β―à―¨ –≤–Β―¹―²–Η –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ –≤ –±–Α–Ζ–Β. –Θ –Ϋ–Α―¹ –≤―¹–Β ―²–Α–Κ –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α―é―². –≠―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ: –±–Β―Ä–Β―à―¨ βÄ€–•―É―Ä–Ϋ–Α–Μ –≤–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―¹―²–ΑβÄù, –≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Β―Ä–Β–Ω–Η―¹―΄–≤–Α–Β―à―¨, –Ϋ–Β–Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ–Β βÄ™ –Ψ–Ω―É―¹–Κ–Α–Β―à―¨. –ù―É, –Ω–Ψ–Κ–Α! βÄ™ –≤―΄―¹–Κ–Α–Μ―¨–Ζ―΄–≤–Α–Β―² –Η–Ζ –Κ–Α―é―²―΄. 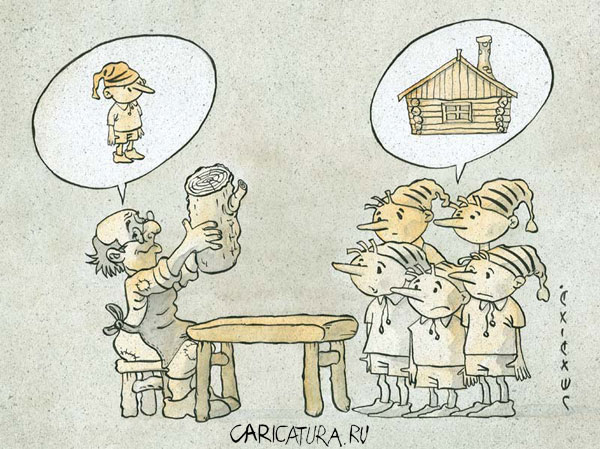 βÄ€–£–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–ΜβÄù –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –≤–Β–¥–Β―²―¹―è –Κ―Ä―É–≥–Μ–Ψ―¹―É―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Η –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β, –Η ―É –Ω―Ä–Η―΅–Α–Μ–Α. –£ –Φ–Ψ―Ä–Β βÄ™ ―ç―²–Ψ ―É–¥–Β–Μ ―¹–Φ–Β–Ϋ–Η–≤―à–Β–≥–Ψ―¹―è –≤–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α –Ζ–Α ―¹–≤–Ψ―é ―¹–Φ–Β–Ϋ―É. –£ –±–Α–Ζ–Β βÄ™ –¥–Β–Ε―É―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―é –Ζ–Α ―¹―É―²–Κ–Η ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –¥–Β–Ε―É―Ä―¹―²–≤–Α. –ß―²–Ψ –Κ–Α―¹–Α–Β―²―¹―è –Φ–Ψ―Ä―è, ―²–Α–Φ –≤―¹–Β ―è―¹–Ϋ–Ψ: –Ψ―²―¹―²–Ψ―è–Μ 4 ―΅–Α―¹–Α, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―¹–Φ–Β–Ϋ―΄ ―¹–Β–Μ, –±―΄―¹―²―Ä–Β–Ϋ―¨–Κ–Ψ –Ζ–Α–Ω–Η―¹–Α–Μ –≤―¹–Β ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è ―²–≤–Ψ–Β–Ι –≤–Α―Ö―²―΄ –Η ―²―΄ βÄ€―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Β–ΫβÄù –Ϋ–Α 8 ―΅–Α―¹–Ψ–≤, –¥–Ψ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è. –£ –±–Α–Ζ–Β ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Β –¥–Β–Μ–Ψ. –û―²―¹―²–Ψ―è–Μ ―¹―É―²–Κ–Η –¥–Β–Ε―É―Ä–Ϋ―΄–Φ, ―¹–¥–Α–Μ –¥–Β–Ε―É―Ä―¹―²–≤–Ψ, –Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ ―¹–Η–¥–Η –Β―â–Β ―΅–Α―¹, –Α ―²–Ψ –Η –±–Ψ–Μ–Β–Β, –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Ι―¹―è –Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η–Ϋ–Ψ–Ι. –ê –≤–Β―΅–Β―Ä ―²–Α–Κ –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Ψ–Κ, –Α ―¹–Ψ–±–Μ–Α–Ζ–Ϋ―΄ ―²–Α–Κ –Ϋ–Β―²–Β―Ä–Ω–Β–Μ–Η–≤―΄βÄΠ –ê ―²―É―² ―¹–Η–¥–Η―² –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Ι –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –±–Β–Ζ –Ω―Ä–Α–≤–Α ―¹―Ö–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥, ―΅―²–Ψ –Β–Φ―É ―¹―²–Ψ–Η―² –Ω–Ψ―¹–Η–¥–Β―²―¨ –Μ–Η―à–Ϋ–Η–Ι ―΅–Α―¹–Ψ–Κ-–¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι –Ϋ–Α–¥ βÄ€–£–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Ψ–ΦβÄù, –Ω―É―¹―²―¨ –≤–Ω–Η―²―΄–≤–Α–Β―² –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –≤ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ–±―ä–Β–Φ–Β, –Ζ–Α–Ψ–¥–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ―¹―²–≤―É–Β―² –Κ–Α–Μ–Μ–Η–≥―Ä–Α―³–Η―é. –î–Ψ–Μ–≥–Ψ ―¹–Ψ–Κ―Ä―É―à–Α―²―¨―¹―è –Ω–Ψ ―¹–Μ―É―΅–Α―é –Ϋ–Β―΅–Α―è–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹–≤–Α–Μ–Η–≤―à–Β–Ι―¹―è –Ϋ–Α–≥―Ä―É–Ζ–Κ–Η –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²―É –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤―É –Ϋ–Β –¥–Ψ–≤–Β–Μ–Ψ―¹―¨. –Γ–Ϋ–Ψ–≤–Α –≤–Ϋ–Β–Ζ–Α–Ω–Ϋ–Ψ ―Ä–Α―¹–Ω–Α―Ö–Ϋ―É–Μ–Α―¹―¨ –¥–≤–Β―Ä―¨ –Κ–Α―é―²―΄. –Γ ―¹–Η―è―é―â–Β–Ι ―É–Μ―΄–±–Κ–Ψ–Ι, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, ―²–Ψ–Ε–Β –±–Β–Ζ ―¹―²―É–Κ–Α, –≤ –Κ–Α―é―²―É –≤–≤–Α–Μ–Η–Μ―¹―è –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―². –≠―²–Ψ―² –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι, –Ϋ–Ψ –Η ―¹ –Ϋ–Α–Μ–Β―²–Ψ–Φ –Ϋ–Α–≥–Μ–Β―Ü―΄. - –ü―Ä–Η–≤–Β―²! –€–Β–Ϋ―è –Ζ–Ψ–≤―É―² –£–Η―²–Α–Μ–Η–Ι. –ê ―²–Β–±―è? –¦–Α–¥–Ϋ–Ψ, –Φ–Ψ–Ε–Β―à―¨ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è―²―¨―¹―è, –≤―¹–Β ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–±―É–¥―É, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―à―¨βÄΠ –ù–Α, –¥–Β―Ä–Ε–Η! βÄ™ –Ω–Ψ–¥–Α–Β―² ―¹–≤―è–Ζ–Κ―É –Κ–Μ―é―΅–Β–Ι. βÄ™ –≠―²–Ψ –Ψ―² –Ω―Ä–Ψ–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Ψ–Κ, ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ ―²―΄ –±―É–¥–Β―à―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ω–Η―â–Β–±–Μ–Ψ–Κ–Ψ–Φ. –ü–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Η, ―΅―²–Ψ ―²–Α–Φ, –≤ –Ω―Ä–Ψ–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Κ–Α―Ö: ―΅―²–Ψ –Β―¹―²―¨, ―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β―². –ü–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η ―¹ –Κ–Ψ–Κ–Ψ–Φ, –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–¥―¹–Κ–Α–Ε–Β―². –ë―΄–≤–Α–Ι! –•–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Α –Ζ–Α–Κ―Ä―É―²–Η–Μ–Α―¹―¨ –≤ –≤–Η―Ö―Ä–Β –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι –Η –¥–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α–≥―Ä―É–Ζ–Ψ–Κ. –£―΄―Ö–Ψ–¥―΄ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β ―É –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Β―΅–Α―¹―²―΄, –¥–Μ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Β ―É –Ϋ–Α―¹ –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥–Η, –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β, ―΅–Β–Φ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –≥–Ψ–¥. –ê ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –≤―΄―Ö–Ψ–¥―΄ –Ϋ–Α –¥–Β–Ϋ―¨-–¥–≤–Α, –Φ–Α–Κ―¹–Η–Φ―É–Φ ―²―Ä–Η. –Ϋ–Β –Ψ―²–Μ–Η―΅–Α–Β―²―¹―è –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é. –≠―²–Ψ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Φ–Α–Ϋ–Β–≤―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―ç–Μ–Β–Φ–Β–Ϋ―²–Ψ–≤, –Ψ―²―Ä–Α–±–Ψ―²–Κ–Α –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―É–Ω―Ä–Α–Ε–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è. –ü―Ä–Η–≤–Μ–Β–Κ–Α―é―² –Κ –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η―é –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ―΄―Ö –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Ι. –û–¥–Ϋ–Ψ –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö –Ω–Ψ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η―è–Φ ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ. –ù–Α –≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Β–Ι –Ω–Α–Μ―É–±–Β –Ϋ–Α–Φ –Ω―Ä–Η–≤–Α―Ä–Η–Μ–Η –±–Α―²–Α―Ä–Β―é –≥–Α–Ζ–Ψ–≤―΄―Ö –±–Α–Μ–Μ–Ψ–Ϋ–Ψ–≤, –Ω―Ä–Η–≤―è–Ζ–Α–Μ–Η –Κ –Κ–Ψ―Ä–Φ–Β ―²―Ä–Ψ―¹–Ψ–Φ –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Ω–Α―Ä–Α–≤–Α–Ϋ, - –±―É–Β–Κ ―¹ –Κ―Ä―΄–Μ―΄―à–Κ–Α–Φ–Η, - –Φ―΄ –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ―É―é –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―É, –¥–≤–Η–≥–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ–¥ ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ–Φ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α–Φ–Η, –Φ–Β–Ϋ―è―è –≤ –Ζ–Α–¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―²–Ψ―΅–Κ–Α―Ö –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―΄ –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Η ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²–Η ―Ö–Ψ–¥–Α. –ë―É–Κ―¹–Η―Ä―É–Β–Φ―΄–Ι –Ω–Α―Ä–Α–≤–Α–Ϋ –Ψ–±–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ –Φ–Β―¹―²–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α―²–Β–Μ―è–Φ, –Ϋ–Α ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–≤―à–Β–Φ –Ζ–Α –Ϋ–Α–Φ–Η –Κ–Α―²–Β―Ä–Β. –£ ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹―²―Ä–Α–≤–Μ–Η–≤–Α–Ϋ–Η–Β –≥–Α–Ζ–Ψ–≤ –Η–Ζ –±–Α–Μ–Μ–Ψ–Ϋ–Ψ–≤. –ù–Α–Φ –Ζ–Α―²–Β―è –¥―Ä–Ψ―¹―¹–Β–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α―¹―¨ ―¹–Φ–Β―à–Ϋ–Ψ–Ι –Η ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β–Μ–Β–Ω–Ψ–Ι: –Ϋ–Β―΅–Β–Φ, –Φ–Ψ–Μ, –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Α―É–Κ–Β –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨―¹―è, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α―²―¨ –Ζ–Α –≤–Ψ–Ζ–¥―É―à–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω―É–Ζ―΄―Ä―¨–Κ–Α–Φ–Η. –ü–Ψ–Ζ–Ε–Β –≤―΄―è―¹–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ω―É―¹―²–Α―è –Ζ–Α―²–Β―è, –Α –≤–Β―¹―¨–Φ–Α –Ϋ―É–Ε–Ϋ―΄–Β –Η–Ζ―΄―¹–Κ–Α–Ϋ–Η―è –¥–Μ―è ―¹―²―Ä–Ψ―è―â–Β–≥–Ψ―¹―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α. –Θ―΅–Β–Ϋ―΄–Β –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –±―É–¥–Β―² –≤–Β―¹―¨–Φ–Α –¥–Μ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ, –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ–Α ―Ä–Β–≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η –Ψ―²―¹–Β―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Α ―¹―²–Α–Ϋ–Β―² –≤ –Κ–Ψ―Ä–Ϋ–Β –Ψ―²–Μ–Η―΅–Α―²―¨―¹―è –Ψ―² –Ϋ–Α―à–Β–Ι. –ù–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö –±―É–¥―É―â–Η―Ö –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι –Κ–Η―¹–Μ–Ψ―Ä–Ψ–¥ –±―É–¥―É―² –¥–Ψ–±―΄–≤–Α―²―¨ –Φ–Β―²–Ψ–¥–Ψ–Φ ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ–Μ–Η–Ζ–Α –≤–Ψ–¥―΄, ―¹–Ψ–Ω―É―²―¹―²–≤―É―é―â–Η–Β –Η –Ϋ–Α–Κ–Ψ–Ω–Η–≤―à–Η–Β―¹―è –≤―Ä–Β–¥–Ϋ―΄–Β –≥–Α–Ζ―΄ –Ω―Ä–Η–¥–Β―²―¹―è ―¹―²―Ä–Α–≤–Μ–Η–≤–Α―²―¨ –Ζ–Α –±–Ψ―Ä―², –Α ―ç―²–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ω–Ψ–≤–Μ–Η―è―²―¨ –Ϋ–Α ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Μ–Ψ–¥–Κ–Η. 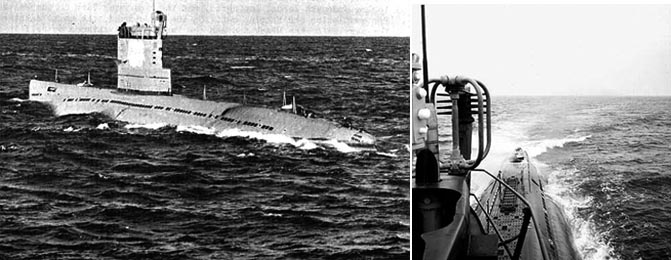 –ë–Ψ–Μ―¨―à–Β–Ι ―΅–Α―¹―²―¨―é –Φ―΄ ―¹―²–Ψ–Η–Φ ―É –Ω–Η―Ä―¹–Α, –Α ―¹ –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ζ–Η–Φ―΄ –Η –≤–Ψ–≤―¹–Β –≤–Φ–Β―Ä–Ζ–Μ–Η –≤ –Μ–Β–¥. –ù–Α―à –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ, - –Ω–Ψ―΅―²–Η –¥–Β―¹―è―²–Ψ–Κ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, - –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –¥–Η―¹–Μ–Ψ―Ü–Η―Ä―É–Β―²―¹―è –≤ –€–Ψ–Μ–Ψ―²–Ψ–≤―¹–Κ–Β. –™–Ψ―Ä–Ψ–¥ –€–Ψ–Μ–Ψ―²–Ψ–≤―¹–Κ (–Ϋ―΄–Ϋ–Β –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ψ–¥–≤–Η–Ϋ―¹–Κ) ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥―É –ë–Β–Μ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è. –û―¹―²―Ä–Ψ–≤ –·–≥―Ä―΄ βÄ™ ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η―è –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α - –Ψ―²–¥–Β–Μ–Β–Ϋ –Ψ―² –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –ù–Η–Κ–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ―²–Ψ–Κ–Ψ–Ι –¥–Β–Μ―¨―²―΄ ―Ä–Β–Κ–Η –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Α―è –î–≤–Η–Ϋ–Α. –Δ–Α–Φ, –Ϋ–Α –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Β, –Φ―΄ –Η ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―¹―²–Η–Μ–Η―¹―¨. βÄ€–£―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–ΒβÄù –±–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Β―²―¹―è –Ϋ–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Η–Φ, –Φ–Η–Ϋ–Η–Φ―É–Φ ―¹ –≥–Ψ–¥ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ–Η―² βÄ€–Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Α―²―¨βÄù –≤―Ä–Β–Φ―è –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ–Φ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Β. –£ ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι―¹―²–≤–Β –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α βÄ™ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Ω–Η―Ä―¹ ―¹–Ψ ―¹―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Β–Ι –Ϋ–Α –Ω―É―¹―²―΄–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω–Β―¹―΅–Α–Ϋ―΄–Ι –±–Β―Ä–Β–≥ –Η –Ϋ–Β―¹–Α–Φ–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Ω–Μ–Α–≤–Κ–Α–Ζ–Α―Ä–Φ–Α (–ü–ö–½) ―³–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ–Η. –Γ–Α–Φ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ –≤–Η–¥–Ϋ–Β–Β―²―¹―è –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Φ –±–Β―Ä–Β–≥―É –Ω―Ä–Ψ―²–Ψ–Κ–Η. –ù–Α –Ω–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–Φ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―΅–Α–Μ―΄ –Η –Κ―Ä–Α–Ϋ―΄ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―Ä―²–Α. –Δ–Α–Φ, –Ζ–Α –Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–Φ, –Ϋ–Α―à–Β –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Β –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ βÄ™ ―à―²–Α–± –ë―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ ―¹―²―Ä–Ψ―è―â–Η―Ö―¹―è –Η ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Η―Ä―É―é―â–Η―Ö―¹―è –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι. –ë–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Β –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ –Φ―΄ –≤–Η–¥–Η–Φ ―Ä–Β–¥–Κ–Ψ, –Η–Φ –Ϋ–Β –¥–Ψ –Ϋ–Α―¹, ―É –Ϋ–Η―Ö βÄ€–±–Ψ–Μ―¨―à–Η–ΒβÄù –Ζ–Α–¥–Α―΅–Η. –ß―É―²―¨ –Μ–Β–≤–Β–Β –Ω–Ψ―Ä―²–Α –≤–Η–¥–Ϋ―΄ –≥―Ä–Ψ–Φ–Α–¥―΄ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Ψ–≤ ―¹―É–¥–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Α, –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Β –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹―΄ –Η –Ζ–Α–±–Ψ―²―΄ ―à―²–Α–±–Α –ë–Γ–†–ö –Ω―Ä–Η–Κ–Ψ–≤–Α–Ϋ―΄ ―²―É–¥–Α. –ù–Β–≤–¥–Α–Μ–Β–Κ–Β –Ψ―² –Ϋ–Α―¹, –Ϋ–Α –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Β, –Β―¹―²―¨ –Β―â–Β ―¹―É–¥–Ψ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Ϋ―΄–Ι –Ζ–Α–≤–Ψ–¥ βÄ€–½–≤–Β–Ζ–¥–Ψ―΅–Κ–ΑβÄù, –Ϋ–Ψ –Ψ–Ϋ –Ϋ–Α–Φ –Ϋ–Β–Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Β–Ϋ, ―É –Ϋ–Α―¹ ―²–Α–Φ –Ϋ–Β―² –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Η―Ö –¥–Β–Μ. –û―¹―²―Ä–Ψ–≤ –·–≥―Ä―΄ –≤ ―Ü–Β–Μ–Ψ–Φ –Ω―É―¹―²―΄–Ϋ–Ϋ―΄–Ι, –Ϋ–Β–≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η–Β –Ω–Β―¹―΅–Α–Ϋ―΄–Β –¥―é–Ϋ―΄ –Ω–Ψ–Κ―Ä―΄―²―΄ –Ϋ–Η–Ζ–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹–Μ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η–Ω–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –Ζ–Β–Μ–Β–Ϋ―¨―é, ―Ä–Α―¹―²―É―â–Η–Β –Ζ–¥–Β―¹―¨ ―¹–Ψ―¹–Ϋ―΄ ―²–Ψ–Ε–Β –Ϋ–Β–≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η, ―¹―²–≤–Ψ–Μ―΄ –Η―Ö –Η―¹–Κ–Ψ―Ä–Β–Ε–Β–Ϋ―΄ ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ–Η –≤–Β―²―Ä–Α–Φ–Η. –£–Η–¥ –Ψ–Κ―Ä–Β―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι –Ϋ–Α–≤–Β–≤–Α–Β―² ―²–Ψ―¹–Κ―É –Η –Ω–Β―΅–Α–Μ―¨. –Γ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ψ–Φ ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Β. –€–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–±―Ä–Α―²―¨―¹―è ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ω―Ä–Ψ―²–Ψ–Κ―É, - –Α –Ψ–Ϋ–Α ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Α―è, ―¹ –Κ–Η–Μ–Ψ–Φ–Β―²―Ä, - –Ϋ–Α ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Α―²–Β―Ä–Β, –Α –¥–Α–Μ―¨―à–Β –Ω–Β―à–Κ–Ψ–Φ –Ω–Ψ –¥–Ψ―â–Α―²―΄–Φ –Μ–Ψ–Φ–Α–Ϋ―΄–Φ ―²―Ä–Ψ―²―É–Α―Ä–Α–Φ. –ï―¹―²―¨ –Β―â–Β –Ω―É―²―¨, ―²–Ψ–Ε–Β –Ω–Β―à–Η–Ι βÄ™ –Φ–Η–Φ–Ψ βÄ€–½–≤–Β–Ζ–¥–Ψ―΅–Κ–ΗβÄù. –¥–≤–Α –Φ–Ψ―¹―²–Α. –û–¥–Η–Ϋ, –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ψ–±–Β―²–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Ι, –Β―â–Β –Ϋ–Β –¥–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ. –£―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι, –¥–Β―Ä–Β–≤―è–Ϋ–Ϋ―΄–Ι, ―É–Ε–Β –Ω–Ψ–Μ―É―Ä–Α–Ζ―Ä―É―à–Β–Ϋ, –Ϋ–Ψ –≤ ―¹–≤–Β―²–Μ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Β―â–Β –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Φ. –ü–Β―à–Η–Ι –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―² –Ω―Ä–Β–Ψ–¥–Ψ–Μ–Β–≤–Α–Β―²―¹―è –≤ ―¹―É―Ö―É―é –Ω–Ψ–≥–Ψ–¥―É ―΅–Α―¹–Α –Ζ–Α –Ω–Ψ–Μ―²–Ψ―Ä–Α.  –Γ–Α–Φ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι, –Η–Ζ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Α –≤ –Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü –≤ –Μ―é–±–Ψ–Φ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –Β–≥–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Ι―²–Η –Ϋ–Β―²–Ψ―Ä–Ψ–Ω–Μ–Η–≤―΄–Φ ―à–Α–≥–Ψ–Φ –Ζ–Α –Ω–Ψ–Μ―΅–Α―¹–Α. –ü―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Μ―²–Ψ―Ä―΄ ―É–Μ–Η―Ü―΄ –Ζ–Α―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ―΄ 4-―Ö βÄ™ 5-―²–Η ―ç―²–Α–Ε–Ϋ―΄–Φ–Η –Ζ–¥–Α–Ϋ–Η―è–Φ–Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö βÄ€―¹―²–Α–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η―ÖβÄù –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Ψ–≤. –û―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Ζ–Α―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ–Α βÄ™ ―¹–Ω–Μ–Ψ―à―¨ –¥–Β―Ä–Β–≤―è–Ϋ–Ϋ―΄–Β 1 βÄ™2-―Ö ―ç―²–Α–Ε–Ϋ―΄–Β –¥–Ψ–Φ–Α, ―΅–Α―¹―²―¨―é –Ψ–±―à–Η―²―΄–Β –≤–Α–≥–Ψ–Ϋ–Κ–Ψ–Ι, ―É–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ―΅―²–Η –≤ –Φ–Β―²―Ä–Β –Ϋ–Α–¥ –Ω–Ψ–≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é ―²–Β–Ω–Μ–Ψ―²―Ä–Α―¹―¹―΄, –¥–Β―Ä–Β–≤―è–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―²―Ä–Ψ―²―É–Α―Ä―΄. –£ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Β –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –≤―¹–Β –Ε–Β ―²–Β–Ω–Μ–Η―²―¹―è –Κ–Α–Κ–Α―è-―²–Ψ –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨. –Δ–Α–Φ –Β―¹―²―¨ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Η –Ω―Ä–Ψ–Φ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Ϋ―΄–Β –Φ–Α–≥–Α–Ζ–Η–Ϋ―΄, ―²–Α–Φ –Β―¹―²―¨ –¥―Ä–Α–Φ―²–Β–Α―²―Ä, –Β―¹―²―¨ ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Ψ―ç–Κ―Ä–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Κ–Η–Ϋ–Ψ―²–Β–Α―²―Ä, –î–Ψ–Φ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ βÄ™ –≤ –¥–Β―Ä–Β–≤―è–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ―ç―²–Α–Ε–Ϋ–Ψ–Φ –±–Α―Ä–Α―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²–Η–Ω–Α –Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Η, –î–≤–Ψ―Ä–Β―Ü –‰–Δ–† (–Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Ϋ–Ψ-―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤) βÄ™ ―ç―²–Ψ –≤–Ψ―²―΅–Η–Ϋ–Α ―¹―É–¥–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Α. –ï―¹―²―¨ –Β―â–Β –Φ–Β―¹―²–Ϋ–Α―è –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ω―Ä–Η–Φ–Β―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ βÄ™ –Κ–Α―³–Β-―Ä–Β―¹―²–Ψ―Ä–Α–Ϋ βÄ€–Θ –≠–¥–Β–Μ―¨–Φ–Α–Ϋ–ΑβÄù. –£ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β –Ψ―¹–Ψ–±–Ψ –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ–≥―É–Μ―è–Β―à―¨―¹―è, –Ϋ–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―¹―²–Η –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ. βÄ€–Γ―²–Α―Ä–Η―΅–Κ–Α–ΦβÄù –≤―¹–Β ―ç―²–Ψ –Η–Ζ―Ä–Β–¥–Κ–Α –¥–Ψ―¹―²―É–Ω–Ϋ–Ψ, –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²―É –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤―É βÄ™ ―²–Α–±―É. –û―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Α―è –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Ω―Ä–Ψ―²–Β–Κ–Α–Β―² –≤ –Ω―Ä–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Α―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Η –Ϋ–Α –ü–ö–½. –£ –Ω–Ψ–≤―¹–Β–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Κ―Ä―É–≥–Ψ–≤–Β―Ä―²–Η ―¹–Κ―É―΅–Α―²―¨ –Ϋ–Β–Κ–Ψ–≥–¥–Α. –£ –±―É–¥–Ϋ–Η–Β –¥–Ϋ–Η –Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è ―¹–Μ―É–Ε–±–Α –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β―²―¹―è ―¹ 07.50 –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Ι –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Φ–Ψ–≤―΄―Ö –Ϋ–Α–¥―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ–Α―Ö ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –¥–Μ―è –Ω–Ψ–¥―ä–Β–Φ–Α –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Α–≥–Α. –≠―²–Ψ ―Ä–Η―²―É–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ ―¹–≤―è―²–Ψ, –Κ–Α–Κ –≤ –±―΄–Μ―΄–Β –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α –Φ–Ψ–Μ–Η―²–≤–Α. –ü–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Φ–Η –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ω―Ä–Η–±―΄–≤–Α―é―² –Η―Ö –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Ψ–≤ ―¹―²–Α―Ä―à–Η―Ö –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ –Ψ―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α―é―² ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö, –¥–Α―é―² ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―è. –£ 07.59 ―Ä–Α–Ζ–¥–Α―é―²―¹―è –Ζ―΄―΅–Ϋ―΄–Β –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹–Α –¥–Β–Ε―É―Ä–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ: βÄ€–ù–Α –Λ–Μ–Α–≥ –Η –™―é–Ι―¹ βÄ™ ―¹–Φ–Η―Ä-―Ä-―Ä-–Ϋ–Ψ-–Ψ!!!βÄù –£―΄―¹―²―Ä–Ψ–Η–≤―à–Η–Β―¹―è –Ϋ–Α –Ω–Α–Μ―É–±–Α―Ö –≤ –¥–≤–Β ―à–Β―Ä–Β–Ϋ–≥–Η ―¹―²―Ä–Ψ–Η –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤, ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ –Η –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤ –Ϋ–Β–¥–≤–Η–Ε–Η–Φ–Ψ –Ζ–Α–Φ–Η―Ä–Α―é―² –Ϋ–Α –Φ–Η–Ϋ―É―²―É. –£ 08.00 –Ζ–≤―É―΅–Η―² –Ϋ–Ψ–≤–Α―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Α: βÄ€–Λ–Μ–Α–≥ –Η –™―é–Ι―¹ –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è―²―¨!βÄù –ü–Ψ―¹–Μ–Β –Ω–Ψ–¥―ä–Β–Φ–Α –Λ–Μ–Α–≥–Α –Ω–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Β βÄ€–£―¹–Β –≤–Ϋ–Η–Ζ!βÄù –Ω–Α–Μ―É–±―΄ –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Φ–Η–≥–Ψ–Φ –Ω―É―¹―²–Β―é―², –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α―é―²―¹―è –Ω–Ψ–≤―¹–Β–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ―΄–Β –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η―è: –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Κ–Α –Ψ―Ä―É–Ε–Η―è –Η ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤, –≤ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Β―΅–Η–Η βÄ™ βÄ€–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ―Ä–Α―΅–Η–≤–Α–Ϋ–Η–ΒβÄù, –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η―è –Ω–Ψ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, ―²―Ä–Β–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Η –Ϋ–Α –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Ω–Ψ―¹―²–Α―Ö, –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―É―΅–Β–Ϋ–Η―è, –Ω―Ä–Η–±–Ψ―Ä–Κ–Η –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Ψ–±–Β–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ω–Β―Ä–Β―Ä―΄–≤–Ψ–Φ –Η –Ω–Β―Ä–Β–¥ ―É–Ε–Η–Ϋ–Ψ–Φ. –£ –Ψ―²–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –¥–Ϋ–Η ―΅–Η―²–Α―é―²―¹―è –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η–Η, –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥―è―²―¹―è –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η―è –Η ―².–¥. –Γ―É–±–±–Ψ―²–Α βÄ™ –¥–Β–Ϋ―¨ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η–±–Ψ―Ä–Κ–Η –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö –Η –ü–ö–½. –Γ―É–±–±–Ψ―²–Α βÄ™―ç―²–Ψ –Η –±–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –¥–Β–Ϋ―¨. –£―΄―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ –≤–Ψ―¹–Κ―Ä–Β―¹–Β–Ϋ―¨―è–Φ, –Β―¹–Μ–Η –Ϋ–Β –Ω–Μ–Α–Ϋ–Η―Ä―É―é―²―¹―è –Κ–Α–Κ–Η–Β-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η―è, –Φ–Ψ–≥―É―² –±―΄―²―¨ ―¹―²―Ä–Ψ–Β–≤―΄–Β ―¹–Φ–Ψ―²―Ä―΄, ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Η–≤–Ϋ―΄–Β ―¹–Ψ―Ä–Β–≤–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è. –£ ―¹―É–±–±–Ψ―²―É –≤–Β―΅–Β―Ä–Ψ–Φ, –Α –≤ –≤–Ψ―¹–Κ―Ä–Β―¹–Β–Ϋ―¨–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ–±–Β–¥–Α –Η ―²–Ψ–Ε–Β –≤–Β―΅–Β―Ä–Ψ–Φ –≤–Ψ –≤―¹–Β―Ö –Κ―É–±―Ä–Η–Κ–Α―Ö βÄ€–Κ―Ä―É―²―è―²βÄù ―³–Η–Μ―¨–Φ―΄. –ü–Ψ―Ä―²–Α―²–Η–≤–Ϋ―΄–Β –Κ–Η–Ϋ–Ψ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Η –Η–Φ–Β―é―²―¹―è –Ϋ–Α –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β. –£ ―ç―²–Η –¥–Ϋ–Η –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹―΄ –Φ–Ψ–≥―É―² –≤―΄–Κ―Ä–Ψ–Η―²―¨ –≤―Ä–Β–Φ―è –¥–Μ―è –Μ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö –Ϋ―É–Ε–¥: –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α―²―¨ –Ω–Η―¹―¨–Φ–Α ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ –Η –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Η–Φ, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―²―¨ ―É–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥. –û―³–Η―Ü–Β―Ä―΄ –Η ―¹–≤–Β―Ä―Ö―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ–Η, –Ϋ–Β –Ζ–Α–Ϋ―è―²―΄–Β –Ω–Ψ ―¹–Μ―É–Ε–±–Β, –Η–Φ–Β–Μ–Η –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―²―¨ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι.  –ù–Α –Ω–Μ–Α–≤–Κ–Α–Ζ–Α―Ä–Φ–Β –±―΄―²–Ψ–≤―΄–Β ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è, –Ω―Ä―è–Φ–Ψ ―¹–Κ–Α–Ε―É, –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Α ―Ä―É–Κ―É –Ϋ–Α ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Β, - –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Μ–Β–Ω–Ϋ―΄. –£―¹–Β ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―â–Β–Ϋ―΄ –≤ –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Κ―É–±―Ä–Η–Κ–Α―Ö, –Β―¹―²―¨ –±–Α–Ϋ―è ―¹ –Ω–Α―Ä–Η–Μ–Κ–Ψ–Ι, –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥―É―à–Β–≤―΄―Ö, ―¹ –≥–Ψ―Ä―è―΅–Β–Ι –Η ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ –Ϋ–Β―². –ï―¹―²―¨ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Α―è –Η –¥–Μ―è ―¹–≤–Β―Ä―Ö―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Κ–Α―é―²-–Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η, –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –Η―Ö –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ–Η –Η ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ―΄ –Ε–Η–≤―É―² –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ–Β―¹―²–Ϋ―΄―Ö –Κ–Α―é―²–Α―Ö, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö ―΅–Α―¹―²–Β–Ι βÄ™ –≤ –¥–≤―É―Ö–Φ–Β―¹―²–Ϋ―΄―Ö, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ –≥―Ä―É–Ω–Ω βÄ™ ―¹–Κ―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Β–Β, –≤ 4-―Ö βÄ™6-―²–Η –Φ–Β―¹―²–Ϋ―΄―Ö, ―¹–≤–Β―Ä―Ö―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ–Η –≤ ―à–Β―¹―²–Η–Φ–Β―¹―²–Ϋ―΄―Ö. –¦–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²―É –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤―É –¥–Ψ―¹―²–Α–Μ–Α―¹―¨, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, ―à–Β―¹―²–Η–Φ–Β―¹―²–Ϋ–Α―è, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ. –ö–Ψ―Ä–Ψ―²–Α―²―¨ –Ψ–¥–Η–Ϋ–Ψ―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤―É –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Β–¥–Ψ–Μ–≥–Ψ. –£―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ―¹―è –Η–Ζ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Α βÄ€―¹–Ψ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨βÄù, –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –€–Ψ–Μ―΅–Α–Ϋ–Ψ–≤ –™–Β–Ϋ–Ϋ–Α–¥–Η–Ι. –Γ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α–Φ–Η ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤ ―É–Ε–Β –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Η–Μ―¹―è, –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ –Ϋ–Α –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö βÄ€–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ–Α―à–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤βÄù, ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –≤–Ψ―² –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ―¹―è –™–Β–Ϋ–Ϋ–Α–¥–Η–Ι. –•–Η―²―¨ ―¹―²–Α–Μ–Ψ –≤–Β―¹–Β–Μ–Β–Ι, –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –≤ –Ϋ–Β–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Ψ–Ι ―¹―Ä–Β–¥–Β –Ω–Β―Ä–Β―¹―²–Α–Μ–Α –Κ–Α–Ζ–Α―²―¨―¹―è ―¹–Β―Ä–Ψ–Ι –Η ―΅―É–Ε–Ψ–Ι. –Γ–Κ―É―΅–Α―²―¨ –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤―É –Ϋ–Β–Κ–Ψ–≥–¥–Α. –ï–≥–Ψ ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –¥–Μ–Η―²―¹―è ―¹ 06.00 –¥–Ψ 24.00. –¦–Η―΅–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è, –Ϋ–Β―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥―¹―΅–Η―²–Α―²―¨, –Ψ―¹―²–Α–Β―²―¹―è ―¹ –Ϋ―É–Μ―è –¥–Ψ ―à–Β―¹―²–Η ―É―²―Ä–Α –Η –Β―â–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–Ψ–±–Β–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ψ―²–¥―΄―Ö, βÄ€–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―¨―¹–Κ–Η–ΙβÄù ―΅–Α―¹ βÄ™ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Α ―³–Μ–Ψ―²–Β ―¹–≤―è―²–Ψ–Β. –Θ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Φ–Β―¹―è―΅–Ϋ―΄–Ι ―¹―Ä–Ψ–Κ –Ω―Ä–Β–±―΄–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α βÄ€–Κ–Α–Ζ–Α―Ä–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–ΦβÄù –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Ω―Ä–Η–±–Μ–Η–Ε–Α–Β―²―¹―è –Κ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü―É ―¹―²―Ä–Β–Φ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Ψ ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Η ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ–Ψ―¹–Η―²: –Ζ–Α―΅–Β―²–Ϋ―΄–Β –Μ–Η―¹―²–Κ–Η –Ϋ–Α –¥–Ψ–Ω―É―¹–Κ –Κ –¥–Β–Ε―É―Ä―¹―²–≤―É –Ω–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―é, ―¹–Α–Φ–Ψ―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η―é ―è–Κ–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –Η ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤–Ψ–Ι –≤–Α―Ö―²―΄ –Ζ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ―΄ –≥–¥–Β-―²–Ψ –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ―É, –Ζ–Α―΅–Β―²―΄ –Ω–Ψ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤―É –Ω–Ψ–¥―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –≤ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–¥–Α–Ϋ―΄, –Ϋ–Ψ –±–Β–Ζ –Ζ–Α―΅–Β―²–Α –Ω–Ψ ―É―¹―²―Ä–Ψ–Ι―¹―²–≤―É –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ζ–Α–Κ―Ä―΄―²―¨ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è. –û―Ö, ―É–Ε ―ç―²–Η –Ψ―²–≤–Μ–Β―΅–Β–Ϋ–Η―è!.. –ü–Ψ–Κ–Α ―Ä–Α–Ζ–Ψ–±―Ä–Α–Μ―¹―è ―¹ –Ϋ–Α–Μ–Η―΅–Η–Β–Φ –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―²–Ψ–≤ –≤ –Ω―Ä–Ψ–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Κ–Α―Ö, ―¹–Ω–Η―¹–Α–Μ –Η–Ζ―Ä–Α―¹―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β, –¥–Ψ–Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –Κ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Φ –Ϋ–Ψ―Ä–Φ–Α–Φ –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―é―â–Η–Β, ―É―à–Μ–Ψ –¥–Ϋ–Β–Ι –¥–Β―¹―è―²―¨. –½–Α―è–≤–Κ–Α –≤ –Ω―Ä–Ψ–¥―΅–Α―¹―²―¨ - ―ç―²–Ψ –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Φ–Β―¹―²–Β, –Ζ–Α―è–≤–Κ–Α –Ϋ–Α –Α–≤―²–Ψ–Φ–Α―à–Η–Ϋ―É βÄ™ –≤ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ, –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹–Κ–Μ–Α–¥―΄ βÄ™ –≤ ―²―Ä–Β―²―¨–Β–Φ. –£―¹–Β ―ç―²–Ψ –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ, –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―²–Ψ–Κ–Η, –≤–Β–Ζ–¥–Β –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Η. –ù–Α –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ ―ç―²–Α–Ω–Β –Ϋ–Α–¥–Ψ –Ω―Ä–Η–≤–Β–Ζ―²–Η ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤-–≥―Ä―É–Ζ―΅–Η–Κ–Ψ–≤, –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―²―΄ –Ψ―²–Ψ–±―Ä–Α―²―¨, –Ζ–Α–≥―Ä―É–Ζ–Η―²―¨ –≤ –Φ–Α―à–Η–Ϋ―É, –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ―É, ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―¹―²–Η―²―¨ –Ω–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Κ–Α–Φ. –£–Ψ―² –Ω–Ψ―΅―²–Η ―É–Ε–Β –≤―¹–Β ―¹–¥–Β–Μ–Α–Ϋ–Ψ, –Α –Φ–Α―à–Η–Ϋ―΄ –≤―¹–Β –Ϋ–Β―², –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹―΄ –Ϋ–Β –Ϋ–Α–Κ–Ψ―Ä–Φ–Μ–Β–Ϋ―΄. –Γ–≤–Ψ–Η –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―²―΄ –≤ –≥–Β―Ä–Φ–Β―²–Η―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Α―Ä–Β. –Γ–Β―Ä–¥–Ψ–±–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–Ε–Η–Μ–Ψ–Ι –Κ–Μ–Α–¥–Ψ–≤―â–Η–Κ-–Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ ―¹–Ψ–≤–Β―²―É–Β―²: - –†–Β–±―è―²–Κ–Η, ―²–Α–Φ, –≤ ―É–≥–Μ―É, ―¹―²–Ψ–Η―² –≤―¹–Κ―Ä―΄―²–Α―è –±–Α–Ϋ–Κ–Α ―¹―É―Ö–Α―Ä–Β–Ι, –Α –≤–Ψ–Ϋ ―²–Α–Φ –±–Ψ―΅–Ψ–Ϋ–Ψ―΅–Κ–Η ―¹ –Η–Κ―Ä–Ψ–Ι.  –û–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―². –û–±―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Β –Κ –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö ―É―΅–Η–Μ–Η―â. 65-–Μ–Β―²–Ϋ–Β–Φ―É ―é–±–Η–Μ–Β―é –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α, 60-–Μ–Β―²–Η―é –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ψ–≤ –Δ–±–Η–Μ–Η―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, –†–Η–Ε―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö ―É―΅–Η–Μ–Η―â –Ω–Ψ―¹–≤―è―â–Α–Β―²―¹―è.–ü–Ψ–Ε–Α–Μ―É–Ι―¹―²–Α, –Ϋ–Β –Ζ–Α–±―΄–≤–Α–Ι―²–Β ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Α―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ–Α―à–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ –Ψ ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –±–Μ–Ψ–≥–Α, –Ω–Ψ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö ―É―΅–Η–Μ–Η―â, –Ψ –Ω–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö –Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Α―Ü–Η–Ι. –Γ–Ψ–Ψ–±―â–Α–Ι―²–Β ―¹–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ψ ―¹–Β–±–Β –Η ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ–Α―à–Ϋ–Η–Κ–Α―Ö, –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ―è―Ö: –≥–Ψ–¥―΄ –Η –Φ–Β―¹―²–Α ―¹–Μ―É–Ε–±―΄, ―É―΅–Β–±―΄, –Ω–Ψ–≤―΄―à–Β–Ϋ–Η―è –Κ–≤–Α–Μ–Η―³–Η–Κ–Α―Ü–Η–Η, –Φ–Β―¹―²–Ψ ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è, –Ε–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α, –Η–Ϋ―΄–Β –±–Η–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β ―¹–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è. –€―΄ ―¹―²―Ä–Β–Φ–Η–Φ―¹―è ―¹–Ψ–±―Ä–Α―²―¨ –≤―¹–Β –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Β –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ψ –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Α―Ö, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α―Ö, –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ―è―Ö –≤―¹–Β―Ö ―²―Ä–Β―Ö –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö ―É―΅–Η–Μ–Η―â. –ü―Ä–Ψ―¹―¨–±–Α –Ω―Ä–Η―¹―΄–Μ–Α―²―¨ –≤―¹–Β, ―΅–Β–Φ ―¹―΅–Η―²–Α–Β―²–Β –≤–Ω―Ä–Α–≤–Β –Ω–Ψ–¥–Β–Μ–Η―²―¨―¹―è, –≤―¹–Β, ―΅―²–Ψ, –Ω–Ψ –£–Α―à–Β–Φ―É –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é, –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Ι―²–Η –Ψ―²―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –≤ –Ϋ–Α―à–Β–Ι –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η. –£–Β―Ä―é–Ε―¹–Κ–Η–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–£–ù–ê), –™–Ψ―Ä–Μ–Ψ–≤ –û–Μ–Β–≥ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–û–ê–™), –€–Α–Κ―¹–Η–Φ–Ψ–≤ –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–€–£–£), –ö–Γ–£. 198188. –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥, ―É–Μ. –€–Α―Ä―à–Α–Μ–Α –™–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α, –¥–Ψ–Φ 11/3, –Κ–≤. 70. –ö–Α―Ä–Α―¹–Β–≤ –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅, –Α―Ä―Ö–Η–≤–Α―Ä–Η―É―¹. karasevserg@yandex.ru
03.02.201007:3103.02.2010 07:31:00
0
03.02.201007:0603.02.2010 07:06:31
2.4.2. –ù–Α –±–Β―Ä–Β–≥―É ―è–Ϋ―²–Α―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è (–Γ–≤–Β―²–Μ–Ψ–≥–Ψ―Ä―¹–Κ, –ö–Α–Μ–Η–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Α―è –Ψ–±–Μ–Α―¹―²―¨. 1972 –≥.) –û–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η–Β.–ê ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Ψ ―¹ ―è–Ϋ―²–Α―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Ϋ–Α―²–Ψ–Ι βÄ™ –≤–Ψ―¹―¨–Φ―΄–Φ ―΅―É–¥–Ψ–Φ ―¹–≤–Β―²–Α? –Γ―É―â–Β―¹―²–≤―É–Β―² –Φ–Ϋ–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ –≤–Β―Ä―¹–Η–Ι –Η –¥–Ψ–≥–Α–¥–Ψ–Κ –Ψ –Β―ë –≥–Η–±–Β–Μ–Η. –ü―Ä–Ψ―΅–Η―²–Α–≤ ―É–Ω–Ψ–Φ―è–Ϋ―É―²―É―é –Κ–Ϋ–Η–≥―É –°.–ù.–‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Α, –≥–¥–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ω–Ψ–¥―Ä–Ψ–±–Ϋ–Ψ –Η–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ―΄ ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Μ–Β―² –Η, –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β, –Ω–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Β –¥–Ψ–Κ―²–Ψ―Ä–Α –†–Ψ–¥–Β, –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β―à―¨ ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–≤–Α―²―¨―¹―è –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Ϋ–Α―²–Α –Ω–Ψ–≥–Η–±–Μ–Α. –ö–Α–Ε–Β―²―¹―è, ―΅―²–Ψ ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨ –Φ―É–Ζ–Β―è ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ –≤―¹―ë –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Β –Η –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Β, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Α–¥―ë–Ε–Ϋ–Ψ ―¹–Ω―Ä―è―²–Α―²―¨ ―¹–Ψ–Κ―Ä–Ψ–≤–Η―â–Β. –‰ ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –†–Ψ–¥–Β –Ψ―¹―²–Α–Μ―¹―è –≤ –ö–Β–Ϋ–Η–≥―¹–±–Β―Ä–≥–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –≤–Ζ―è―²–Η―è –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α ―΅–Α―¹―²―è–Φ–Η –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ι –ê―Ä–Φ–Η–Η, –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α–Β―², ―΅―²–Ψ ―è–Ϋ―²–Α―Ä–Ϋ–Α―è –Κ–Ψ–Φ–Ϋ–Α―²–Α –Ψ―¹―²–Α–Μ–Α―¹―¨ ―Ü–Β–Μ–Α. –û–Ϋ –≤―ë–Μ ―¹–Β–±―è –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α―¹–Β–¥–Κ–Α, –≤―΄–≤–Η–≤―à–Α―è –Ω―²–Β–Ϋ―Ü–Ψ–≤, –Η –Ψ―²–≤–Ψ–¥―è―â–Α―è –Μ―é–±―É―é –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ψ―² ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –≥–Ϋ–Β–Ζ–¥–Α. –£–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α―é―¹―¨ –≤ 1972 –≥–Ψ–¥. –≠–Κ―¹–Κ―É―Ä―¹–Η–Η, –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Φ―΄–Β –≤ ―¹–Α–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä–Η–Η, –Η–Φ–Β–Μ–Η –≤ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Κ–Ψ-–Ω–Α―²―Ä–Η–Ψ―²–Η―΅–Β―¹–Κ―É―é –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –Γ–Μ–Β–¥―΄ –Ω―Ä–Ψ―à–Β–¥―à–Β–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –Β―â–Β ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–Μ–Η―¹―¨. –≠–Κ―¹–Κ―É―Ä―¹–Η―è –±―΄–Μ–Α –Ω–Ψ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Α –±–Η―²–≤–Β –Ζ–Α –ö–Β–Ϋ–Η–≥―¹–±–Β―Ä–≥. –™–Ψ―Ä–Ψ–¥ –±―΄–Μ –Ω―Ä–Β–≤―Ä–Α―â―ë–Ϋ –Ϋ–Β–Φ―Ü–Α–Φ–Η –≤ –Κ―Ä–Β–Ω–Ψ―¹―²―¨, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –Ω–Ψ–Φ–Η–Φ–Ψ –≤–Ϋ―É―²―Ä–Η–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤–Α–Μ–Α –≤―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η 12 ―³–Ψ―Ä―²–Ψ–≤, ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤–Α–≤―à–Η―Ö –Φ–Ψ―â–Ϋ―΄–Ι –Ψ–Ω–Ψ―è―¹―΄–≤–Α―é―â–Η–Ι –±–Α―Ä―¨–Β―Ä. –ù–Α –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Η–Ζ ―³–Ψ―Ä―²–Ψ–≤ –±―΄–Μ–Α –Ω–Β―Ä–≤–Α―è –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Α –Α–≤―²–Ψ–±―É―¹–Α. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ ―³–Ψ―Ä―² ⳕ 5 ¬Ϊ–Λ―Ä–Η–¥―Ä–Η―Ö –£–Η–Μ―¨–≥–Β–Μ―¨–Φ III (–®–Α―Ä–Μ–Ψ―²–Β–Ϋ–±―É―Ä–≥ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι), –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –Ω–Ψ―¹―ë–Μ–Κ–Α –¦–Β―Ä–Φ–Ψ–Ϋ―²–Ψ–≤–Ψ –Ϋ–Α ―à–Ψ―¹―¹–Β –Γ–≤–Β―²–Μ–Ψ–≥–Ψ―Ä―¹–Κ (–†–Α―É―à–Β–Ϋ) βÄ™ –ö–Α–Μ–Η–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥. –½–Α―²–Β–Φ –Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ–Η ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–≤―à–Β–Β―¹―è –Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ϋ–Ψ-–Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―É–Ϋ–Κ―²–Α 43 –Α―Ä–Φ–Η–Η, ―è–≤–Μ―è–≤―à–Η–Ι―¹―è ―Ä–Β–Ζ–Β―Ä–≤–Ϋ―΄–Φ –Ω―É–Ϋ–Κ―²–Ψ–Φ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è 3-–≥–Ψ –ë–Β–Μ–Ψ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Α, ―à―²―É―Ä–Φ–Ψ–≤–Α–≤―à–Β–≥–Ψ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ –≤ –Α–Ω―Ä–Β–Μ–Β 1945 –≥–Ψ–¥–Α. –ü–Ψ―¹–Μ–Β ―É–Ω–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –≥–Α―Ä–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–Ϋ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α, ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–≤―à–Η–Ι, –Ω–Ψ –Ζ–Α–Ω–Η―¹―è–Φ –Κ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–¥–Α–Ϋ―²–Α –Κ―Ä–Β–Ω–Ψ―¹―²–Η –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ–Α –¦―è―à–Α, –Η–Ζ 35 ―²―΄―¹―è―΅ –Κ–Α–¥―Ä–Ψ–≤―΄―Ö ―¹–Ψ–Μ–¥–Α―² –Η 100 ―²―΄―¹―è―΅ ―³–Ψ–Μ―¨–Κ―¹―à―²―É―Ä–Φ–Ψ–≤–Η–Κ–Ψ–≤, 9 –Α–Ω―Ä–Β–Μ―è ―¹–¥–Α–Μ―¹―è. –ü―Ä–Ψ–Β–Ζ–Ε–Α―è –Ω–Ψ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―É, ―è ―¹ ―²―Ä―É–¥–Ψ–Φ ―É–Ζ–Ϋ–Α–≤–Α–Μ –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―΄–Β –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β –Φ–Β―¹―²–Α. –†–Α–Ζ―Ä―É―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Ψ–Φ–Α ―É―¹–Ω–Β–Μ–Η ―¹–Ϋ–Β―¹―²–Η. –ù–Α –Η―Ö –Φ–Β―¹―²–Β –≤―΄―Ä–Ψ―¹–Μ–Η ―²–Η–Ω–Ψ–≤―΄–Β –Φ–Α–Μ–Ψ–≤―΄―Ä–Α–Ζ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ―Ä–Ψ–±–Κ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥―É―² ―Ä–Α–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ –≥–Μ–Α–Ζ. –Γ–Κ―Ä–Α―à–Η–≤–Α–Β―² –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ –Ω–Ψ-–Ω―Ä–Β–Ε–Ϋ–Β–Φ―É –Ψ–±–Η–Μ–Η–Β –Ζ–Β–Μ–Β–Ϋ–Η.  –ü–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι ―¹–Ϋ–Η–Φ–Ψ–Κ –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è ―ç–Κ―¹–Κ―É―Ä―¹–Η–Η ―É –Φ–Β–Φ–Ψ―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Ψ–≥–Η–Μ―΄ –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Η–Μ–Ψ―¹–Ψ―³–Α –‰.–ö–Α–Ϋ―²–Α, ―΅―É–¥–Ψ–Φ ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–≤―à–Β–Ι―¹―è ―É ―¹―²–Β–Ϋ―΄ ―Ä–Α–Ζ―Ä―É―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Α―³–Β–¥―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–±–Ψ―Ä–Α –≤ –ö–Α–Μ–Η–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β. –†―è–¥–Ψ–Φ ―¹–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–Ι (–≤–Ψ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ ―Ä―è–¥―É ―²―Ä–Β―²–Η–Ι ―¹–Μ–Β–≤–Α) –Φ–Ψ–Η –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―΄–Β –Μ–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―Ü―΄: –°―Ä–Η–Ι –½–≤–Β―Ä–Β–≤ (―¹–Ζ–Α–¥–Η –Φ–Β–Ϋ―è) –Η –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Ι –Γ–Ψ–±–Ψ–Μ–Β–≤ (–Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Η–Ι ―¹–Μ–Β–≤–Α), ―¹ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ–Η –¥–Μ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―è–Μ–Η―¹―¨ –¥–Ψ–±―Ä―΄–Β –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è. ¬Ϊ–Γ–Ψ―Ä–Ψ–Κ –Μ–Β―² βÄ™ ―ç―²–Ψ ―¹―²–Α―Ä–Ψ―¹―²―¨ ―é–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –ü―è―²―¨–¥–Β―¹―è―² βÄ™ ―é–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―¹―²–Α―Ä–Ψ―¹―²–Η. –£.–™―é–≥–Ψ. 2.4.3. –€–Β―Ä–Η–¥–Η–Α–Ϋ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η.–Γ –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ –Ψ–Ω–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Φ―΄ –≤–Ψ―à–Μ–Η –≤ ―²―ë–Φ–Ϋ―΄–Ι –Ζ–Α–Μ ―Ä–Β―¹―²–Ψ―Ä–Α–Ϋ–Α –Ϋ–Α –¦–Β―Ä–Φ–Ψ–Ϋ―²–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ―¹–Ω–Β–Κ―²–Β, –≥–¥–Β –Ϋ–Α ―è―Ä–Κ–Ψ –Ψ―¹–≤–Β―â―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―ç―¹―²―Ä–Α–¥–Β –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β. –ù–Α –Ψ―â―É–Ω―¨ –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ–Α–Β–Φ―¹―è –Ω–Ψ –Κ―Ä―É―²–Ψ–Ι –Μ–Β―¹―²–Ϋ–Η―Ü–Β –Ϋ–Α –≤–Ψ–Ζ–≤―΄―à–Β–Ϋ–Η–Β –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Α –Η, –Ϋ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü, –¥–Ψ–±–Η―Ä–Α–Β–Φ―¹―è –¥–Ψ ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Β―²―Ä–¥–Ψ―²–Β–Μ–Β–Φ ―¹―²–Ψ–Μ–Η–Κ–Α, –Ζ–Α–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α―Ä–Α–Ϋ–Β–Β. –‰–Ζ –Ϋ–Β–±―΄―²–Η―è –Ω–Ψ―è–≤–Η–≤―à–Η–Ι―¹―è –Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Ϋ―² ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Α–Β―², ―΅―²–Ψ ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è ¬Ϊ―Ä―΄–±–Ϋ―΄–Ι –¥–Β–Ϋ―¨¬Μ –Η –≤ –Φ–Β–Ϋ―é –Ψ―¹―²–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―²―Ä–Β―¹–Κ–Α ―¹ –Ε–Α―Ä–Β–Ϋ―΄–Φ –Κ–Α―Ä―²–Ψ―³–Β–Μ–Β–Φ. –î–Β–Μ–Α―²―¨ –Ϋ–Β―΅–Β–≥–Ψ: –≤―΄–Ω―¨–Β–Φ –Ω–Ψ ―Ä―é–Φ–Κ–Β –≤–Ψ–¥–Κ–Η, –Ζ–Α–Κ―É―¹–Η–Φ ―²―Ä–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Η –Ω–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Η–Φ –Ϋ–Α –Η―¹–Κ―É―¹―¹―²–≤–Ψ –Ψ–±–Ϋ–Α–Ε―ë–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Κ―Ä–Α―¹–Ψ―²–Ψ–Κ –≤–Α―Ä―¨–Β―²–Β. –‰–¥–Β―è –Ω–Ψ―¹–Β―²–Η―²―¨ ―Ä–Β―¹―²–Ψ―Ä–Α–Ϋ ―¹ –≤–Α―Ä―¨–Β―²–Β –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Μ–Α –Ϋ–Β–¥–Α–≤–Ϋ–Ψ, –Η –±―΄–Μ–Α –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Α –±–Μ–Η–Ε–Α–Ι―à–Η–Φ–Η ―Ä–Ψ–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η, –±–Μ–Α–≥–Ψ –≤―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –Ϋ–Α―à―ë–Μ―¹―è –Η –Ω–Ψ–≤–Ψ–¥ βÄ™ –Φ–Ψ―ë ―¹–Ψ―Ä–Ψ–Κ–Α–Μ–Β―²–Η–Β 31 –Φ–Α―Ä―²–Α 1975 –≥–Ψ–¥–Α. –£–Α―Ä―¨–Β―²–Β, –Β―â―ë ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Β–¥–Α–≤–Ϋ–Ψ ―¹―΅–Η―²–Α–≤―à–Β–Β―¹―è –±―É―Ä–Ε―É–Α–Ζ–Ϋ–Ψ-―Ä–Α–Ζ–≤―Ä–Α―²–Ϋ―΄–Φ –Α―²―Ä–Η–±―É―²–Ψ–Φ, ―Ä–Ψ–±–Κ–Ψ –Ζ–Α–≤–Ψ―ë–≤―΄–≤–Α–Μ–Ψ –Ω―Ä–Α–≤–Ψ –Ϋ–Α ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β. –‰―²–Α–Κ, –Ϋ–Α―à–Α –Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η―è ―¹–Η–¥–Η―² –Ζ–Α ―¹―²–Ψ–Μ–Η–Κ–Ψ–Φ –≤ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Β–Φ–Ϋ–Ψ―²–Β –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è, ―΅–Β―Ä–≤―¨ –Ω–Ψ–¥ –Μ–Ψ–Ε–Β―΅–Κ–Ψ–Ι ―¹–Ψ―¹―ë―², ―²―Ä–Β–±―É―è –Ω–Ψ–¥–±―Ä–Ψ―¹–Η―²―¨ ―²–Ψ–Ω–Μ–Η–≤–Α. –û―³–Η―Ü–Η–Α–Ϋ―², –Η–Ζ–≤–Η–Ϋ–Η–≤―à–Η―¹―¨, –Ϋ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Α–Β―², ―΅―²–Ψ –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ―Ä―Ü–Η–Η ―²―Ä–Β―¹–Κ–Η –Η –Ψ―¹―²–Α―²–Κ–Ψ–≤ –Φ–Η–Ϋ–Ψ–≥ –≤ ―¹–Ψ―É―¹–Β –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α –Κ―É―Ö–Ϋ–Β ―Ä–Β―¹―²–Ψ―Ä–Α–Ϋ–Α –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Β―². –Γ–Ψ–≥–Μ–Α―à–Α–Β–Φ―¹―è –Η –Ϋ–Α ―ç―²–Η –Ψ―¹―²–Α―²–Κ–Η –Η –Ζ–Α–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ –Ω–Ψ–±–Ψ–Μ―¨―à–Β ―Ö–Μ–Β–±–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ω–Ψ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Η –Φ–Α–Κ–Α–Β–Φ –≤ ―¹–Ψ―É―¹ –Η–Ζ-–Ω–Ψ–¥ –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –Ω–Ψ–≥–Μ–Ψ―â―ë–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Φ–Η–Ϋ–Ψ–≥.  –Δ–Ψ―¹―²―΄ ―¹ –Ω–Ψ–Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―¨―è –≤―¹–Β –Ε–Β –±―΄–Μ–Η. –ü–Ψ–Κ–Α, –Ω―Ä–Α–≤–¥–Α, ―¹–Β―Ä―¨―ë–Ζ–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ ―¹–Ψ –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―¨–Β–Φ –Ϋ–Β –Η―¹–Ω―΄―²―΄–≤–Α―é. –£ –±―Ä–Ψ―à―é―Ä–Β –¥–Μ―è ―²–Β―Ö, –Κ–Ψ–Φ―É –Ζ–Α ―¹–Ψ―Ä–Ψ–Κ, –Ϋ–Β–¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―΅―ë–Μ, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ ¬Ϊ–Ω–Ψ―Ä–Α ―Ä–Α―¹―Ü–≤–Β―²–Α ―²–≤–Ψ―Ä―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –¥–Α―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α, –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ –Β–≥–Ψ –Ζ―Ä–Β–Μ–Ψ―¹―²–Η, –¥–Β―Ä–Ζ–Α–Ϋ–Η–Ι. –£ ―¹–Ψ―Ä–Ψ–Κ –Μ–Β―² –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ϋ ―¹–Η–Μ –Η ―ç–Ϋ–Β―Ä–≥–Η–Η –¥–Μ―è ―¹–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Η―è –±–Ψ–Μ―¨―à–Η―Ö –¥–Β–Μ, –Ζ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ–Η –Ω–Ψ–¥―΅–Α―¹ –Ζ–Α–±―΄–≤–Α–Β―² –Ψ ―¹–≤–Ψ―ë–Φ –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―¨–Β, ―Ä–Β–Ε–Η–Φ–Β ―²―Ä―É–¥–Α –Η –Ψ―²–¥―΄―Ö–Α. –ö–Ψ–≥–¥–Α ―¹–Η–Φ–Ω―²–Ψ–Φ―΄ –Ζ―Ä–Β–Μ–Ψ―¹―²–Η –Β–¥–Η–Ϋ–Η―΅–Ϋ―΄, –Α –Κ–Ψ–Φ–Ω–Β–Ϋ―¹–Α―²–Ψ―Ä–Ϋ―΄–Β –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ–Α –Β―â―ë –≤–Β–Μ–Η–Κ–Η, ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Ϋ–Β ―Ö–Ψ―΅–Β―² ―¹–≤―è–Ζ―΄–≤–Α―²―¨ –Η―Ö ―¹ ―²–Α–Κ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ―΄–Φ–Η –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²–Ϋ―΄–Φ–Η –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η, ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η–Β–Φ –Κ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ-–Μ–Η–±–Ψ –Ζ–Α–±–Ψ–Μ–Β–≤–Α–Ϋ–Η―è. –û–Ϋ –Ϋ–Β –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α–Β―² –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –¥–≤–Η–≥–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Β–Ε–Η–Φ–Α, ―¹–Ψ–Κ―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η―è ―É–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Β―¹–Α –Φ―΄―à–Β―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≤ –±―΄―²―É –Η –Ϋ–Α ―Ä–Α–±–Ψ―²–ΒβÄΠ¬Μ –Γ―΅–Η―²–Α―é, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Α –Β―¹―²―¨ –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η–Β –≤―΄–Ω–Η―²―¨ ―Ä―é–Φ–Κ―É –≤–Ψ–¥–Κ–Η –≤ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–Ι –Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η, –Ω–Ψ–Κ–Α –Ϋ–Β –Ω–Ψ–≥–Α―¹ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹ –Κ –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―é –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ βÄ™ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―², –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―¨–Β –≤ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Β. –½–Ϋ–Α―΅–Η―², ―¹–Ψ―Ä–Ψ–Κ–Α–Μ–Β―²–Ϋ–Η–Ι –Φ–Β―Ä–Η–¥–Η–Α–Ϋ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Ω―Ä–Β–Ψ–¥–Ψ–Μ―ë–Ϋ ―¹―Ä–Α–≤–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω–Ψ–Μ―É―΅–Ϋ–Ψ. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η―è –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β―Ä―²–Α-–Φ―é–Ζ–Η–Κ–Μ–Α ―¹ ―ç–Μ–Β–Φ–Β–Ϋ―²–Α–Φ–Η ―Ü–Η―Ä–Κ–Ψ–≤―΄―Ö ―²―Ä―é–Κ–Ψ–≤ –Ζ–Α–Ε–≥–Μ–Η ―¹–≤–Β―², –Η –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―Ä–Α–Ζ–≥–Μ―è–¥–Β―²―¨ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Ζ–Α–Μ ―Ä–Β―¹―²–Ψ―Ä–Α–Ϋ–Α, –Ζ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –¥–Ψ –Ψ―²–Κ–Α–Ζ–Α –Ω–Ψ―¹–Β―²–Η―²–Β–Μ―è–Φ–Η. –ü–Β―Ä–≤―΄–Φ–Η –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ–Α―¹―¨ –Η–Ζ-–Ζ–Α ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―¹―²–Ψ–Μ–Η–Κ–Ψ–≤ –Η ―É―à–Μ–Α –Ω–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Β ¬ΪNach Haus¬Μ –±–Ψ–Μ―¨―à–Α―è –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α –¥–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Β–Φ―Ü–Β–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η –Ω–Ψ―΅―²–Η –≤–Β―¹―¨ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι –Ζ–Α–Μ ―Ä–Β―¹―²–Ψ―Ä–Α–Ϋ–Α. –≠―²–Ψ –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ, –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ, –Η –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Κ―É–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Β–Ϋ―é, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –Ω–Ψ –Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Η–Ϋ―Ü–Η–Ω―É –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α―à–Β–Ι –Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Β ―à–Β―¹―²–Η ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ βÄ™ –®―É―Ä–Α ―¹ –°―Ä–Ψ–Ι, –ö–Α―²―è –Η –™–Α–Μ―è, ―è –Η –ê–Μ―è. –ù–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―²–Α–Ϋ―Ü–Β–≤–Α–≤ –Ϋ–Α ―¹―Ü–Β–Ϋ–Β, –Ψ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Η–≤―à–Β–Ι―¹―è –Ψ―² –Α―Ä―²–Η―¹―²–Ψ–≤ –≤–Α―Ä―¨–Β―²–Β, –Ϋ–Β ―¹–Ψ–Μ–Ψ–Ϋ–Ψ ―Ö–Μ–Β–±–Α–≤―à–Η, –Ω–Ψ–Κ–Η–Ϋ―É–Μ–Α ―Ä–Β―¹―²–Ψ―Ä–Α–Ϋ –Η –Ϋ–Α―à–Α –Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η―è –≤ –Ϋ–Β–Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ–Φ –Ϋ–Α―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η–Η. ¬Ϊ–ù–Α―à ―Ä–Α–Ζ―É–Φ –Ω–Ψ –Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–¥–Β ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ϋ–Α–¥–Β–Μ―ë–Ϋ –Ϋ–Β―É―²–Ψ–Φ–Η–Φ–Ψ–Ι –Ε–Α–Ε–¥–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–≤–Α―²―¨ –Η―¹―²–Η–Ϋ―É –Ϋ–Α―É–Κ–Η¬Μ –Π–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–Ϋ 2.4.4. –Θ ―à―²―É―Ä–≤–Α–Μ–Α –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ―΄―Ö –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Ι. (–ù–Α―É―΅–Ϋ–Ψ-–Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η–Ι –Ψ―²–¥–Β–Μ –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η, 1975-1980).–£ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β –Φ–Α―Ä―²–Α 1975 –≥–Ψ–¥–Α –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Β―Ä–Β–Ι―²–Η –Ϋ–Α –¥―Ä―É–≥―É―é ―Ä–Α–±–Ψ―²―É. –î―É–Φ–Α―é, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Ψ –Ϋ–Β –±–Β–Ζ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Η –™.–ê.–Γ–Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–≤–Α, –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä―è –Ω―Ä–Ψ―²–Β–Κ―Ü–Η–Η –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ ―É –Φ–Β–Ϋ―è –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, ―Ö–Ψ―²―è –Η ―¹ –¥–≤―É―Ö–≥–Ψ–¥–Η―΅–Ϋ―΄–Φ –Ψ–Ω–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Β–Φ, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―²―¨ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–Β –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Β –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β.  –ù–Α―É―΅–Ϋ–Ψ-–Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η–Ι –Ψ―²–¥–Β–Μ (–ù–‰–û), –Κ―É–¥–Α –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Ι―²–Η, –≤―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄–Φ –Ψ―²–¥–Β–Μ–Ψ–Φ –≤ –Ϋ–Β―à―²–Α―²–Ϋ―΄–Ι ―à―²–Α–± ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Α –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Β–Ι, ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Ω―Ä–Β―¹―²–Η–Ε–Ϋ–Ψ–Φ ―ç―²–Α–Ε–Β –≤–±–Μ–Η–Ζ–Η –Κ–Α–±–Η–Ϋ–Β―²–Ψ–≤ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η –Η –Β–≥–Ψ –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ–Β–Ι, ―².–Β. –±―΄–Μ –Ϋ–Α –≤–Η–¥―É ―É –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è. –®―²–Α―² –Ψ―²–¥–Β–Μ–Α –≤–Κ–Μ―é―΅–Α–Μ 7 –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ –Η –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ, –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ –≤ –Ζ–Α–Ω–Α―¹–Β –Η–Μ–Η –Ψ―²―¹―²–Α–≤–Κ–Β. –ö―Ä–Ψ–Φ–Β –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –Ψ―²–¥–Β–Μ–Α –Η –Β–≥–Ψ –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―è –≤ ―à―²–Α―²–Ϋ–Ψ–Φ ―Ä–Α―¹–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η–Η –±―΄–Μ–Ψ ―΅–Β―²―΄―Ä–Β ―¹―²–Α―Ä―à–Η―Ö –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Α (–Ω–Ψ ―΅–Η―¹–Μ―É –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ―΄―Ö ―³–Α–Κ―É–Μ―¨―²–Β―²–Ψ–≤) –Η –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Α –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –Ψ―²–¥–Β–Μ–Α. –Γ―²–Α―Ä―à–Η–Β –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Η ―¹―΅–Η―²–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ―Ü–Α–Φ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Κ―É―Ä–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤―É―é―â–Η–Β ―³–Α–Κ―É–Μ―¨―²–Β―²―΄ –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η. –· –Ζ–Α–Ϋ―è–Μ –Ψ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Η–≤―à―É―é―¹―è –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ―Ü–Α –Ω–Ψ ―³–Α–Κ―É–Μ―¨―²–Β―²―É ―Ä–Α–¥–Η–Ψ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Κ–Η. –€–Ψ–Ι –Ω―Ä–Β–¥―à–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä –ö―É―Ä―΄―à–Κ–Η–Ϋ –±―΄–Μ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ ―Ä–Β–¥–Α–Κ―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Η–Ζ–¥–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²–¥–Β–Μ–Α. –û–±―΄―΅–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ―Ü–Α –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α, –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―³–Η–Μ―é ―³–Α–Κ―É–Μ―¨―²–Β―²–Α, ―¹ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ –≤ –Ψ–±–Μ–Α―¹―²–Η –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –®―²–Α―²–Ϋ–Α―è –Κ–Α―²–Β–≥–Ψ―Ä–Η―è –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 2 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –Η ―¹–Κ―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Ι –Ψ–Κ–Μ–Α–¥ –Ζ–Α―²―Ä―É–¥–Ϋ―è–Μ–Η –Ϋ–Α–±–Ψ―Ä –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Α –Η–Ζ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤, –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–≤―à–Η―Ö –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η―é. –£ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Β–Φ ―è, –Ω―Ä–Α–≤–¥–Α, ―É–±–Β–¥–Η–Μ―¹―è, ―΅―²–Ψ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α –Κ―É―Ä–Α―²–Ψ―Ä–Α –±―΄–Μ–Α ―΅–Η―¹―²–Ψ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Α―è, –Ϋ–Β ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–≤―à–Α―è –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Η―Ö –Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Ι –Ω–Ψ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―é –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Ι –Κ–Α―³–Β–¥―Ä―΄ –Η–Ζ-–Ζ–Α ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ω–Β–Κ―²―Ä–Α –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Ι ―³–Α–Κ―É–Μ―¨―²–Β―²–Α. –Γ–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―² –Ω–Ψ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Κ–Β –≤―Ä―è–¥ –Μ–Η –Φ–Ψ–≥ –Η–Φ–Β―²―¨ –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Η–Β –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è –≤ –Ψ–±–Μ–Α―¹―²–Η –Κ–Α―³–Β–¥―Ä―΄ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–≤–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è, –≤―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Β–Ι –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―³–Α–Κ―É–Μ―¨―²–Β―²–Α. –Γ–Κ–Ψ―Ä–Β–Β, –¥–Μ―è ―ç―²–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Η–Μ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―² ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―³–Η–Μ―è ―¹ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Φ–Η –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―²–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Φ–Η ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²―è–Φ–Η. –£ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Η–Β –Ψ―² ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Φ –Η–Ϋ―²–Β–Μ–Μ–Β–Κ―²―É–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Ω–Ψ―²–Β–Ϋ―Ü–Η–Α–Μ–Ψ–Φ –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η –±―΄–Μ–Η –¥–Ψ–Κ―²–Ψ―Ä–Α –Ϋ–Α―É–Κ, ―΅–Η―¹–Μ–Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―²―è–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö –Μ–Β―² –Κ–Ψ–Μ–Β–±–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ ―Ü–Η―³―Ä―΄ 50. –ü–Ψ –≤―΄―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η―é –Α–≤―²–Ψ―Ä–Ψ–≤ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η (–Η–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η―è 1991 –≥.) –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ―΄–Ι ¬Ϊ–≤–Ζ―Ä―΄–≤¬Μ –≤ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Β ―É―΅―ë–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Β–Μ –≤ 1965-1969 –≥–≥, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –¥–Ψ–Κ―²–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Β –¥–Η―¹―¹–Β―Ä―²–Α―Ü–Η–Η –Ζ–Α―â–Η―²–Η–Μ–Η 46 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ. –€–Ϋ–Β –Η –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ ―¹ –Μ―é–¥―¨–Φ–Η, –Η–Φ–Β–≤―à–Η–Φ–Η –¥–Ψ–Κ―²–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Β –Η –Κ–Α–Ϋ–¥–Η–¥–Α―²―¹–Κ–Η–Β ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Η. –û―¹–Ϋ–Ψ–≤―΄–≤–Α―è―¹―¨ –Ϋ–Α –Ψ–Ω―΄―²–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –≤ –Ω―Ä–Β–¥―΄–¥―É―â–Β–Φ –Ψ―²–¥–Β–Μ–Β –Η –Ζ–Ϋ–Α―è –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –≤ –Μ–Η―Ü–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Ϋ―¹―²–≤–Ψ ―É―΅―ë–Ϋ―΄―Ö ―³–Α–Κ―É–Μ―¨―²–Β―²–Α, ―¹ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ψ–Ι –Ψ―¹–≤–Ψ–Η–Μ―¹―è –±―΄―¹―²―Ä–Ψ. –ß–Β―Ä–Β–Ζ ―΅–Β―²―΄―Ä–Β –Φ–Β―¹―è―Ü–Α –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Ψ–Φ –™–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ–Α –£–€–Λ β³• 0779 –Ψ―² 23.07.1975 –≥–Ψ–¥–Α –Φ–Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ψ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–Β –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Β –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 2 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α - –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä. –Ξ–Ψ―΅―É –Ψ–±―Ä–Α―²–Η―²―¨ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η–Β –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η―è. –£ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β 1971 –≥–Ψ–¥–Α ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä ―¹―²–Α–Μ–Ψ ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨―¹―è –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η―è, –Α –Ϋ–Β –≤ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β, –Κ–Α–Κ ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ. –Δ–Α–Κ, ―Ä–Α–Ϋ–Β–Β ―è –Η–Φ–Β–Μ –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä-–Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 3 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α, ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ ―¹―²–Α–Μ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ψ–Φ 2 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α βÄ™ –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Ψ–Φ. –≠―²–Η–Φ –Φ―΄―¹–Μ–Η–Μ–Η, –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ, –Ω–Ψ–¥―΅–Β―Ä–Κ–Ϋ―É―²―¨ –≤―²–Ψ―Ä–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Η–Ι –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Α―â–Η―Ö. –ü–Ψ–Ζ–¥–Ϋ–Β–Β, –≤ 1984 –≥–Ψ–¥―É ―ç―²–Ψ –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Β ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ ¬Ϊ–Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä¬Μ –±―΄–Μ–Ψ –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Ψ –Η–Ζ –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η―è –≤–Ψ–≤―¹–Β. ¬Ϊ–û–±–Φ―΄–≤–Α–Μ–Η¬Μ ―ç―²–Ψ ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Β ―¹–Κ―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Α –Κ–≤–Α―Ä―²–Η―Ä–Β ―¹–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η–≤―Ü–Α –Ω–Ψ –Ψ―²–¥–Β–Μ―É –°.–ê―³–Α–Ϋ–Α―¹―¨–Β–≤–Α, –Ε–Η–≤―à–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β–Ω–Ψ–¥–Α–Μ―ë–Κ―É –Ψ―² –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η. –†–Α–±–Ψ―²–Α ―¹–Ω–Ψ―Ä–Η–Μ–Α―¹―¨. –£–Ζ–Α–Η–Φ–Ψ–Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è –≤–Ϋ―É―²―Ä–Η –Ψ―²–¥–Β–Μ–Α –Η ―¹ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –±―΄–Μ–Η –¥–Β–Μ–Ψ–≤―΄–Φ–Η –Η –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Κ–Ψ―Ä―Ä–Β–Κ―²–Ϋ―΄–Φ–Η. –®―²–Α―²–Ϋ–Α―è –Κ–Α―²–Β–≥–Ψ―Ä–Η―è –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –Ψ―²–¥–Β–Μ–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―²―è–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –¥–Μ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥–Α ―ç―²―É –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ –£–£–€–‰–Θ –Η–Φ–Β–Ϋ–Η –Λ.–≠.–î–Ζ–Β―Ä–Ε–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ 1941 –≥–Ψ–¥–Α –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä-–Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –£.–£.–†–Α―Ö–Φ–Α–Ϋ–Ψ–≤, ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–≥–Ψ ―Ä–Ψ―¹―²–Α, ―¹–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Κ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―²–Β –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ–Α ―¹ ―Ä–Ψ–≥–Ψ–≤―΄–Φ–Η –Ψ―΅–Κ–Α–Φ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ϋ–Β―Ä–Β–¥–Κ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η ―¹–Ω–Ψ–Μ–Ζ–Α–Μ–Η ―¹ –Ω–Β―Ä–Β–Ϋ–Ψ―¹–Η―Ü―΄. –û–Ϋ –Η–Ζ―Ä–Β–¥–Κ–Α –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –Η–Ζ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ ―Ä―è–¥–Ψ–Φ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α–±–Η–Ϋ–Β―²–Α, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―É―²–Ψ―΅–Ϋ–Η―²―¨ –Κ–Α–Κ–Η–Β-―²–Ψ –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Η–Μ–Η –¥–Α―²―¨ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–Β –Ζ–Α–¥–Α–Ϋ–Η–Β ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Φ. –£–Ϋ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―è―è –Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä–Α –Η –¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–Μ–Η –Β–Φ―É –Ω–Ψ–≤―΄―à–Α―²―¨ –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹ –Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ω–Ψ ―²–Β–Μ–Β―³–Ψ–Ϋ―É. –î–Α–Ε–Β –¥–Μ―è ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤―΄–Ζ–≤–Α―²―¨ ―¹–Ψ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Η–Κ–Α –Κ ―¹–Β–±–Β, –Ψ–Ϋ, –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ, –≤―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –≤ –Κ–Ψ–Φ–Ϋ–Α―²―É ―¹―²–Α―Ä―à–Η―Ö –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –Ζ–Α–±―΄–≤–Α–Μ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨ ¬Ϊ–Ζ–¥―Ä–Α–≤―¹―²–≤―É–Ι―²–Β¬Μ, –Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±―Ä–Α―â–Α–Μ―¹―è: - ¬Ϊ–Δ–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –ù, –Ζ–Α–Ι–¥–Η―²–Β –Κ–Ψ –Φ–Ϋ–Β ―¹ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Ψ–Φ –Η–Μ–Η ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Β–Ι ―²–Β―²―Ä–Α–¥―¨―é¬Μ. –†–Α–±–Ψ―²–Α–Μ –Ψ–Ϋ, –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ, –Ϋ–Β –Η―¹–Ω―΄―²―΄–≤–Α―è –±–Ψ–Μ―¨―à–Η―Ö –Ζ–Α―²―Ä―É–¥–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι, –Ψ–Ω–Η―Ä–Α―è―¹―¨ –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Φ–Ω–Β―²–Β–Ϋ―²–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤. –û―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Α―è –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ψ―²–¥–Β–Μ–Α –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Η –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –≥–Ψ–¥–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Η –Ω–Β―Ä―¹–Ω–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Ψ–≤ –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ-–Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η―Ö ―Ä–Α–±–Ψ―² –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η. –™–Ψ―²–Ψ–≤―΄–Ι –Ω–Μ–Α–Ϋ - ―ç―²–Ψ ―É–≤–Β―¹–Η―¹―²―΄–Ι ―³–Ψ–Μ–Η–Α–Ϋ―² –≤ –Κ―Ä–Α―¹–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–±–Μ–Ψ–Ε–Κ–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ζ–Α–≤–Ψ―Ä–Α–Ε–Η–≤–Α–Μ –Μ―é–±–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä―è―é―â–Β–≥–Ψ. –û–Ϋ –Ω–Ψ–¥–Ω–Η―¹―΄–≤–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η –Η –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Μ―¹―è –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤―É, –≥–¥–Β ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α–Μ―¹―è –™–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ–Ψ–Φ –Η–Μ–Η –ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –™–® –£–€–Λ.  –≠―²–Α ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―è –≤ –Ω–Α―Ä–Α–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―²―É–Ε―É―Ä–Κ–Β ―¹–Ψ –≤―¹–Β–Φ–Η –Φ–Β–¥–Α–Μ―è–Φ–Η –Ω―Ä–Β–¥–Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Α –¥–Μ―è –Φ–Ψ–Β–≥–Ψ –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Β–Μ–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ω―Ä–Η―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α βÄ™ –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä. –≠―²–Ψ―² –Ω–Ψ―Ä―²―Ä–Β―² –≤ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―³–Ψ―Ä–Φ–Β ―¹―²–Α–Μ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Φ –Ϋ–Α –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±–Β. –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥. 1975 –≥–Ψ–¥. –ù–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –Ϋ–Β―Ä–≤–Ϋ–Ψ–Β –Ϋ–Α–Ω―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―Ü–Α―Ä–Η–Μ–Ψ –≤ –Ψ―²–¥–Β–Μ–Β –Ϋ–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Φ ―ç―²–Α–Ω–Β ―¹–¥–Α―΅–Η –Η –Ζ–Α―â–Η―²―΄ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤―¹–Ω–Μ―΄–≤–Α–Μ–Η –Ψ–Ω–Β―΅–Α―²–Κ–Η, –Η–Μ–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –≤–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Ψ –Ϋ–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ―Ä―Ä–Β–Κ―²–Η–≤―΄ –Η–Μ–Η –¥–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è. –£ –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Α―è –Α―²–Φ–Ψ―¹―³–Β―Ä–Α –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ–Ι –Η ―²–≤–Ψ―Ä―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι. –û–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―¹―²–Α―Ä―à–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Α –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤ ―É―΅–Α―¹―²–Η–Η –Ω―Ä–Η ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –Ω–Μ–Α–Ϋ–Α –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ-–Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η―Ö ―Ä–Α–±–Ψ―² –Η –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ–Β –Β–≥–Ψ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –≤–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η–Η ―²–Β–Κ―É―â–Η―Ö –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι –Η ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Ψ–Κ –≤ ―ç―²–Ψ–Ι ―¹―³–Β―Ä–Β. –ö–Α–Κ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, –Ω–Μ–Α–Ϋ βÄ™ –Ϋ–Β –¥–Ψ–≥–Φ–Α, –Α ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ –Κ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―é. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–Ι –Η–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Β–Ι –Ω–Μ–Α–Ϋ–Α, ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ –Η –Ω–Μ–Α–Ϋ –¥–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α–±–Ψ―², –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –≤ –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥―΄ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β –Φ–Α–Μ–Ψ. –ö–Α–Ε–¥–Ψ–Β ―É―²―Ä–Ψ –¥–Β–Μ–Ψ–Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―¨ –Ψ―²–¥–Β–Μ–Α –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Μ –≤ ―¹–Β–Κ―Ä–Β―²–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²―΄ –Η –Ω–Η―¹―¨–Φ–Α –Ω–Ψ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Α–Φ –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω―Ä–Ψ―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α–Μ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –Ψ―²–¥–Β–Μ–Α –Η –Ϋ–Α–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Μ ―Ä–Β–Ζ–Ψ–Μ―é―Ü–Η―é –¥–Μ―è –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è ―²–Ψ–Φ―É –Η–Μ–Η –¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ―É –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ―Ü―É. –Γ―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–≤ –Ω–Ψ–¥ ―Ä–Ψ―¹–Ω–Η―¹―¨ –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Β–Φ―É –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―², –Ζ–Α–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ –Β–≥–Ψ ―Ä–Β–Κ–≤–Η–Ζ–Η―²―΄ –Η –Κ―Ä–Α―²–Κ–Ψ–Β ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Η–Β –≤ ―¹–≤–Ψ―é ―Ä–Α–±–Ψ―΅―É―é ―²–Β―²―Ä–Α–¥―¨ (–Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ―è) –Η –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―É―é –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―É―é ―Ä–Α–±–Ψ―²―É, –≤–Κ–Μ―é―΅–Α―è –Ω–Ψ–¥–±–Ψ―Ä –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ–Β–Ι, ―ç―²–Α–Ω―΄ ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄, ―¹―Ä–Ψ–Κ–Η –Η ―².–¥. –ö―Ä–Ψ–Φ–Β –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ―΄―Ö –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι –Ϋ–Β –Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Η –±–Β–Ζ ―É―΅–Α―¹―²–Η―è –≤ ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö –≤–Ϋ―É―²―Ä–Η–Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η―è―Ö –Η –≤–Ϋ–Β–Ω–Μ–Α–Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η―è―Ö –Ω–Ψ ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―é –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è. –û―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β―à―²–Α―²–Ϋ―΄―Ö –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―¨ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –Ψ―²–¥–Β–Μ–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –€–Η–Ζ–≥–Β―Ä –¦–Β–≤ –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ―¹―è –Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ―è–Κ–Ψ–Φ –Η ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ –≤ –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Α–±–Η–Ϋ–Β―²–Β. –£―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –£.–£.–†–Α―Ö–Φ–Α–Ϋ–Ψ–≤ ―É―à–Β–Μ –Ϋ–Α –Ω–Β–Ϋ―¹–Η―é, –Ψ―¹―²–Α–≤–Η–≤ –Β–¥–≤–Α –Ζ–Α–Φ–Β―²–Ϋ―΄–Ι ―¹–Μ–Β–¥ –≤ –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Η―à–Β –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η. –ü–Ψ–Μ–Α–≥–Α―é, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ―è–Β―²―¹―è ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –Β–≥–Ψ –Ζ–Α―¹–Μ―É–≥–Η –Ω–Β―Ä–Β–Κ―Ä―΄–Μ–Α ―²–Β–Ϋ―¨ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι ―³–Η–≥―É―Ä―΄, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α –±–Ψ–Μ–Β–Β –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–Ι ―¹―²―É–Ω–Β–Ϋ―¨–Κ–Β –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Η–Β―Ä–Α―Ä―Ö–Η–Η. –‰–Φ –±―΄–Μ –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―¨ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η –Ω–Ψ –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²–Β –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –£.–‰.–Γ–Ψ–Μ–Ψ–≤―¨―ë–≤. –£–Ψ –≤―¹―è–Κ–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β, –≤ –Ψ―΅–Β―Ä–Κ–Α―Ö –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η –Η–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η―è 1977 –≥–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –ù–‰–û ―É–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Β―²―¹―è –Μ–Η―à―¨ –Ψ–¥–Η–Ϋ ―Ä–Α–Ζ, –≤–Ψ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Η–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Η 1991 –≥–Ψ–¥–Α ―³–Α–Φ–Η–Μ–Η―è –†–Α―Ö–Φ–Α–Ϋ–Ψ–≤–Α –Η―¹―΅–Β–Ζ–Μ–Α –≤–Ψ–≤―¹–Β. –î―É–Φ–Α―é, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β―¹–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Μ–Η–≤–Ψ. –€–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–Ε–Β –Η–Ζ –Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Α―Ü–Η–Η –≤ –≥–Α–Ζ–Β―²–Β ¬Ϊ–Δ―Ä―É–¥¬Μ –Ψ―² 23 –Φ–Α―è 1991 –≥–Ψ–¥–Α ―É–Ζ–Ϋ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –£.–£.–†–Α―Ö–Φ–Α–Ϋ–Ψ–≤ –±―΄–Μ –Ζ–Α–Φ–Β―²–Ϋ–Ψ–Ι ―³–Η–≥―É―Ä–Ψ–Ι –≤ –≥–Ψ–¥―΄ ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Ϋ–Α –Γ–Β–≤–Β―Ä–Β, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―è―¹―¨ ―É –Η―¹―²–Ψ–Κ–Ψ–≤ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η―è –Η –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η―è ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –≥―Ä–Ψ–Ζ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―Ä―É–Ε–Η―è –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ –Ω―Ä–Ψ―à–Β―¹―²–≤–Η–Η 30 –Μ–Β―² ―¹―²–Α–Μ–Ψ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Ψ―΅–Β―¹―²―¨ –Ψ –≥–Β―Ä–Ψ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –±―É–¥–Ϋ―è―Ö –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―¹–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η–≤―Ü–Β–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Α–Μ–Η –Ϋ–Α―¹ –Η –±―΄–Μ–Η –≤―΄–Ϋ―É–Ε–¥–Β–Ϋ―΄ –¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨ ―è–Ζ―΄–Κ –Ζ–Α –Ζ―É–±–Α–Φ–Η. –£ ―¹―²–Α―²―¨–Β ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ψ –Ψ –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö ―à–Α–≥–Α―Ö –Ω–Ψ –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η―é ―è–¥–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―Ä―É–Ε–Η―è –Ϋ–Α –ù–Ψ–≤–Ψ–Ι –½–Β–Φ–Μ–Β. ¬Ϊ–ü–Ψ–Μ–Η–≥–Ψ–Ϋ –¥–Μ―è –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η―è ―è–¥–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―Ä―É–Ε–Η―è –±―΄–Μ –≤―΄–±―Ä–Α–Ϋ –≤ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β 1954 –≥–Ψ–¥–Α ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η–Β–Ι –Ω–Ψ–¥ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –ù.–î.–Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Α. –Θ―΅―ë–Ϋ―΄―Ö –Η –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ–Ψ–≤ –Ω―Ä–Η–≤–Μ–Β–Κ–Μ–Η –≥–Ψ―Ä–Η―¹―²―΄–Β –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α ―¹ –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η–Φ–Η –Η –Ψ–±―Ä―΄–≤–Η―¹―²―΄–Φ–Η –±–Β―Ä–Β–≥–Α–Φ–Η, ―É–¥–Ψ–±–Ϋ―΄–Φ–Η –¥–Μ―è –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―΄―Ö –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η–Ι, –Φ–Ϋ–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ ―³―¨–Ψ―Ä–¥–Ψ–≤, –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Ψ–≤ –Η –±―É―Ö―², ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ―΄―Ö ―É–Κ―Ä―΄―²―¨ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Η―Ö ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―Ä–Ψ–≤, –Η –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Φ–Α–Μ–Ψ–Β ―΅–Η―¹–Μ–Ψ –Ε–Η―²–Β–Μ–Β–Ι (–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ ―΅–Β―²―΄―Ä–Β―Ö―¹–Ψ―² ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ–Φ–Ψ―Ä–Ψ–≤ –Η –Ϋ–Β–Ϋ―Ü–Β–≤, –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–≤―à–Η―Ö –Ω–Ψ―¹―ë–Μ–Κ–Η –ë–Β–Μ―É―à―¨–Β –Η –†–Ψ–≥–Α―΅―ë–≤–Ψ)¬Μ. –£ ―²–Ψ―² –≥–Ψ–¥ –Μ–Β―²–Ψ–Φ, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―è―¹―¨ –≤ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Α ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β ¬Ϊ–Θ―Ä–Α–Μ¬Μ, ―è –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι ―Ä–Α–Ζ ―É–≤–Η–¥–Β–Μ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η –≥–Μ–Α–Ζ–Α–Φ–Η ―ç―²―É ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―É―é –Ζ–Β–Φ–Μ―é. –Γ 31 –Η―é–Μ―è 1954 –≥–Ψ–¥–Α –Ω–Ψ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―é –Ω―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ ¬Ϊ–û–±―ä–Β–Κ―²–Α βÄ™ 700¬Μ. –ü–Β―Ä–≤―΄–Φ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –±―΄–Μ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ –™–Β―Ä–Ψ–Ι –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –£.–Γ―²–Α―Ä–Η–Κ–Ψ–≤. –ê ―É–Ε–Β 25 ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä―è 1955 –≥–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ–Η–≥–Ψ–Ϋ–Β –≤ –≥―É–±–Β –ß―ë―Ä–Ϋ–Α―è –Ϋ–Α –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Β 50 –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤ –±―΄–Μ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β–¥–Β–Ϋ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –≤ –Γ–Γ–Γ–† –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι ―è–¥–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι –≤–Ζ―Ä―΄–≤. –ù–Α –≤–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Φ –±–Β―Ä–Β–≥―É ―ç―²–Ψ–Ι –≥―É–±―΄ –≤ –Ψ–Κ―²―è–±―Ä–Β 1957 –≥–Ψ–¥–Α ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Α–Ζ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–Β –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η–Β ―è–¥–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α―Ä―è–¥–Α. –£ ―ç―²–Ψ–Φ –Ε–Β –≥–Ψ–¥―É –ß―ë―Ä–Ϋ–Α―è ―¹–Ψ―²―Ä―è―¹–Μ–Α―¹―¨ –Β―â–Β ―Ä–Α–Ζ –Ψ―² –≤–Ζ―Ä―΄–≤–Α ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥―΄ ―¹ ―è–¥–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Κ–Ψ–Ι, –≤―΄–Ω―É―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –™.–¦–Α–Ζ–Α―Ä–Β–≤–Α. –£ ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–Φ 1958 –≥–Ψ–¥―É –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ–Η–≥–Ψ–Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Ψ 20 ―è–¥–Β―Ä–Ϋ―΄―Ö –≤–Ζ―Ä―΄–≤–Ψ–≤. –ü–Ψ―¹–Μ–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –±―΄–Μ –Ψ–±―ä―è–≤–Μ–Β–Ϋ –Φ–Ψ―Ä–Α―²–Ψ―Ä–Η–Ι –Ϋ–Α –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η―è, –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–≤―à–Η–Ι―¹―è –±–Ψ–Μ–Β–Β –¥–≤―É―Ö –Μ–Β―². ¬Ϊ–£ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Β –Η―é–Μ―è 1961 –≥–Ψ–¥–Α –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Ψ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Β―Ä–≤–Α―²―¨ ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –Ω–Ψ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Β –Ω–Ψ–¥–Ζ–Β–Φ–Ϋ―΄―Ö –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η–Ι, ―É–±―Ä–Α―²―¨ –Μ―é–¥–Β–Ι –Η ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ―É –Η–Ζ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤–Α –€–Α―²–Ψ―΅–Κ–Η–Ϋ –®–Α―Ä –Η –Ω―Ä–Η–≤–Β―¹―²–Η –Ω–Ψ–Μ–Η–≥–Ψ–Ϋ –≤ –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Κ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―à–Ϋ―΄–Φ –Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η―è–ΦβÄΠ. –ê –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Ϋ–Α –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α―Ö, - –Ω–Ψ –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η―é –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –Ω–Ψ–Μ–Η–≥–Ψ–Ϋ–Α βÄ™ –Κ–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¹―è, –Ζ–Α–±―É―Ä–Μ–Η–Μ–Α. –€–Ψ–Η –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ–Η –£.–†–Α―Ö–Φ–Α–Ϋ–Ψ–≤ –Η –ê.–Γ―²–Β―Ä–Μ―è–¥–Κ–Η–Ϋ ―¹ –Ϋ–Ψ–≥ –≤–Α–Μ–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ψ―² ―É―¹―²–Α–Μ–Ψ―¹―²–Η. –ù–Β–Ω―Ä–Β―Ä―΄–≤–Ϋ―΄–Φ –Ω–Ψ―²–Ψ–Κ–Ψ–Φ ―à–Μ–Η ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Α ―¹ –≥―Ä―É–Ζ–Ψ–Φ –¥–Μ―è –≥–Α―Ä–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–Ϋ–Α¬Μ.  30 –Ψ–Κ―²―è–±―Ä―è 1961 –≥–Ψ–¥–Α 60-―²–Η –Φ–Β–≥–Α―²–Ψ–Ϋ–Ϋ–Α―è ¬Ϊ―¹―É–Ω–Β―Ä–±–Ψ–Φ–±–Α¬Μ –±―΄–Μ–Α ―¹–±―Ä–Ψ―à–Β–Ϋ–Α –Ϋ–Α –Ω–Α―Ä–Α―à―é―²–Β ―¹ ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―²–Α –‰–Μ-14 –Η –≤–Ζ–Ψ―Ä–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α –≤―΄―¹–Ψ―²–Β 5 –Κ–Η–Μ–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤. –ù–Α –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η―è―Ö –Ω―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ –€–Α―Ä―à–Α–Μ –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –ö.–Γ.–€–Ψ―¹–Κ–Α–Μ–Β–Ϋ–Κ–Ψ –Η –Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–≥–Ψ –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η―è –ï.–ü.–Γ–Μ–Α–≤―¹–Κ–Η–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―²–Β–Μ–Β–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–≤–Α–Μ–Η XXII ―¹―ä–Β–Ζ–¥―É –Ψ–± ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ–Φ –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η–Η –±–Ψ–Φ–±―΄. –£ ―ç―²–Ψ–Ι ―²–Β–Μ–Β–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Β –Ϋ–Α –Η–Φ―è –ù.–Γ.–Ξ―Ä―É―â–Β–≤–Α –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ ¬Ϊ–±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Η―¹–Ω―΄―²–Α―²–Β–Μ–Β–Ι –Η –±–Μ–Η–Ε–Α–Ι―à–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α―¹–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Α¬Μ. –Γ–Ω―É―¹―²―è –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ–Β―² –Β―¹―²―¨ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–≤–Α―²―¨―¹―è –≤ –Ω―Ä–Α–≤–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–≥–Ψ ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è. –ï―¹–Μ–Η –±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ϋ–Α―¹–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è –±―΄–Μ–Α –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Β–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Η–Ϋ―É–¥–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Ω–Β―Ä–Β―¹–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ϋ–Α –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Κ, ―²–Ψ –≤ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η–Ι ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β ―²–Α–Κ. –Γ―²–Α―²―¨―è ¬Ϊ–Δ―Ä–Ψ–Β –Η–Ζ –Α―Ä–Φ–Η–Η ¬Ϊ–Ω―Ä–Η–Ζ―Ä–Α–Κ–Ψ–≤¬Μ (–£–Β―΅–Β―Ä–Ϋ–Η–Ι –ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥. 11.04.1996) –Η–Ζ–Μ–Α–≥–Α–Β―² ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η―Ö ―¹–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ–Β–Ι ―ç―²–Η―Ö –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η–Ι. –Γ–Ω―É―¹―²―è –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Ϋ–Β–Ι –≤ ―ç–Ω–Η―Ü–Β–Ϋ―²―Ä –≤–Ζ―Ä―΄–≤–Α –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η –Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±–Α―²–Α–Μ―¨–Ψ–Ϋ–Α (–≤/―΅ 10568) ―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é 700 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, ―¹―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤ –Γ–Β―Ä―²–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ –Ω–Ψ–¥ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Ψ–Φ. –î–Η–Α–Φ–Β―²―Ä –≤–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Κ–Η –Ψ―² –≤–Ζ―Ä―΄–≤–Α –±―΄–Μ –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β 300 –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤, –≤–Ϋ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―è―è –Ω–Ψ–≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ψ–Ω–Μ–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Α, –≥―Ä―É–Ϋ―² ―¹–Ω―ë–Κ―¹―è –≤ ―¹―²–Β–Κ–Μ–Ψ–Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―É―é –Φ–Α―¹―¹―É. –Γ–Ψ –≤―¹–Β–≥–Ψ –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –±―΄–Μ–Α –≤–Ζ―è―²–Α –Ω–Ψ–¥–Ω–Η―¹–Κ–Α –Ψ –Ϋ–Β―Ä–Α–Ζ–≥–Μ–Α―à–Β–Ϋ–Η–Η –Μ―é–±–Ψ–Ι –Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η–Η –Ψ –Φ–Β―¹―²–Β ―¹–Μ―É–Ε–±―΄, –Β―ë ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Β –Η –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ –Κ–Α–Κ–Η―Ö-–Μ–Η–±–Ψ –Ζ–Α–±–Ψ–Μ–Β–≤–Α–Ϋ–Η–Ι. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ 1991 –≥–Ψ–¥―É –±―΄–Μ ―¹–Ϋ―è―² –≥―Ä–Η―³ ―¹–Β–Κ―Ä–Β―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―¹ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ–Ψ–≤ –Ω–Ψ ―è–¥–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η―è–Φ –Ϋ–Α –ù–Ψ–≤–Ψ–Ι –½–Β–Φ–Μ–Β. –Δ―Ä–Ψ–Β, –Ψ―¹―²–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è –Κ ―ç―²–Ψ–Φ―É –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –≤ –Ε–Η–≤―΄―Ö, ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Η–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Ϋ―¹―²–≤–Ψ ―¹–Ψ–Μ–¥–Α―² –Η –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –±–Α―²–Α–Μ―¨–Ψ–Ϋ–Α ―É–Φ–Β―Ä–Μ–Η, –Ϋ–Β –¥–Ψ–Ε–Η–≤ –¥–Ψ ―¹–Ψ―Ä–Ψ–Κ–Α –Μ–Β―² –Ψ―² ―Ä–Α–Κ–Α –Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η, ―¹–Β―Ä–¥–Β―΅–Ϋ–Ψ-―¹–Ψ―¹―É–¥–Η―¹―²―΄―Ö –Η –Ϋ–Β―Ä–≤–Ϋ–Ψ-–Ω―¹–Η―Ö–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ζ–Α–±–Ψ–Μ–Β–≤–Α–Ϋ–Η–Ι. –€–Ψ–Ι –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹ –Κ –ù–Ψ–≤–Ψ–Ι –½–Β–Φ–Μ–Β –Ϋ–Β –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ―΄–Ι. –£–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –≤ ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –≤ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ψ–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Β ―É –Φ–Β–Ϋ―è –±―΄–Μ–Α ―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ω–Ψ–Ω–Α―¹―²―¨ ―¹–Μ―É–Ε–Η―²―¨ –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ―² –Ζ–Α–Ω–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ―΄–Ι –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤. –£ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ ―É–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Β –Η–Ζ –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ-–Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―²–Α –£–€–Λ ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ –Η–¥–Β―è –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Η―²―¨ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Β―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –±–Α–Μ–Μ–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö ―Ä–Α–Κ–Β―² –†-13 –≤ –Ω–Ψ–Μ–Β–≤―΄―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Β–≥–Ψ ―¹–Β–≤–Β―Ä–Α. –ë―΄–Μ–Α ―Ä–Α–Ζ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Α –Ω–Β―Ä–Β–±―Ä–Ψ―¹–Κ–Η –Η ―Ä–Α–Ζ–≤―ë―Ä―²―΄–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ω–Β―Ä–Β–¥–≤–Η–Ε–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Η –Ϋ–Α –ù–Ψ–≤–Ψ–Ι –½–Β–Φ–Μ–Β. –†–Α–Κ–Β―² –Η ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Η –≤ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ψ–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Β –±―΄–Μ–Ψ –±–Ψ–Μ–Β–Β ―΅–Β–Φ –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ, –≤ –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Α―Ö –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Κ–Α ―²–Ψ–Ε–Β –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ. –û―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α–Ι―²–Η –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥―è―â–Β–≥–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α –Ϋ–Α –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α ―ç―²–Ψ–Ι –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η. –½–Α–Ϋ―è―²―¨ ―ç―²―É ¬Ϊ–Ω–Ψ―΅―ë―²–Ϋ―É―é¬Μ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ψ –Φ–Ϋ–Β ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ψ―²–¥–Β–Μ –Κ–Α–¥―Ä–Ψ–≤ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α, –Κ―É–¥–Α –±―΄–Μ –Ϋ–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤―΄–Ζ–≤–Α–Ϋ. –·, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥ –Ζ–Ϋ–Α―²―¨ –Ψ –Ω–Β―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―É–¥―¨–±–Β –≤―΄―à–Β―É–Ω–Ψ–Φ―è–Ϋ―É―²–Ψ–≥–Ψ –±–Α―²–Α–Μ―¨–Ψ–Ϋ, –Ϋ–Ψ –≤―¹―ë ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ –Κ–Α―²–Β–≥–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Ψ―²–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è. –£ –Ψ―²–¥–Β–Μ–Β –Κ–Α–¥―Ä–Ψ–≤ –Φ–Β–Ϋ―è ―¹–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –Ω―΄―²–Α–Μ–Η―¹―¨ ―É–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨, –Ζ–Α―²–Β–Φ –≥―Ä–Ψ–Ζ–Η―²―¨ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ―¹―²―è–Φ–Η –Ω–Ψ ―¹–Μ―É–Ε–±–Β, –Ϋ–Β –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Α―è –Η–Ζ –Ζ–¥–Α–Ϋ–Η―è ―à―²–Α–±–Α –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ –¥–≤―É―Ö ―΅–Α―¹–Ψ–≤. –ü–Β―Ä–Β–¥ –Κ–Α–¥―Ä–Ψ–≤–Η–Κ–Α–Φ–Η, ―¹–Κ–Ψ―Ä–Β–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ, –±―΄–Μ–Α –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Α –Ζ–Α–¥–Α―΅–Α –Ϋ–Α–Ι―²–Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―Ü–Α, –Η–Ϋ–Α―΅–Β –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Β ―¹―²–Α–Μ–Η –±―΄ –Η ―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α―²―¨ –Φ–Ψ–Β–≥–Ψ ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η―è. –· ―²–≤―ë―Ä–¥–Ψ ―¹―²–Ψ―è–Μ –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ―ë–Φ, –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –¥―Ä―É–≥–Η―Ö, –Κ–Α–Κ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―², –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α―è –±–Β―¹―¹–Φ―΄―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―ç―²–Ψ–Ι –Ζ–Α―²–Β–Η. –£ –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ–Φ –Η―²–Ψ–≥–Β ―ç―²―É –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η―é –≤–Ψ–Ζ–≥–Μ–Α–≤–Η–Μ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ ―Ü–Β―Ö–Α –≠.–ü.–£–Β―Ä–Ε–±–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι - –Ψ–Ω―΄―²–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―² –Η –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―²–Ψ―Ä. –ü―Ä–Ψ–Φ―É―΅–Η–≤―à–Η―¹―¨ –≤ –Ω–Α–Μ–Α―²–Κ–Α―Ö –≤ ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö –≤–Β―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Β―Ä–Ζ–Μ–Ψ―²―΄ –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ –≥–Ψ–¥–Α, ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η―è –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω–Ψ–Μ―É―΅–Ϋ–Ψ –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Α―¹―¨ –≤ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ψ–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ, –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–≤ –Ψ –Ϋ–Β―Ü–Β–Μ–Β―¹–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η―è ―ç–Κ―¹–Ω–Β―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ―²–Α. –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Β ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―¹―΄ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹ –Κ–Α–Μ–Β–Ι–¥–Ψ―¹–Κ–Ψ–Ω–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –±―΄―¹―²―Ä–Ψ―²–Ψ–Ι, –Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²―¨ –Ψ–Ω―΄―²―΄ –Ϋ–Α ―¹–Ϋ―è―²―΄―Ö ―¹ –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Η–Μ–Η ―É―¹―²–Α―Ä–Β–≤―à–Η―Ö ―Ä–Α–Κ–Β―²–Α―Ö –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–Μ–Ψ –±–Β―¹–Ω–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Ψ ―²―Ä–Α―²–Η―²―¨ ―¹–Η–Μ―΄ –Η –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α.  –£–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α―é―¹―¨ –Κ –¥–Β–Μ–Α–Φ –≤ –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η, –≥–¥–Β –¥–≤–Α –≥–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ψ–±―â–Β―¹–Ψ―é–Ζ–Ϋ–Α―è –Κ–Α–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ –Ψ–±–Φ–Β–Ϋ―É –Ω–Α―Ä―²–±–Η–Μ–Β―²–Ψ–≤, ―¹―Ä–Ψ–Κ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ζ–Α–Κ–Α–Ϋ―΅–Η–≤–Α–Μ―¹―è. –≠―²–Α –Κ–Α–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Β―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Α ―Ü–Β–Μ―¨ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²―¨ –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à―É―é –Κ–Ϋ–Η–Ε–Η―Ü―É ―¹–Β―Ä–Ψ–≥–Ψ ―Ü–≤–Β―²–Α –Ϋ–Α –Α–Ϋ–Α–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Ϋ―É―é βÄ™ –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―É―é, –Ϋ–Ψ –Η –Ψ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Η―²―¨―¹―è –Ψ―² –Ϋ–Β–Ε–Β–Μ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―ç–Μ–Β–Φ–Β–Ϋ―²–Ψ–≤, ―².–Β. –Μ―é–¥–Β–Ι, –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ―΄―Ö –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η―è ―΅–Μ–Β–Ϋ–Α –Ω–Α―Ä―²–Η–Η. –£ –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η –Ψ–±–Φ–Β–Ϋ –Ω–Α―Ä―²–±–Η–Μ–Β―²–Ψ–≤ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –Ω–Ψ –Ω–Μ–Α–Ϋ―É –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Ψ―²–¥–Β–Μ–Α, –Ϋ–Β ―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ –Η ―΅―ë―²–Κ–Ψ. –½–Α –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Ϋ–Β–Ι –¥–Ψ –≤―Ä―É―΅–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Α –Φ–Β–Ϋ―è –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―¹–Η–Μ–Η –≤ –Ω–Α―Ä―²―É―΅―ë―², –≥–¥–Β –Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Η–Μ–Η ―¹ –Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ―¨–Κ–Η–Φ –Ω–Α―Ä―²–±–Η–Μ–Β―²–Ψ–Φ ―¹ ―Ü–Β–Μ―¨―é –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Κ–Η –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ζ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Η ―Ä–Α–Ζ–±–Ψ―Ä―΅–Η–≤–Ψ–Ι ―Ä–Ψ―¹–Ω–Η―¹–Η –≤ –Ϋ―ë–Φ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η ―΅―ë―Ä–Ϋ―΄–Φ–Η ―΅–Β―Ä–Ϋ–Η–Μ–Α–Φ–Η. –ù–Α –Ψ–±–Μ–Ψ–Ε–Κ–Β –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ü–≤–Β―²–Α –Ω–Α―Ä―²–±–Η–Μ–Β―²–Α –Ϋ–Α–Ω–Β―΅–Α―²–Α–Ϋ–Ψ: ¬Ϊ–ü―Ä–Ψ–Μ–Β―²–Α―Ä–Η–Η –≤―¹–Β―Ö ―¹―²―Ä–Α–Ϋ, ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ―è–Ι―²–Β―¹―¨!¬Μ, –≤ ―¹–Β―Ä–Β–¥–Η–Ϋ–Β βÄ™ –ö–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è –Ω–Α―Ä―²–Η―è –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α, –≤–Ϋ–Η–Ζ―É βÄ™ –Π–ö –ö–ü–Γ–Γ. –ù–Α –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ―²–Β ―²–Η―²―É–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ–Η―¹―²–Α ―Ä–Β–Μ―¨–Β―³–Ϋ–Α―è –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Α –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―è –Ω–Α―Ä―²–Η–Η –Η –Ϋ–Η–Ε–Β ―¹–Μ–Ψ–≤–Α: ¬Ϊ–ü–Α―Ä―²–Η―è βÄ™ ―É–Φ, ―΅–Β―¹―²―¨ –Η ―¹–Ψ–≤–Β―¹―²―¨ –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―ç–Ω–Ψ―Ö–Η¬Μ. –£.–Θ–Μ―¨―è–Ϋ–Ψ–≤ (–¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ). –¦–Η―Ü–Β–≤–Α―è ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Α ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –Μ–Η―¹―²–Α –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä―è–Β―² ―²–Β–Κ―¹―² –Ψ–±–Μ–Ψ–Ε–Κ–Η. –ù–Α ―²―΄–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β –Μ–Η―¹―²–Α ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Β –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β: –ü–Α―Ä―²–Η–Ι–Ϋ―΄–Ι –±–Η–Μ–Β―² ⳕ 04701601, –Λ–‰–û, –≥–Ψ–¥ ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è -1935. –£―Ä–Β–Φ―è –≤―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è –≤ –Ω–Α―Ä―²–Η―é βÄ™ –Α–≤–≥―É―¹―² 1957 –≥–Ψ–¥–Α. –ù–Α–Η–Φ–Β–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ω–Α―Ä―²–Η–Ι–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Α, –≤―΄–¥–Α–≤―à–Β–≥–Ψ –±–Η–Μ–Β―² βÄ™ –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Ψ―²–¥–Β–Μ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Ψ–≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–Α –Η –Θ―à–Α–Κ–Ψ–≤–Α –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η. –Γ–Μ–Β–≤–Α βÄ™ ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―è ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―Ä–Ψ–Φ 2,5 ―Ö 3 –Ϋ–Α ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Α―²–Ψ–≤–Ψ–Ι –±―É–Φ–Α–≥–Β. –Γ–Ω―Ä–Α–≤–Α –Ψ―² ―³–Ψ―²–Ψ βÄ™ –Μ–Η―΅–Ϋ–Α―è –Ω–Ψ–¥–Ω–Η―¹―¨. –ù–Η–Ε–Β βÄ™ –Ω–Ψ–¥–Ω–Η―¹―¨ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Ψ―²–¥–Β–Μ–Α –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –€.–ù.–½–Α―Ö–Α―Ä–Ψ–≤–Α –Η –Ω–Β―΅–Α―²―¨. –£ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Μ–Η―¹―²–Α βÄ™ –¥–Α―²–Α –≤―΄–¥–Α―΅–Η: 22 –Η―é–Ϋ―è 1973 –≥–Ψ–¥–Α. –î–Α–Μ–Β–Β –≤ –Κ–Ϋ–Η–Ε–Κ–Β ―¹–±―Ä–Ψ―à―é―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ψ 10 –Μ–Η―¹―²–Ψ–≤, ―Ä–Α―¹―¹―΅–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α 20 –Μ–Β―² –Ψ―²–Φ–Β―²–Ψ–Κ –Ψ–± ―É–Ω–Μ–Α―²–Β ―΅–Μ–Β–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –≤–Ζ–Ϋ–Ψ―¹–Ψ–≤ –Ω–Ψ 3 % –Ψ―² ―¹―É–Φ–Φ―΄ –Ζ–Α―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Μ–Α―²―΄. –ü–Α―Ä―²–Η–Ι–Ϋ―΄–Ι –±–Η–Μ–Β―² –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ―Ü–Α –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Ϋ–Β–Ι –Η–Ζ ―Ä―É–Κ –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―è –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Ψ―²–¥–Β–Μ–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ù.–ï.–¦–Β–±―ë–Ζ–Κ–Η–Ϋ–Α. –ù–Ψ―Ä–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ―É―é –Α―²–Φ–Ψ―¹―³–Β―Ä―É –Ω–Α―Ä―²–Η–Ι–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –≤ –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤–Α–Μ –Η –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Μ –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Ψ―²–¥–Β–Μ, –≤–Ψ–Ζ–≥–Μ–Α–≤–Μ―è–Β–Φ―΄–Ι –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ –Φ–Α―¹―²–Η―²―΄–Φ –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –≤ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Φ –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Η. –ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Ψ―²–¥–Β–Μ–Α ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Η―¹―¨, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ, –±―΄–≤―à–Η–Β –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Η –Ω–Ψ–Μ–Η―²―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–≤, –Κ–Α–Κ –Η –±―΄–≤―à–Η–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Β ―³–Μ–Ψ―²–Α–Φ–Η –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η. –£ –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Ψ―²–¥–Β–Μ βÄ™ –≤–Β―Ä―à–Η–Ϋ―É –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Α―Ä―²–Η–Ι–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Η―Ä–Α–Φ–Η–¥―΄ ―¹―Ö–Ψ–¥―è―²―¹―è –≤―¹–Β –Ϋ–Η―²–Η ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤―΄–Φ–Η –Ω–Α―Ä―²–Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―è–Φ–Η. –Γ–Α–Φ –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Ψ―²–¥–Β–Μ ―²–Α–Κ–Ε–Β ―è–≤–Μ―è–Μ―¹―è –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―è―΅–Β–Β–Κ –±–Ψ–Μ–Β–Β –≥―Ä–Α–Ϋ–¥–Η–Ψ–Ζ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Η―Ä–Α–Φ–Η–¥―΄ –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Μ–Α―¹―²–Η, –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―è–≥–Α–Β–Φ–Α―è –≤–Β―Ä―à–Η–Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ –≤ –ö―Ä–Β–Φ–Μ–Β. –ü–Ψ–Μ–Η―²–Ψ―²–¥–Β–Μ –±–Β–Ζ―Ä–Ψ–Ω–Ψ―²–Ϋ–Ψ ―Ä–Β―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ –≤―¹–Β ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―è –Π–ö –ö–ü–Γ–Γ –Η –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Ι―΅–Η–≤–Ψ –Ω―Ä–Β―²–≤–Ψ―Ä―è–Μ –Η―Ö –≤ –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨. –ù–Η–Κ―²–Ψ –¥–Α–Ε–Β –≤ –Ε―É―²–Κ–Ψ–Φ ―¹–Ϋ–Β –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Α –≥–Η–≥–Α–Ϋ―²―¹–Κ–Α―è –Ω–Η―Ä–Α–Φ–Η–¥–Α –Φ–Ψ–Ε–Β―² –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ―΅–Α―¹―¨–Β ―Ä―É―Ö–Ϋ―É―²―¨ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Μ–Β―². –Γ–Β―Ä―¨―ë–Ζ–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–Ω–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Ψ―²–¥–Β–Μ–Α –±―΄–Μ–Α –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ–Α―è –Κ–Α―³–Β–¥―Ä–Α –Φ–Α―Ä–Κ―¹–Η–Ζ–Φ–Α-–Μ–Β–Ϋ–Η–Ϋ–Η–Ζ–Φ–Α, –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ–Η –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―΅–Η―²–Α–Μ–Η ―¹–Ψ–Μ–Η–¥–Ϋ―΄–Β –Κ―É―Ä―¹―΄ ―¹–Μ―É―à–Α―²–Β–Μ―è–Φ –≤―¹–Β―Ö ―³–Α–Κ―É–Μ―¨―²–Β―²–Ψ–≤. –£ 1975 –≥–Ψ–¥―É ―¹–Μ―É―à–Α―²–Β–Μ―è–Φ ―΅–Η―²–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤―¹–Β ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Ϋ―΄–Β ―΅–Α―¹―²–Η –Φ–Α―Ä–Κ―¹–Η―¹―²―¹–Κ–Ψ-–Μ–Β–Ϋ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―²–Β–Ψ―Ä–Η–Η: –€–Α―Ä–Κ―¹–Η―¹―²―¹–Κ–Ψ-–Μ–Β–Ϋ–Η–Ϋ―¹–Κ–Α―è ―³–Η–Μ–Ψ―¹–Ψ―³–Η―è –Η –Φ–Β―²–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ―΄ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Β–Ψ―Ä–Η–Η –Η –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ–Η, –Ω–Α―Ä―²–Η–Ι–Ϋ–Ψ-–Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α, –Α–Κ―²―É–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ―΄ –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η–Ζ–Φ–Α, –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η–Η –Η –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η–Κ–Η –ö–ü–Γ–Γ. –û–±―â–Η–Ι –Ψ–±―ä―ë–Φ –Κ―É―Ä―¹–Α ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ 260 ―΅–Α―¹–Ψ–≤. –Γ–Μ―É―à–Α―²–Β–Μ–Η –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ―É―Ä―¹–Α ―¹–¥–Α–≤–Α–Μ–Η –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―ç–Κ–Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ –Ω–Ψ –€ βÄ™ –¦ ―³–Η–Μ–Ψ―¹–Ψ―³–Η–Η. –†―è–¥–Ψ–≤―΄–Β ―΅–Μ–Β–Ϋ―΄ –Ω–Α―Ä―²–Η–Η –≥―Ä―É–Ω–Ω–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ ―Ü–Β―Ö–Ψ–≤–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Η–Ϋ―Ü–Η–Ω―É –≤ –Ω–Β―Ä–≤–Η―΅–Ϋ―΄–Β –Ω–Α―Ä―²–Η–Ι–Ϋ―΄–Β –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –≤–Ψ–Ζ–≥–Μ–Α–≤–Μ―è–Μ–Η―¹―¨ –≤―΄–±–Ψ―Ä–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹–Β–Κ―Ä–Β―²–Α―Ä―è–Φ–Η. –£–Ϋ―É―²―Ä–Η–Ω–Α―Ä―²–Η–Ι–Ϋ–Α―è ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Η–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ ―Ä–Α–Φ–Κ–Α–Φ–Η –Ω–Β―Ä–≤–Η―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η. –ù–Β―Ä–Β–¥–Κ–Η–Φ ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –±―΄–Μ–Η –Ψ–±―â–Β–Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η―è –Η –Κ–Ψ–Ϋ―³–Β―Ä–Β–Ϋ―Ü–Η–Η, –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–≤―à–Η–Β ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η―è. –Γ–Ψ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ-–Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²–¥–Β–Μ–Α –≤―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –≤ –Ψ–±―ä–Β–¥–Η–Ϋ―ë–Ϋ–Ϋ―É―é –Ω–Α―Ä―²–Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―é ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ, –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ –Η ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄–Φ –Ψ―²–¥–Β–Μ–Α–Φ–Η. –Γ–Β–Κ―Ä–Β―²–Α―Ä―ë–Φ ―ç―²–Ψ–Ι –Ω–Β―Ä–≤–Η―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η –¥–Μ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Η–Ζ–±–Η―Ä–Α–Μ―¹―è –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―²–Ψ―Ä –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Ψ―²–¥–Β–Μ–Α –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ–Η–Ι –™–Β–Ψ―Ä–≥–Η–Β–≤–Η―΅ –Ξ―É―Ö―Ä–Β–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Μ–Β–≥–Κ–Ψ ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Μ―¹―è ―¹ –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―è–Φ–Η –Η –Ϋ―Ä–Α–≤–Η–Μ―¹―è –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Α―é―â–Η–Φ. –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―². –û–±―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Β –Κ –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö ―É―΅–Η–Μ–Η―â. 65-–Μ–Β―²–Ϋ–Β–Φ―É ―é–±–Η–Μ–Β―é –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α, 60-–Μ–Β―²–Η―é –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ψ–≤ –Δ–±–Η–Μ–Η―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, –†–Η–Ε―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö ―É―΅–Η–Μ–Η―â –Ω–Ψ―¹–≤―è―â–Α–Β―²―¹―è.–ü–Ψ–Ε–Α–Μ―É–Ι―¹―²–Α, –Ϋ–Β –Ζ–Α–±―΄–≤–Α–Ι―²–Β ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Α―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ–Α―à–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ –Ψ ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –±–Μ–Ψ–≥–Α, –Ω–Ψ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö ―É―΅–Η–Μ–Η―â, –Ψ –Ω–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö –Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Α―Ü–Η–Ι. –Γ–Ψ–Ψ–±―â–Α–Ι―²–Β ―¹–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ψ ―¹–Β–±–Β –Η ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ–Α―à–Ϋ–Η–Κ–Α―Ö, –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ―è―Ö: –≥–Ψ–¥―΄ –Η –Φ–Β―¹―²–Α ―¹–Μ―É–Ε–±―΄, ―É―΅–Β–±―΄, –Ω–Ψ–≤―΄―à–Β–Ϋ–Η―è –Κ–≤–Α–Μ–Η―³–Η–Κ–Α―Ü–Η–Η, –Φ–Β―¹―²–Ψ ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è, –Ε–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α, –Η–Ϋ―΄–Β –±–Η–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β ―¹–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è. –€―΄ ―¹―²―Ä–Β–Φ–Η–Φ―¹―è ―¹–Ψ–±―Ä–Α―²―¨ –≤―¹–Β –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Β –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ψ –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Α―Ö, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α―Ö, –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ―è―Ö –≤―¹–Β―Ö ―²―Ä–Β―Ö –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö ―É―΅–Η–Μ–Η―â. –ü―Ä–Ψ―¹―¨–±–Α –Ω―Ä–Η―¹―΄–Μ–Α―²―¨ –≤―¹–Β, ―΅–Β–Φ ―¹―΅–Η―²–Α–Β―²–Β –≤–Ω―Ä–Α–≤–Β –Ω–Ψ–¥–Β–Μ–Η―²―¨―¹―è, –≤―¹–Β, ―΅―²–Ψ, –Ω–Ψ –£–Α―à–Β–Φ―É –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é, –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Ι―²–Η –Ψ―²―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –≤ –Ϋ–Α―à–Β–Ι –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η. –£–Β―Ä―é–Ε―¹–Κ–Η–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–£–ù–ê), –™–Ψ―Ä–Μ–Ψ–≤ –û–Μ–Β–≥ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–û–ê–™), –€–Α–Κ―¹–Η–Φ–Ψ–≤ –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–€–£–£), –ö–Γ–£. 198188. –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥, ―É–Μ. –€–Α―Ä―à–Α–Μ–Α –™–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α, –¥–Ψ–Φ 11/3, –Κ–≤. 70. –ö–Α―Ä–Α―¹–Β–≤ –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅, –Α―Ä―Ö–Η–≤–Α―Ä–Η―É―¹. karasevserg@yandex.ru
03.02.201007:0603.02.2010 07:06:31
0
02.02.201009:1002.02.2010 09:10:20
–™–Μ–Α–≤–Α 7. –Γ–Θ–î–§–ë–Ϊ –ö–Θ–†–Γ–ê–ù–Δ–Γ–ö–‰–ï. –û–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η–Β.–¦–Β–Ϋ―è –£–Ψ–Μ–Ψ―¹―é–Κ, –Ϋ–Α―à ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ–Α –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α, ―²–Ψ–Ε–Β ―É–≤–Ψ–Μ–Η–Μ―¹―è –Ω–Ψ –≤―΄–Ω―É―¹–Κ―É. –ü–Μ–Α–≤–Α–Μ –Ϋ–Α ―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–≤―΄―Ö ―¹―É–¥–Α―Ö –Ω–Β―Ä–≤―΄–Φ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α. –ë―É–¥―É―΅–Η ―¹–Μ―É―à–Α―²–Β–Μ–Β–Φ –Κ―É―Ä―¹–Ψ–≤ –Ω–Ψ–≤―΄―à–Β–Ϋ–Η―è –Κ–≤–Α–Μ–Η―³–Η–Κ–Α―Ü–Η–Η –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ ―²―Ä–Α–≤–Φ―É –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―΄, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ–Α –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Ε–Η–Ζ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Η–Ϋ–≤–Α–Μ–Η–¥–Ψ–Φ. –ü–Β―²―è –ë―É―à–Μ―è―Ä –Ω–Μ–Α–≤–Α–Μ ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Β. –ö–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è –Ω–Ψ –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―¨―é. –Ξ–Ψ–¥–Η–Μ ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Ψ–Φ –Ϋ–Α ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Β―³―Ä–Η–Ε–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä–Α―Ö –†–Η–Ε―¹–Κ–Ψ–Ι –±–Α–Ζ―΄ ―Ä–Β―³―³–Μ–Ψ―²–Α, –Ω–Ψ–Κ–Α –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ–Ψ―à–Β–Μ―¹―è –≤–Ψ –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥–Α―Ö ―¹ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ–Φ. –û–Ϋ –≤―¹–Β–≥–¥–Α –¥–Ψ–Η―¹–Κ–Η–≤–Α–Μ―¹―è –Ω―Ä–Α–≤–¥―΄. –£ –†–Η–≥–Β, ―É–Ε–Β –≤ –Ω–Β–Ϋ―¹–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²–Β, –Φ―΄ –Ϋ–Β―΅–Α―¹―²–Ψ –Ψ–±―â–Α–Μ–Η―¹―¨. –û–Ϋ –Ω–Ψ–≥–Ψ–≤–Α―Ä–Η–≤–Α–Μ –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ –±―΄ –Ω–Ψ–¥–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –Ε–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ –≤ –®―²–Α―²―΄. –€–Ψ–Ε–Β―² –Η –Ω–Ψ–¥–Α–Μ―¹―è. –ë―É―à–Μ―è―Ä –ü–Β―²―Ä –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Η―΅ –Α–≤―²–Ψ―Ä, –Ω–Ψ –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Β–Ι –Φ–Β―Ä–Β, –¥–≤―É―Ö –Κ–Ϋ–Η–≥; –ü―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β –Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Η–Β ―¹―É–¥–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―è. –†–Η–≥–Α, 1961. –Η –û―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―è ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Ϋ–Α ―¹―É–¥–Α―Ö ―³–Μ–Ψ―²–Α ―Ä―΄–±–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Γ–Γ–Γ–†. –†–Η–≥–Α, –½–≤–Α–Ι–≥–Ζ–Ϋ–Β, 1979. –Γ–Μ–Β–¥―΄ –•–Β–Ϋ–Η –®–Ω–Α–≥–Η–Ϋ–Α –Ζ–Α―²–Β―Ä―è–Μ–Η―¹―¨ –≥–¥–Β-―²–Ψ –≤ –ö–Α–Μ–Η–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β. –™–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α–Μ –≤ –£―΄―¹―à–Β–Φ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β. –½–Α―É―Ä –Γ–Α–¥―΄―Ö-–½–Α–¥–Β, ―É–≤–Ψ–Μ–Η–≤―à–Η–Ι―¹―è –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Α, ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ –Κ–Α―Ä―¨–Β―Ä―É –≤ ―Ä―΄–±–Ϋ–Ψ–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Β. –€–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ–Β―² –Ω–Μ–Α–≤–Α–Μ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ–Β–Ι―à–Η―Ö ―Ä―΄–±–Ψ–¥–Ψ–±―΄–≤–Α―é―â–Η―Ö ―¹―É–¥–Ψ–≤. –ë―΄–Μ –Ϋ–Β–¥–Ϋ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Ϋ―΄–Φ –Ω–Ψ–±–Β–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Φ –Η –Ω―Ä–Η–Ζ–Β―Ä–Ψ–Φ –£–î–ù–Ξ –Γ–Γ–Γ–†. –ö–Α–≤–Α–Μ–Β―Ä –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Ψ–≤ –Η –Φ–Β–¥–Α–Μ–Β–Ι. –ü―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ―¹―è –Κ –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η―é –™–Β―Ä–Ψ–Ι –Γ–Ψ―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Δ―Ä―É–¥–Α. –ï–≥–Ψ –Η–Φ―è –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –≥―Ä–Β–Φ–Β–Μ–Ψ –≤ –†–Η–Ε―¹–Κ–Ψ–Φ ―²―Ä–Α–Μ―³–Μ–Ψ―²–Β, –Α –Ω–Ψ―Ä―²―Ä–Β―² ―É–Κ―Ä–Α―à–Α–Μ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Ϋ―É―é –î–Ψ―¹–Κ―É –ü–Ψ―΅–Β―²–Α. –î–Ψ–≤–Β–Μ–Ψ―¹―¨ –Η –Φ–Ϋ–Β –Ω–Ψ–±―΄–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Α –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Φ ―¹―É–Ω–Β―Ä-―¹–Β–Ι–Ϋ–Β―Ä–Β –≤ –≤–Ψ–¥–Α―Ö –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –ê―²–Μ–Α–Ϋ―²–Η–Κ–Η. –Δ―Ä–Α–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è ―¹―É–¥―¨–±–Α –Γ–Α―à–Η –•―É―Ä–Α–≤–Η–Ϋ–Α ―¹―²–Α–Μ–Α –¥–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Β–Φ –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Β–¥–Α–≤–Ϋ–Ψ. 3 –Φ–Α―Ä―²–Α 1999 –≥. –Ϋ–Α –û–†–Δ –≤ –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Β "–ß–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Η –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ" –‰―Ä–Η–Ϋ–Α –™–Β–Ψ―Ä–≥–Η–Β–≤–Ϋ–Α –•―É―Ä–Α–≤–Η–Ϋ–Α, –Ε–Β–Ϋ–Α –Γ–Α―à–Η, –Ω–Ψ–≤–Β–¥–Α–Μ–Α –Ψ ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ―΄―Ö ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è―Ö –Φ–Α―Ä―²–Α 1968 –≥–Ψ–¥–Α - –≥–Η–±–Β–Μ–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η "–ö-129", –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Γ–Α―à–Α –±―΄–Μ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Φ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α.  –≠–Κ–Η–Ω–Α–Ε –ö-129 –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Φ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ. –£ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Β βÄ™ ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ –•―É―Ä–Α–≤–Η–Ϋ. –‰–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹―É―é―â–Η–Φ―¹―è ―²―Ä–Α–≥–Β–¥–Η–Β–Ι –ü–¦ ¬Ϊ–ö-129¬Μ –Η –Β―ë –Ω–Ψ–¥―ä―ë–Φ–Ψ–Φ –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―Ü–Α–Φ–Η, ―Ä–Β–Κ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–¥―É―é –Ω―Ä–Ψ―΅–Β―¹―²―¨ –≤ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Ϋ–Β―²–Β ―¹―²–Α―²―¨―é –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Θ ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ―è –Φ–Ψ–Ε–Β―² ―¹–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨―¹―è –≤–Ω–Β―΅–Α―²–Μ–Β–Ϋ–Η–Β, ―΅―²–Ψ –≤―΄–Ω―É―¹–Κ –±―΄–Μ –Ϋ–Β ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ ―É–¥–Α―΅–Ϋ―΄–Φ, ―΅―²–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–≤ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β, –Ϋ–Β ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ–Η ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à―É―é –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ―É―é –Κ–Α―Ä―¨–Β―Ä―É. –≠―²–Ψ ―²–Α–Κ –Η –Ϋ–Β ―²–Α–Κ. –£―΄–Ω―É―¹–Κ –Ω―Ä–Η―à–Β–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―² –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η―è. –Γ―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ –¥–Η–Ζ–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ ―Ä–Β–Ζ–Κ–Ψ ―¹–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η–Μ–Ψ―¹―¨, –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Β –Β―â–Β –Ϋ–Β –Ω–Ψ―à–Μ–Η –≤ ―¹–Β―Ä–Η―é, ―¹–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Η ―΅–Η―¹–Μ–Ψ –≤–Α–Κ–Α–Ϋ―¹–Η–Ι –¥–Μ―è –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―É―΅–Η–Μ–Η―â―¨, ―΅―²–Ψ –≤―΄–Ζ–≤–Α–Μ–Ψ ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ω―Ä–Η –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η―è―Ö –Η―Ö –Ϋ–Α –Λ–Μ–Ψ―². –î–Μ―è ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Κ–Α–¥―Ä–Ψ–≤ –≤―¹–Β –Ε–Β –±―΄–Μ–Η –Ω―Ä–Β–¥–Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²―΄ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Φ–Β―Ä―΄, –≤ ―².―΅. ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Β–Ϋ―΄ –¥–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―à―²–Α―²–Ϋ―΄–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ ―Ä―É–Μ–Β–≤―΄―Ö –≥―Ä―É–Ω–Ω, ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ–Ϋ–Α–≤–Η–≥–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄―Ö, ―Ä–Α–¥–Η–Ψ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö, –Φ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ-―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄―Ö, –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –Η –¥―Ä. –ù–Α ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö, –≥–¥–Β –Ω–Ψ ―à―²–Α―²–Α–Φ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ω―Ä–Β–¥―É―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ 8 –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤, –Η―Ö ―¹―²–Α–Μ–Ψ 12. –î―Ä―É–≥–Η–Φ –Ω–Ψ–≤–Β–Ζ–Μ–Ψ –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β, –Η–Φ –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Η –¥–Μ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è―²―¨ –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –Ϋ–Β ―Ä–Ψ–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―é. –Δ–Β, –Κ―²–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Μ–Ψ–Φ–Α–Μ–Η―¹―¨, –Ω–Β―Ä–Β–Ε–Η–Μ–Η –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, ―¹–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Β–Φ –≤–Μ–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Ψ–±―â―É―é βÄ€―¹―²―Ä―É―éβÄù. –‰―Ö ―É―¹–Ω–Ψ–Κ–Α–Η–≤–Α–Μ–Η: βÄ€–£–Ψ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Β ―¹―Ä–Α–≤–Ϋ―è–Β―²–Β―¹―¨βÄù. –ù–Β –≤―¹–Β –Κ–Μ–Α―¹―¹―΄ –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Α –Ω–Ψ–Ϋ–Β―¹–Μ–Η ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Ψ―²―¹–Β–≤, –Κ–Α–Κ –Φ–Ψ–Ι. –€–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Η–Ζ –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Α ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ–Η ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à―É―é –Κ–Α―Ä―¨–Β―Ä―É. –‰–Ζ ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Ψ–≤: - –ë–Ψ―Ä–Η―¹ –ë―Ä–Α–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι, –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–≤ –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η―é, –Ψ–¥–Ϋ–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –±―΄–Μ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ ―à―²–Α–±–Α ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –ö–Δ–û–Λ, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ ―è; - –Γ―²–Α–Ϋ–Η―¹–Μ–Α–≤ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤, ―à―É―Ä–Η–Ϋ –Γ–Α―à–Η –•―É―Ä–Α–≤–Η–Ϋ–Α, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η ―¹―²–Α–Μ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Ψ–Φ, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ –Ψ–±―ä–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –≤―¹–Β–≥–Ψ –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α. –‰–Ζ –Φ–Η–Ϋ–Β―Ä–Ψ–≤: - –·–Ϋ–Η―¹ –€–Ψ―Ä–Ψ–Ζ, ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ –Κ―Ä―É–≥–Ψ―¹–≤–Β―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Α –Ϋ–Β –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η, –±―΄–Μ ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Ψ–Φ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η―Ö ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι; - –™―É―Ä–≥–Β–Ϋ –Γ–Η–Φ–Ψ–Ϋ―è–Ϋ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ –Α―²–Ψ–Φ–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ –Ϋ–Α –Γ–Β–≤–Β―Ä–Β, –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η–Ι –Ω–Ψ―¹―² –≤ –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Β –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ; - –ê―¹–Μ–Α–Ϋ –€―É―Ö―²–Α―Ä–Ψ–≤ (―²–Ψ–Ε–Β –Ϋ–Α –Γ–Β–≤–Β―Ä–Β) –¥–Ψ―Ä–Ψ―¹ –¥–Ψ –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–Ι –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≤ –€–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ-―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Θ–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η. –ù–Ψ ―è –Β―â–Β ―Ä–Α–Ζ –Ω–Ψ–¥―΅–Β―Ä–Κ–Η–≤–Α―é: ―è –Ϋ–Β ―¹―²–Α–≤–Η–Μ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ζ–Α–¥–Α―΅–Β–Ι –≤ ―ç―²–Ψ–Ι –Κ–Ϋ–Η–≥–Β ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Ψ –Ψ―¹–≤–Β―â–Α―²―¨ ―¹―É–¥―¨–±―΄ –Φ–Ψ–Η―Ö –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ–Α―à–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤. –Θ –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Β―² –¥–Μ―è ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Η –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄―Ö –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ–Ψ–≤, –Ϋ–Η ―²–Α–Μ–Α–Ϋ―²–Ψ–≤. –≠―²–Ψ ―²―Ä–Β–±―É–Β―² –±–Ψ–Μ―¨―à–Η―Ö ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Η–Ζ―΄―¹–Κ–Α–Ϋ–Η–Ι. –ö–Α–Κ –±―΄ –Ϋ–Β ―¹–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Α―¹―¨ ―¹―É–¥―¨–±–Α –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Φ–Ψ–Β–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α, –Ϋ–Ψ ―è –Ζ–Ϋ–Α―é, ―΅―²–Ψ –≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Α–Φ, –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö ―É―΅–Η–Μ–Η―â ―²–Β―Ö –Μ–Β―², –Κ―²–Ψ –Ψ―¹―²–Α–Μ―¹―è –≤–Β―Ä–Β–Ϋ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Φ–Β―΅―²–Β, –¥–Ψ―¹―²–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Β–Μ–Β–≥–Κ–Α―è –¥–Ψ–Μ―è. –€―΄ –≤ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö –Ψ―¹–≤–Α–Η–≤–Α–Μ–Η –¥–Η–Ζ–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η―è, –Ω–Ψ–¥–Ψ–Μ–≥―É ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ–Η –Ϋ–Α –Ϋ–Η―Ö, –Ϋ–Β―¹―è –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Β –±―Ä–Β–Φ―è –Ω–Ψ –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Η―é –≤ –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–Ι –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄. –‰–Ζ –Ϋ–Α―à–Η―Ö ―Ä―è–¥–Ψ–≤ –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―²–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Η–Φ–Η –Κ–Α–¥―Ä–Α–Φ–Η ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Η –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö –Α―²–Ψ–Φ–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤. –€―΄ –Ω–Ψ–¥–Ψ–Μ–≥―É –Ϋ–Β –≤–Η–¥–Β–Μ–Η –±–Β―Ä–Β–≥, ―¹–≤–Ψ–Η ―¹–Β–Φ―¨–Η. –ù–Ψ –Φ―΄ –≥–Ψ―Ä–¥–Η–Φ―¹―è ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ―΄–Φ –Η ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –Φ―΄ –Ϋ―É–Ε–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Η –†–Ψ–¥–Η–Ϋ–Β –Η –Β–Β –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–¥―΄ –Ψ–Ω―Ä–Α–≤–¥–Α–Μ–Η. –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ–Η–Ι –ö–Α–Μ–Η–Ϋ–Η–Ϋ. –î–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―¹–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ψ–± –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ–Α―à–Ϋ–Η–Κ–Α―Ö –Α–≤―²–Ψ―Ä–Α, –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ–Η―è –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Α –ö–Α–Μ–Η–Ϋ–Η–Ϋ–Α, –Ω–Ψ―΅–Β―Ä–Ω–Ϋ―É―²―΄–Β –≤ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Ϋ–Β―²–Β. –€–Ψ―Ä–Β –Κ–Ψ –≤―¹–Β–Φ –Ψ–¥–Η–Ϋ–Α–Κ–Ψ–≤–Ψ ―¹―É―Ä–Ψ–≤–Ψ, –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―² –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Η. –ü–Ψ–¥―Ä―É–Ε–Η―²―¨―¹―è ―¹ –Φ–Ψ―Ä–Β–Φ, –±―΄―²―¨ ―¹ –Ϋ–Η–Φ –Ϋ–Α ―Ä–Α–≤–Ϋ―΄―Ö –Φ–Ψ–≥―É―² ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Β, –Ψ–Ω―΄―²–Ϋ―΄–Β –Φ–Ψ―Ä–Β–Ω–Μ–Α–≤–Α―²–Β–Μ–Η. –û–¥–Ϋ–Ψ–Φ―É –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö, –½–Α―É―Ä―É –Γ–Α–¥―΄―Ö-–Ζ–Α–¥–Β, –Ζ–Α–≤―²―Ä–Α, 25 –Φ–Α―è, –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Β―²―¹―è 70 –Μ–Β―². –≠―²–Ψ―² ―é–±–Η–Μ–Β–Ι, –Κ–Α–Κ –Η 20 –¥―Ä―É–≥–Η―Ö ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –¥–Ϋ–Β–Ι ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è, –Ψ–Ϋ –Ψ―²–Φ–Β―΅–Α–Β―² –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β, –≤ ―é–Ε–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –ê―²–Μ–Α–Ϋ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Α. –£–Ψ―² ―É–Ε–Β –Ω–Ψ–Μ–≤–Β–Κ–Α ―Ö–Ψ–¥–Η―² –Ψ–Ϋ –Ϋ–Α ―Ä―΄–±–Ψ–Μ–Ψ–≤–Β―Ü–Κ–Η―Ö ―¹―É–¥–Α―Ö, 40 –Μ–Β―² –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö - –Ϋ–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Β.  –°–±–Η–Μ―è―Ä –½–Α―É―Ä –Γ–Α–¥―΄―Ö-–Ζ–Α–¥–Β. –€–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Ι –Η –≥–Ψ―Ä―è―΅–Η–Ι –Α–Ζ–Β―Ä–±–Α–Ι–¥–Ε–Α–Ϋ–Β―Ü –½–Α―É―Ä –Γ–Α–¥―΄―Ö-–Ζ–Α–¥–Β –Ω―Ä–Η–Β―Ö–Α–Μ –≤ –†–Η–≥―É ―É―΅–Η―²―¨―¹―è. –û–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ –Ζ–¥–Β―¹―¨ –≤ 1956-–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Κ―É, –¥–Α –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²―É―é - –£―΄―¹―à–Β–Β –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è. –Θ―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Ω–Ψ–Ζ–Ε–Β –Ω–Β―Ä–Β–≤–Β–Μ–Η –≤ –ö–Α–Μ–Η–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥, –Α –½–Α―É―Ä –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ –Ω–Ψ–¥ ―É–Κ–Α–Ζ –Ξ―Ä―É―â–Β–≤–Α –Ζ–Α –Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä–Ψ–Φ 1200, ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Ϋ–Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –Φ–Ψ–≥–Μ–Η ―¹–Ω–Η―¹–Α―²―¨―¹―è ―¹ –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Η –Ζ–Α–Ϋ―è―²―¨―¹―è –Φ–Η―Ä–Ϋ―΄–Φ ―Ä–Β–Φ–Β―¹–Μ–Ψ–Φ. –Δ–Α–Κ –Ψ–Ϋ –Η ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ, –Ζ–Α–Ϋ―è–≤ ―¹–≤–Ψ–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ –≤ ―Ä―è–¥–Α―Ö ―²–Β―Ö, –Κ―²–Ψ –≤–Ψ―¹―¹―²–Α–Ϋ–Α–≤–Μ–Η–≤–Α–Μ ―Ä–Α–Ζ―Ä―É―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ ―Ä―΄–±–Ψ–Μ–Ψ–≤–Β―Ü–Κ–Η–Ι ―³–Μ–Ψ―². –•–Β–Ϋ–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Μ–Α―²―΄―à–Κ–Β –¥–Α ―²–Α–Κ –Η –Ψ―¹–Β–Μ –≤ –¦–Α―²–≤–Η–Η. –Ξ–Ψ―²―è –Κ–Α–Κ–Ψ–Β ―²–Α–Φ - –Ψ―¹–Β–Μ! –û–Ϋ –Η –Ω–Ψ ―¹–Β–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –≥–Ψ–¥ –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β –≤–Ψ―¹―¨–Φ–Η –Φ–Β―¹―è―Ü–Β–≤ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―² –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β. –Γ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Ψ–Φ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α –Γ–†–Δ - ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Η―Ö ―Ä―΄–±–Ψ–Μ–Ψ–≤–Β―Ü–Κ–Η―Ö ―²―Ä–Α―É–Μ–Β―Ä–Α―Ö, –Ζ–Α―²–Β–Φ –Ω–Β―Ä–Β―à–Β–Μ –Ϋ–Α –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ–Ψ―²–Ψ–Ϋ–Ϋ–Α–Ε–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Ψ–Φ―΄―¹–Μ–Ψ–≤―΄–Β ―¹―É–¥–Α. –Γ―²–Α–Μ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ψ–Φ. –û–¥–Ϋ–Η–Φ –Η–Ζ –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö –Μ–Α―²–≤–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ψ–≤ –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Ψ―à–Β–Μ –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤ –î―Ä–Β–Ι–Κ–Α - ―²―Ä―É–¥–Ϋ―΄–Ι –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥ –Η–Ζ –ê―²–Μ–Α–Ϋ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Α –≤ –Δ–Η―Ö–Η–Ι, ―¹ ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η, –Η –ü–Α–Ϋ–Α–Φ―¹–Κ–Η–Ι –Κ–Α–Ϋ–Α–Μ. –ü–Ψ–Ε–Α–Μ―É–Ι, –Ϋ–Β―² –≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Α –Ϋ–Α –Κ–Α―Ä―²–Β, –≥–¥–Β –±―΄ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–±―΄–≤–Α–Μ –Γ–Α–¥―΄―Ö-–Ζ–Α–¥–Β. –£ –Μ―é–±–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –≥–Ψ–¥–Α, –≤ –Μ―é–±―΄―Ö –Ω–Ψ–≥–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö –Ψ–Ϋ –Μ–Ψ–≤–Η―² ―Ä―΄–±―É –≤ –≤–Ψ–¥–Α―Ö –€–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Α, –Ψ–±―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² –Η –Ψ―²–Κ―Ä―΄–≤–Α–Β―² –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β –Ω―Ä–Ψ–Φ―΄―¹–Μ–Ψ–≤―΄–Β ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ―΄. –ë―΄–Μ–Η ―à―²–Ψ―Ä–Φ―΄, ―²―É–Φ–Α–Ϋ―΄, ―É―Ä–Α–≥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≤–Β―²―Ä―΄, –Ϋ–Ψ –Ζ–Α –≤―¹–Β –≤―Ä–Β–Φ―è - –Ϋ–Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Α–≤–Α―Ä–Η–Η. –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Μ–Κ –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Μ –≤–Β―Ä―Ö –Ϋ–Α–¥ ―Ä–Α–Ζ–±―É―à–Β–≤–Α–≤―à–Β–Ι―¹―è ―¹―²–Η―Ö–Η–Β–Ι. –ü–Ψ –Ω―Ä–Η–±–Μ–Η–Ζ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Ω–Ψ–¥―¹―΅–Β―²–Α–Φ –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–≥, –½–Α―É―Ä –≤―΄–Μ–Ψ–≤–Η–Μ –Ζ–Α ―¹–≤–Ψ―é ―²―Ä―É–¥–Ψ–≤―É―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –±–Ψ–Μ–Β–Β 300 ―²―΄―¹―è―΅ ―²–Ψ–Ϋ–Ϋ ―Ä―΄–±―΄ - ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―², –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ―΄–Ι –ö–Ϋ–Η–≥–Η ―Ä–Β–Κ–Ψ―Ä–¥–Ψ–≤ –™–Η–Ϋ–Ϋ–Β―¹―¹–Α. –£ ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Β –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α –Ζ–Α 100 ―²―΄―¹―è―΅ ―²–Ψ–Ϋ–Ϋ ―É–Μ–Ψ–≤–Α –¥–Α–≤–Α–Μ–Η –½–≤–Β–Ζ–¥―É –≥–Β―Ä–Ψ―è ―¹–Ψ―Ü―²―Ä―É–¥–Α. –Θ–≤―΄, –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –≥–Β―Ä–Ψ―è –Ψ–Ϋ–Α –Ϋ–Β–Ζ–Α―¹–Μ―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ–±–Ψ―à–Μ–Α ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–Ι: –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β –Μ–Α―²―΄―à, –Α –Ζ–≤–Β–Ζ–¥ –Ϋ–Α –¦–Α―²–≤–Η―é –≤―΄–¥–Β–Μ―è–Μ–Η –Ψ–¥–Ϋ―É-–¥–≤–Β –Η ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Ψ –¥–Μ―è –Ϋ–Α―Ü–Κ–Α–¥―Ä–Ψ–≤. –ù–Ψ –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥ ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –Η –±–Β–Ζ ―²–Ψ–≥–Ψ ―Ö–≤–Α―²–Α–Β―² - –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Α, –Φ–Β–¥–Α–Μ–Η, –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β ¬Ϊ–½–Α―¹–Μ―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―Ä―΄–±–Α–Κ –¦–Α―²–≤–Η–Η¬Μ. –ù–Β–¥–Α―Ä–Ψ–Φ –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Φ–Α―¹―²–Β―Ä ―Ä–Β–Κ–Ψ―Ä–¥–Ϋ―΄―Ö ―É–Μ–Ψ–≤–Ψ–≤ ―¹―²–Α–Μ –Ω–Β―Ä―¹–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Ω–Β–Ϋ―¹–Η–Ψ–Ϋ–Β―Ä–Ψ–Φ. –ü―Ä–Α–≤–¥–Α, –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α ―É–Ε–Β –Ϋ–Β ―²–Β, –Η –Ω–Β–Ϋ―¹–Η―è ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ϋ―΄–Ϋ―΅–Β ―¹–Φ–Β―Ö–Ψ―²–≤–Ψ―Ä–Ϋ–Α―è. –î–Α –Η ―¹–Η–¥–Β―²―¨ –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥―É, –Ϋ–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α –≥–Ψ–¥―΄, - ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β –≤ ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Β ―É–¥–Α–Μ–Ψ–≥–Ψ –½–Α―É―Ä–Α. –†―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ –Β–≥–Ψ ―Ü–Β–Ϋ–Η―² –Η –Ϋ–Β –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Α–Β―² –Ψ―²–¥―΄―Ö–Α―²―¨. –ê –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ–Ψ―²–Ψ–Ϋ–Ϋ–Α–Ε–Ϋ―΄―Ö ―²―Ä–Α―É–Μ–Β―Ä–Ψ–≤ ―É –¦–Α―²–≤–Η–Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Β―² (–Ω―Ä–Ψ–¥–Α–Μ–Η –≤―¹–Β –Ω–Ψ–¥ –≥–Ψ―Ä―è―΅―É―é ―Ä―É–Κ―É!), ―²–Ψ ―Ö–Ψ–¥–Η―² –Ϋ–Α―à –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ, ―¹–Ψ–≤–Φ–Β―â–Α―è –Β―â–Β –Η –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Ψ―¹―², –Ϋ–Α –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Φ –Α–≤―²–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Φ ―²―Ä–Α―É–Μ–Β―Ä–Β-–Φ–Ψ―Ä–Ψ–Ζ–Η–Μ―¨―â–Η–Κ–Β ¬Ϊ–Γ―²–Β–Ϋ–¥–Β¬Μ –Η ―¹–Μ―É–Ε–Η―² ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ-–Η―¹–Ω–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η. –ï–≥–Ψ ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ - ―ç―²–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Ι ―Ä―΄–±–Ζ–Α–≤–Ψ–¥ –Ϋ–Α –Ω–Μ–Α–≤―É: –Μ–Ψ–≤–Η―², ―΅–Η―¹―²–Η―², –Ψ–±―Ä–Α–±–Α―²―΄–≤–Α–Β―² –Η ―¹–¥–Α–Β―² –≥–Ψ―²–Ψ–≤―É―é –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―Ü–Η―é –Ϋ–Α –Ω–Μ–Α–≤–±–Α–Ζ―΄. –£ –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η ―É –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α –Γ–Α–¥―΄―Ö-–Ζ–Α–¥–Β ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è 85 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ. –Γ–Κ―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Ι, –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ–Ι, –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–Ε–Β–Μ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Η ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Μ–Η–≤―΄–Ι, ―¹–Ψ –≤―¹–Β–Φ–Η –Ψ–¥–Η–Ϋ–Α–Κ–Ψ–≤ –≤ –Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η–Η - ―²–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―² –Β–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η–≤―Ü―΄. –ù–Ψ―Ä–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ω―¹–Η―Ö–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Κ–Μ–Η–Φ–Α―² –Ϋ–Α ―¹―É–¥–Ϋ–Β - –Ϋ–Β–Φ–Α–Μ–Ψ–Β –¥–Β–Μ–Ψ. –ù–Ψ –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ - ―²–≤–Β―Ä–¥―΄–Ι –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Ψ–Κ. –ù–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ, –≤―¹–Β –≤–Κ―É–Ω–Β –Η –¥–Α–Β―² ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²: –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―²―è–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö –Μ–Β―² ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Η ―¹―É–¥–Ψ–≤ –Ω–Ψ–¥ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –½–Α―É―Ä–Α –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α―é―² –Ω―Ä–Η–Ζ–Ψ–≤―΄–Β –Φ–Β―¹―²–Α –Ω–Ψ –¥–Ψ–±―΄―΅–Β –Η –Ψ–±―Ä–Α–±–Ψ―²–Κ–Β ―Ä―΄–±―΄. –î–Β―²–Η –½–Α―É―Ä–Α –Ω–Ψ ―¹―²–Ψ–Ω–Α–Φ –Ψ―²―Ü–Α –Ϋ–Β –Ω–Ψ―à–Μ–Η. –î–Ψ―΅―¨ –≤―΄―à–Μ–Α –Ζ–Α–Φ―É–Ε –Ζ–Α –Ϋ–Ψ―Ä–≤–Β–Ε―Ü–Α –Η ―É–Β―Ö–Α–Μ–Α –Η–Ζ –¦–Α―²–≤–Η–Η, –Α ―¹―΄–Ϋ –≤―΄–±―Ä–Α–Μ ―¹―É―Ö–Ψ–Ω―É―²–Ϋ―΄–Ι –±–Η–Ζ–Ϋ–Β―¹. –Ξ–Ψ―²―è –±―΄–Μ–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ―²–Β―Ü ―Ö–Ψ―²–Β–Μ ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ –Η–Ζ –Ϋ–Β–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Α. –™–Ψ–¥ –Ψ–Ϋ–Η –Ω–Μ–Α–≤–Α–Μ–Η –≤–Φ–Β―¹―²–Β, –±–Ψ―Ä–Ψ–Ζ–¥–Η–Μ–Η –Δ–Η―Ö–Η–Ι –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ. –ö―É―Ä–Η–Μ―΄, –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ–Α... –Γ―΄–Ϋ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ –Ζ–Α ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Κ―É―Ä―¹―΄ –Φ–Ψ―²–Ψ―Ä–Η―¹―²–Ψ–≤. –£–Β―Ä–Ϋ―É–Μ―¹―è –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι –Η ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ: –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Β! –Γ ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω―Ä–Η ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²–Β –Ϋ–Α―à –≥–Β―Ä–Ψ–Ι –≤–Η–¥–Η―²―¹―è ―Ä–Β–¥–Κ–Ψ. –Γ –¥–Ψ―΅–Β―Ä―¨―é –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι ―Ä–Α–Ζ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Μ―¹―è –≤ –¦–Α―¹-–ü–Α–Μ―¨–Φ–Α―¹–Β, –Ϋ–Α –ö–Α–Ϋ–Α―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α―Ö. –û–Ϋ–Α –Ω―Ä–Η–Μ–Β―²–Α–Μ–Α ―²―É–¥–Α –Ϋ–Α–≤–Β―¹―²–Η―²―¨ –Ψ―²―Ü–Α. –Ξ–Ψ―²–Β–Μ –±―΄–Μ–Ψ –½–Α―É―Ä –Ϋ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü-―²–Ψ –Ζ–Α –¥–Ψ–Μ–≥–Η–Β –≥–Ψ–¥―΄ –≤―΄–±―Ä–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Α ―Ä–Ψ–¥–Η–Ϋ―É - –≤ –ë–Α–Κ―É, –Ϋ–Α–≤–Β―¹―²–Η―²―¨ ―Ä–Ψ–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤. –ê ―²―É―² ―Ä–Β–Ι―¹ –Ω–Ψ–¥–≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ―¹―è. –€–Ψ―Ä–Β –Ψ–Ω―è―²―¨ –Ω–Ψ–±–Β–¥–Η–Μ–Ψ. –£ –¥―É―à–Β –Ψ–Ϋ –Ψ―¹―²–Α–Μ―¹―è –≤–Β―Ä–Β–Ϋ –ê–Ζ–Β―Ä–±–Α–Ι–¥–Ε–Α–Ϋ―É. –£–Η–¥–Η–Φ–Ψ, –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ϋ–Β ―¹―²–Α–Μ –Ϋ–Η –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ–Η–Ϋ–Ψ–Φ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η, –Ϋ–Η –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ–Η–Ϋ–Ψ–Φ –¦–Α―²–≤–Η–Η, ―Ö–Ψ―²―è –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –±―΄–Μ–Η. –£ ―ç―²–Ψ–Φ ―Ä–Β–Ι―¹–Β –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ―É –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ–Η―² –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²―¨ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β - –Ψ―¹―²–Α–≤–Α―²―¨―¹―è –≤ –¦–Α―²–≤–Η–Η –Η–Μ–Η ―É–Β–Ζ–Ε–Α―²―¨. –û―΅–Β–Ϋ―¨ –Ζ–Α–Φ–Α–Ϋ―΅–Η–≤–Ψ–Β –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Ψ - –Ζ–Α–Ϋ―è―²―¨ –Φ–Β―¹―²–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―²–Ϋ–Η–Κ–Α –≤ –Η―¹–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Ψ–Φ ―Ä―΄–±–Ψ–Μ–Ψ–≤–Β―Ü–Κ–Ψ–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Β. –£―Ä–Β–Φ―è, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α―²―¨, –Β―â–Β –Β―¹―²―¨. –ê –Ω–Ψ–Κ–Α –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–≥–Η-–Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Η –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Μ―è―é―² –½–Α―É―Ä–Α –Γ–Α–¥―΄―Ö-–Ζ–Α–¥–Β ―¹–Ψ ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Φ ―é–±–Η–Μ–Β–Β–Φ –Η –Ε–Β–Μ–Α―é―² –Β–Φ―É ―¹–Β–Φ―¨ ―³―É―²–Ψ–≤ –Ω–Ψ–¥ –Κ–Η–Μ–Β–Φ! ¬Ϊ–ß–Α―¹¬Μ –Ω―Ä–Η―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ―è–Β―²―¹―è.  –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤ –Γ―²–Α–Ϋ–Η―¹–Μ–Α–≤ –™–Β–Ψ―Ä–≥–Η–Β–≤–Η―΅. –ö–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä 14-―è –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ. –Γ―²–Α–Ϋ–Η―¹–Μ–Α–≤ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤ (–Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Β–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ) –ï―¹―²―¨ –Β―â―ë –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―΄–Β ―¹–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è –≤ –Φ–Η―Ä–Β? –£ 1957-–Φ –≥–Ψ–¥―É –≤–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Α―Ö ―Ä–Α–Ζ–≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Ψ―¹―¨ –Η–Ϋ―²–Β–Ϋ―¹–Η–≤–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ–¥–Ζ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–Β ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ –Ψ–±―ä–Β–Κ―²–Ψ–≤ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η―è, ―΅―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ψ ―¹ ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ―Ä–Β–≤―à–Β–Ι―¹―è –Φ–Β–Ε–¥―É –Γ–®–ê –Η –Γ–Γ–Γ–† ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ–Ι. –ù–Ψ ―è –£–Α–Φ ―¹–Κ–Α–Ε―É, ―΅―²–Ψ –Φ―΄ –±―΄–Μ–Η ―¹–Α–Φ―΄–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Β, –Κ―²–Ψ ―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ ―à―²–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Η. –û–Ϋ–Η ―É–Ε–Β –±―΄–Μ–Η –≤ –™–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ–Η–Η, –ù–Ψ―Ä–≤–Β–≥–Η–Η, –≤–Ψ –Λ―Ä–Α–Ϋ―Ü–Η–Η. –ö–Α–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Β–Ε–Η–Φ –±―΄–Μ? –ö―Ä―É–≥–Μ–Ψ―¹―É―²–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι? –î–Μ―è –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –¥–Α. –î–Μ―è –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Ϋ–Β―²: –≤–Ψ―¹–Β–Φ―¨ ―΅–Α―¹–Ψ–≤, –Κ–Α–Κ ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ–Η, –Κ–Ψ―Ä–Ψ―΅–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è, –Κ–Α–Κ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Η –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Α. –½–Α –≤―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ω–Μ–Α―²–Η–Μ–Η? –ù–Α–Φ –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Μ–Α―²–Η–Μ–Η. –€―΄ –Ζ–Α –Η–¥–Β―é ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Η –Η ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ–Η. –ê –Ψ–Ϋ–Η –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Μ–Η –Κ–Α–Κ―É―é-―²–Ψ ―²–Α–Φ –Ϋ–Α–¥–±–Α–≤–Κ―É. –ê –¥–Μ―è –Ϋ–Α―¹ –±―΄–Μ–Α –Α–≤―²–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―à―²–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Η. –ß―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β –Α–≤―²–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨" –≠―²–Ψ ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ε–Η―²―¨, ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨, –Ψ–Ϋ–Α –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―è–Μ–Α―¹―¨ 30 ―¹―É―²–Κ–Α–Φ–Η. –ü―Ä–Β–Ε–¥–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ, –Ω–Ψ –Ζ–Α–Ω–Α―¹–Α–Φ ―Ä–Β–≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η, ―²–Α–Κ–Α―è ―Ö–Η–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è ―¹–Η―¹―²–Β–Φ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è ―Ä–Β–≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Η―Ä―É–Β―² –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö, –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö, ―É–≥–Μ–Β–Κ–Η―¹–Μ–Ψ―²―É, –Ψ–Ϋ–Α –≤―΄―Ä–Α–±–Α―²―΄–≤–Α–Μ–Α –Κ–Η―¹–Μ–Ψ―Ä–Ψ–¥, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Φ―΄ –¥―΄―à–Α–Μ–Η. –£–Ψ-–≤―²–Ψ―Ä―΄―Ö, –Κ–Α–Κ ―è –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ, ―²–Α–Φ –±―΄–Μ–Ψ ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–Μ–Η―â–Β ―¹―É―Ö–Η―Ö –Ω–Α–Ι–Κ–Ψ–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–Μ–Ψ –Ϋ–Α–Φ –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²―¨ –Ψ―Ä–¥–Η–Ϋ–Α―Ä–Ϋ―É―é –Ω–Η―â―É –Η ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨, –Ω–Η―²–Α―²―¨―¹―è. –Δ―Ä–Β―²―¨–Β ―¹–Η―¹―²–Β–Φ–Α –Ω–Η―²―¨–Β–≤–Ψ–Ι –≤–Ψ–¥―΄, ―¹–Η―¹―²–Β–Φ–Α –Ω–Ψ–Φ―΄–≤–Κ–Η –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α. –‰–Ϋ–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―Ü―΄ ―²―É–¥–Α –Κ–Α–Κ–Η–Β-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η, ―¹–Ψ―é–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Η? –ù–Β―², –±―΄–Μ –Ψ–¥–Η–Ϋ ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι –≤―¹–Β–≥–Ψ. –ù–Ψ, –≤–Ψ-–Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö, ―¹–Α–Φ–Ψ–Β –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β ―à―²–Ψ–Μ―¨–Ϋ―è –±―΄–Μ–Α –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ ―Ä–Β–Ε–Η–Φ–Ϋ―΄–Φ –Ψ–±―ä–Β–Κ―²–Ψ–Φ. –û–Ϋ –±―΄–Μ ―²―â–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Φ–Α―¹–Κ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ. –î–Α–Ε–Β –Κ–Α–Ϋ–Α–Μ –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Α―è ―΅–Β―Ä―²–Α, –Α ―²―É―² ―Ä–Α–Ζ –Η –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ ―²–Α–Φ –Κ–Α–Ϋ–Α–Μ―¨―΅–Η–Κ. –€―΄ –Β–≥–Ψ ―²–Ψ–Ε–Β –Ζ–Α–Φ–Α―¹–Κ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η. –£–Ψ―² –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ ―ç―²–Α –Κ―Ä―΄―à–Α, –Ϋ–Α–≤–Β―¹. –ù–Α –Κ―Ä―΄―à–Β ―¹―²–Ψ―è–Μ–Η –¥–Ψ–Φ–Η–Κ–Η, –±–Α―Ä–Α–Κ–Η. –£―¹―ë –±―΄–Μ–Ψ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥ –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Α―é―â―É―é –Α―Ä―Ö–Η―²–Β–Κ―²―É―Ä―É, –Η ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–≤–Α―²―¨. –†–Α―¹―¹–Κ–Α–Ε–Η―²–Β, –Κ–Α–Κ –≤―΄ –¥―Ä―É–≥ ―¹ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ –Ψ–±―â–Α–Μ–Η―¹―¨? –≠―²–Ψ –±―΄–Μ –Ζ–Α–Κ―Ä―΄―²―΄–Ι –≥–Α―Ä–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–Ϋ, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –±―΄–Μ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Β–Ϋ –≤―ä–Β–Ζ–¥. –ü―Ä–Ψ–Ω―É―¹–Κ–Α –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä―è–Μ–Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤―΄–Β–Ζ–Ε–Α–Β―à―¨, –Α –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤―ä–Β–Ζ–Ε–Α–Β―à―¨ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä―è–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ–Ω―É―¹–Κ–Α. –≠―²–Η –Φ–Η–Μ–Η―Ü–Β–Ι―¹–Κ–Η–Β –Ζ–¥–Α–Ϋ–Η―è ―²–Α–Κ –Η –Ψ―¹―²–Α–Μ–Η―¹―¨: –€–Η–Μ–Η―Ü–Η―è ―¹―²–Ψ―è–Μ–Α –Ϋ–Α –≤―¹–Β―Ö –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Α―Ö. –ê ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Η ―É –£–Α―¹ –Β―¹―²―¨ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ?  –ù–Β―². –· –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―é ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ ―Ä–Β–Ε–Η–Φ–Ϋ―΄–Ι –Ψ–±―ä–Β–Κ―². –€–Β–Ϋ―è –±―΄ –Ω–Ψ―¹–Α–¥–Η–Μ–Η, ―Ä–Α―¹―¹―²―Ä–Β–Μ―è–Μ–Η, –Β―¹–Μ–Η –±―΄ ―è –Η–Φ–Β–Μ ―²–Α–Κ–Η–Β ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Η. –ê ―É –£–Α―¹ –Β―¹―²―¨ –±―É–Φ–Α–≥–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –£―΄ –Ω–Ψ–¥–Ω–Η―¹–Α–Μ–Η, –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –≤―΄ ―¹–Μ–Ψ–≤–Α –Ϋ–Β –±―É–¥–Β―²–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨ –Ψ –ë–Α–Μ–Α–Κ–Μ–Α–≤–Β? –Θ –£–Α―¹ –Β―¹―²―¨ –Ϋ–Α ―Ä―É–Κ–Α―Ö ―ç―²–Α –±―É–Φ–Α–≥–Α? –ù–Β―². –· –Β―ë ―¹―ä–Β–Μ ―É–Ε–Β –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ. –≠―²–Ψ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ–Ψ, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –±―΄–Μ–Η –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ―΄, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β –Ϋ–Β ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Η ―¹ –Ϋ–Α–Φ–Η –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨. –ü―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ. –û–Ϋ–Η –Φ–Ϋ–Β –Ζ–≤–Ψ–Ϋ–Η–Μ–Η. –€–Ψ–Μ–Ψ–¥―Ü―΄. –ê –Η–Ζ –Ω―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α –Κ―²–Ψ-―²–Ψ –±―΄–Μ? –Ξ―Ä―É―â–Β–≤ –±―΄–Μ. –û–Ϋ –Ω―Ä–Η –£–Α―¹ –Ω―Ä–Η–Β–Ζ–Ε–Α–Μ? –î–Α. –ö–Α–Κ ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ? –ü―Ä–Η–Β―Ö–Α–Μ ―¹ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Φ–Ω–Ψ–Ι. –Γ –Ω–Ψ–Φ–Ω–Ψ–Ι ―É–Β―Ö–Α–Μ. –Δ–Α–Κ ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ. –£―΄ –Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²–Β, ―΅―²–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ξ―Ä―É―â–Β–≤, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ω–Ψ―¹–Β―²–Η–Μ –Ψ–±―ä–Β–Κ―²? –û–Ϋ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ: ¬Ϊ–ü―Ä–Β–≤–Ψ―¹―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Ψ, ―¹–Ω–Α―¹–Η–±–Ψ. –· –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä―é –≤―¹–Β―Ö ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ–Β–Ι, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ζ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Μ–Η ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Β–≤–Ψ―¹―Ö–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –Ψ–±―ä–Β–Κ―². –¦–Η―΅–Ϋ–Ψ –£–Α–Φ –Ψ–Ϋ –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ? –ù–Β―². –û–Ϋ, –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ, –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ ―è –¥―É―Ä–Α–Κ, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ. –ü―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ψ–±―ä–Β–Κ―² –±―΄–Μ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Β–Ψ–±―΄―΅–Ϋ―΄–Ι? –ê ―è-―²–Ψ –Ω―Ä–Η ―΅–Β–Φ? –û–±―ä–Β–Κ―² –Ϋ–Β–Ψ–±―΄―΅–Ϋ―΄–Ι, –Α ―è –Ψ–±―΄―΅–Ϋ―΄–Ι. –£ –Κ–Α–Κ–Ψ–Φ –≥–Ψ–¥―É –£―΄ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Η –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ ―É–Ι―²–Η ―¹ –Μ–Ψ–¥–Κ–Α–Φ–Η –Η–Ζ ―à―²–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Η? –· ―É–Ε–Β –Ϋ–Β –±―΄–Μ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ, –Α ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ –≤ ―à―²–Α–±–Β ―³–Μ–Ψ―²–Α. –‰ –Η–Ζ ―à―²–Α–±–Α ―³–Μ–Ψ―²–Α –Ω―Ä–Η –Φ–Ϋ–Β –±―΄–Μ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ ¬Ϊ―É–Ι―²–Η –Η–Ζ –ë–Α–Μ–Α–Κ–Μ–Α–≤―΄¬Μ. –ö–Ψ–≥–¥–Α ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ? –ù―É, ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ, –Κ ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Ϋ–Η―é, –≤ 1991-–Φ –≥–Ψ–¥―É. –ù―É, –£―΄ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―²–Β, ―΅―²–Ψ ―²–Α–Φ –±―É–¥–Β―² –Μ–Β―² ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ―²―΄―¹―è―΅―É? –Γ–Β–Ι―΅–Α―¹ –≤ –ë–Α–Μ–Α–Κ–Μ–Α–≤–Β –≤–Η–¥–Ϋ–Ψ –™–Β–Ϋ―É―ç–Ζ―¹–Κ―É―é –Κ―Ä–Β–Ω–Ψ―¹―²―¨. –‰ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –¥–≤–Β ―²―΄―¹―è―΅–Η –Μ–Β―² –Β―ë ―²–Ψ–Ε–Β –±―É–¥–Β―² –≤–Η–¥–Ϋ–Ψ, –Η ―à―²–Ψ–Μ―¨–Ϋ―é. –≠―²–Ψ –Ψ–±―ä–Β–Κ―² –≤–Ϋ–Β –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η. –¦―é–¥–Η ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ―²―΄―¹―è―΅―É –Μ–Β―² –±―É–¥―É―² ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨ –Ϋ–Α ―à―²–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Η, –Κ–Α–Κ –Φ―΄ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –Ϋ–Α –Κ―Ä–Β–Ω–Ψ―¹―²–Η ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Η–Φ. –ù–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ, ―²–Α–Κ –Η –±―É–¥–Β―², –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ ―à―²–Ψ–Μ―¨–Ϋ―è ―²–Α–Κ ―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ–Α―¹―¨. –ù–Α –¥–Ψ–Μ–≥–Η–Β-–¥–Ψ–Μ–≥–Η–Β –Β―¹–Μ–Η –Ϋ–Β –≤–Β–Κ–Α, ―²–Ψ –Ϋ–Α –≥–Ψ–¥―΄. –ï―ë –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ―Ä―É―à–Η―²―¨ –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ. –£–Ψ―² –Ϋ–Α–¥ ―à―²–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι –≥–Ψ―Ä–Α, 600 –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤ ―¹–Κ–Α–Μ―΄, ―¹–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≥―Ä―É–Ϋ―²–Α. –ö–Α–Κ–Ψ–Ι –≤–Ζ―Ä―΄–≤ –Β―ë ―Ä–Α–Ζ―Ä―É―à–Η―²? –ù–Η–Κ―²–Ψ –Β―ë –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ―Ä―É―à–Η―². –£―΄ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Β―â–Β ―΅–Α―¹―²–Ψ –±―΄–≤–Α–Μ–Η –≤ ―à―²–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Β –Η–Μ–Η –Κ–Ψ–≥–¥–Α-―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ω–Β―Ä–Β―¹―²–Α–Μ–Η ―²―É–¥–Α ―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨? –£–Ψ―² –£―΄ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η –Ψ ―΅―É–≤―¹―²–≤–Β. –ß―É–≤―¹―²–≤–Ψ –≥–Ψ―Ä–Β―΅–Η, ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Ϋ–Η―è, –Ψ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–±–Β–¥–Η–Μ–Ψ –Φ–Ψ―ë ―¹―²―Ä–Β–Φ–Μ–Β–Ϋ–Η–Β ―²–Α–Φ –±―΄―²―¨, –Μ―é–±–Ψ–≤―¨ –Κ –ë–Α–Μ–Α–Κ–Μ–Α–≤–Β –Η –Κ ―¹–Η―¹―²–Β–Φ–Β –±–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ ―¹–Μ–Η―à–Κ–Ψ–Φ ―²–Α–Φ –≥–Ψ―Ä―¨–Κ–Ψ –≤―¹―ë ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–≤–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –≤―¹―ë ―Ä―É―à–Η―²―¹―è, –≤―¹―ë ―Ä–Α–Ζ―Ä―É―à–Β–Ϋ–Ψ. –€–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –ë–Α–Μ–Α–Κ–Μ–Α–≤–Α ―¹―²–Α–Μ–Α –¥–Μ―è –£–Α―¹ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Ψ–Φ –≤ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η? –î–Α, –¥–Α. –‰ –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―ç―²–Ψ―² ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä ―É―à―ë–Μ? –û–Ϋ –Β―â―ë –Ϋ–Β ―É―à―ë–Μ. –û–Ϋ ―É–Ι–¥―ë―², –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Φ–Β–Ϋ―è –Ω–Ψ–Ϋ–Β―¹―É―².  –ö–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤ –Γ―²–Α–Ϋ–Η―¹–Μ–Α–≤ –™–Β–Ψ―Ä–≥–Η–Β–≤–Η―΅, –Ϋ–Α ―³–Μ–Ψ―²–Β ―¹ 1957-–≥–Ψ –Ω–Ψ 1995 –≥–Ψ–¥. –Γ–Η–Φ–Ψ–Ϋ―è–Ϋ –™―É―Ä–≥–Β–Ϋ –ê–≤–Β―²–Η―¹–Ψ–≤–Η―΅. "–Γ―É–¥–Β–± –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö ―²–Α–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –≤―è–Ζ―¨... –≠―²–Ψ –Μ–Β―²―É―΅–Β–Β –≤―΄―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ–Α–¥–Μ–Β–Ε–Η―² –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―é –Η –Φ–Ψ―Ä―è–Κ―É –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α―é –ß–Β―Ä–Κ–Α―à–Η–Ϋ―É. –ù–Ψ –Ψ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä―è–Β―²―¹―è ―¹―²–Ψ–Μ―¨ ―΅–Α―¹―²–Ψ, ―΅―²–Ψ ―¹―²–Α–Μ–Ψ ―É–Ε–Β, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è, –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ. –£ ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –¥–Β–Μ–Β, –≤―¹–Β ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ψ, ―¹–Ω–Μ–Β―²–Β–Ϋ–Ψ –≤ –Ϋ–Α―à–Β–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η, –≤ –Ϋ–Α―à–Β–Ι –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η. –‰ ―²―Ä–Α–≥–Β–¥–Η–Η –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Κ–Μ–Η–Κ–Α―é―²―¹―è ―¹ –¥―Ä–Α–Φ–Α–Φ–Η –Ϋ–Ψ–≤–Β–Ι―à–Β–Ι –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –≥–Η–±–Β–Μ–Η –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Η ¬Ϊ–ö―É―Ä―¹–Κ¬Μ –≤―¹–Β –Ζ–Α–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η –Ψ–± –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Β–Ι―à–Β–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Ψ ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η―Ö –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –≤ –Ψ―²–¥–Α–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≥–Α―Ä–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–Ϋ–Α―Ö, –Ζ–Α―¹―΄–Ω–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹–Ϋ–Β–≥–Ψ–Φ –Η –Ω–Ψ–Μ―É–≥–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö. –‰ ―Ö–Ψ―²―è, –±―΄―²―¨ –Φ–Ψ–Ε–Β―², ―ç―²–Ψ –±―¨–Β―² –Ω–Ψ –≥–Ψ―Ä–¥–Ψ―¹―²–Η ―Ä–Ψ―¹―¹–Η―è–Ϋ, ―¹–Μ–Α–≤–Α –ë–Ψ–≥―É, ―΅―²–Ψ –≤―¹–Β ―ç―²–Ψ ―¹―²–Α–Μ–Ψ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ. –Γ–Μ–Η―à–Κ–Ψ–Φ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Β –Ζ–Α–Φ–Α–Μ―΅–Η–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –¥–Ψ ―¹–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä. –€–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Ε–Β–Ϋ―΄ –±―΄–≤―à–Η―Ö –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –±―΄ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―² βÄî –Ε–¥–Α―²―¨ –Φ―É–Ε–Α –Ϋ–Β–¥–Β–Μ―è–Φ–Η, –Φ–Β―¹―è―Ü–Α–Φ–Η, –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α―è, –≤–Β―Ä–Ϋ–Β―²―¹―è –Μ–Η –Ψ–Ϋ, –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Β―²―¹―è –Μ–Η –Ε–Η–≤―΄–Φ. –‰ –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä –•–Η–Μ–Η–Ϋ, –±―΄–≤―à–Η–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ―΄ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ–Η –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ –≤–Η–¥–Β–Μ–Η –Ϋ–Α ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü–Α―Ö –≥–Α–Ζ–Β―²―΄, –Φ–Ψ–≥ –±―΄ –Ϋ–Β –≤–Β―Ä–Ϋ―É―²―¨―¹―è –Η–Ζ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α. –‰ –™―É―Ä–≥–Β–Ϋ –Γ–Η–Φ–Ψ–Ϋ―è–Ϋ, ―²–Ψ–Ε–Β –±―΄–≤―à–Η–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Η... –‰ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –€–Ψ–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ–Ι, ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ... –‰ –¦–Β–Ψ–Ϋ–Η–¥ –€–Η―Ä―¹–Ψ–Ϋ, ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ –≤ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–Φ ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö ―¹―É–±–Φ–Α―Ä–Η–Ϋ... –ü–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Β –≥–Ψ–¥―΄ ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Ψ–Ϋ–Η –Ψ―²–¥–Α–Μ–Η –Ψ–±―É―΅–Β–Ϋ–Η―é –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤ –≤ –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²–Ψ–Φ –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Β –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Ι –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –≤ –ü–Α–Μ–¥–Η―¹–Κ–Η. –Π–Β–Ϋ―²―Ä, –Κ–Α–Κ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, –Ω–Β―Ä–Β―¹―²–Α–Μ ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ ―Ä–Α―¹–Ω–Α–¥–Ψ–Φ –Γ–Γ–Γ–† –Η –Ψ–±―Ä–Β―²–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –≠―¹―²–Ψ–Ϋ–Η–Β–Ι –Ϋ–Β–Ζ–Α–≤–Η―¹–Η–Φ–Ψ―¹―²–Η. –ù–Ψ –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è –Ϋ–Β –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ –≤ ―¹–Α–Φ―΄–Β ―²―Ä―É–¥–Ϋ―΄–Β, ―²―Ä–Β–≤–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Β –Α–≤–≥―É―¹―²–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Β –¥–Ϋ–Η 91-–≥–Ψ –≥–Ψ–¥–Α –Ψ―² –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤ –ü–Α–Μ–¥–Η―¹–Κ–Η –Ϋ–Β –Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Ψ–Ι –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –¥–Μ―è –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄. –¦―é–¥–Η –≤ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―³–Ψ―Ä–Φ–Β, ―¹–Μ―É–Ε–Η–≤―à–Η–Β ―²–Α–Φ, –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η... –ù–Ψ –Κ–Α–Κ –Ψ―²–±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Η–Μ–Α –Η―Ö –Ζ–Α ―ç―²–Ψ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Α? –Δ–Ψ–Ε–Β –≤–Β–¥―¨ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ. –‰ –±–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ζ–Α –Ϋ–Η―Ö... –ù–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –≥–Ψ―Ä–¥―΄, –Κ–Α–Κ –Φ–Ψ–≥―É―² –±―΄―²―¨ –≥–Ψ―Ä–¥―΄ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Η–Β –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ―΄. –™–Ψ―Ä–¥―΄ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±–Ψ–Ι, ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ, ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Η ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ–Η –¥–Μ―è ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄. –Ξ–Ψ―²―è –Η –Ϋ–Β –Κ–Η―΅–Α―²―¹―è ―ç―²–Η–Φ, –Ϋ–Β –Κ―Ä–Η―΅–Α―² –Ϋ–Α –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Φ –Ω–Β―Ä–Β–Κ―Ä–Β―¹―²–Κ–Β..." –ê.–Γ.–Γ–Β―Ü–Β–Ϋ. –ë―É–¥–Ϋ–Η –Η ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Η 351-–≥–Ψ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α. - –Γ–Β–¥―¨–Φ–Α―è –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α. –¦―é–¥–Η, –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η, ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è. - –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥, ―¹–Β―Ä–Η―è "–ù–Α ―¹―²―Ä–Α–Ε–Β –û―²―΅–Η–Ζ–Ϋ―΄", –≤―΄–Ω―É―¹–Κ 4, 2005 –≥.–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è, ―²–Ψ―΅–Ϋ–Β–Β –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –≥–≤–Α―Ä–¥–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α, –±―΄–Μ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –Γ–Η–Φ–Ψ–Ϋ―è–Ϋ –™―É―Ä–≥–Β–Ϋ –ê–≤–Β―²–Η―¹–Ψ–≤–Η―΅. –û–Ϋ –Η–Φ–Β–Μ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –¥–Ψ–Μ–≥–Η–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―¹–Κ–Η–Ι –Ψ–Ω―΄―², ―Ö–Ψ―²―è –≤ "–Α–≤―²–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Κ–Η" (–Ζ–Α ―É–≥–Ψ–Μ) –Ϋ–Β ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ. –ù–Ψ –±―΄–Μ –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ –Η–Ζ ―¹–Α–Φ―΄―Ö ―¹―²–Α―Ä―΄―Ö –Η –Ψ–Ω―΄―²–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –Η –Φ–Ψ–≥ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Β –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ–Η―²―¨ ―¹–Β–±–Β. –£ 1973 –≥. –Β–≥–Ψ –Μ―é–±–Η–Φ―΄–Ι "–ê―Ä–Α―Ä–Α―²" –≤―΄–Η–≥―Ä–Α–Μ –Κ―É–±–Ψ–Κ –Γ–Γ–Γ–† –Η –Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²―΄–Β –Φ–Β–¥–Α–Μ–Η ―΅–Β–Φ–Ω–Η–Ψ–Ϋ–Ψ–≤, ―²–Α–Κ –Ϋ–Α –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η–Η –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –Ψ–Ϋ ―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α–Μ –Κ–Ψ–Φ–¥–Η–≤–Α: "–ê –Κ―É–¥–Α –≤―¹―²–Α―²―¨ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε―É, ―É –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²―΄–Β –Φ–Β–¥–Α–Μ–Η ―΅–Β–Φ–Ω–Η–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –Ω–Ψ ―³―É―²–±–Ψ–Μ―É –Η –ö―É–±–Ψ–Κ –Γ–Γ–Γ–†?". –ï–Φ―É ―ç―²–Ψ –Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Β –¥―Ä―É–≥–Ψ–Β –Ω―Ä–Ψ―â–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –Β–≥–Ψ ―É–≤–Α–Ε–Α–Μ–Η. –Ξ–Ψ―²―è –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –Β–≥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Ϋ―è―²―¨ –Η –Ω–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ψ–Ϋ –±―΄–≤–Α–Μ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―É–Ω―Ä―è–Φ... –Γ–Η–Φ–Ψ–Ϋ―è–Ϋ ―É–Ε–Β ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ –≤ –ü–Α–Μ–¥–Η―¹–Κ–Η –Η –Ω–Ψ―²–Η―Ö–Ψ–Ϋ―¨–Κ―É –Ω–Β―Ä–Β―²–Α―¹–Κ–Η–≤–Α–Μ ―²―É–¥–Α ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι, –Κ–Α–Κ ―à―É―²–Η–Μ–Η –≤ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β, ―²–Β―Ö, –Κ―²–Ψ –±―΄–Μ –Β–Φ―É –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥ –Κ–Α–Κ –Ω–Α–Φ―è―²―¨ –Ψ –≥–≤–Α―Ä–¥–Η–Η. –€―É―Ö―²–Α―Ä–Ψ–≤ –ê―¹–Μ–Α–Ϋ –ê–Ζ–Η―¹–Ψ–≤–Η―΅.  –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Β–≤ –ê.–ü., –€―É―Ö―²–Α―Ä–Ψ–≤ –ê―¹–Μ–Α–Ϋ –ê–Ζ–Η―¹–Ψ–≤–Η―΅, –Φ–Η–Ϋ–Β―Ä "–±―É–Κ–Α―à–Κ–Η", –ù–Α―É–Φ–Ψ–≤ –£.–£. –Γ–Φ. P.S. –Γ–Ω―É―¹―²―è –¥–Β―¹―è―²–Η–Μ–Β―²–Η–Β
–· –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–Μ―¹―è –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨―¹―è –Μ–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é, –¥–Α –Η ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ ―è –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Μ, –Κ–Α–Κ-―²–Ψ –¥–Α–Ε–Β –Η ―è–Ζ―΄–Κ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–≤–Ψ―Ä–Α―΅–Η–≤–Α–Β―²―¹―è –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α―²―¨ "–Μ–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Ψ–Ι". –≠―²–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β ―Ä–Β–Φ–Β―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ, –Ω–Ψ―Ä–Ψ–Ε–¥―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é.
–€–Ψ―ë –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–Β –≤―¹–Β–≥–¥–Α –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–Ι, –Ϋ–Ψ –±–Β―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Α―è –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Ζ–Α―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Α –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –¥―É–Φ–Α―²―¨ –Ψ –¥–Ϋ–Β ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è―à–Ϋ–Β–Φ –Η –Ψ –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Ψ–Ι –Ω–Β―Ä―¹–Ω–Β–Κ―²–Η–≤–Β, –≤ –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Α―Ö –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Β–Ϋ―¹–Η–Η. –ü―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–Β, –Ω–Ψ –Φ–Β―Ä–Β ―É–¥–Α–Μ–Β–Ϋ–Η―è, ―²–Β―Ä―è–Μ–Ψ –Φ–Α―¹―à―²–Α–±―΄ –Η –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨, –Α ―²–Ψ –Η –≤–Ψ–≤―¹–Β ―²–Β―Ä―è–Μ–Ψ―¹―¨. –ü–Α–Φ―è―²―¨, –Ω―Ä–Η –≤―¹–Β–Ι ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ϋ–Β–Ψ–±―ä―è―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Μ–Β–≥–Κ–Ψ ―É―¹―²―É–Ω–Α–Μ–Α –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Β―¹―¹–Η―Ä―É―é―â–Β–Φ―É ―¹–Κ–Μ–Β―Ä–Ψ–Ζ―É.
–£ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Ι –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―² –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Κ―Ä―É―²–Ψ –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Η–Μ–Α―¹―¨: ―¹―΄–Ϋ–Ψ–≤―¨―è –Ψ–¥–Α―Ä–Η–Μ–Η –Φ–Β–Ϋ―è –Κ–Ψ–Φ–Ω―¨―é―²–Β―Ä–Ψ–Φ, –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Κ–Ϋ–Ψ–Ω–Ψ–Κ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ–Η –Ϋ–Α–¥–Ψ –≤–Κ–Μ―é―΅–Α―²―¨ ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ–Ϋ–Ϋ―É―é ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ―É, –Η ―è ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ –≤ –Ϋ–Β–≤–Β–¥–Ψ–Φ―΄–Ι –Φ–Η―Ä –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Ϋ–Β―²–Α. –ü–Ψ –Φ–Β―Ä–Β –Η–Ζ―É―΅–Β–Ϋ–Η―è ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Φ–Η―Ä–Α, –Φ–Ϋ–Β –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ―¹―è ―¹–Α–Ι―² –Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α―Ö. –· –≤―¹―²―Ä–Β–Ω–Β–Ϋ―É–Μ―¹―è: –Α ―΅―²–Ψ ―²–Α–Φ –Ω–Η―à―É―² –Ψ –Φ–Ψ―ë–Φ βÄ™ –£―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –£–£–€–Θ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è?
–ù–Η –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ–Φ, –Ϋ–Η –Ϋ–Α –¥―Ä―É–≥–Η―Ö ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Ϋ―΄―Ö ―¹–Α–Ι―²–Α―Ö ―è –Ϋ–Β –Ϋ–Α―à–Β–Μ –Ψ –Ϋ―ë–Φ –Ϋ–Η –Β–¥–Η–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è. –£–Ψ―² ―²―É―²-―²–Ψ ―è –Η –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Β–≥–Ψ–¥–Ψ–≤–Α–Μ. –£ –≥–Ϋ–Β–≤–Β –Η –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Μ–Ψ –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α―²―¨. –· –Η–Ζ–≤–Μ―ë–Κ –Η–Ζ ―¹–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Α―Ä―Ö–Η–≤–Α ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Η ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ―Ä―΄, –Ω―Ä–Η―à–Μ–Η –Η–Ζ –Ϋ–Β–±―΄―²–Η―è –Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η –Ζ–Α–≤―è–Ζ―΄–≤–Α―²―¨―¹―è ―É–Ζ–Β–Μ–Κ–Η –Ω–Α–Φ―è―²–Η ―¹ ―ç–Ω–Η–Ζ–Ψ–¥–Α–Φ–Η ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α, ―É―΅―ë–±―΄ –≤ –Ϋ―ë–Φ, –Η –≤―¹―ë ―ç―²–Ψ –≤―΄–Μ–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≤ ―ç―²–Η "–£–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è", –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Η ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―¹―²–Η–Μ –Ω–Ψ―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ―ë–Φ ―¹–Α–Ι―²–Β –Ω–Ψ–¥ –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ "–ö–Ψ–≥–¥–Α –Φ―΄ –±―΄–Μ–Η –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄–Φ–ΗβÄΠ".
–Γ–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Β–Φ ―è –Ψ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ―² –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ –¥–Α–Μ―ë–Κ –Ψ―² –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―²―΄ –Η ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ―¹―²–≤–Α –Η–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è. "–£–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è" –Α–±―¹–Ψ–Μ―é―²–Ϋ–Ψ –Ψ–±–Ψ―à–Μ–Η ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ-―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄–Ι ―³–Α–Κ―É–Μ―¨―²–Β―², –Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ–Β–Ι. –‰ –Ϋ–Β―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Η –Η―¹–Κ–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Ι. –ß–Β–≥–Ψ ―¹―²–Ψ–Η―² ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Μ―è–Ω, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―è –Η–Φ–Β–Μ –≤ –≤–Η–¥―É –Η –Ψ–Ω–Η―¹―΄–≤–Α–Μ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―è –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Ω–Ψ ―¹―²―Ä–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –™–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, –≤–Ϋ–Β―à–Ϋ–Β –Ω–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ–Α (–Β―¹–Μ–Η –Ω–Α–Φ―è―²―¨ –Ϋ–Β –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ―è–Β―², βÄ™ –ö―é–Ϋ–Α) –Η–Ζ –Κ/―³-–Φ–Α "–ü–Ψ–¥–≤–Η–≥ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥―΅–Η–Κ–Α", –Α –≤ ―²–Β–Κ―¹―²–Β –Ω―Ä–Η―¹–≤–Ψ–Η–Μ –Β–Φ―É ―³–Α–Φ–Η–Μ–Η―é "–‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤"? –ù–Β –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–Μ –Ψ―à–Η–±–Κ―É –≥–Ψ–¥–Α –≥–Η–±–Β–Μ–Η –Γ–Α―à–Η –•―É―Ä–Α–≤–Η–Ϋ–Α. –Θ–±–Η–≤–Α―²―¨ ―²–Α–Κ–Η―Ö –Ω–Η―¹–Α–Κ –Ϋ–Α–¥–Ψ!
–‰ –≤―¹―ë –Ε–Β, –Ψ―²–Ζ―΄–≤―΄ –±―΄–Μ–Η, –≤ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ―² –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Φ–Ψ–Β–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α, –≤ ―Ü–Β–Μ–Ψ–Φ –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–Ε–Β–Μ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β, –Ζ–Α ―΅―²–Ψ ―è –Η–Φ –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Β–Ϋ.
–ù–Ψ –Φ–Ψ–Η –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–¥―΄ –Ϋ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ–Α―à–Ϋ–Η–Κ–Η "–¥–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è―² –Η ―É–≥–Μ―É–±―è―²" βÄ™ –Ϋ–Β –Ψ–Ω―Ä–Α–≤–¥–Α–Μ–Η―¹―¨. –€–Ψ–Μ―΅–Α―² –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ–Α―à–Ϋ–Η–Κ–Η. –‰ ―¹ –Κ–Ψ–Φ–Ω―¨―é―²–Β―Ä–Ψ–Φ, –Κ ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Ϋ–Η―é, –Φ–Ψ―ë –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η–Β ―É–Ε–Η–≤–Α–Β―²―¹―è ―¹ ―²―Ä―É–¥–Ψ–Φ. –‰ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η ―É–Ε–Β ―É–±–Β–Ε–Α–Μ–Ψ –Ψ-–≥–Ψ-–≥–Ψ! –ö–Α–Κ ―²–Α–Φ –Ω–Η―¹–Α–Μ –ü–Ψ―ç―²? –ü―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ: "–Η–Ϋ―΄―Ö, ―É–Ε, –Ϋ–Β―², –Α ―²–Β βÄ™ –¥–Α–Μ–Β―΅–ΒβÄΠ".
–Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ζ–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Β –≥–Ψ–¥―΄ –Ϋ–Β ―¹―²–Α–Μ–Ψ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅–Α –®–Α―É―Ä–Ψ–≤–Α, ―²–Α–Κ –Μ―é–±–Β–Ζ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥–Β–Μ–Η–≤―à–Β–≥–Ψ―¹―è ―¹–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Η–Φ –Α―Ä―Ö–Η–≤–Ϋ―΄–Φ–Η –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ–Α–Φ–Η –Ψ –ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤–Β βÄ™ ―É–Φ–Ϋ–Ψ–Ε–Η–Μ ―Ä―è–¥―΄ –Ϋ–Α –Γ–Β―Ä–Α―³–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ –Κ–Μ–Α–¥–±–Η―â–Β. –ù–Β―² –Η –£–Α–¥–Η–Φ–Α –ë–Ψ―Ä–Η―¹–Ψ–≤–Η―΅–Α –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ –≤ –Ψ–±―ä–Β–Κ―²–Η–≤ –Φ–Ψ–Β–≥–Ψ ―³–Ψ―²–Ψ–Α–Ω–Ω–Α―Ä–Α―²–Α ―É –Ψ–±–Β–Μ–Η―¹–Κ–Α –ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤―É βÄ™ –Ψ–±―Ä―ë–Μ –≤–Β―΅–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β –¦–Η–¥–Α (–ë–Β–Μ–Ψ―Ä―É―¹―¹–Η―è)βÄΠ –†–Β–¥–Β―é―² ―Ä―è–¥―΄ –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ–Ψ–≤. –ù–Ψ –Ϋ–Β –±―É–¥–Β–Φ –Ψ –≥―Ä―É―¹―²–Ϋ–Ψ–Φ.
–Γ–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Β–¥–Α–≤–Ϋ–Ψ, –Φ–Ψ–Η "–Ζ–Α–±–Α–≤―΄" –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Η –Ϋ–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹: –≥–¥–Β-―²–Ψ –≤ –≤―΄―¹―à–Η―Ö –Η–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―è―Ö ―Ä–Β―à–Η–Μ–Η –Κ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–Φ―É ―é–±–Η–Μ–Β―é –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –ü–Ψ–±–Β–¥―΄ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α―²―¨ ―²–Β–Μ–Β―³–Η–Μ―¨–Φ (–Η–Μ–Η ―¹–Β―Ä–Η―é) –Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α―Ö βÄ™ ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Α―Ö –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄. –ü–Ψ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ –Ψ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Β 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –™―Ä–Η―â–Β–Ϋ–Κ–Ψ –ü.–î. –Γ―Ü–Β–Ϋ–Α―Ä–Η―¹―²―É –Η ―Ä–Β–Ε–Η―¹―¹―ë―Ä―É –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ–Η―¹―¨ –Φ–Ψ–Η –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è –Ψ –ü–Β―²―Ä–Β –î–Β–Ϋ–Η―¹–Ψ–≤–Η―΅–Β –Η, –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ, –Ω–Ψ–Ϋ―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η―¹―¨. –½–Α―²–Β–Φ, –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Η–Μ–Η –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α―²–Β–Μ–Η –±–Μ–Ψ–≥–Α –Ϋ–Α –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ –ü–Ψ―Ä―²–Α–Μ–Β
"–£–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è" ―¹–≤–Ψ–Η ―è –Ω–Ψ–¥―΅–Η―¹―²–Η–Μ, –Ω–Ψ–¥–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ, –Α –Α–≤―²–Ψ―Ä―΄ –¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –Ω–Ψ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö ―É―΅–Η–Μ–Η―â –¥–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Μ–Η –Η―Ö –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Φ–Η –Η–Μ–Μ―é―¹―²―Ä–Α―Ü–Η―è–Φ–Η, ―¹–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ―΄–Φ–Η ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―è–Φ–Η, –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ–Η ―¹―¹―΄–Μ–Κ–Α–Φ–Η, –Η –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α―é―² –Ψ–±―Ä–Β―²–Α―²―¨ "–Ϋ–Ψ–≤―É―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨".
–ù–Ψ –Ζ–¥–Β―¹―¨ –≤―¹–Ω–Μ―΄–Μ–Α –Ϋ–Ψ–≤–Α―è –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ–Α. –€–Ϋ–Β –±―΄–Μ –Ζ–Α–¥–Α–Ϋ –Κ–Α–≤–Β―Ä–Ζ–Ϋ―΄–Ι –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹: –≤–Ψ―² ―²―΄ –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Μ, –Ψ ―¹―É–¥―¨–±–Α―Ö –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²―¹–Κ–Η―Ö, –Α ―΅―²–Ψ ―²–≤–Ψ–Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ–Α―à–Ϋ–Η–Κ–Η –Ζ–Ϋ–Α―é―² –Ψ ―²–≤–Ψ–Β–Ι?
–£―΄–Ϋ―É–Ε–¥–Β–Ϋ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Β–Ϋ―¨–Κ–Ψ –Η –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ.
–ü–Ψ―¹–Μ–Β –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Α –Η–Ζ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ ―Ä―É–Μ–Β–≤–Ψ–Ι –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ –Ϋ–Α –ü–¦ –Γ-293 –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Α 613, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η–±―΄–≤―à―É―é –Η–Ζ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ―¹―²―Ä–Ψ―è –≤ –€–Ψ–Μ–Ψ―²–Ψ–≤―¹–Κ (–Ϋ―΄–Ϋ–Β –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ψ–¥–≤–Η–Ϋ―¹–Κ). –ß–Β―Ä–Β–Ζ –≥–Ψ–¥ –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Β –≠–û–ù-57 –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Γ–Β–≤–Φ–Ψ―Ä–Ω―É―²―ë–Φ –Ω–Β―Ä–Β―à–Μ–Α –≤–Ψ –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ, 19 –ë–ü–¦. (–û–Ω–Η―¹–Α–Μ –≤ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α―Ö "–¦–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –Ω―Ä–Η―à–Β–ΜβÄΠ" –Η "–≠–û–ù" ).
–‰ –¥–Α–Μ―¨―à–Β, –¥–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι –¥–Β–Φ–Ψ–±–Η–Μ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η, ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Α 613, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Β 10 –Μ–Β―² –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –ü–¦.
–½–Α –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –±―΄–Μ ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ 7 –Α–≤―²–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤ –¥–Μ―è –Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η―è –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄, –≤ ―².―΅. –≤ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –Δ–Η―Ö–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Α –Ζ–Α –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Α–Φ–Η –·–Ω–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Ψ–≤, –¥–≤–Α–Ε–¥―΄ ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Ψ–Φ –≤ –Λ–Η–Μ–Η–Ω–Ω–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β –Η –≤ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –ü–¦ –≤ –•–Β–Μ―²–Ψ–Φ –Η –£–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ-–ö–Η―²–Α–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä―è―Ö, –≤ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –ê―²–Μ–Α–Ϋ―²–Η–Κ–Β –Η –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Β. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –≤ 1970 –≥–Ψ–¥―É –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―³–Ψ―Ä―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ ―¹–Κ―Ä―΄―²–Ϋ–Ψ, –≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η, –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ―΄–Ι –≤ –Φ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Η –ö–Ψ―Ä–Β–Ι―¹–Κ–Η–Ι –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤. –ù―ë―¹ ―¹ –¥–Β―¹―è―²–Ψ–Κ –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –¥–Β–Ε―É―Ä―¹―²–≤ ―¹ ―è–¥–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ –Ψ―Ä―É–Ε–Η–Β–Φ –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―²―É. –Θ―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ –≤ –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―É―΅–Β–Ϋ–Η―è―Ö –≤ –·–Ω–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ, –û―Ö–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä―è―Ö –Η –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Β.
–ü―è―²–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²―¨ –Μ–Β―² ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Ψ―²–¥–Α–Ϋ–Ψ –Δ–û–Λ―É. –Γ–Μ―É–Ε–Η–Μ, –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Α, –≤ –ù–Α―Ö–Ψ–¥–Κ–Β, –Γ–Ψ–≤–≥–Α–≤–Α–Ϋ–Η. –½–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ ―¹–Μ―É–Ε–±―É –≤ –†–Η–≥–Β –≤ 1978 –≥–Ψ–¥―É.
–ù–Α–¥–Β―é―¹―¨, –Κ–Ψ–≥–¥–Α-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Ϋ–Α–Ω–Η―à―É―²: "–ë―΄–Μ –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥―ë–Ϋ ―Ä―è–¥–Ψ–Φ –Φ–Β–¥–Α–Μ–Β–Ι".
–ü–Ψ―¹–Μ–Β –¥–Β–Φ–Ψ–±–Η–Μ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η 15 –Μ–Β―² ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ –≤ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Α–Ω–Ω–Α―Ä–Α―²–Β –£―¹–Β―¹–Ψ―é–Ζ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –†―΄–±–Ψ–Ω―Ä–Ψ–Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±―ä–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è "–½–Α–Ω―Ä―΄–±–Α" –€–Η–Ϋ―Ä―΄–±―Ö–Ψ–Ζ–Α –Γ–Γ–Γ–†, –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö 10 –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η―Ö –Μ–Β―² βÄ™ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ ―¹–Φ–Β–Ϋ―΄ –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄.
–£ 1991 –≥–Ψ–¥―É, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―Ä–Α―¹–Ω–Α–¥–Α –Γ–Γ–Γ–†, –Φ–Ψ―è ―¹–Μ―É–Ε–±–Α –≤–Ψ –±–Μ–Α–≥–Ψ –†–Ψ–¥–Η–Ϋ–Β βÄ™ –Ϋ–Α–Κ―Ä―΄–Μ–Α―¹―¨ "–Φ–Β–¥–Ϋ―΄–Φ ―²–Α–Ζ–Ψ–Φ". –ö–Α–Κ "–Ψ–Κ–Κ―É–Ω–Α–Ϋ―²" –≤―΄–Ϋ―É–Ε–¥–Β–Ϋ –±―΄–Μ –Ω–Ψ–Κ–Η–Ϋ―É―²―¨ ―è–Ϋ―²–Α―Ä–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨–Β, –Ψ―¹–Β―¹―²―¨ –≤ –ü–Η―²–Β―Ä–Β –Ϋ–Α –Ζ–Α―¹–Μ―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Ϋ–Η–Ζ–Κ–Ψ–Ι –Ω–Β–Ϋ―¹–Η–Η.
–ü–Ψ―¹–Μ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α–Κ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ –Ψ–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η–Β ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ―Ä―΄, –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ―¹―è ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä ―¹ –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–Φ –Γ–Α–≤–≤–Η―΅–Β–Φ –ü–Η–Κ―É–Μ–Β–Φ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ: "–û–¥–Ϋ―É, –¥–Α–Ε–Β –¥–≤–Β –Κ–Ϋ–Η–≥–Η, –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α―²―¨ –Κ–Α–Ε–¥―΄–ΙβÄΠ". –· ―Ä–Β―à–Η–Μ –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ–±–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α―²―¨ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β. –ù–Α–Ω–Η―¹–Α–Μ –±–Ψ–Μ–Β–Β –¥–Β―¹―è―²–Κ–ΑβÄΠ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Ψ–≤. –ï―¹―²―¨ ―¹―é–Ε–Β―²―΄, –Ϋ–Ψ –Η―¹―¹―è–Κ–Μ–Ψ –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η–Β.
–·–Ϋ–≤–Α―Ä―¨ 2010 –≥.
–û–±―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Β –Κ –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö ―É―΅–Η–Μ–Η―â. 65-–Μ–Β―²–Ϋ–Β–Φ―É ―é–±–Η–Μ–Β―é –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α, 60-–Μ–Β―²–Η―é –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ψ–≤ –Δ–±–Η–Μ–Η―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, –†–Η–Ε―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö ―É―΅–Η–Μ–Η―â –Ω–Ψ―¹–≤―è―â–Α–Β―²―¹―è.–ü–Ψ–Ε–Α–Μ―É–Ι―¹―²–Α, –Ϋ–Β –Ζ–Α–±―΄–≤–Α–Ι―²–Β ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Α―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ–Α―à–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ –Ψ ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –±–Μ–Ψ–≥–Α, –Ω–Ψ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö ―É―΅–Η–Μ–Η―â, –Ψ –Ω–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö –Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Α―Ü–Η–Ι. –Γ–Ψ–Ψ–±―â–Α–Ι―²–Β ―¹–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ψ ―¹–Β–±–Β –Η ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ–Α―à–Ϋ–Η–Κ–Α―Ö, –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ―è―Ö: –≥–Ψ–¥―΄ –Η –Φ–Β―¹―²–Α ―¹–Μ―É–Ε–±―΄, ―É―΅–Β–±―΄, –Ω–Ψ–≤―΄―à–Β–Ϋ–Η―è –Κ–≤–Α–Μ–Η―³–Η–Κ–Α―Ü–Η–Η, –Φ–Β―¹―²–Ψ ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è, –Ε–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α, –Η–Ϋ―΄–Β –±–Η–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β ―¹–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è. –€―΄ ―¹―²―Ä–Β–Φ–Η–Φ―¹―è ―¹–Ψ–±―Ä–Α―²―¨ –≤―¹–Β –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Β –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ψ –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Α―Ö, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α―Ö, –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ―è―Ö –≤―¹–Β―Ö ―²―Ä–Β―Ö –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö ―É―΅–Η–Μ–Η―â. –ü―Ä–Ψ―¹―¨–±–Α –Ω―Ä–Η―¹―΄–Μ–Α―²―¨ –≤―¹–Β, ―΅–Β–Φ ―¹―΅–Η―²–Α–Β―²–Β –≤–Ω―Ä–Α–≤–Β –Ω–Ψ–¥–Β–Μ–Η―²―¨―¹―è, –≤―¹–Β, ―΅―²–Ψ, –Ω–Ψ –£–Α―à–Β–Φ―É –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é, –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Ι―²–Η –Ψ―²―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –≤ –Ϋ–Α―à–Β–Ι –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η. –£–Β―Ä―é–Ε―¹–Κ–Η–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–£–ù–ê), –™–Ψ―Ä–Μ–Ψ–≤ –û–Μ–Β–≥ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–û–ê–™), –€–Α–Κ―¹–Η–Φ–Ψ–≤ –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–€–£–£), –ö–Γ–£. 198188. –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥, ―É–Μ. –€–Α―Ä―à–Α–Μ–Α –™–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α, –¥–Ψ–Φ 11/3, –Κ–≤. 70. –ö–Α―Ä–Α―¹–Β–≤ –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅, –Α―Ä―Ö–Η–≤–Α―Ä–Η―É―¹. karasevserg@yandex.ru
02.02.201009:1002.02.2010 09:10:20
0
02.02.201008:2902.02.2010 08:29:30
–Γ–Β–Φ–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²―΄–Β ―¹―É―²–Κ–Η –Ω–Ψ–¥ –ü–Α–Ϋ―Ü–Η―Ä–Β–Φ.  –£–Ψ―² –Η –≤―¹–Β! –•–Β–Μ–Ψ–± –¦–Β–Ϋ―΄ βÄ™ –Ω–Ψ–Ζ–Α–¥–Η! –ü―Ä–Ψ―â–Α–Ι, –ê―Ä–Κ―²–Η–Κ–Α! –ü―Ä–Ψ―â–Α–Ι, –ü–Α–Ϋ―Ü–Η―Ä―¨! –ê –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, –î–Ψ ―¹–≤–Η–¥–Α–Ϋ―¨―è? –€―΄ –Ω–Ψ―΅―²–Η –≤―΄―à–Μ–Η –Η–Ζ-–Ω–Ψ–¥–Ψ –Μ―¨–¥–ΑβÄΠ –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ –±―É–¥–Β―² –Ω–Ψ–Μ–Β–≥―΅–ΒβÄΠ –Η –≤ ―¹–Φ―΄―¹–Μ–Β –Ϋ–Β―Ä–≤–Ψ–≤βÄΠ –Η –≤–Ψ–Ψ–±―â–ΒβÄΠ –ü―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ –≤―¹–Β –Ε–Β ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–≤–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ, ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ –Ϋ–Α–¥ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ψ–Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è –ß–Η―¹―²–Α―è –£–Ψ–¥–Α... –ü–Μ–Α―¹―² ―²–Ψ–Μ―â–Η–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Α–Κ–Η―Ö-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ 50, 60, 80, 100... –Α –Φ–Ψ–Ε–Β―² βÄ™ 200 –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤... –€–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è βÄ™ 06.21... –‰–¥–Β–Φ –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥, –Ζ–Α–±―΄–≤ –½–Β–Φ–Μ–Η –¥―΄―Ö–Α–Ϋ―¨–Β, –ù–Β ―¹–±―Ä–Ψ―¹–Η–≤ –¥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Α –¦–Β–¥–Ψ–≤―΄–Ι –ü–Α–Ϋ―Ü–Η―Ä―¨, –£ –¥―É―à–Β βÄ™ –Μ―é–±–Ψ–≤―¨, –Φ–Β―΅―²―΄, –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ―¨―è, –£ ―É―à–Α―Ö βÄ™ –≥―É–¥–Κ–Η –Φ–Β―²―Ä–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Ψ–Ι ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η –£ –≥–Μ–Α–Ζ–Α―Ö βÄ™ –≥–Μ–Α–Ζ–Α –¦―é–±–Η–Φ–Ψ–Ι, –Κ–Α–Κ –Φ–≥–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ―¨―è –ü–Ψ–¥ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≥–Ψ–Φ –Ψ―¹–Β–Ϋ–Ϋ–Β–Ι –ë–Α―Ä–Κ–Α―Ä–Ψ–Μ―΄ –· –¥―É–Φ–Α―é –Ψ ―¹–≤–Β–Ε–Β―¹―²–Η –Ψ―¹–Β–Ϋ–Ϋ–Β–Ι, –‰ –Ψ ―Ö―Ä―É―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Κ–Α–Ζ–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β... 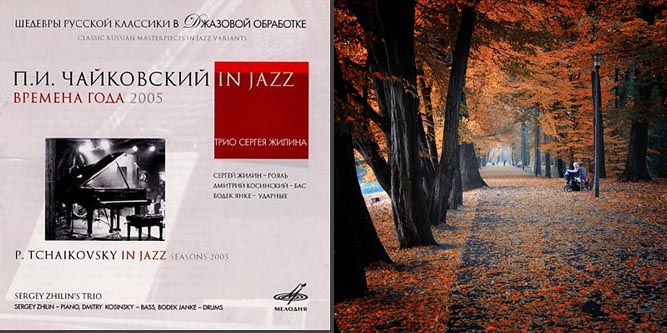 –‰ –≤–Ψ―² –€―΄ βÄ™ –≤ –™―Ä–Β–Ϋ–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β! –ï―¹―²―¨ ―²–Α–Κ–Α―è ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Α –≤–Β―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Α βÄ™ –™―Ä–Β–Ϋ–Μ–Α–Ϋ–¥–Η―è... –®–Μ―è–Β–Φ―¹―è –Ω–Ψ –Κ–≤–Α–¥―Ä–Α―²–Α–Φ... –Γ–Μ―É―à–Α–Β–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β... –ù–Α–Φ –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ϋ–Α–¥–Ψ... –£―¹–Β ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ... –≠–Κ–Η–Ω–Α–Ε –Ζ–Α–Φ–Β―²–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–≤–Β―¹–Β–Μ–Β–Μ, ―¹–±―Ä–Ψ―¹–Η–≤ ―²―è–Ε–Β―¹―²―¨ –ü–Α–Ϋ―Ü–Η―Ä―è... –£ –¥―É―à–Α―Ö βÄ™ –Ζ–Α–Φ–Β―²–Ϋ–Α―è –Μ–Β–≥–Κ–Ψ―¹―²―¨... –Θ–Μ―΄–±–Κ–Η... –Λ–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Η–Β –Ω–Ψ–±–Α―¹–Β–Ϋ–Κ–Η –≤ –Κ–Α―é―²-–Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η... –Γ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Φ βÄ™ ―¹ –û–±–Μ–Β–≥―΅–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –£–Α―¹, ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Η! –û―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ –€–Ϋ–Β –≤ –≠–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β –Ζ–Α–Φ–Β―²–Ϋ–Ψ –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨... –Γ–Ψ –€–Ϋ–Ψ–Ι –Ζ–Α–≥–Ψ–≤–Α―Ä–Η–≤–Α―é―²... –Ζ–Ψ–≤―É―² –≤ –Κ–Α―é―²-–Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η―é –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Η–Μ―¨–Φ–ΑβÄΠ –ß–Α―¹―²–Ψ βÄ™ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α―é―² ―É–Μ―΄–±–Κ–Α–Φ–Η. –Γ –Ψ―¹–Ψ–±―΄–Φ ―É–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η–Β–Φ –Ω–Ψ―¹–Β―â–Α―é –Ω―É–Μ―¨―² ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Ι ―ç–Ϋ–Β―Ä–≥–Β―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Ψ–Ι... –Θ–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ―Ü―΄ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α―é―² –Φ–Β–Ϋ―è ―Ä–Α–¥―É―à–Ϋ–Ψ, –Α –· –Ϋ–Β –Ω–Β―Ä–Β―¹―²–Α―é –≤–Ψ―¹―Ö–Η―â–Α―²―¨―¹―è –Γ–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι―¹―²–≤–Η―é, ―¹ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –Ψ–Ϋ–Η –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α―é―² –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΄ –Η –Ψ―²–¥–Α―é―² –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄ –≤ ―ç–Ϋ–Β―Ä–≥–Β―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Ψ―²―¹–Β–Κ–Η... –ü–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Β, –Η―Ö –Ζ–Α–±–Α–≤–Μ―è–Β―² –€–Ψ―è –≤–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨... –ù–Ψ ―è –≤–Η–Ε―É βÄ™ –Η–Φ –Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Α –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Η―¹–Κ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –¦―É–Κ–Α–≤―¹―²–≤–Α –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ϋ–Β―²: –Φ–Ϋ–Β ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –û–±―ä–Β–Φ –½–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Ι ―ç―²–Η―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι! –ê –≤–Β–¥―¨ –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –≤―¹–Β ―ç―²–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―²―¨ ―²–Ψ–Ε–Β...  –û–Ϋ-―²–Ψ –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ―è–Κ–Α –Ζ–Ϋ–Α–Β―²... –ê –·? –£–Β–¥―¨ ―ç―²–Ψ βÄ™ ―²–Ψ–Ε–Β –•–Β–Μ–Β–Ζ–Ψ... –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Β―â–Β –≤ –Ϋ–Β―¹―Ä–Α–≤–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β–Φ –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Β, ―΅–Β–Φ ―É ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Ψ–≤... –€–Β―΅―²―΄, –Φ–Β―΅―²―΄! –™–¥–Β –≤–Α―à–Α ―¹–Μ–Α–¥–Ψ―¹―²―¨? –Θ―à–Μ–Η –Φ–Β―΅―²―΄, –Ψ―¹―²–Α–Μ–Α―¹―¨ ... –™―Ä―É―¹―²–Ϋ–Ψ, ―΅–Β―Ä―² –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Η! –€–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è βÄ™ 00.40... –û–Ω―è―²―¨ –≤–Α―Ö―²–Α... –†–Β―à–Α―é –Ζ–Α–¥–Α―΅–Κ―É, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –Ζ–Α–¥–Α–Μ –ü―ç–≠―³... –Ϋ–Α–¥–Ψ –Ϋ–Α–Ι―²–Η –Ϋ–Β–Η―¹–Ω―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤ ―¹―Ö–Β–Φ–Β... –†–Β–Μ–Β... ―Ä–Β–Ζ–Η―¹―²–Ψ―Ä―΄... –Κ–Ψ–Ϋ–¥–Β–Ϋ―¹–Α―²–Ψ―Ä―΄... –ß–Β―Ä―² –Ϋ–Ψ–≥―É ―¹–Μ–Ψ–Φ–Η―²... –€–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è βÄ™ 03.45... –†–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Ι –Ζ–Α–≤―²―Ä–Α–Κ, –· ―¹–Ω–Β―à―É –Ϋ–Α –≤―¹―²―Ä–Β―΅―É ―¹ –ù–Η–Φ! –Γ–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ä–Α–Ζ ―É–Ε–Β ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ... –‰ –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι ―Ä–Α–Ζ βÄ™ ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²―¨... –·, –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è, –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ: –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ζ–Α–≤―²―Ä–Α–Κ, –Ψ–±–Β–¥ –Η ―É–Ε–Η–Ϋ βÄ™ ―ç―²–Ψ ―Ä–Β–¥–Κ–Η–Β –Φ–Η–Ϋ―É―²―΄ –Ψ―²–¥―΄―Ö–Α... –ê ―ç―²–Η―Ö –Φ–Η–Ϋ―É―² –±―΄–Μ–Ψ ―²–Α–Κ –Φ–Α–Μ–Ψ... –£–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α―é―¹―¨ –Κ ¬Ϊ–≤–Β―Ä―¹―²–Α–Κ―É¬Μ... –Δ–Α–Κ –ü―ç–≠―³ –Η –≠―¹–®–Α –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é―² ―¹―²–Ψ–Μ –Α–≤―²–Ψ–Ω―Ä–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΅–Η–Κ–Α... –û―΅–Β–Ϋ―¨ ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ! –ï―â–Β ―΅–Α―¹ –Φ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Ι βÄ™ –Η –Ζ–Α–¥–Α―΅–Α ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Α! –Δ–Α–Ι–Κ–Ψ–Φ ―¹–Ω―É―¹–Κ–Α―é―¹―¨ –≤ –≥–Η―Ä–Ψ–Ω–Ψ―¹―²... –≠―¹–®–Α ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Η―² ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²... –≠―²–Η –Φ–≥–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η―è βÄ™ –Κ–Α–Κ –≤–Β―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨! –û–Ϋ –Ω―Ä–Ψ―²―è–≥–Η–≤–Α–Β―² –Φ–Ϋ–Β –Μ–Η―¹―²–Κ–Η... ¬Ϊ–£―¹–Β –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ... –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ζ–Α―΅–Β–Φ ―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Μ–Η―à–Ϋ–Β–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄?¬Μ –ê ―΅–Β―Ä―² –Β–≥–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Β―², –Ζ–Α―΅–Β–Φ! –†–Α–¥–Ψ―¹―²―¨ –Ω–Β―Ä–Β–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Β―² –€–Β–Ϋ―è! –ü–Β―Ä–≤―΄–Ι ―Ä–Α–Ζ ―è –Γ–Α–Φ –Ϋ–Α―à–Β–Μ –Ϋ–Β–Η―¹–Ω―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨! –Γ–Α–Φ! –Γ–Α–Φ! –ü―ç–≠―³ ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ–¥―É―à–Β–ΫβÄΠ ¬Ϊ–ù–Β―¹–Η―²–Β –Ζ–Α―΅–Β―²–Ϋ―΄–Ι –Μ–Η―¹―²...¬Μ –ï―â–Β –Ψ–¥–Ϋ–Α –Ζ–Α–Ω–Η―¹―¨... –ï―â–Β –Ψ–¥–Ϋ–Α ―¹―²―É–Ω–Β–Ϋ―¨–Κ–Α –Κ –ü―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―é –≠–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α! –ù–Α–Κ–Μ–Ψ–Ϋ―è―é―¹―¨ –Κ ―²―Ä―É–±–Β: ¬Ϊ–™–Η―Ä–Ψ–Ω–Ψ―¹―²! –î–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É –ë–ß βÄ™ –≤―Ä–Β–Φ―è 07.45...¬Μ –£ ―ç―²–Ψ―² ―Ä–Α–Ζ –Ζ–Α―¹―΄–Ω–Α―é ―¹―Ä–Α–Ζ―É... –£–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α –ß–Η―¹―²―É―é –£–Ψ–¥―É.–ü–Α–Ϋ―Ü–Η―Ä―¨ –Ψ―¹―²–Α–Μ―¹―è –Ω–Ψ–Ζ–Α–¥–Η... –ü–Β―Ä–Β―¹―²―Ä–Α―Ö–Ψ–≤–Α–≤―à–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –≤―¹―è–Κ–Η–Ι ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι, –≤―¹–Ω–Μ―΄–≤–Α–Β–Φ –±–Β–Ζ ―Ö–Ψ–¥–Α... –ù–Α –Η–Ϋ–¥–Η–Κ–Α―²–Ψ―Ä–Α―Ö –≤―¹–Β―Ö –Ω―Ä–Η–±–Ψ―Ä–Ψ–≤ βÄ™ –ß–Η―¹―²–Α―è –£–Ψ–¥–Α! –ù–Η ―²–Β–±–Β –Ω–Ψ–Μ―΄–Ϋ–Β–Ι, –Ϋ–Η ―²–Β–±–Β –Μ―¨–¥–Η–Ϋ... –ö―Ä–Α―¹–Ψ―²–Α! –‰ –≤–Ψ―² βÄ™ –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Α 7 –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤... –ù–Α―¹ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α―é―²: ―²–Ψ―² –Ε–Β ―¹–Α–Φ―΄–Ι –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–Α–Μ –Ω–Ψ–¥ –ü–Α–Ϋ―Ü–Η―Ä―¨... –ê –≤–Ψ―² –Η ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²... –ü―Ä–Η–≤–Β―², ―Ä–Β–±―è―²–Α! –€―΄ βÄ™ –Ε–Η–≤―΄βÄΠ –Γ–Ω–Α―¹–Η–±–Ψ –Ζ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Μ–Η –≤―΄–Ι―²–Η –Η–Ζ-–Ω–Ψ–¥ –ü–Α–Ϋ―Ü–Η―Ä―èβÄΠ –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –≤ ―Ä―É–±–Κ–Β ―Ä–Α–¥–Η―¹―²–Ψ–≤ –Ψ–±―â–Α–Β―²―¹―è ―¹ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ψ–Φ –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Α... –ü―ç–≠―³ –Η –≠―¹–®–Α –Κ–Ψ–Μ–¥―É―é―² ―É –ö–ü–Λ-–½–ö... –ê –· ―¹–Φ–Ψ―²―Ä―é –≤ –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω... –ö―Ä―É―΅―É –≤ ―¹–≤–Ψ–Β ―É–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η–Β... –Δ―É–¥–Α βÄ™ ―¹―é–¥–Α... –¦–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –≤–Η–¥–Β–Ϋ... –û–Ϋ –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι, ―¹ ―è―Ä–Κ–Ψ-–Ψ―Ä–Α–Ϋ–Ε–Β–≤–Ψ–Ι –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Α–¥―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ–Ψ–Ι... –ß―²–Ψ–± –Μ―É―΅―à–Β –±―΄–Μ–Ψ –≤–Η–¥–Ϋ–Ψ –≤–Ψ –Μ―¨–¥–Α―Ö –Ω―Ä–Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Κ–Α―Ö ―¹―É–¥–Ψ–≤... –½–Α –Ϋ–Η–Φ βÄ™ –≥―Ä–Ψ–Φ–Α–¥–Ϋ―΄–Ι –Α–Ι―¹–±–Β―Ä–≥... –£–Ψ―² –Β―â–Β –Ψ–¥–Η–Ϋ... –ê ―¹–Μ–Β–≤–Α βÄ™ –Β―â–Β... –û, –¥–Α –Η―Ö ―²―É―² –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ! –€–Ψ―Ä–Β βÄ™ ―¹–≤–Η–Ϋ―Ü–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ ―Ü–≤–Β―²–Α... –ß―É―²―¨ –¥―΄―à–Η―²... –ù–Α―¹ –Ω–Ψ―΅―²–Η –Ϋ–Β –Κ–Α―΅–Α–Β―²... –Γ–Ζ–Α–¥–Η βÄ™ ―¹–Ω–Μ–Ψ―à–Ϋ–Α―è ―¹–Β―Ä–Α―è –Φ–≥–Μ–Α... –Δ–Α–Κ –ê―Ä–Κ―²–Η–Κ–Α –≤―΄―Ä–Α–Ε–Α–Β―² –Ϋ–Α–Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–Κ ―¹–≤–Ψ–Β –Ϋ–Β–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–ΨβÄΠ –€–Ϋ–Β –≤―¹–Β-―²–Α–Κ–Η –≥―Ä―É―¹―²–Ϋ–Ψ... –¦–Β–¥―è–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ–Μ―è –Η ―²–Ψ―Ä–Ψ―¹―΄, –Ω–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Β, –Ϋ–Α–≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ψ–±–Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Φ–Ψ–Β–Ι –î―É―à–ΒβÄΠ –Γ―²–Α–Μ–Η ―΅–Α―¹―²―¨―é –€–Β–Ϋ―è... –ê ―è βÄ™ ―΅–Α―¹―²–Η―΅–Κ–Ψ–Ι –ë–Β–Μ–Ψ–≥–Ψ –ë–Β–Ζ–Φ–Ψ–Μ–≤–Η―è... 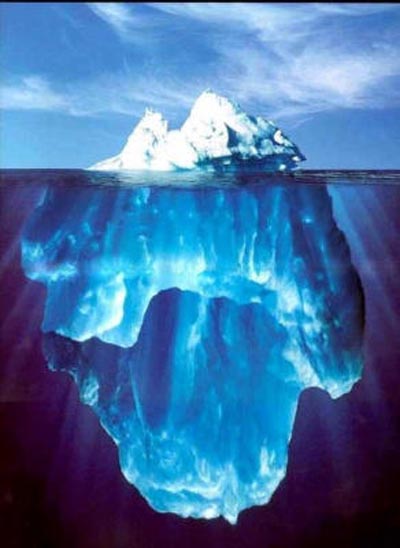 –Ω–Μ―΄–≤–Β―² –Ω–Ψ –≤–Ψ–Μ–Ϋ–Β, –£ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –¥–Μ―è –≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²–Η... –ù–Α ―²―Ä–Η ―΅–Β―²–≤–Β―Ä―²–Η –Ψ–Ϋ βÄ™ –≤ –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Β, –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅–Β―²–≤–Β―Ä―²―¨ –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Ψ―¹―²–Η... –‰ –Μ―é–±–Ψ–≤―¨ –Φ–Ψ―è, ―²–Ψ–Ε–Β –Ψ–¥–Ϋ–Α, –£―¹–Β –Ω–Μ―΄–≤–Β―² ―¹–Κ–≤–Ψ–Ζ―¨ –≥–Ψ–¥–Α –Μ–Β–¥–Ψ–≤–Η―²―΄–Β... –¦–Η―à―¨ –Ϋ–Α ―΅–Β―²–≤–Β―Ä―²―¨, –Ϋ–Α ―΅–Β―²–≤–Β―Ä―²―¨ ―¹–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η –≤–Η–¥–Ϋ–Α, –ù–Α ―²―Ä–Η ―΅–Β―²–≤–Β―Ä―²–Η –≤ ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Β ―É–Κ―Ä―΄―²–Α―è... (–Ω–Β―¹–Ϋ―è –Ω–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤) –û–Ω―è―²―¨ –· –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―é ―¹ –ù–Β–Ι... –†–Ψ–≤–Ϋ–Ψ –Φ–Β―¹―è―Ü –Ω―Ä–Ψ―à–Β–Μ ―¹ ―²–Β―Ö –Ω–Ψ―Ä, –Κ–Α–Κ –· –Ω–Ψ―Ü–Β–Μ–Ψ–≤–Α–Μ –ï–Β –Ϋ–Α –Ω–Ψ―Ä–Ψ–≥–Β –Κ–≤–Α―Ä―²–Η―Ä―΄ ⳕ71... –ß–Α―¹―²–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è―é –ï–Β –≤ –ù–Β–Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–Ι –ï–Β –•–Η–Ζ–Ϋ–Η –ë–Β–Ζ –€–Β–Ϋ―è... –ù–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, –Ψ―¹―²―Ä–Ψ―²–Α –≥―Ä–Β–Φ–Η―Ö–Η–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Ψ―â―É―â–Β–Ϋ–Η–Ι –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Β―Ä–Κ–Μ–Α –Ϋ–Α ―³–Ψ–Ϋ–Β –Μ–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–Ι ―΅―É–¥–Β―¹–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ―¹–Β–Ϋ–Η... –ê –· –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Α–±―΄–Μ... –‰ –Β―â–Β –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ ―ç―²–Η –Ψ―â―É―â–Β–Ϋ–Η―è –±―É–¥―É―² –Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―à–Α―²–Κ–Η–Φ –Φ–Ψ―¹―²–Κ–Ψ–Φ –Κ –ù–Β–Ι... –Ψ―²―¹―é–¥–Α... –ü–Η―à―É –Δ–Β–±–Β –Ψ–±–Ψ –≤―¹–Β–Φ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ –Β―¹–Μ–Η –≤―¹–Β –±―É–¥–Β―² ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ βÄ™ ―΅–Η―²–Α―²―¨ ―ç―²–Ψ –±―É–¥–Β―² –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Ψ... –Δ–Α–ΦβÄΠ –£ –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―É―é―²–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–≤–Α―Ä―²–Η―Ä–Β... –Γ–Φ–Β―à–Ϋ–Ψ –Η –Ζ–Α–±–Α–≤–Ϋ–Ψ... –ê –Β―¹–Μ–Η –· –Ϋ–Β –≤–Β―Ä–Ϋ―É―¹―¨ βÄ™ –Δ―΄ –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β ―΅–Η―²–Α―²―¨ –Ϋ–Β –±―É–¥–Β―à―¨βÄΠ –Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ, –Ϋ―΄―²–Η–Κ–Ψ–Φ ―è –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Β ―Ä–Η―¹–Κ―É―éβÄΠ –£―΅–Β―Ä–Α ―Ä–Α–¥–Η―¹―²―΄ –Ε–Β―¹―²–Ψ–Κ–Ψ –Ω–Ψ―à―É―²–Η–Μ–Η: ¬Ϊ–¦–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ –Ω–Ψ―΅―²―É –Ω―Ä–Η–≤–Β–Ζ!¬Μ –®―É―²–Κ―É –Ϋ–Β –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Η–Μ–Η, –Ζ–Α―²–Ψ ―Ä–Α–Ζ―Ä―è–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –±–Β–¥–Ψ–Μ–Α–≥–Α―Ö –Ϋ–Α –≤―¹–Β 100%... –Γ―É―²–Κ–Η –Ϋ–Ψ―¹–Α –≤ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Ϋ–Β –Κ–Α–Ζ–Α–Μ–ΗβÄΠ –£ –¥–Β―¹―è―²―΄–Ι ―Ä–Α–Ζ –Ω–Β―Ä–Β―΅–Η―²–Α–Μ –Δ–≤–Ψ―é ―²–Β―²―Ä–Α–¥–Ψ―΅–Κ―É ―¹ –Ω–Η―¹―¨–Φ–Α–Φ–Η.. –¦–Ψ–≤–Μ―é ―¹–Β–±―è –Ϋ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η ―²–Ψ–Ι –Ε–Β –Η–¥–Η–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–Ι –Φ―΄―¹–Μ–Η: –≤–¥―Ä―É–≥ –Β―â–Β –Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Ω–Η―¹―¨–Φ–Β―Ü–Ψ –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η―²―¹―èβÄΠ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –Ω―Ä–Ψ–Ω―É―¹―²–Η–Μ, ―΅–Η―²–Α―èβÄΠ –Θ–≤―΄βÄΠ –ß–Α―¹―²–Ψ –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―é –Δ–≤–Ψ–Ι –û―΅–Β–Ϋ―¨ ―Ö–Ψ―΅–Β―²―¹―èβÄΠ –Ξ–Ψ―²―¨ –Μ–Ψ–Ε–Β―΅–Κ―É –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ–±–Ψ–≤–Α―²―¨βÄΠ  –ü–Β―Ä–≤―΄–Ι –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²―¹–Κ–Η–Ι –Α–¥―Ä–Β–Ϋ–Α–Μ–Η–Ϋ (–Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β). –ü–Β―Ä–≤―΄–Ι –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²―¹–Κ–Η–Ι –Α–¥―Ä–Β–Ϋ–Α–Μ–Η–Ϋ (–Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β).–Γ–Ψ–Ϋ ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –≤–Η–¥–Β–Μ... –Π–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨... –¦―é–¥–Η... –‰ ―΅–Α―¹―²―΄–Ι - ―΅–Α―¹―²―΄–Ι –û―²–Κ―Ä―΄–≤–Α―é –≥–Μ–Α–Ζ–Α... –ö–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Ψ–Μ, ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ,.. –ü–Β―Ä–Β–Ζ–≤–Ψ–Ϋ... ¬Ϊ–Α–≤–Α―Ä–Η–Ι–Ϋ–Α―è ―²―Ä–Β–≤–Ψ–≥–Α! –ü–Ψ–Ε–Α―Ä –≤ ―¹–Β–¥―¨–Φ–Ψ–Φ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Β... –™–Ψ―Ä–Η―²..¬Μ –î–Η―³―³–Β―Ä–Β–Ϋ―² –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Φ―É –Ζ–Α–Φ–Β―²–Ϋ―΄–Ι... –ë―΄―¹―²―Ä–Ψ –≤―¹–Ω–Μ―΄–≤–Α–Β–Φ... –· –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é –≤ –≥–Η―Ä–Ψ–Ω–Ψ―¹―²―É: ¬Ϊ–ü―Ä–Η–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²―¨ ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α –Η–Ϋ–¥–Η–≤–Η–¥―É–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ζ–Α―â–Η―²―΄! –ü―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Η―²―¨ ―Ä–Β–Ζ–Β―Ä–≤–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η–Β!¬Μ –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄ –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è―é―²―¹―è...  –Δ―Ä–Η –¥–Μ–Η–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ζ–≤–Ψ–Ϋ–Κ–Α... ¬Ϊ–û―²–±–Ψ–Ι –Α–≤–Α―Ä–Η–Ι–Ϋ–Ψ–Ι ―²―Ä–Β–≤–Ψ–≥–Η!¬Μ –û–±–Ψ―à–Μ–Ψ―¹―¨... –Γ–Μ–Α–≤–Α –±–Ψ–≥―É... –ê –≤–Ψ―² –Ϋ–Α "–ö-8" –≤ 1970 –≥–Ψ–¥―É –Ϋ–Β –Ψ–±–Ψ―à–Μ–Ψ―¹―¨... –¦–Ψ–≤–Μ―é –≤ ―¹–Β–±–Β –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Β –Ψ―â―É―â–Β–Ϋ–Η–Β: ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è ―è –±―΄–Μ ―΅–Α―¹―²―¨―é –≠–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α... –‰ - ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Η... –Ζ–Α ―Ä–Β–±―è―² –Ϋ–Α –Ω―É–Μ―¨―²–Β... –Δ–Β, –Ϋ–Α ¬Ϊ–ö-8¬Μ, –Ω–Ψ–≥–Η–±–Μ–Η... –Γ–Ω–Η―²–Β, –Ψ―Ä–Μ―΄ –±–Ψ–Β–≤―΄–Β! –ü―É―¹―²―¨ –½–Μ–Α―è –ü―É―΅–Η–Ϋ–Α ―¹―²–Α–Ϋ–Β―² –£–Α–Φ –Φ―è–≥–Κ–Ψ–Ι –Κ―É–Ω–Β–Μ―¨―é! –€―΄ –£–Α―¹ –Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Φ... –£―¹–Β–≥–¥–Α... –ê –ö–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ ―²–Β–Φ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Β–Φ –≤―΄―à–Β–Μ –≤ –ù–Ψ―Ä–≤–Β–Ε―¹–Κ–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä–Β... –ü–Ψ–Κ–Α ―è ―¹–Ω–Α–Μ... –Γ–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Β–¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –€―΄ ―É–Ε–Β –Ψ―² –î–Ψ–Φ–Α! –ü–Β―Ä–≤―΄–Β –Ψ–±–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η―è –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Ω―΄―²–Α (–Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β).–€–Ϋ–Β –Ϋ–Β―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–≤–Β–Ζ–Μ–Ψ ―¹ –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²―¹–Κ–Η–Φ –Γ―²–Α―Ä―²–Ψ–Φ! –ß―²–Ψ –Ε–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ–Ι―²–Η ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―¹―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Η –≤―¹–Β –Ζ–≤–Β–Ϋ―¨―è –≤ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ–Ι ―Ü–Β–Ω–Η –¦–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²―¹–Κ–Ψ–Ι –Θ–¥–Α―΅–Η? –ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –Ψ―²–¥–Β–Μ–Α –Κ–Α–¥―Ä–Ψ–≤ ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β –€–Β–Ϋ―è –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Μ... –Γ―²–Α–Ε–Η―Ä–Ψ–≤–Κ―É ―è –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –Ϋ–Β ―É –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α, –Α ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Α –¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ –ö–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β... –†–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Α–Φ–Η –Ω–Ψ –¥–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ–Α–Φ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≤ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β ―è –Ϋ–Β –±–Μ–Η―¹―²–Α–Μ... –£ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η –¥–Ψ –€–Ψ–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Η–±―΄―²–Η―è... ¬Ϊ–£―΄―¹–Ψ–Κ–Η―Ö¬Μ –Ω–Ψ–Κ―Ä–Ψ–≤–Η―²–Β–Μ–Β–Ι ―É –€–Β–Ϋ―è –Ϋ–Β―² –Η –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β 6―΄–Μ–Ψ... –ü―Ä–Ψ―¹–Η―²―¨ –Ζ–Α –€–Β–Ϋ―è –Ϋ–Β–Κ–Ψ–Φ―É... –ù–Ψ - ―¹–Α–Φ–Ψ–Β –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β –Η –¥–Ψ ―¹–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä –€–Ϋ–Β ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β–Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Ϋ–Ψ–Β: ―΅―²–Ψ –Ε–Β –Ω–Ψ–±―É–¥–Η–Μ–Ψ –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –≤–Ζ―è―²―¨ –≤ –Δ–Α–Κ–Ψ–Ι –ü–Ψ―Ö–Ψ–¥ –Ϋ–Β–¥–Ψ–Ω―É―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α? –‰–Φ–Β―è –Ϋ–Α –ö–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β –≤ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹―²–Α―Ä―à–Β–≥–Ψ ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Α –Ϋ–Β–¥–Α–≤–Ϋ–Β–≥–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Ε–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄? –Δ–Β–Φ –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β, ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Β―â–Β –Κ–Α–Κ-―²–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ–Η―²―¨: –≤―¹–Β-―²–Α–Κ–Η ―è - –Η–Ζ –Β–≥–Ψ –≠–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α... –ù–Α–¥–Ψ –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –≤–≤–Ψ–¥–Η―²―¨ –≤ ―¹―²―Ä–Ψ–Ι –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–≥–Ψ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α, –Α –Α–≤―²–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Κ–Α –¥–Μ―è ―ç―²–Ψ–≥–Ψ (–Κ–Α–Κ ―è ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α―é) –Η–¥–Β–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –≤–Α―Ä–Η–Α–Ϋ―²... –ê ―΅–Β–Φ –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ–Η―²―¨ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –Η ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η–Β ―¹ ―ç―²–Η–Φ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –®―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Α –Λ–Μ–Ψ―²–Α? –û–Ϋ–Η ―΅―²–Ψ, –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η, –ö―É–¥–Α –Η–¥–Β―² –ö–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨? –û–±―ä―è―¹–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α–Β―²―¹―è ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ: –Α–±―¹–Ψ–Μ―é―²–Ϋ–Α―è ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―ç―²–Η―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι –≤ –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Β –Η –≠–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β! –‰ ―ç―²–Ψ–Ι ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Β –≤ ―¹–Η–Μ–Α―Ö –±―΄–Μ –Ω–Ψ–Φ–Β―à–Α―²―¨ –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²- –Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ, –· –Ζ–¥–Β―¹―¨ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η ―΅–Β–Φ... –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ - –Β–Φ―É –Ϋ–Β –Ψ―²–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η... –£–Ψ―² –Η –≤―¹–Β... –· –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ –Β―â–Β, ―΅―²–Ψ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α ―¹ –Μ―é–¥―¨–Φ–Η ―É –€–Β–Ϋ―è –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Β―²―¹―è.¬Μ –û–Ϋ–Η –€–Ϋ–Β –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ―΄... –‰ ―É –€–Β–Ϋ―è –Β―¹―²―¨, ―΅―²–Ψ –Η–Φ –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨... 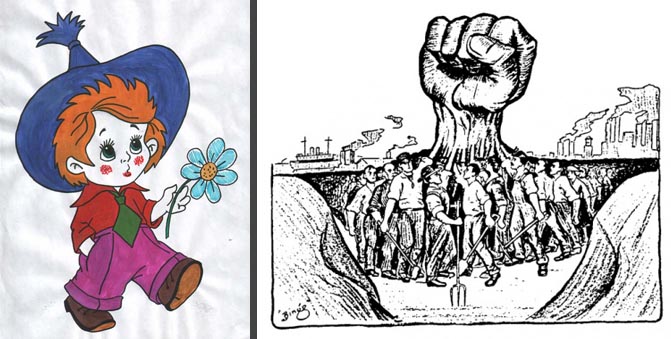 –‰ –Β―â–Β ―è –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ, ―΅―²–Ψ –®―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Β –î–Β–Μ–Ψ ―²―Ä–Β–±―É–Β―² –Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η –Η –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η... –€–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―²―¨ –•–Β–Μ–Β–Ζ–Ψ, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Ψ–±–Μ–Α–¥–Α―²―¨ –û―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Ζ–Α –ë–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –ö–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è... –‰ ―²–Ψ–≥–¥–Α - –≥–Ψ―Ä–Β –≠–Κ–Η–Ω–Α–Ε―É! –û–Ϋ ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¹―è –Ζ–Α–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –ï–¥–Η–Ϋ–Ψ–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Ι –ë–Β–Ζ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η... –ê –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ - –Η –Ϋ–Α–Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ―²... –‰ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –≤–Α―Ä–Η–Α–Ϋ―² –¥–Μ―è –ö–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è -–Μ―É―΅―à–Β... –Ξ–Ψ―²―è - ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –±―΄ –Η –Ζ–Ϋ–Α―²―¨ –Η –±―΄―²―¨ –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ! –Δ–Ψ–≥–¥–Α –Η –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Β –±–Ψ–Μ–Β―²―¨ –Ϋ–Β―² –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ.. –· ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ ―²–≤–Β―Ä–¥–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―é: –û―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―É –Φ–Β–Ϋ―è –Β―¹―²―¨! –½–Ϋ–Α―΅–Η―², –Η –•–Β–Μ–Β–Ζ–Ψ ―è –Ψ―¹–≤–Ψ―é... –Ξ–Ψ―²―è –±―΄ –¥–Μ―è ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―¹―²–Α―²―¨ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Φ ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Ψ–Φ... –Η–Ϋ–Α―΅–Β, –Κ―²–Ψ –Ε–Β –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ–≥–Ψ –Ω―É―¹―²–Η―² –≤ –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄? –ê –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä - ―ç―²–Ψ –ü–Β―Ä–≤―΄–Ι –®―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ –Ϋ–Α –ö–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β... –Η―¹―Ö–Ψ–¥―è –Η–Ζ ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Ι –≤―¹–Β―Ö ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―è―â–Η―Ö –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Ψ–≤ –Ω–Ψ –Μ–Η–Ϋ–Η–Η –ë–ß-1... –ù–Α―à –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, ―É–Φ–Β–Β―² –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―è―²―¨ –€–Β―¹―²–Ψ –ö–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è ―¹ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨―é –≤―¹–Β―Ö ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤ –Ϋ–Α–≤–Η–≥–Α―Ü–Η–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Β―¹―²―¨ –Ϋ–Α –ö–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β... –ê –≤–Ψ―² ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ - –Ϋ–Β ―É–Φ–Β–Β―²... –½–Ϋ–Α―΅–Η―², ―¹―²–Α―²―¨ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Φ ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Ψ–Φ - ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Α –Η–Ζ –Ψ–±―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―¹―²―É–Ω–Β–Ϋ–Β–Κ –Κ –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ―É! –‰ ―è –Ϋ–Α―΅–Α–Μ –≤–Ψ―¹―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ ―ç―²–Ψ–Ι –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ι ―¹―²―É–Ω–Β–Ϋ―¨–Κ–Β... –ü–Μ–Ψ―Ö–Ψ –Μ–Η, ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Μ–Η, - –Ϋ–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ... –‰ ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ ―É–Ε –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ―É―¹―¨ –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Β, –±―É–¥―¨―²–Β ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ―΄! –ê –¥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Α –Α–≤―²–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Κ–Η –Ψ―¹―²–Α–Μ–Η―¹―¨ ―΅―É―²―¨ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –¥–≤―É―Ö –Ϋ–Β–¥–Β–Μ―¨... –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É - –Ζ–Α ―Ä–Α–±–Ψ―²―É, ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Η! –‰ –Ϋ–Β –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ϋ–Η―²–Β―¹―¨ –Ϋ–Α ―¹―²―É–Ω–Β–Ϋ―¨–Κ–Β... –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―². –û–±―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Β –Κ –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö ―É―΅–Η–Μ–Η―â. 65-–Μ–Β―²–Ϋ–Β–Φ―É ―é–±–Η–Μ–Β―é –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α, 60-–Μ–Β―²–Η―é –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ψ–≤ –Δ–±–Η–Μ–Η―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, –†–Η–Ε―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö ―É―΅–Η–Μ–Η―â –Ω–Ψ―¹–≤―è―â–Α–Β―²―¹―è.–ü–Ψ–Ε–Α–Μ―É–Ι―¹―²–Α, –Ϋ–Β –Ζ–Α–±―΄–≤–Α–Ι―²–Β ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Α―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ–Α―à–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ –Ψ ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –±–Μ–Ψ–≥–Α, –Ω–Ψ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö ―É―΅–Η–Μ–Η―â, –Ψ –Ω–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö –Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Α―Ü–Η–Ι. –Γ–Ψ–Ψ–±―â–Α–Ι―²–Β ―¹–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ψ ―¹–Β–±–Β –Η ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ–Α―à–Ϋ–Η–Κ–Α―Ö, –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ―è―Ö: –≥–Ψ–¥―΄ –Η –Φ–Β―¹―²–Α ―¹–Μ―É–Ε–±―΄, ―É―΅–Β–±―΄, –Ω–Ψ–≤―΄―à–Β–Ϋ–Η―è –Κ–≤–Α–Μ–Η―³–Η–Κ–Α―Ü–Η–Η, –Φ–Β―¹―²–Ψ ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è, –Ε–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α, –Η–Ϋ―΄–Β –±–Η–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β ―¹–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è. –€―΄ ―¹―²―Ä–Β–Φ–Η–Φ―¹―è ―¹–Ψ–±―Ä–Α―²―¨ –≤―¹–Β –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Β –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ψ –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Α―Ö, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α―Ö, –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ―è―Ö –≤―¹–Β―Ö ―²―Ä–Β―Ö –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö ―É―΅–Η–Μ–Η―â. –ü―Ä–Ψ―¹―¨–±–Α –Ω―Ä–Η―¹―΄–Μ–Α―²―¨ –≤―¹–Β, ―΅–Β–Φ ―¹―΅–Η―²–Α–Β―²–Β –≤–Ω―Ä–Α–≤–Β –Ω–Ψ–¥–Β–Μ–Η―²―¨―¹―è, –≤―¹–Β, ―΅―²–Ψ, –Ω–Ψ –£–Α―à–Β–Φ―É –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é, –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Ι―²–Η –Ψ―²―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –≤ –Ϋ–Α―à–Β–Ι –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η. –£–Β―Ä―é–Ε―¹–Κ–Η–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–£–ù–ê), –™–Ψ―Ä–Μ–Ψ–≤ –û–Μ–Β–≥ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–û–ê–™), –€–Α–Κ―¹–Η–Φ–Ψ–≤ –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–€–£–£), –ö–Γ–£. 198188. –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥, ―É–Μ. –€–Α―Ä―à–Α–Μ–Α –™–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α, –¥–Ψ–Φ 11/3, –Κ–≤. 70. –ö–Α―Ä–Α―¹–Β–≤ –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅, –Α―Ä―Ö–Η–≤–Α―Ä–Η―É―¹. karasevserg@yandex.ru
02.02.201008:2902.02.2010 08:29:30
–Γ―²―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü―΄:
–ü―Ä–Β–¥.
|
1
|
...
|
740
|
741
|
742
|
743
|
744
|
...
|
865
|
–Γ–Μ–Β–¥.
|
|
–™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β –Ζ–Α –Ϋ–Β–¥–Β–Μ―é
|













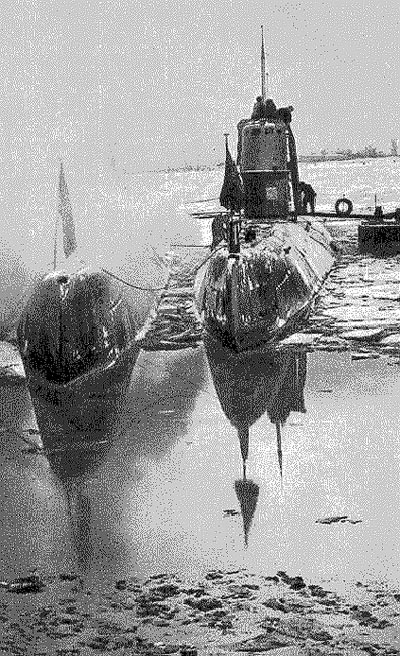


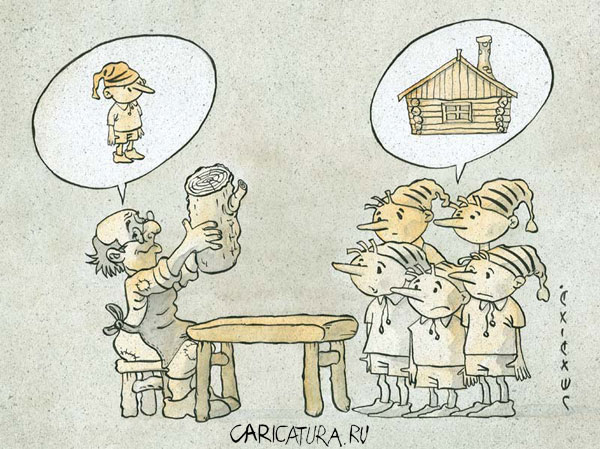
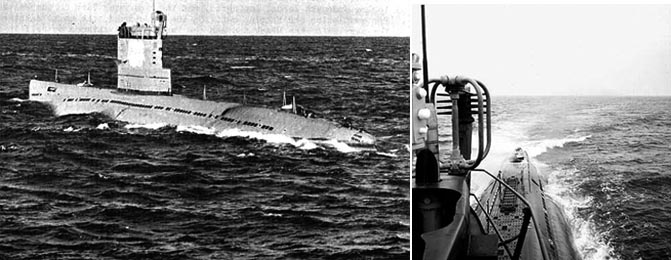
















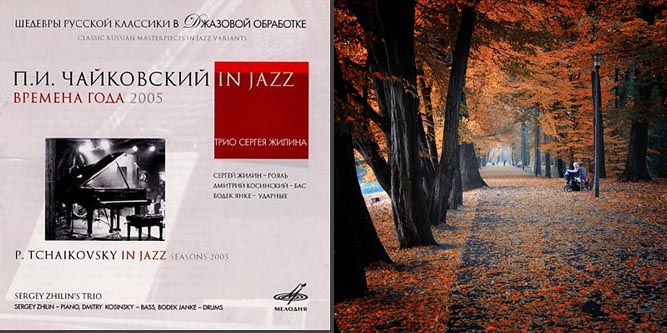

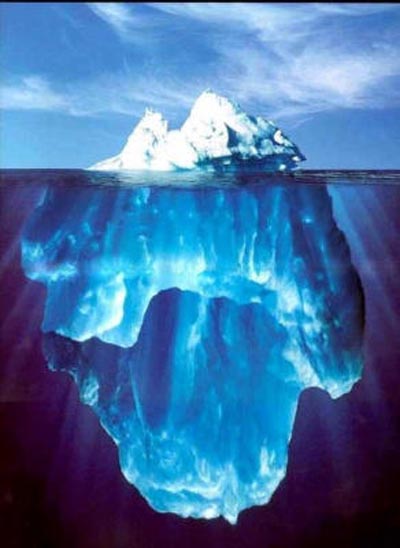


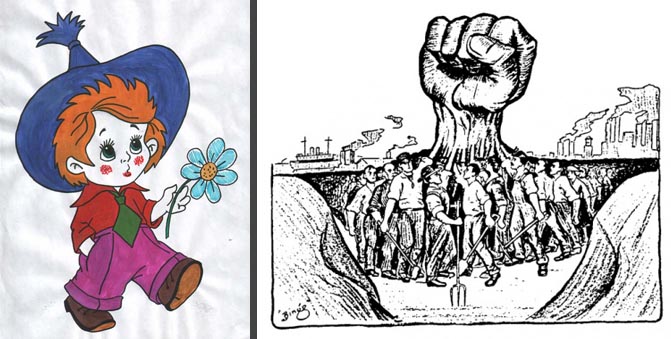
.jpg)


