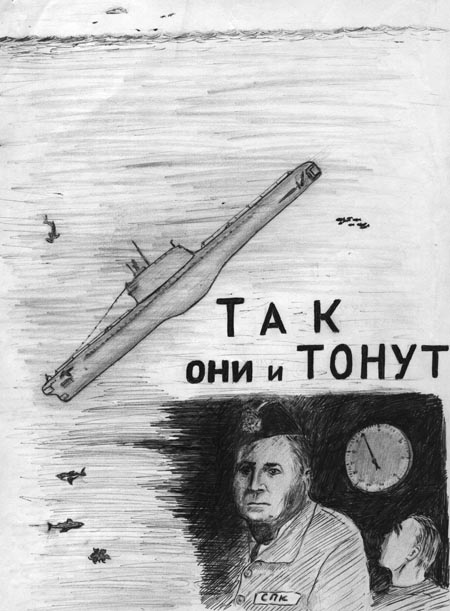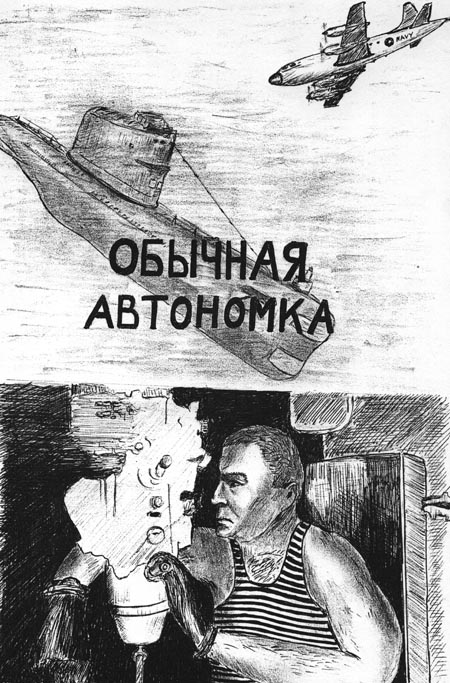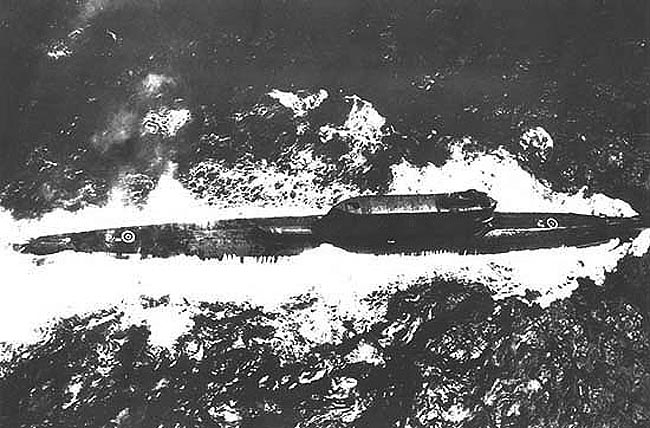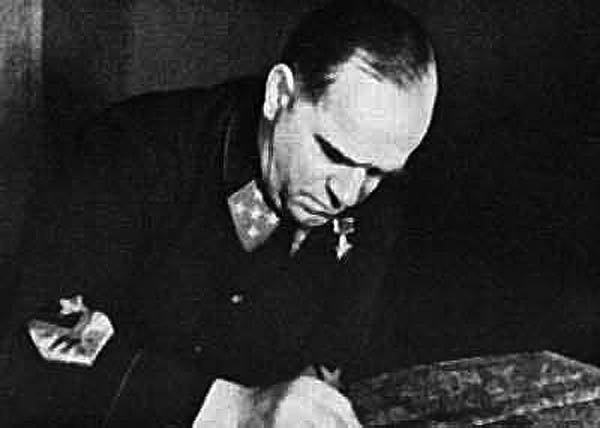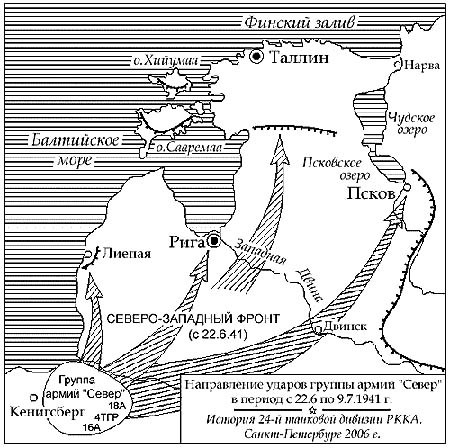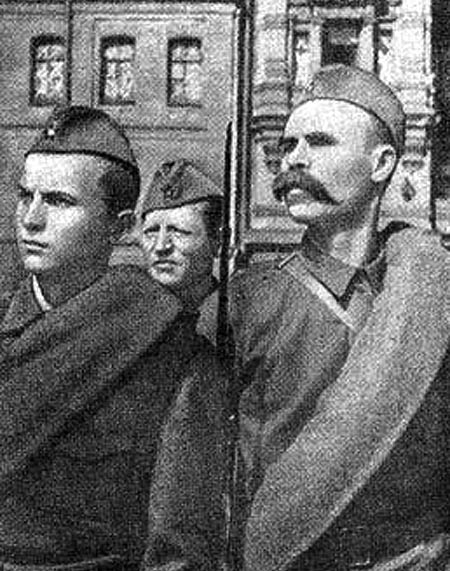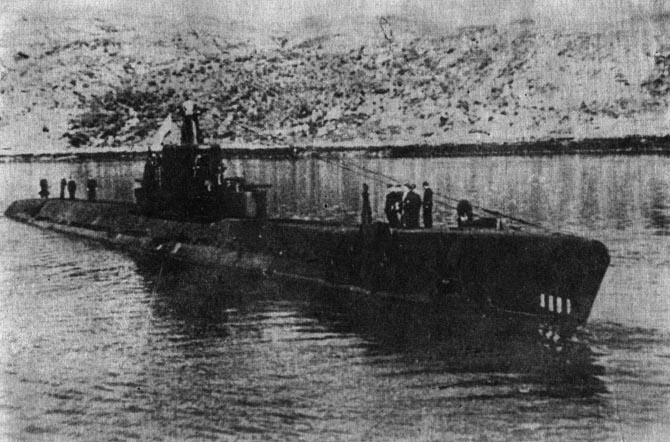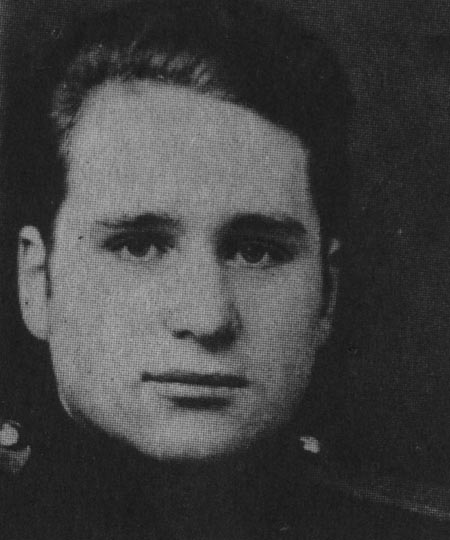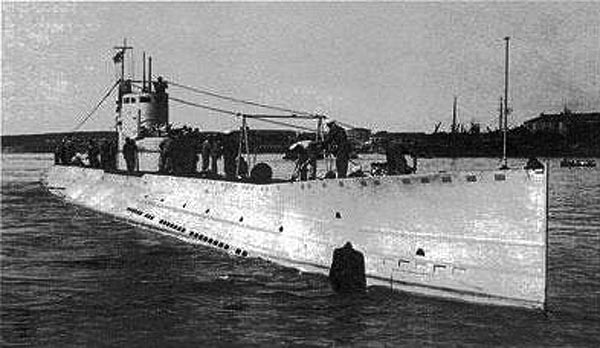–С–∞–љ–љ–µ—А

–Т–Є–і–µ–Њ–і–љ–µ–≤–љ–Є–Ї –Є–љ–љ–Њ–≤–∞—Ж–Є–є: –њ–µ—А—Б–њ–µ–Ї—В–Є–≤—Л 2025
|
–Т—Б–Ї–Њ—А–Љ–ї—С–љ–љ—Л–µ —Б –Ї–Њ–њ—М—П
0
07.11.200909:0707.11.2009 09:07:20
–Ю–Я–Р–°–Э–Р–ѓ –У–Ы–£–С–Ш–Э–Р, –Ш–Ы–Ш –Ґ–Р–Ъ –Ю–Э–Ш –Ш –Ґ–Ю–Э–£–Ґ 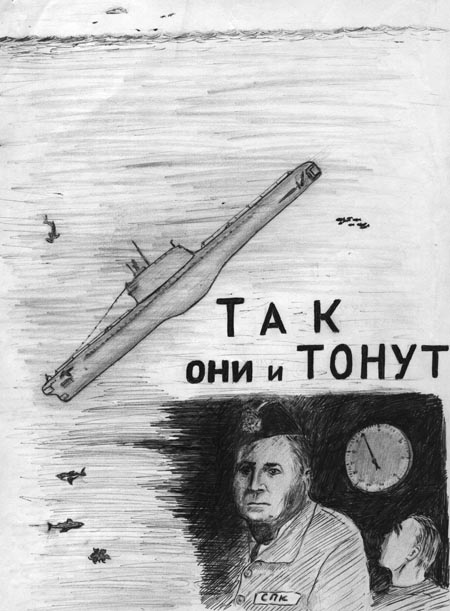 –Ю–њ—Л—В, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –љ–∞–Ї–∞–њ–ї–Є–≤–∞–ї—Б—П, –љ–Њ –і–∞–≤–∞–ї—Б—П —Б –љ–µ–Љ–∞–ї—Л–Љ —В—А—Г–і–Њ–Љ. –°–µ–є—З–∞—Б –≤—Б—П–Ї–Є–є –Љ–∞–ї—М—З–Є—И–Ї–∞, –љ–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ, –Ј–љ–∞–µ—В –Њ —В—А–∞–≥–µ–і–Є–Є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є "–Ъ-278" ("–Ъ–Њ–Љ—Б–Њ–Љ–Њ–ї–µ—Ж"). –Т –Њ–њ–Є—Б—Л–≤–∞–µ–Љ–Њ–µ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ –≥–Є–±–µ–ї–Є, –љ–Њ –Є –Њ–± –∞–≤–∞—А–Є–є–љ—Л—Е —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є—П—Е, –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞–≤—И–Є—Е –љ–∞ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Ї–∞—Е, –љ–Є –њ–Є—Б–∞—В—М, –љ–Є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М –±—Л–ї–Њ –љ–µ –њ—А–Є–љ—П—В–Њ. –Т –Љ–∞—А—В–µ 1968 –≥–Њ–і–∞ –≤ –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —П —Б–ї—Г–ґ–Є–ї, —Б–ї—Г—З–Є–ї–∞—Б—М —В—А–∞–≥–µ–і–Є—П: —Г—И–ї–∞ –≤ –Њ–Ї–µ–∞–љ –Є –љ–µ –≤–µ—А–љ—Г–ї–∞—Б—М –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–∞—П –ї–Њ–і–Ї–∞ "–Ъ-129", –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–ї –Љ–Њ–є —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З –Ъ–Њ–±–Ј–∞—А—М. –І–µ—А–µ–Ј –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –ї–µ—В –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Ж—Л –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–ї–Є –µ–µ –ї–µ–ґ–∞—Й–µ–є –љ–∞ –њ—П—В–Є–Ї–Є–ї–Њ–Љ–µ—В—А–Њ–≤–Њ–є –≥–ї—Г–±–Є–љ–µ. –Я–Њ–њ—Л—В–∞–ї–Є—Б—М –Њ–љ–Є –µ–µ –њ–Њ–і–љ—П—В—М, –љ–Њ –њ–Њ–і–љ—П–ї–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–Њ—Б–Њ–≤—Г—О —З–∞—Б—В—М: –Ї–Њ—А–њ—Г—Б –ї–Њ–і–Ї–Є —А–∞–Ј–ї–Њ–Љ–Є–ї—Б—П. –Ф–∞–ї—М–љ–µ–є—И–Є—Е –њ–Њ–њ—Л—В–Њ–Ї –њ–Њ–і–љ—П—В—М –ї–Њ–і–Ї—Г –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Ж—Л –њ–Њ —А—П–і—Г –њ—А–Є—З–Є–љ –љ–µ –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї–Є. –Я—А–Є—З–Є–љ–∞ –≥–Є–±–µ–ї–Є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П –Њ—Б—В–∞–ї–∞—Б—М –љ–µ–≤—Л—П—Б–љ–µ–љ–љ–Њ–є. –Ю—В—З–µ–≥–Њ –њ–Њ–≥–Є–±–ї–∞ —Н—В–∞ –ї–Њ–і–Ї–∞? –Ю—В—З–µ–≥–Њ –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –Љ–Њ–≥—Г—В –њ–Њ–≥–Є–±–∞—В—М –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–µ –Є –љ–∞–і–≤–Њ–і–љ—Л–µ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є? –Я—А–Є—З–Є–љ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ. –Ґ–µ–±–µ, –Љ–Њ–є —О–љ—Л–є —З–Є—В–∞—В–µ–ї—М, —П —Е–Њ—З—Г —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М –Њ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–є, –љ–∞ –Љ–Њ–є –≤–Ј–≥–ї—П–і, –њ—А–Є—З–Є–љ–µ —В—П–ґ–µ–ї—Л—Е –∞–≤–∞—А–Є–є –љ–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П—Е, –і–∞ –Є –≤–Њ–Њ–±—Й–µ, –њ–Њ–ґ–∞–ї—Г–є, –љ–∞ –ї—О–±—Л—Е —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞—Е —А–∞–±–Њ—В—Л, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л—Е —Б —Н–Ї—Б–њ–ї—Г–∞—В–∞—Ж–Є–µ–є —В–µ—Е–љ–Є–Ї–Є. –Я—Г—Б—В—М –љ–µ –њ–Њ–Ї–∞–ґ—Г—В—Б—П —В–µ–±–µ, —З–Є—В–∞—В–µ–ї—М, —Б–Ї—Г—З–љ—Л–Љ–Є –Є –љ–µ—А–Њ–Љ–∞–љ—В–Є—З–љ—Л–Љ–Є –Љ–Њ–Є —А–∞—Б—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є—П –Є –і–∞–ґ–µ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —А–∞–Ј—К—П—Б–љ–µ–љ–Є—П. –Т–µ–і—М –Љ–Њ—А—Б–Ї–∞—П —Б–ї—Г–ґ–±–∞, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ —Б–ї—Г–ґ–±–∞ –љ–∞ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П—Е, –Ї—А–Њ–Љ–µ —А–Њ–Љ–∞–љ—В–Є–Ї–Є, —Б–Њ—Б—В–Њ–Є—В –Є–Ј –Њ—Б–Њ–±–Њ–≥–Њ —В—А—Г–і–∞, —В—А–µ–±—Г—О—Й–µ–≥–Њ –≤—Л—Б–Њ—З–∞–є—И–µ–є –і–Є—Б—Ж–Є–њ–ї–Є–љ—Л, –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –∞ —Б–∞–Љ–Њ–µ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–µ, –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П –Ї –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—О —Б–≤–Њ–Є—Е –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–µ–є. –Я–Њ –Љ–Њ–µ–Љ—Г –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ–Љ—Г —Г–±–µ–ґ–і–µ–љ–Є—О, –≥–ї–∞–≤–љ–∞—П –њ—А–Є—З–Є–љ–∞ –∞–±—Б–Њ–ї—О—В–љ–Њ–≥–Њ –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–∞ –∞–≤–∞—А–Є–є –Є –∞–≤–∞—А–Є–є–љ—Л—Е –њ—А–Њ–Є—Б—И–µ—Б—В–≤–Є–є, —Б–ї—Г—З–∞–≤—И–Є—Е—Б—П –Є, –Ї —Б–Њ–ґ–∞–ї–µ–љ–Є—О, —Б–ї—Г—З–∞—О—Й–Є—Е—Б—П –љ–∞ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Ї–∞—Е, —В–∞–Є—В—Б—П –≤ –њ—А–µ–љ–µ–±—А–µ–ґ–µ–љ–Є–Є –Ї —Н—В–Є–Љ –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–∞–Љ, –∞ –њ—А–Њ—Й–µ –≥–Њ–≤–Њ—А—П, –≤ —Е–∞–ї–∞—В–љ–Њ–Љ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –Ї –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—О –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–µ–є, —З–µ—В–Ї–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л—Е –Ї–Њ—А–∞–±–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є —А–∞—Б–њ–Є—Б–∞–љ–Є—П–Љ–Є. –Я–Њ –≤–Є–љ–µ –ї—О–±–Њ–≥–Њ —З–ї–µ–љ–∞ —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–∞ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П, –љ–µ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–Є–≤—И–µ–≥–Њ —Б–≤–Њ–Є –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –ї–Њ–і–Ї–∞ –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–µ–Љ –Љ–Њ–ґ–µ—В —Б–≥–Њ—А–µ—В—М, –≤–Ј–Њ—А–≤–∞—В—М—Б—П, –њ–Њ–њ–∞—Б—В—М –њ–Њ–і —В–∞—А–∞–љ–љ—Л–є —Г–і–∞—А, —А–∞–Ј–±–Є—В—М—Б—П –Њ —Б–Ї–∞–ї—Л –Є "–њ—А–Њ–≤–∞–ї–Є—В—М—Б—П" –љ–∞ –≥–ї—Г–±–Є–љ—Г, –≥–і–µ –і–∞–ґ–µ –њ—А–Њ—З–љ—Л–є –Ї–Њ—А–њ—Г—Б –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П –±—Г–і–µ—В —А–∞–Ј–і–∞–≤–ї–µ–љ –≥–Є–≥–∞–љ—В—Б–Ї–Є–Љ –і–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Ј–∞–±–Њ—А—В–љ–Њ–є –≤–Њ–і—Л, –Ї–∞–Ї —Е—А—Г–њ–Ї–∞—П —Б–Ї–Њ—А–ї—Г–њ–∞ –Њ—А–µ—Е–∞. –Я—А–Њ–Є–ї–ї—О—Б—В—А–Є—А—Г—О –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Г—О, –Љ—П–≥–Ї–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А—П, –љ–µ–њ—А–Є—П—В–љ—Г—О —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є—О –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Є–Љ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–Њ–Љ. –Т –Ю–Ъ–Х–Р–Э –° "–І–£–Ц–Ш–Ь" –≠–Ъ–Ш–Я–Р–Ц–Х–Ь–°–ї—Г—З–Є–ї–Њ—Б—М —В–∞–Ї, —З—В–Њ –Њ—Б–µ–љ—М—О 1966 –≥–Њ–і–∞ –Љ–µ–љ—П - —Б—В–∞—А—И–µ–≥–Њ –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї–∞ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є "–Ъ-126", –≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ "–њ—А–Є–њ–Є—Б–∞–ї–Є" —З–Є—Б–ї–Є—В—М—Б—П —Б—В–∞—А—И–Є–Љ –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –і–µ–ґ—Г—А–љ–Њ–є, —В–Њ –µ—Б—В—М –љ–∞—Е–Њ–і—П—Й–µ–є—Б—П –≤ —З–∞—Б–Њ–≤–Њ–є –≥–Њ—В–Њ–≤–љ–Њ—Б—В–Є –Ї –≤—Л—Е–Њ–і—Г –≤ –Љ–Њ—А–µ, –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є "–Ъ-139". "–†–Њ–і–љ–Њ–є" —Б—В–∞—А–њ–Њ–Љ —Н—В–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є –±—Л–ї –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ –њ–Њ —Б–µ–Љ–µ–є–љ—Л–Љ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞–Љ –і–љ–µ–є –љ–∞ –і–µ—Б—П—В—М —Г–ї–µ—В–µ—В—М –≤ –Ъ—Г–є–±—Л—И–µ–≤ –Ї —В—П–ґ–µ–ї–Њ –±–Њ–ї—М–љ–Њ–Љ—Г –Њ—В—Ж—Г. –Я–Њ–љ–∞—З–∞–ї—Г —В–∞–Ї–∞—П "–њ—А–Є–њ–Є—Б–Ї–∞" –љ–Є—З–µ–Љ –Љ–µ–љ—П –љ–µ –Њ–±—А–µ–Љ–µ–љ—П–ї–∞. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ, –Ї–∞–Ї —Н—В–Њ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –±—Л–≤–∞–µ—В, —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –і–Њ –њ—А–Є–±—Л—В–Є—П "–љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–≥–Њ" —Б—В–∞—А–њ–Њ–Љ–∞ —В—А–Є–і—Ж–∞—В—М –і–µ–≤—П—В–Њ–є –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М —В—А–Є –і–љ—П, –і–µ–ґ—Г—А–љ—Г—О –ї–Њ–і–Ї—Г —Б—А–Њ—З–љ–Њ –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї–Є –≤ –Њ–Ї–µ–∞–љ "–і–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞—В—М" –Ј–∞ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–≤—И—Г—О—Б—П –≤ —А–∞–є–Њ–љ–µ –±–Њ–µ–≤–Њ–≥–Њ –њ–∞—В—А—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –ї–Њ–і–Ї—Г, –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ–љ—Г—О –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞—В—М—Б—П –≤ –±–∞–Ј—Г –Є–Ј-–Ј–∞ —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ–Њ–є –љ–µ–Є—Б–њ—А–∞–≤–љ–Њ—Б—В–Є. –С—Г–Ї–≤–∞–ї—М–љ–Њ –Є–Ј-–Ј–∞ –≤–µ—З–µ—А–љ–µ–≥–Њ —Б–µ–Љ–µ–є–љ–Њ–≥–Њ —Б—В–Њ–ї–∞ —Г—И–µ–ї —П —В–Њ–≥–і–∞ –≤ –Њ–Ї–µ–∞–љ –љ–∞ –і–≤–∞ —Б –ї–Є—И–љ–Є–Љ –Љ–µ—Б—П—Ж–∞... –Р–Т–Р–†–Ш–Щ–Э–Ю–Х –Т–°–Я–Ы–Ђ–Ґ–Ш–Х–Э–∞ –±–Њ–µ–≤–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±–µ –ґ–Є–Ј–љ—М —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–∞ –њ–Њ–Ї–∞—В–Є–ї–∞—Б—М –њ–Њ –љ–∞–Ї–∞—В–∞–љ–љ–Њ–є –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є—П–Љ–Є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Ї–Њ–ї–µ–µ. –Ф–љ–µ–Љ —И–ї–Є –њ–Њ–і –≤–Њ–і–Њ–є. –Э–Њ—З—М—О, –µ—Б–ї–Є –љ–µ —И—В–Њ—А–Љ–Є–ї–Њ, –і–≤–Є–≥–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞ –њ–µ—А–Є—Б–Ї–Њ–њ–љ–Њ–є –≥–ї—Г–±–Є–љ–µ, –њ–Њ–і –†–Ф–Я - —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–Њ–Љ, –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П—О—Й–Є–Љ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М –і–Є–Ј–µ–ї—М –і–ї—П –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є—П —Е–Њ–і–∞ –Є –Ј–∞—А—П–і–Ї–Є –∞–Ї–Ї—Г–Љ—Г–ї—П—В–Њ—А–Њ–≤. –†–µ–ґ–Є–Љ –†–Ф–Я (—А–∞–±–Њ—В–∞ –і–Є–Ј–µ–ї—П –њ–Њ–і –≤–Њ–і–Њ–є) –і–ї—П –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –і–Є–Ј–µ–ї—М-—Н–ї–µ–Ї—В—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —А–∞–Ї–µ—В–Њ–љ–Њ—Б—Ж–µ–≤ –њ—А–Њ–µ–Ї—В–∞ 629 (–∞ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Є–Ј –ї–Њ–і–Њ–Ї —Н—В–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–µ–Ї—В–∞ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–∞ –љ–∞—И–∞ –і–Є–≤–Є–Ј–Є—П) –±—Л–ї —В—П–ґ–µ–ї—Л–Љ. –Ю–њ—П—В—М –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В–≤–ї–µ–Ї—Г—Б—М –Є –њ–Њ—П—Б–љ—О.  "–•–Њ–ї–Њ–і–љ–∞—П –≤–Њ–є–љ–∞" –њ—А–Є–≤–µ–ї–∞ –µ–µ —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Ї —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є—О –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –љ–Њ–≤—Л—Е –≤–Є–і–Њ–≤ –Њ—А—Г–ґ–Є—П –Є –Є—Е –љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї–µ–є. –Я–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–µ –ї–Њ–і–Ї–Є –љ–∞—З–∞–ї–Є –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–∞—В—М—Б—П –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –±–µ—Б—Б–ї–µ–і–љ—Л–Љ–Є —В–Њ—А–њ–µ–і–∞–Љ–Є, –љ–Њ –Є —А–∞–Ї–µ—В–∞–Љ–Є. –Э–∞ —Б–Љ–µ–љ—Г —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–Љ –і–Є–Ј–µ–ї—П–Љ –Є —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ–Љ–Њ—В–Њ—А–∞–Љ –њ—А–Є—И–ї–Є —П–і–µ—А–љ—Л–µ (–∞—В–Њ–Љ–љ—Л–µ) –і–≤–Є–≥–∞—В–µ–ї–Є. –Ы–Њ–і–Ї–Є, –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Л–µ –±–∞–ї–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є —А–∞–Ї–µ—В–∞–Љ–Є, –њ—А–µ–≤—А–∞—В–Є–ї–Є—Б—М –≤ —Б–Ї—А—Л—В—Л–µ –њ–µ—А–µ–і–≤–Є–ґ–љ—Л–µ —Б—В–∞—А—В–Њ–≤—Л–µ –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є. –Ы–Њ–і–Ї–Є –≤—Л–≥–Њ–і–љ–Њ –Њ—В–ї–Є—З–∞–ї–Є—Б—М –Њ—В —Б—В–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞—А–љ—Л—Е –љ–∞–Ј–µ–Љ–љ—Л—Е —А–∞–Ї–µ—В–љ—Л—Е –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–є —Б–≤–Њ–µ–є —Б–Ї—А—Л—В–љ–Њ—Б—В—М—О. "–Я–Њ—В–∞–µ–љ–љ—Л–µ —Б—Г–і–∞" –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Є —В–µ–њ–µ—А—М –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Г—О —Г–≥—А–Њ–Ј—Г –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–ї—П –±–Њ–µ–≤—Л—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є –Є —Б—Г–і–Њ–≤ –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞, –љ–Њ —Б—В–∞–ї–Є —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ—Л —А–µ—И–∞—В—М —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Ј–∞–і–∞—З–Є: —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–∞—В—М –≤–∞–ґ–љ–µ–є—И–Є–µ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–µ, –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Є –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ—Л–µ –Њ–±—К–µ–Ї—В—Л –≤ –≥–ї—Г–±–Є–љ–µ –≤—А–∞–ґ–µ—Б–Ї–Њ–є —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ "—Б–Ї–Њ—А–Њ —Б–Ї–∞–Ј–Ї–∞ —Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П, –і–∞ –љ–µ—Б–Ї–Њ—А–Њ –і–µ–ї–Њ –і–µ–ї–∞–µ—В—Б—П". –Р—В–Њ–Љ–Њ—Е–Њ–і—Л —В–Њ–ї—М–Ї–Њ-—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞—З–Є–љ–∞–ї–Є —Б—В—А–Њ–Є—В—М—Б—П, –∞ –≥–Њ–љ–Ї–∞ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–є —И–ї–∞ –њ–Њ–ї–љ—Л–Љ —Е–Њ–і–Њ–Љ. –Я—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –љ–∞—И–Є–Љ –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Њ—А–∞–Љ –Є —Б—Г–і–Њ—Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—П–Љ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–∞—В—М —А–∞–Ї–µ—В–∞–Љ–Є –і–Є–Ј–µ–ї—М-—Н–ї–µ–Ї—В—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–µ –ї–Њ–і–Ї–Є, –∞ –≤–Њ–µ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞–Љ –њ–Њ—Б—Л–ї–∞—В—М —Н—В–Є –ї–Њ–і–Ї–Є –љ–∞ –±–Њ–µ–≤—Л–µ –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є. –Э–Њ –ї–Њ–і–Ї–Є-–≥–Є–±—А–Є–і—Л, —В–∞–Ї–Є–µ, –Ї–∞–Ї –њ—А–Њ–µ–Ї—В 629, - —Н–љ–µ—А–≥–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞ –±–Њ–ї—М—И–Њ–є —В–Њ—А–њ–µ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є –Є "–ї–Є—И–љ–Є–є" –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л–є —В—А–µ—Е–њ–∞–ї—Г–±–љ—Л–є —А–∞–Ї–µ—В–љ—Л–є –Њ—В—Б–µ–Ї, - –њ–Њ–і –†–Ф–Я –±—Л–ї–Є –Њ—З–µ–љ—М —З—Г–≤—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л –Ї –≤–Њ–ї–љ–µ. –Ю–љ–Є —В–Њ "–≤—Л—Б–Ї–∞–Ї–Є–≤–∞–ї–Є" –љ–∞ –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В—М –Є —В–µ—А—П–ї–Є —Б–≤–Њ–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–µ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–Њ - "—Б–Ї—А—Л—В–љ–Њ—Б—В—М", —В–Њ "–њ—А–Њ–≤–∞–ї–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М" –љ–∞ –Њ–њ–∞—Б–љ—Г—О –≥–ї—Г–±–Є–љ—Г... –Х—Б–ї–Є —В—Л, —З–Є—В–∞—В–µ–ї—М, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—И—М —Б–µ–±–µ –Љ–Њ—В–Њ—Ж–Є–Ї–ї —Б –Ї–Њ–ї—П—Б–Ї–Њ–є-–Ї—Г–Ј–Њ–≤–Њ–Љ –Њ—В –≥—А—Г–Ј–Њ–≤–Є–Ї–∞, —В–Њ –њ–Њ–є–Љ–µ—И—М —В—А—Г–і–љ–Њ—Б—В—М —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П —В–∞–Ї–Є–Љ "–∞–≥—А–µ–≥–∞—В–Њ–Љ" –љ–∞ –љ–µ—А–Њ–≤–љ–Њ–є –і–Њ—А–Њ–≥–µ. –Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –њ–Њ–і –≤–Њ–і–Њ–є –Є –≤ –Ї—А–µ–є—Б–µ—А—Б–Ї–Њ–Љ, —В–Њ –µ—Б—В—М –љ–∞–і–≤–Њ–і–љ–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є –ї–Њ–і–Ї–∞ —Г–њ—А–∞–≤–ї—П–ї–∞—Б—М —Е–Њ—А–Њ—И–Њ. –Ш—В–∞–Ї, –≤ –Њ–і–љ—Г –Є–Ј —Б—Г–±–±–Њ—В "–Ъ-139", —Б–ї–µ–≥–Ї–∞ –њ–Њ–Ї–∞—З–Є–≤–∞—П—Б—М, —И–ї–∞ –њ–Њ–і –†–Ф–Я. –Э–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ, –Ї–∞–Ї –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Њ –њ–Њ —Б—Г–±–±–Њ—В–∞–Љ, —И–ї–∞ –±–Њ–ї—М—И–∞—П –њ—А–Є–±–Њ—А–Ї–∞. –°–і–∞–≤ —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ—Г—О "–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Б–Ї—Г—О" –≤–∞—Е—В—Г –≤ —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –њ–Њ—Б—В—Г –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Г, —П –±—Л–ї–Њ —Б–Њ–±—А–∞–ї—Б—П –њ—А–Њ–є—В–Є—Б—М –њ–Њ –Њ—В—Б–µ–Ї–∞–Љ, —З—В–Њ–±—Л –њ—А–Њ–≤–µ—А–Є—В—М —Е–Њ–і –њ—А–Є–±–Њ—А–Ї–Є, –Ї–∞–Ї –≤–і—А—Г–≥... "–Ы–Њ–і–Ї–∞ –љ–µ –і–µ—А–ґ–Є—В –≥–ї—Г–±–Є–љ—Г! –Т—Б–њ–ї—Л–≤–∞–µ—В!" - –і–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї –љ–µ—Б—Г—Й–Є–є –≤–∞—Е—В—Г –љ–∞ –≥–Њ—А–Є–Ј–Њ–љ—В–∞–ї—М–љ—Л—Е —А—Г–ї—П—Е –±–Њ—Ж–Љ–∞–љ. –І—Г—В—М –ї–Є –љ–µ —Е–Њ—А–Њ–Љ –Љ—Л —Б –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–Љ –љ–∞—З–∞–ї–Є –≤—Л–≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞—В—М –µ–Љ—Г –Ј–∞ –њ–ї–Њ—Е—Г—О —А–∞–±–Њ—В—Г –љ–∞ —А—Г–ї—П—Е, –∞ –≤–∞—Е—В–µ–љ–љ—Л–є –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ї –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї —В—А—О–Љ–љ—Л–Љ –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В—М –Ј–∞–±–Њ—А—В–љ—Г—О –≤–Њ–і—Г –≤ —Г—А–∞–≤–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Г—О —Ж–Є—Б—В–µ—А–љ—Г. –Э–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ —Г—В—П–ґ–µ–ї–µ–љ–Є–µ, –ї–Њ–і–Ї–∞ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–∞ –≤—Б–њ–ї—Л–≤–∞—В—М! –У–ї—Г–±–Є–љ–Њ–Љ–µ—А —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б—В–∞ –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї —Г–ґ–µ –њ—П—В—М –Љ–µ—В—А–Њ–≤, –≤–Љ–µ—Б—В–Њ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л—Е 12 - 14! –†—Г–ї–Є –±—Л–ї–Є –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ—Л –≤ –Љ–∞–Ї—Б–Є–Љ–∞–ї—М–љ—Л–µ –њ–ї–Њ—Б–Ї–Њ—Б—В–Є "–љ–∞ –њ–Њ–≥—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ", –љ–Њ... –ї–Њ–і–Ї–∞ –≤—Б–њ–ї—Л–≤–∞–ї–∞! –Ш–Ј –±–Њ–µ–≤–Њ–є —А—Г–±–Ї–Є –њ–Њ—Б–ї—Л—И–∞–ї—Б—П –≥–Њ–ї–Њ—Б –≤–∞—Е—В–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–∞: "–Т–љ–Є–Ј—Г! –Ч–∞ –≥–ї—Г–±–Є–љ–Њ–є —Б–ї–µ–і–Є—В–µ?" –Т–∞—Е—В–µ–љ–љ—Л–є —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б—В–∞ –і–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї –µ–Љ—Г, —З—В–Њ –≤ –¶–Я –љ–∞—Е–Њ–і—П—В—Б—П –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А —Б–Њ —Б—В–∞—А–њ–Њ–Љ–Њ–Љ –Є –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ї –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П. –Т–∞—Е—В–µ–љ–љ—Л–є –Њ—Д–Є—Ж–µ—А, –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, —Г—Б–њ–Њ–Ї–Њ–Є–ї—Б—П –Є –±–Њ–ї—М—И–µ –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е –і–Њ–Ї–ї–∞–і–Њ–≤ –љ–µ –і–µ–ї–∞–ї. –Т–љ–µ–Ј–∞–њ–љ–Њ, –±–µ–Ј –≤—Б—П–Ї–Њ–є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Л, –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї—Б—П –і–Є–Ј–µ–ї—М. –°—В—А–µ–ї–Ї–∞ –≥–ї—Г–±–Є–љ–Њ–Љ–µ—А–∞ –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ –њ–µ—А–µ—Б–Ї–Њ—З–Є–ї–∞ —Б –і–µ–ї–µ–љ–Є—П, —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–≥–Њ –≥–ї—Г–±–Є–љ–µ –њ—П—В—М –Љ–µ—В—А–Њ–≤, –љ–∞... —В—А–Є–і—Ж–∞—В—М –Љ–µ—В—А–Њ–≤! –Ч–∞—В–µ–Љ –Њ–љ–∞ –±—Л—Б—В—А–Њ —Б—В–∞–ї–∞ –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М —Г–≤–µ–ї–Є—З–µ–љ–Є–µ –≥–ї—Г–±–Є–љ—Л. –Р –≤ —Г—А–∞–≤–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Г—О –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–∞ –њ–Њ—Б—В—Г–њ–∞—В—М –≤–Њ–і–∞! "–°—В–Њ–њ –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В—М!" - –±—Г–Ї–≤–∞–ї—М–љ–Њ –Ј–∞–Њ—А–∞–ї –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ї. –Э–∞ –≥–ї—Г–±–Є–љ–Њ–Љ–µ—А–µ –±—Л–ї–Њ —Г–ґ–µ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ —Б—В–∞ –Љ–µ—В—А–Њ–≤! "–Я—А–Њ–і—Г—В—М –±–∞–ї–ї–∞—Б—В –∞–≤–∞—А–Є–є–љ–Њ! –†—Г–ї–Є –љ–∞ –≤—Б–њ–ї—Л—В–Є–µ! –Я–Њ—И–µ–ї –љ–∞—Б–Њ—Б –Є–Ј —Г—А–∞–≤–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –Ј–∞ –±–Њ—А—В!" - –љ–∞—З–∞–ї–Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞—В—М –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А, —П –Є –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ї. –Э–Њ –њ—А–Њ–і—Г–≤–∞—В—М –±–∞–ї–ї–∞—Б—В –љ–∞ –≥–ї—Г–±–Є–љ–µ —Б—В–Њ –Љ–µ—В—А–Њ–≤ —Г–ґ–µ –±–µ—Б–њ–Њ–ї–µ–Ј–љ–Њ: –љ–∞ –≥–ї—Г–±–Є–љ–Њ–Љ–µ—А–µ –±—Л–ї–∞ –≥–ї—Г–±–Є–љ–∞, —Г–ґ–µ –њ—А–µ–≤—Л—И–∞—О—Й–∞—П –њ—А–µ–і–µ–ї—М–љ—Г—О. –Ы–Є—З–љ–Њ —П –і–∞–ґ–µ –Њ—В–≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П –Њ—В –≥–ї—Г–±–Є–љ–Њ–Љ–µ—А–∞, –Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–і–љ–∞ –Љ—Л—Б–ї—М —Б–≤–µ—А–ї–Є–ї–∞ –Љ–Њ–Ј–≥: "–Ґ–∞–Ї –Њ–љ–Є –Є —В–Њ–љ—Г—В!" –С—Л–ї–Њ –Њ—З–µ–љ—М –Њ–±–Є–і–љ–Њ, —З—В–Њ –љ–Є–Ї—В–Њ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ —Г–Ј–љ–∞–µ—В –Њ –њ—А–Є—З–Є–љ–µ –љ–∞—И–µ–є –≥–Є–±–µ–ї–Є, –≤–µ–і—М –Љ—Л —Б–∞–Љ–Є –µ—Й–µ –љ–µ —Г—Б–њ–µ–ї–Є –љ–Є—З–µ–≥–Њ –њ–Њ–љ—П—В—М... –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –њ–Њ–і–∞–ї –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ—Г—О –≤ —Н—В–Њ–є –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–µ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г: "–Ґ—А–Є –Љ–Њ—В–Њ—А–∞ —Б–∞–Љ—Л–є –њ–Њ–ї–љ—Л–є –≤–њ–µ—А–µ–і!" –Ш - –Њ —З—Г–і–Њ! –Ы–Њ–і–Ї–∞ –Ј–∞–і—А–Њ–ґ–∞–ї–∞, –Ї–∞–Ї –ґ–Є–≤–∞—П, –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–∞—Б—М, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ —Б –љ–∞—А–∞—Б—В–∞—О—Й–µ–є —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В—М—О –љ–∞—З–∞–ї–∞ –≤—Б–њ–ї—Л–≤–∞—В—М! –Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж –Њ–љ–∞ "–њ—А–Њ–±–Ї–Њ–є" –≤—Л—Б–Ї–Њ—З–Є–ї–∞ –љ–∞ –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В—М. –•–Њ—А–Њ—И–Њ, —З—В–Њ –љ–∞–≤–µ—А—Е—Г –љ–Є–Ї–Њ–≥–Њ –љ–µ –±—Л–ї–Њ! –Ь—Л –ґ–Є–≤—Л! –Э–Њ –≤ —З–µ–Љ –ґ–µ –њ—А–Є—З–Є–љ–∞ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—И–µ—Б—В–≤–Є—П? –Р –Ы–Р–†–І–Ш–Ъ –Я–†–Ю–°–Ґ–Ю –Ю–Ґ–Ъ–†–Ђ–Т–Р–Ы–°–ѓ–Э–∞—Г—В—А–Њ, —Г–ґ–µ –≤ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є, –Є–Ј –±–µ—Б–µ–і —Б –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А-–Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ї–Њ–Љ, –±–Њ—Ж–Љ–∞–љ–Њ–Љ –Є —Б—В–∞—А—И–Є–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Л —В—А—О–Љ–љ—Л—Е –Љ–∞—И–Є–љ–Є—Б—В–Њ–≤ –±—Л–ї–∞ –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –±—Л—Б—В—А–Њ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–∞ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –±–∞–љ–∞–ї—М–љ–∞—П –њ—А–Є—З–Є–љ–∞ —Б—В–Њ–ї—М —Б—В—А–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –≥–ї—Г–±–Є–љ–Њ–Љ–µ—А–∞ —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б—В–∞. –Ю–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П, –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –Љ–∞—В—А–Њ—Б–Њ–≤ - —В—А—О–Љ–љ—Л—Е –Љ–∞—И–Є–љ–Є—Б—В–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –і–∞–≤–љ–Њ —Г–ґ–µ —Г–≤–Њ–ї–Є–ї—Б—П –≤ –Ј–∞–њ–∞—Б, –њ—А–Є–і—Г–Љ–∞–ї, –Ї–∞–Ї –≥–Њ–≤–Њ—А—П—В –Љ–∞—В—А–Њ—Б—Л, "—А–∞—Ж–Є—О" (—А–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї–Є–Ј–∞—В–Њ—А—Б–Ї–Њ–µ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ): –Њ—В–≤–µ–ї –Њ—В –Љ–∞–≥–Є—Б—В—А–∞–ї–Є, —Б–Њ–µ–і–Є–љ—П—О—Й–µ–є –≥–ї—Г–±–Є–љ–Њ–Љ–µ—А —Б –Ј–∞–±–Њ—А—В–Њ–Љ, –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–є —В—А—Г–±–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–і —Б –Ї—А–∞–љ–Є–Ї–Њ–Љ, –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П—О—Й–Є–є –≤ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–Є –≥–∞–ї—М—О–љ–∞, —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤ —В—А–µ—В—М–µ–Љ –Њ—В—Б–µ–Ї–µ, –љ–∞–±–Є—А–∞—В—М –≤ –Њ–±—А–µ–Ј (—В–∞–Ј–Є–Ї, –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О—Й–Є–є –±–∞–љ–љ—Г—О —И–∞–є–Ї—Г) –Ј–∞–±–Њ—А—В–љ—Г—О –≤–Њ–і—Г –і–ї—П –њ—А–Є–±–Њ—А–Њ–Ї. –Я–Њ–Ї–∞ —В–∞–Ї–Њ–µ –і–Њ–±—Л–≤–∞–љ–Є–µ –Ј–∞–±–Њ—А—В–љ–Њ–є –≤–Њ–і—Л –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –≤ –љ–∞–і–≤–Њ–і–љ–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є, –љ–Є–Ї—В–Њ –љ–∞ –њ–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ —Б—В—А–µ–ї–Ї–Є –≥–ї—Г–±–Є–љ–Њ–Љ–µ—А–∞ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П –љ–µ –Њ–±—А–∞—Й–∞–ї, –љ–Њ –њ–Њ–і –≤–Њ–і–Њ–є... –Ъ–Њ–≥–і–∞ –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –Љ–∞—В—А–Њ—Б–Њ–≤, –њ—А–Є–±–Є—А–∞—О—Й–Є—Е –≤ —В—А–µ—В—М–µ–Љ –Њ—В—Б–µ–Ї–µ, –љ–∞—З–∞–ї –љ–∞–±–Є—А–∞—В—М –≤–Њ–і—Г –≤ –Њ–±—А–µ–Ј, —Б—В—А–µ–ї–Ї–∞ –≥–ї—Г–±–Є–љ–Њ–Љ–µ—А–∞ —Б—В–∞–ї–∞ "–≤—А–∞—В—М": –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–∞ –≤–Љ–µ—Б—В–Њ –і–≤–µ–љ–∞–і—Ж–∞—В–Є –њ—П—В—М –Љ–µ—В—А–Њ–≤, —В–Њ –µ—Б—В—М –≥–ї—Г–±–Є–љ—Г –≥–Њ—А–∞–Ј–і–Њ –Љ–µ–љ—М—И—Г—О —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є. –Р –Љ—Л-—В–Њ –і—А—Г–ґ–љ–Њ –Ј–∞–≥–Њ–љ—П–ї–Є –ї–Њ–і–Ї—Г –љ–∞ –≥–ї—Г–±–Є–љ—Г! –Э–Х–Ґ, –Т–°–Х-–Ґ–Р–Ъ–Ш –Э–Х –Я–†–Ю–°–Ґ–Ю!–Ч–љ–∞—З–Є—В, –≤–Є–љ–Њ–≤–∞—В–∞ "—А–∞—Ж–Є—П" –Є –±–Њ–ї—М—И–∞—П –њ—А–Є–±–Њ—А–Ї–∞? –Ґ–∞–Ї –≤—Л—Е–Њ–і–Є—В? –Э–µ—В, –љ–µ —В–∞–Ї! –Р –љ–µ—Б–µ–љ–Є–µ –≤–∞—Е—В—Л –≤ –Њ—В—Б–µ–Ї–∞—Е? –Т–µ–і—М –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ–≤—Л—Е –Њ—В—Б–µ–Ї–∞—Е —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—Л –≥–ї—Г–±–Є–љ–Њ–Љ–µ—А—Л, –Ј–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є –Њ–±—П–Ј–∞–љ—Л —Б–ї–µ–і–Є—В—М –≤–∞—Е—В–µ–љ–љ—Л–µ –Њ—В—Б–µ–Ї–Њ–≤, –і–Њ–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞—П –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ –≥–ї—Г–±–Є–љ—Л –љ–∞ –Ї–∞–ґ–і—Л–µ –і–µ—Б—П—В—М –Љ–µ—В—А–Њ–≤. –Х—Б—В—М –≥–ї—Г–±–Є–љ–Њ–Љ–µ—А –Є –≤ –і–Є–Ј–µ–ї—М–љ–Њ–Љ –Њ—В—Б–µ–Ї–µ. –Р —Г–ґ —Г –≤–∞—Е—В–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ-—В–Њ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–∞ –≤ –±–Њ–µ–≤–Њ–є —А—Г–±–Ї–µ –≥–ї—Г–±–Є–љ–Њ–Љ–µ—А –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ –њ–µ—А–µ–і –≥–ї–∞–Ј–∞–Љ–Є! –Р —З—В–Њ —Б–і–µ–ї–∞–ї –≤–∞—Е—В–µ–љ–љ—Л–є –Њ—Д–Є—Ж–µ—А? –£–≤–Є–і–µ–≤, —З—В–Њ –њ–µ—А–Є—Б–Ї–Њ–њ –Ј–∞–ї–Є–≤–∞–µ—В –≤–Њ–і–Њ–є –Є –ї–Њ–і–Ї–∞ –њ–Њ–≥—А—Г–ґ–∞–µ—В—Б—П, –Њ–љ –Њ–њ—Г—Б—В–Є–ї –њ–µ—А–Є—Б–Ї–Њ–њ, –Ј–∞–њ—А–Њ—Б–Є–ї —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ—Л–є –њ–Њ—Б—В –љ–∞ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В —Б–ї–µ–ґ–µ–љ–Є—П –Ј–∞ –≥–ї—Г–±–Є–љ–Њ–є (—Б–∞–Љ –≥–ї—Г–±–Є–љ—Г –њ–Њ —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г –≥–ї—Г–±–Є–љ–Њ–Љ–µ—А—Г –љ–µ –і–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї) –Є —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ —Б–µ–ї –љ–∞ —Б—В–Њ—П—Й—Г—О –≤ —А—Г–±–Ї–µ —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ–≥—А–µ–ї–Ї—Г... –Т–Њ–Њ–±—Й–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –≤–∞—Е—В–µ–љ–љ—Л—Е –љ–Є –≤ –Ї–∞–Ї–Є–µ —А–∞–Љ–Ї–Є –љ–µ —Г–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М. –Ф–∞–ґ–µ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–≤, —З—В–Њ —В—А–∞–Ї—В –њ–Њ–і–∞—З–Є –≤–Њ–Ј–і—Г—Е–∞ –Ї –і–Є–Ј–µ–ї—О –њ–µ—А–µ–Ї—А—Л—В –∞–≤–∞—А–Є–є–љ—Л–Љ –њ–Њ–њ–ї–∞–≤–Ї–Њ–≤—Л–Љ –Ї–ї–∞–њ–∞–љ–Њ–Љ –Є –і–Є–Ј–µ–ї—М "–Ј–∞–≥–ї–Њ—Е", –Љ–Њ—В–Њ—А–Є—Б—В—Л –њ–µ—А–µ–Ї—А—Л–ї–Є –≤–Њ–Ј–і—Г—И–љ—Г—О –Є –≥–∞–Ј–Њ–≤—Г—О –Ј–∞—Е–ї–Њ–њ–Ї–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —В–Њ–≥–і–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤ —В—А—О–Љ –Њ—В—Б–µ–Ї–∞ –љ–∞—З–∞–ї–∞ –њ–Њ—Б—В—Г–њ–∞—В—М –њ–Њ—В–Њ–Ї–Њ–Љ –≤–Њ–і–∞ (–њ–Њ–њ–ї–∞–≤–Ї–Њ–≤—Л–є –Ї–ї–∞–њ–∞–љ –љ–∞ –≥–ї—Г–±–Є–љ–µ –±–Њ–ї–µ–µ –і–≤–∞–і—Ж–∞—В–Є –Љ–µ—В—А–Њ–≤ —Б–∞–Љ–Њ–њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞–µ—В—Б—П). –Т–Њ–і–∞ –ґ–µ, –њ–Њ—Б—В—Г–њ–∞–≤—И–∞—П –≤ —В—А—О–Љ –і–Є–Ј–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В—Б–µ–Ї–∞ –Є –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–µ–Љ–∞—П –≤ —Г—А–∞–≤–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Г—О, –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Г—В—П–ґ–µ–ї—П–ї–∞ –ї–Њ–і–Ї—Г... –Ю–±–Є–і–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –Њ—Й—Г—В–Є—В—М —В–∞–Ї—Г—О —Б–ї–∞–±—Г—О –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї—Г —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–∞ –Ї –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П–Љ –≤ –љ–µ—И—В–∞—В–љ–Њ–є —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є–Є. –ѓ –Ї–∞–Ј–љ–Є–ї —Б–µ–±—П –Ј–∞ —П–≤–љ—Г—О –љ–µ—В—А–µ–±–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М, –Ј–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –љ–µ –≤–љ–Є–Ї –≤ —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—О —Б–ї—Г–ґ–±—Л –љ–∞ —Н—В–Њ–Љ, —Е–Њ—В—П –Є "—З—Г–ґ–Њ–Љ" –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ. –Ч–∞ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–µ —П —Б–µ–±—П –Ї–∞–Ј–љ–Є–ї —В–Њ–≥–і–∞... –Т–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ, –≤—Б–µ –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –њ–Њ—Е–Њ–і–∞ —П –Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ—Г —В–µ–Љ —Б–∞–Љ—Л–Љ —Б—В–∞—А–њ–Њ–Љ–Њ–Љ - "—Б–Њ–±–∞–Ї–Њ–є", –Њ–±—А–∞–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –±—Л—В—Г–µ—В –і–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А –љ–∞ —Д–ї–Њ—В–µ –Є –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –≤ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–µ. –Т–Њ –≤—Б—П–Ї–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ —Б—В–∞—А–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –Ї —Б–ї—Г–ґ–±–µ –Љ–љ–µ —Н—В–Њ—В –њ—А–Њ–≤–∞–ї —П–≤–љ–Њ –њ—А–Є–±–∞–≤–Є–ї.  –Я–Ю–Ф–Т–Ю–Ф–Э–Ђ–Х –†–Р–Ъ–Х–Ґ–Ю–Э–Ю–°–¶–Ђ - –љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї–Є –Љ–Њ—Й–љ—Л—Е, –і–∞–ї—М–љ–Њ–±–Њ–є–љ—Л—Е —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —А–∞–Ї–µ—В, –њ—А–µ–і–љ–∞–Ј–љ–∞—З–∞—О—В—Б—П –і–ї—П —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –≤–∞–ґ–љ—Л—Е –љ–∞–Ј–µ–Љ–љ—Л—Е –Њ–±—К–µ–Ї—В–Њ–≤ –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞. –Ю–љ–Є —П–≤–ї—П—О—В—Б—П –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–Љ –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–љ–µ–љ—В–Њ–Љ –±–Њ–µ–≤–Њ–є –Љ–Њ—Й–Є –≤–µ–і—Г—Й–Є—Е —Д–ї–Њ—В–Њ–≤ –Љ–Є—А–∞ –Є –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞. –°.–У.–У–Њ—А—И–Ї–Њ–≤, "–Ь–Њ—А—Б–Ї–∞—П –Љ–Њ—Й—М –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞" –Ю–С–Ђ–І–Э–Р–ѓ –Р–Т–Ґ–Ю–Э–Ю–Ь–Ъ–Р 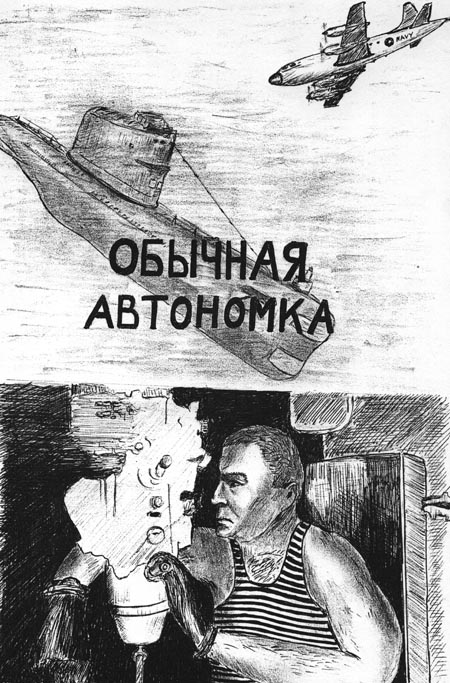 –Ъ —В–Њ–Љ—Г –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є —П —Г–ґ–µ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –ї–µ—В –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–ї "–Ъ-126"-–є, —В–Њ–є —Б–∞–Љ–Њ–є, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –і–Њ —Н—В–Њ–≥–Њ —Б–ї—Г–ґ–Є–ї —Б—В–∞—А–њ–Њ–Љ–Њ–Љ. –°–µ—А–µ–і–Є–љ–∞ –Љ–∞—П 1970 –≥–Њ–і–∞. –Ь–∞–љ–µ–≤—А–Є—А—Г–µ–Љ –≤ —А–∞–є–Њ–љ–µ –±–Њ–µ–≤–Њ–≥–Њ –њ–∞—В—А—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П, —В–Њ –µ—Б—В—М –≤ —А–∞–є–Њ–љ–µ, –Є–Ј –ї—О–±–Њ–є —В–Њ—З–Ї–Є –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –љ–∞—И –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–є —А–∞–Ї–µ—В–Њ–љ–Њ—Б–µ—Ж —Б–Љ–Њ–ґ–µ—В, –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–Є—П —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–≥–Њ —Б–Є–≥–љ–∞–ї–∞, –Ј–∞–љ—П—В—М –Њ–≥–љ–µ–≤—Г—О –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—О –Є –њ–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–µ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –ї–Є—Ж–∞ –њ—Г—Б—В–Є—В—М –њ–Њ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–Љ—Г –њ–µ–ї–µ–љ–≥—Г –Є –љ–∞ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й—Г—О –і–Є—Б—В–∞–љ—Ж–Є—О —Б–≤–Њ–Є —А–∞–Ї–µ—В—Л. –С–Њ–µ–≤—Л–µ —З–∞—Б—В–Є —Н—В–Є—Е —А–∞–Ї–µ—В —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ—Л –њ—А–µ–≤—А–∞—В–Є—В—М –≤ —П–і–µ—А–љ—Г—О –њ—Л–ї—М –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –≤–∞–ґ–љ—Л–µ –≤ —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –Њ–±—К–µ–Ї—В—Л –љ–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞. –Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, —Б–∞–Љ–∞ —Г–≥—А–Њ–Ј–∞ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –њ—Г—Б–Ї–∞ –і–µ–ї–∞–ї–∞ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М —А–∞–Ї–µ—В–љ–Њ-—П–і–µ—А–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л –Љ–∞–ї–Њ–≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ–є. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Є —Г—В—О–ґ–Є–Љ —Б–µ–є—З–∞—Б –Ґ–Є—Е–Є–є –Њ–Ї–µ–∞–љ, —Б–Њ–±–ї—О–і–∞—П –Љ–∞–Ї—Б–Є–Љ–∞–ї—М–љ—Г—О —Б–Ї—А—Л—В–љ–Њ—Б—В—М, –Ї–∞–Ї –≤—Б–µ–≥–і–∞ –і–љ–µ–Љ –њ–Њ–і –≤–Њ–і–Њ–є, –њ–Њ–і–≤—Б–њ–ї—Л–≤–∞—П —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞ —Б–µ–∞–љ—Б—Л —А–∞–і–Є–Њ—Б–≤—П–Ј–Є –њ–Њ–і –њ–µ—А–Є—Б–Ї–Њ–њ, –∞ –љ–Њ—З—М—О - –њ–Њ–і –†–Ф–Я –Є–ї–Є –љ–∞–і –≤–Њ–і–Њ–є, –Ј–∞—А—П–ґ–∞—П –∞–Ї–Ї—Г–Љ—Г–ї—П—В–Њ—А—Л. –°–Х–Р–Э–° –°–Т–ѓ–Ч–Ш–Т —Б–≤–Њ–µ–є —Б–∞–Љ–Њ–є –±–Њ–ї—М—И–Њ–є, –љ–Њ –≤—Б–µ-—В–∞–Ї–Є –Ї—А–Њ—И–µ—З–љ–Њ–є –Ї–∞—О—В–µ –њ—Л—В–∞—О—Б—М —Б–њ–∞—В—М "–≤–њ–Њ–ї–≥–ї–∞–Ј–∞". –Я—А–Є–≤—Л—З–љ–Њ, —Б–Ї–≤–Њ–Ј—М –і—А–µ–Љ—Г, —Б–ї—Л—И—Г –њ–Њ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ –≤–Ї–ї—О—З–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –і–Є–љ–∞–Љ–Є–Ї—Г –≤–љ—Г—В—А–Є–Ї–Њ—А–∞–±–µ–ї—М–љ–Њ–є —Б–≤—П–Ј–Є –≤—Б–µ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Л –Є –і–Њ–Ї–ї–∞–і—Л –Њ—В—Б–µ–Ї–Њ–≤. –Т—А–µ–Љ—П –Њ—В –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –њ—А–Є–Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞—О –≥–ї–∞–Ј–∞ –Є –њ–Њ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П–Љ –≤—Л–љ–µ—Б–µ–љ–љ—Л—Е –≤ –Ї–∞—О—В—Г —А–µ–њ–Є—В–µ—А–Њ–≤ (–њ–Њ–≤—В–Њ—А–Є—В–µ–ї–µ–є) –њ—А–Є–±–Њ—А–Њ–≤ —Г–±–µ–ґ–і–∞—О—Б—М, —З—В–Њ –ї–Њ–і–Ї–∞ –і–µ—А–ґ–Є—В –Ј–∞–і–∞–љ–љ—Г—О –Љ–љ–Њ–є –≥–ї—Г–±–Є–љ—Г, –Њ—В –Ј–∞–і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї—Г—А—Б–∞ –љ–µ –Њ—В–Ї–ї–Њ–љ—П–µ—В—Б—П, —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В—М –љ–µ —Г–≤–µ–ї–Є—З–Є–≤–∞–µ—В. –Ч–љ–∞—З–Є—В, –≤—Б–µ —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ. –°–Ї–Њ—А–Њ - —Б–µ–∞–љ—Б —Б–≤—П–Ј–Є. –Э—Г–ґ–љ–Њ –±—Г–і–µ—В –њ–Њ–і–≤—Б–њ–ї—Л–≤–∞—В—М –љ–∞ –њ–µ—А–Є—Б–Ї–Њ–њ–љ—Г—О –≥–ї—Г–±–Є–љ—Г, –≤—Л–і–≤–Є–≥–∞—В—М —А–∞–і–Є–Њ–∞–љ—В–µ–љ–љ—Г, –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В—М —А–∞–і–Є–Њ–Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є—О —Б –і–∞–ї–µ–Ї–Њ–≥–Њ –±–µ—А–µ–≥–∞ —А–Њ–і–љ–Њ–є —Б—В—А–∞–љ—Л. –Р –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –љ–µ –і–∞–є –С–Њ–≥, –Є —В–Њ—В —Б–∞–Љ—Л–є (–і–∞–ґ–µ –њ–Њ–і—Г–Љ–∞—В—М —Б—В—А–∞—И–љ–Њ!) —Б–Є–≥–љ–∞–ї –љ–∞ —Б—В–∞—А—В —А–∞–Ї–µ—В? –Э–µ—В, –љ–µ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ —Н—В–Њ–≥–Њ –±—Л—В—М, - —Г—Б–њ–Њ–Ї–∞–Є–≤–∞—О —Б–µ–±—П –Є –≤—Б–µ-—В–∞–Ї–Є –Ј–∞—Б—Л–њ–∞—О... –°–Ї–≤–Њ–Ј—М –і—А–µ–Љ—Г - –і–µ–ї–Є–Ї–∞—В–љ—Л–є —Б—В—Г–Ї –≤ –і–≤–µ—А—М. –У–Њ–ї–Њ—Б –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –С–І-4 (–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ —Б–≤—П–Ј–Є, –Њ–љ –ґ–µ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї —А–∞–і–Є–Њ—В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±—Л - –†–Ґ–°): "–Ґ–Њ–≤–∞—А–Є—Й –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А, —З–µ—А–µ–Ј 15 –Љ–Є–љ—Г—В - —Б–µ–∞–љ—Б —Б–≤—П–Ј–Є!" –ѓ —Г–ґ–µ –њ–Њ–љ—П–ї, —З—В–Њ –њ—А–Њ—Б–љ—Г–ї—Б—П. –†—Л–≤–Ї–Њ–Љ –≤—Б–Ї–∞–Ї–Є–≤–∞—О —Б –і–Є–≤–∞–љ–∞ –Є, —Б—В–∞—А–∞—П—Б—М –њ—А–Є–і–∞—В—М —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г –≥–Њ–ї–Њ—Б—Г –Є –ї–Є—Ж—Г "—Б–≤–µ–ґ–µ–µ" –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ, —Б—Г—Е–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–љ–Њ—И—Г: "–°–њ–∞—Б–Є–±–Њ, —Б–µ–є—З–∞—Б –Є–і—Г!" –°–≤–Њ–µ–Њ–±—А–∞–Ј–љ—Л–є –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є –њ—А–Є–µ–Љ: –њ–Њ–і—З–Є–љ–µ–љ–љ—Л–µ –љ–µ –і–Њ–ї–ґ–љ—Л —Б–ї—Л—И–∞—В—М –Є —В–µ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ –≤–Є–і–µ—В—М —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ —А–∞—Б—Б–ї–∞–±–ї–µ–љ–љ—Л–Љ. –Т—Л—Е–Њ–ґ—Г –Є–Ј –Ї–∞—О—В—Л, –Ј–∞–њ–Є—А–∞—О –і–≤–µ—А—М —Н—В–Њ–≥–Њ —Е—А–∞–љ–Є–ї–Є—Й–∞ —Б–µ–Ї—А–µ—В–Њ–≤ –љ–∞ –Ї–ї—О—З –Є "–љ—Л—А—П—О" —З–µ—А–µ–Ј —И–Є—А–Њ–Ї–Є–є –Ї–Њ–Љ–Є–љ–≥—Б –Є –і–≤–µ—А—М-–ї—О–Ї –≤ —В—А–µ—В–Є–є –Њ—В—Б–µ–Ї. –ѓ - –≤ "–Љ–Њ–Ј–≥–Њ–≤–Њ–Љ —Ж–µ–љ—В—А–µ" –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П, –≤ –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –њ–Њ—Б—В—Г. –°–µ–є—З–∞—Б –Ј–і–µ—Б—М –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П —В–Є—И–Є–љ–∞, –Є–Ј—А–µ–і–Ї–∞ –љ–∞—А—Г—И–∞–µ–Љ–∞—П –ї–Є—И—М –ї–µ–≥–Ї–Є–Љ —И–Є–њ–µ–љ–Є–µ–Љ –≥–Є–і—А–∞–≤–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Б–Љ–µ—Б–Є –≤ –њ—А–Є–≤–Њ–і–∞—Е —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –≤–µ—А—В–Є–Ї–∞–ї—М–љ—Л–Љ –Є –≥–Њ—А–Є–Ј–Њ–љ—В–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є —А—Г–ї—П–Љ–Є –і–∞ –Њ—В–і–∞–≤–∞–µ–Љ—Л–Љ–Є –≤–њ–Њ–ї–≥–Њ–ї–Њ—Б–∞ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–∞–Љ–Є –≤–∞—Е—В–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–∞ –Є –≤–∞—Е—В–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ї–∞. –Я—А–Њ—Б—В–Њ –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ –њ–Њ–ї—Г—Б–Њ–љ–љ—Л–є –њ–Њ–Ї–Њ–є! –Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, —П. –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –Ј–љ–∞–ї, —З—В–Њ –њ–Њ–Ї–Њ–є —Н—В–Њ—В –Њ–±–Љ–∞–љ—З–Є–≤. –Т –ї—О–±–Њ–є –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞ –≤ –Њ—В—Б–µ–Ї–µ –і–∞ –Є –≤ —Б–∞–Љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –Ї–∞—А–і–Є–љ–∞–ї—М–љ–Њ –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є—В—М—Б—П, –≤–Ј–Њ—А–≤–∞—В—М—Б—П –±–Њ–µ–≤–Њ–є, –∞ —В–Њ –Є –∞–≤–∞—А–Є–є–љ–Њ–є —В—А–µ–≤–Њ–≥–Њ–є. –Ю—З–µ–љ—М –љ–µ —Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М –і—Г–Љ–∞—В—М, —З—В–Њ —З–µ—А–µ–Ј —Б—З–Є—В–∞–љ–љ—Л–µ —Б–µ–Ї—Г–љ–і—Л –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Љ–љ–µ –њ—А–Є–і–µ—В—Б—П "–≤—Б—В—А—П—Е–љ—Г—В—М" —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ —П —В–≤–µ—А–і–Њ –њ–Њ–Љ–љ–Є–ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Б–Ї—Г—О –Ј–∞–њ–Њ–≤–µ–і—М: "–Х—Б–ї–Є —Б–Њ–Љ–љ–µ–≤–∞–µ—И—М—Б—П - —Б—В—А–Њ–Є—В—М –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г –Є–ї–Є –љ–µ —Б—В—А–Њ–Є—В—М - —Б—В—А–Њ–є! –Х—Б–ї–Є —А–∞–Ј–і—Г–Љ—Л–≤–∞–µ—И—М - –Њ–±—К—П–≤–ї—П—В—М —В—А–µ–≤–Њ–≥—Г –Є–ї–Є –љ–µ –Њ–±—К—П–≤–ї—П—В—М - –Њ–±—К—П–≤–ї—П–є –µ–µ!" –Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—П—Й–Є—Е –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–Њ–≤, –≤ –і–∞–љ–љ–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ, –љ–µ –Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Є –Љ–µ—Б—В–∞ —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є—П–Љ: –≤—Б–њ–ї—Л—В–Є–µ –љ–∞ –њ–µ—А–Є—Б–Ї–Њ–њ–љ—Г—О –≥–ї—Г–±–Є–љ—Г –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В—Б—П —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ —В—А–µ–≤–Њ–≥–µ, –љ–∞–≤–µ—А—Е—Г –Љ–Њ–≥—Г—В –±—Л—В—М –≤—Б—П–Ї–Є–µ –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є. –Я—А–Є–≤—Л—З–љ–Њ –њ–Њ–і–∞–≤–ї—П—О —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ –ї–Њ–ґ–љ–Њ–є –ґ–∞–ї–Њ—Б—В–Є. –°–Ї—А–Є–њ–љ—Г–ї–∞ –і–≤–µ—А—М —А–∞–і–Є–Њ–ї–Њ–Ї–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є —А—Г–±–Ї–Є: —А–∞–і–Є–Њ–Љ–µ—В—А–Є—Б—В—Л —Г–ґ–µ —В–∞–Љ. –Я–Њ—Е–≤–∞–ї–Є–ї –Є—Е –Љ—Л—Б–ї–µ–љ–љ–Њ: –≥–Њ—В–Њ–≤—П—В—Б—П –Ј–∞—А–∞–љ–µ–µ, –љ–µ –Њ–ґ–Є–і–∞—П —В—А–µ–≤–Њ–≥–Є. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ –Є–Љ –љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞–ї–Њ –њ—А–Є –њ–Њ–і–≤—Б–њ–ї—Л—В–Є–Є –њ–Њ–і –њ–µ—А–Є—Б–Ї–Њ–њ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–≤–∞—В—М –Є –Ї–ї–∞—Б—Б–Є—Д–Є—Ж–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –њ–Њ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А—Г —А–∞–±–Њ—В—Л —А–∞–і–Є–Њ–ї–Њ–Ї–∞—В–Њ—А–Њ–≤ —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В—Л –Є–ї–Є –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є –µ—Й–µ –і–Њ —В–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї –Њ–љ–Є —Б–Љ–Њ–≥—Г—В –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є—В—М –ї–Њ–і–Ї—Г. –Ь–Њ–ї–Њ–і—Ж—Л! –Ч–∞–≥–ї—П–і—Л–≤–∞—О –≤ —И—В—Г—А–Љ–∞–љ—Б–Ї—Г—О —А—Г–±–Ї—Г. –Т–Љ–µ—Б—В–µ —Б–Њ —И—В—Г—А–Љ–∞–љ–Њ–Љ –њ—А–Є–Ї–Є–і—Л–≤–∞—О, –Ї–∞–Ї–∞—П –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –љ–∞–≤–µ—А—Е—Г –њ–Њ–≥–Њ–і–∞. –Я—А—П–Љ–Њ –Є–Ј —И—В—Г—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –њ—А–Є–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О –≤–∞—Е—В–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Г –≤—Б–њ–ї—Л—В—М –љ–∞ –≥–ї—Г–±–Є–љ—Г, –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ—Г—О –Њ—В —В–∞—А–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —Г–і–∞—А–∞: –љ–∞ –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В–Є –Љ–Њ–ґ–µ—В –Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М—Б—П "–љ–µ—Г—Б–ї—Л—И–∞–љ–љ—Л–є" –љ–∞–Љ–Є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М. –Я–Њ–ї—Г—З–∞—О –і–Њ–Ї–ї–∞–і –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –ї–Њ–і–Ї–∞ –≤—Б–њ–ї—Л–ї–∞ –љ–∞ —Н—В—Г –≥–ї—Г–±–Є–љ—Г, –Њ–±—К—П–≤–ї—П—О –±–Њ–µ–≤—Г—О —В—А–µ–≤–Њ–≥—Г. –Я—А–Є–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О –∞–Ї—Г—Б—В–Є–Ї–∞–Љ –њ—А–Њ—Б–ї—Г—И–∞—В—М –≥–Њ—А–Є–Ј–Њ–љ—В. –®—Г–Љ–Њ–≤ –љ–µ—В. –£–≤–µ–ї–Є—З–Є–≤–∞—О —Е–Њ–і, –±—Л—Б—В—А–Њ –њ—А–Њ—Б–Ї–∞–Ї–Є–≤–∞—О –Њ–њ–∞—Б–љ—Г—О –Њ—В —В–∞—А–∞–љ–∞ –≥–ї—Г–±–Є–љ—Г, –њ—А–Є –њ–Њ–і—Е–Њ–і–µ –Ї –њ–µ—А–Є—Б–Ї–Њ–њ–љ–Њ–є –≥–ї—Г–±–Є–љ–µ —Б–±–∞–≤–ї—П—О —Е–Њ–і –Є –њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞—О –њ–µ—А–Є—Б–Ї–Њ–њ. –Ю—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—О –≥–Њ—А–Є–Ј–Њ–љ—В. –Ю–љ —З–Є—Б—В. –Я–Њ–≥–Њ–і–∞ - –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–∞—П, –њ–Њ—З—В–Є —И—В–Є–ї—М, —П—Б–љ–Њ–µ –љ–µ–±–Њ –Є —П—А–Ї–Њ–µ —Б–Њ–ї–љ—Ж–µ, –љ–∞ –љ–µ–±–µ —А–µ–і–Ї–Є–µ –Њ–±–ї–∞—З–Ї–∞. 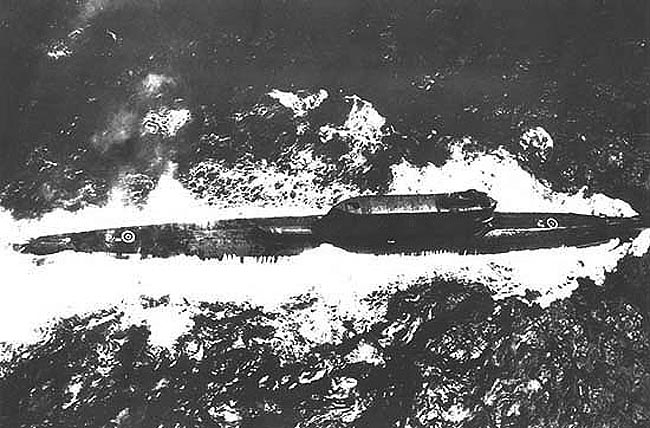 –Я–Њ–і–љ–Є–Љ–∞—О –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л–µ –≤—Л–і–≤–Є–ґ–љ—Л–µ —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–∞ –Є –њ–Њ –і–Є–љ–∞–Љ–Є–Ї—Г –≤ –±–Њ–µ–≤–Њ–є —А—Г–±–Ї–µ —Б–ї—Л—И—Г –њ–Є—Б–Ї –Љ–Њ—А–Ј—П–љ–Ї–Є: —Б–µ–∞–љ—Б —Б–≤—П–Ј–Є –љ–∞—З–∞–ї—Б—П. –†–∞–±–Њ—В–∞—О—Й–Є—Е —А–∞–і–Є–Њ–ї–Њ–Ї–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е —Б—В–∞–љ—Ж–Є–є –љ–µ—В. –°–µ–∞–љ—Б —Б–≤—П–Ј–Є –Њ–Ї–Њ–љ—З–µ–љ. –†–∞–і–Є–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ –≤ –љ–∞—И –∞–і—А–µ—Б –љ–µ—В. –Ь—Л –Њ–њ—П—В—М –љ–∞ –Њ–њ—В–Є–Љ–∞–ї—М–љ–Њ–є –≥–ї—Г–±–Є–љ–µ. –≠—В–∞ –≥–ї—Г–±–Є–љ–∞ —А–∞—Б—Б—З–Є—В–∞–љ–∞ –њ–Њ —Б–Њ–ї–µ–љ–Њ—Б—В–Є –Є —В–µ–Љ–њ–µ—А–∞—В—Г—А–µ –Ј–∞–±–Њ—А—В–љ–Њ–є –≤–Њ–і—Л. –Ю–љ–∞ "—Б–Ї—А—Л–≤–∞–µ—В" –љ–∞—Б –Њ—В –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П. –°–љ–Є–ґ–∞—О –±–Њ–µ–≤—Г—О –≥–Њ—В–Њ–≤–љ–Њ—Б—В—М. –Я–Њ–і–≤–∞—Е—В–µ–љ–љ—Л–µ (–љ–µ –Ј–∞–љ—П—В—Л–µ –≤–∞—Е—В–Њ–є) —Б–Љ–µ–љ—Л - –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞—О—В –Њ—В–і—Л—Е. –†–µ—И–∞—О, –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г—П —Е–Њ—А–Њ—И—Г—О –њ–Њ–≥–Њ–і—Г, —Б –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ —В–µ–Љ–љ–Њ—В—Л –њ–µ—А–µ–є—В–Є –љ–∞ —А–µ–ґ–Є–Љ –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є—П –њ–Њ–і –†–Ф–Я, –Ј–∞—А—П–і–Є—В—М –і–Њ —А–∞—Б—Б–≤–µ—В–∞ –∞–Ї–Ї—Г–Љ—Г–ї—П—В–Њ—А–љ—Г—О –±–∞—В–∞—А–µ—О. –Т–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞—О—Б—М –≤ –Ї–∞—О—В—Г. –Ю–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В.
07.11.200909:0707.11.2009 09:07:20
0
07.11.200908:2807.11.2009 08:28:40
–С—Л—З–µ–≤—Б–Ї–Є–є –Т–Є–Ї—В–Њ—А –С–Њ—А–Є—Б–Њ–≤–Є—З. –Я—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ.–Р —В–µ–њ–µ—А—М –Њ –Љ–∞—А—И–∞–ї–µ –У.–Ъ.–Ц—Г–Ї–Њ–≤–µ, —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Њ–±—А–∞—В–Є—В—М –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –љ–∞ –≥–Њ–і—Л, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї –Є –Њ–њ–Є—Б—Л–≤–∞–ї —Б–≤–Њ—О –≤—Б—В—А–µ—З—Г —Б –Љ–∞—А—И–∞–ї–Њ–Љ, –≤—В–Њ—А–∞—П –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–∞ —И–µ—Б—В–Є–і–µ—Б—П—В—Л—Е.  "–Я–µ—А–≤–Њ–µ –Љ–Њ–µ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Б—В–≤–Њ —Б –љ–Њ–≤—Л–Љ –љ–Њ—Б–Є–ї–Њ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б—В—А–∞–љ–љ—Л–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А. –Т—Л—Б–ї—Г—И–∞–≤ –Љ–Њ–µ –Њ–±—Л—З–љ–Њ–µ –≤ —В–∞–Ї–Є—Е —Б–ї—Г—З–∞—П—Е –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ, –Њ–љ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–µ–Ї—Г–љ–і —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–ї –Љ–µ–љ—П –љ–µ–і–Њ–≤–µ—А—З–Є–≤—Л–Љ–Є, —Е–Њ–ї–Њ–і–љ—Л–Љ–Є –≥–ї–∞–Ј–∞–Љ–Є. –Я–Њ—В–Њ–Љ –≤–і—А—Г–≥ —А–µ–Ј–Ї–Њ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї: - –Ґ—Л –Ї—В–Њ —В–∞–Ї–Њ–є? –Т–Њ–њ—А–Њ—Б–∞ —П –љ–µ –њ–Њ–љ—П–ї –Є –µ—Й–µ —А–∞–Ј –і–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї: - –Э–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї –Ш–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ–Њ–≥–Њ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П —Д—А–Њ–љ—В–∞ –њ–Њ–і–њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї –С—Л—З–µ–≤—Б–Ї–Є–є. - –ѓ —Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞—О, —В—Л –Ї—В–Њ —В–∞–Ї–Њ–є? –Ю—В–Ї—Г–і–∞ –≤–Ј—П–ї—Б—П? –Т –≥–Њ–ї–Њ—Б–µ –µ–≥–Њ —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Њ—Б—М —А–∞–Ј–і—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ. –Ґ—П–ґ–µ–ї–Њ–≤–µ—Б–љ—Л–є –њ–Њ–і–±–Њ—А–Њ–і–Њ–Ї –Ц—Г–Ї–Њ–≤–∞ –≤—Л–і–≤–Є–љ—Г–ї—Б—П –≤–њ–µ—А–µ–і. –Э–µ–≤—Л—Б–Њ–Ї–∞—П, –љ–Њ –њ–ї–Њ—В–љ–∞—П, –Ї—А—П–ґ–Є—Б—В–∞—П —Д–Є–≥—Г—А–∞ –њ–Њ–і–љ—П–ї–∞—Б—М –љ–∞–і —Б—В–Њ–ї–Њ–Љ. "–С–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—О, —З—В–Њ –ї–Є, —Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞–µ—В? –Ъ–Њ–Љ—Г —Н—В–Њ –љ—Г–ґ–љ–Њ —Б–µ–є—З–∞—Б?" - –њ–Њ–і—Г–Љ–∞–ї —П, –љ–µ —Б–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–Є–≤, —З—В–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є–є –Њ–ґ–Є–і–∞–ї —Г–≤–Є–і–µ—В—М –≤ —Н—В–Њ–є –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –Ї–Њ–≥–Њ-—В–Њ –і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ. –Э–µ—Г–≤–µ—А–µ–љ–љ–Њ —Б—В–∞–ї –і–Њ–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞—В—М, —З—В–Њ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Ш–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ–Њ–≥–Њ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ–Ї—А—Г–≥–∞, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ —Д—А–Њ–љ—В–∞ —А–∞–±–Њ—В–∞—О –њ–Њ—З—В–Є –њ–Њ–ї—В–Њ—А–∞ –≥–Њ–і–∞, –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ-—Д–Є–љ–ї—П–љ–і—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л –±—Л–ї –љ–∞—З–Є–љ–ґ–µ–Љ 13-–є –∞—А–Љ–Є–Є –љ–∞ –Ъ–∞—А–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–Љ –њ–µ—А–µ—И–µ–є–Ї–µ. - –•—А–µ–љ–Њ–≤–∞, —З—В–Њ –ї–Є, —Б–Љ–µ–љ–Є–ї –Ј–і–µ—Б—М? –Ґ–∞–Ї –±—Л –Є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї! –Р –≥–і–µ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї –Э–∞–Ј–∞—А–Њ–≤? –ѓ –µ–≥–Њ –≤—Л–Ј—Л–≤–∞–ї. - –У–µ–љ–µ—А–∞–ї –Э–∞–Ј–∞—А–Њ–≤ —А–∞–±–Њ—В–∞–ї –≤ —И—В–∞–±–µ –≥–ї–∞–≤–Ї–Њ–Љ–∞ –°–µ–≤–µ—А–Њ-–Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Є –Ї–Њ–Њ—А–і–Є–љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ—Л–µ –Љ–µ—А–Њ–њ—А–Є—П—В–Є—П –і–≤—Г—Е —Д—А–Њ–љ—В–Њ–≤, - —Г—В–Њ—З–љ–Є–ї —П. - –Ю–љ —Г–ї–µ—В–µ–ї —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –љ–Њ—З—М—О –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –Љ–∞—А—И–∞–ї–Њ–Љ. - –Ъ–Њ–Њ—А–і–Є–љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї... —Г–ї–µ—В–µ–ї... - –њ—А–Њ–±—Г—А—З–∞–ї –Ц—Г–Ї–Њ–≤. - –Э—Г –Є —З–µ—А—В —Б –љ–Є–Љ! –І—В–Њ —В–∞–Љ —Г —В–µ–±—П, –і–Њ–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–є. –ѓ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї –Ї–∞—А—В—Л –Є –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї, —З—В–Њ –±—Л–ї–Њ —Б–і–µ–ї–∞–љ–Њ –і–Њ –љ–∞—З–∞–ї–∞ –њ—А–Њ—А—Л–≤–∞ –њ–Њ–і –Ъ—А–∞—Б–љ—Л–Љ –°–µ–ї–Њ–Љ, –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–≥–≤–∞—А–і–µ–є—Б–Ї–Њ–Љ –Є –Ъ–Њ–ї–њ–Є–љ–Њ, —З—В–Њ –Є–Љ–µ–µ—В—Б—П —Б–µ–є—З–∞—Б –љ–∞ –њ—Г–ї–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є, —З—В–Њ –і–µ–ї–∞–µ—В—Б—П –≤ –≥–Њ—А–Њ–і–µ, –љ–∞ –Э–µ–≤–µ, –љ–∞ –Ъ–∞—А–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–Љ –њ–µ—А–µ—И–µ–є–Ї–µ, –≥–і–µ —А–∞–±–Њ—В–∞—О—В –Љ–Є–љ–µ—А—Л –Є –њ–Њ–љ—В–Њ–љ–µ—А—Л. –Ц—Г–Ї–Њ–≤ —Б–ї—Г—И–∞–ї, –љ–µ –Ј–∞–і–∞–≤–∞—П –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–≤... –Я–Њ—В–Њ–Љ - —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ –Є–ї–Є –љ–∞–Љ–µ—А–µ–љ–љ–Њ - –µ–≥–Њ —А—Г–Ї–∞ —А–µ–Ј–Ї–Њ –і–≤–Є–љ—Г–ї–∞ –Ї–∞—А—В—Л, —В–∞–Ї, —З—В–Њ –ї–Є—Б—В—Л —Г–њ–∞–ї–Є —Б–Њ —Б—В–Њ–ї–∞ –Є —А–∞–Ј–ї–µ—В–µ–ї–Є—Б—М –њ–Њ –њ–Њ–ї—Г, –Є, –љ–Є —Б–ї–Њ–≤–∞ –љ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А—П, —Б—В–∞–ї —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—В—М –±–Њ–ї—М—И—Г—О —Б—Е–µ–Љ—Г –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л –≥–Њ—А–Њ–і–∞, –њ—А–Є–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–љ—Г—О –Ї —Б—В–µ–љ–µ. - –І—В–Њ –Ј–∞ —В–∞–љ–Ї–Є –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є—Б—М –≤ —А–∞–є–Њ–љ–µ –Я–µ—В—А–Њ—Б–ї–∞–≤—П–љ–Ї–Є? - –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї –Њ–љ, –Њ–њ—П—В—М –Њ–±–µ—А–љ—Г–≤—И–Є—Б—М –Ї–Њ –Љ–љ–µ –Є –≥–ї—П–і—П, –Ї–∞–Ї —П —Б–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞—О –≤ –њ–∞–њ–Ї—Г —Б–±—А–Њ—И–µ–љ–љ—Л–µ –љ–∞ –њ–Њ–ї –Ї–∞—А—В—Л. - –І–µ–≥–Њ –њ—А—П—З–µ—И—М, –і–∞–є-–Ї–∞ —Б—О–і–∞! –І—Г—И—М —В–∞–Љ –Ї–∞–Ї–∞—П-—В–Њ... - –≠—В–Њ –Љ–∞–Ї–µ—В—Л —В–∞–љ–Ї–Њ–≤, —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є–є, - –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї —П –љ–∞ –Ї–∞—А—В–µ —Г—Б–ї–Њ–≤–љ—Л–є –Ј–љ–∞–Ї –ї–Њ–ґ–љ–Њ–є —В–∞–љ–Ї–Њ–≤–Њ–є –≥—А—Г–њ–њ–Є—А–Њ–≤–Ї–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –±—А–Њ—Б–Є–ї–∞—Б—М –µ–Љ—Г –≤ –≥–ї–∞–Ј–∞. - –Я—П—В—М–і–µ—Б—П—В —И—В—Г–Ї —Б–і–µ–ї–∞–љ–Њ –≤ –Љ–∞—Б—В–µ—А—Б–Ї–Њ–є –Ь–∞—А–Є–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В–µ–∞—В—А–∞. –Э–µ–Љ—Ж—Л –і–≤–∞–ґ–і—Л –Є—Е –±–Њ–Љ–±–Є–ї–Є... - –Ф–≤–∞–ґ–і—Л! - –љ–∞—Б–Љ–µ—И–ї–Є–≤–Њ –њ–µ—А–µ–±–Є–ї –Ц—Г–Ї–Њ–≤. - –Ш –і–Њ–ї–≥–Њ —В–∞–Љ –і–µ—А–ґ–Є—И—М —Н—В–Є –Є–≥—А—Г—И–Ї–Є? - –Ф–≤–∞ –і–љ—П. - –Ф—Г—А–∞–Ї–Њ–≤ –Є—Й–µ—И—М? –Ц–і–µ—И—М, –Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ–Љ—Ж—Л —Б–±—А–Њ—Б—П—В —В–Њ–ґ–µ –і–µ—А–µ–≤—П—И–Ї—Г? –°–µ–≥–Њ–і–љ—П –ґ–µ –љ–Њ—З—М—О —Г–±—А–∞—В—М –Њ—В—В—Г–і–∞! –°–і–µ–ї–∞—В—М –µ—Й–µ —Б—В–Њ —И—В—Г–Ї –Є –Ј–∞–≤—В—А–∞ —Б —Г—В—А–∞ –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М –≤ –і–≤—Г—Е –Љ–µ—Б—В–∞—Е –Ј–∞ –°—А–µ–і–љ–µ–є –†–Њ–≥–∞—В–Ї–Њ–є. –Ч–і–µ—Б—М –Є –Ј–і–µ—Б—М, - –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї –Њ–љ –Ї–∞—А–∞–љ–і–∞—И–Њ–Љ. - –Ь–∞—Б—В–µ—А—Б–Ї–Є–µ —В–µ–∞—В—А–∞ –љ–µ —Г—Б–њ–µ—О—В –Ј–∞ –љ–Њ—З—М —Б–і–µ–ї–∞—В—М —Б—В–Њ –Љ–∞–Ї–µ—В–Њ–≤, - –љ–µ–Њ—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї —П. –Ц—Г–Ї–Њ–≤ –њ–Њ–і–љ—П–ї –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г –Є –Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї –Љ–µ–љ—П —Б–≤–µ—А—Е—Г –≤–љ–Є–Ј –Є –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ. - –Э–µ —Г—Б–њ–µ—О—В - –њ–Њ–і —Б—Г–і –њ–Њ–є–і–µ—И—М. –Ч–∞–≤—В—А–∞ —Б–∞–Љ –њ—А–Њ–≤–µ—А—О. –Ю—В—А—Л–≤–Є—Б—В—Л–µ —Г–≥—А–Њ–ґ–∞—О—Й–Є–µ —Д—А–∞–Ј—Л –Ц—Г–Ї–Њ–≤–∞ –њ–Њ—Е–Њ–і–Є–ї–Є –љ–∞ —Г–і–∞—А—Л —Е–ї—Л—Б—В–Њ–Љ. –Ъ–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, –Њ–љ –љ–∞—А–Њ—З–љ–Њ –Є—Б–њ—Л—В—Л–≤–∞–µ—В –Љ–Њ–µ —В–µ—А–њ–µ–љ–Є–µ. - –Ч–∞–≤—В—А–∞ –љ–∞ –Я—Г–ї–Ї–Њ–≤—Б–Ї—Г—О –≤—Л—Б–Њ—В—Г –њ–Њ–µ–і—Г, –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А—О, —З—В–Њ –≤—Л —В–∞–Љ –љ–∞–Ї–Њ–≤—Л—А—П–ї–Є... –Я–Њ—З–µ–Љ—Г —В–∞–Ї –њ–Њ–Ј–і–љ–Њ –µ–µ –љ–∞—З–∞–ї–Є —Г–Ї—А–µ–њ–ї—П—В—М? - –Ш —В—Г—В –ґ–µ, –љ–µ –Њ–ґ–Є–і–∞—П –Њ—В–≤–µ—В–∞, –Њ—В—А–µ–Ј–∞–ї: - –Ь–Њ–ґ–µ—И—М –Є–і—В–Є!.." –І–∞—Й–µ –≤—Б–µ–≥–Њ "—И–Њ—Г-–±–Є–Ј–љ–µ—Б" –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Є –Є–Ј –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –Ї–љ–Є–≥–Є —Ж–Є—В–Є—А—Г—О—В –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —Н—В–Њ—В –Њ—В—А—Л–≤–Њ–Ї. –Ґ–µ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ —Б—З–Є—В–∞–µ–Љ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л–Љ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є—В—М –Є –Њ—Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є–Ј–Њ–≤–∞—В—М –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї—Г, –њ—А–µ–і—И–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И—Г—О —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А—Г, –і—А—Г–≥–Њ–є —Ж–Є—В–∞—В–Њ–є, –Њ–±—А–∞—В–Є–Љ—Б—П –Ї –Ї–љ–Є–≥–µ –У–µ—А–Њ—П –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞ –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—П  "–Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і –±–µ—Б–њ–Њ—Й–∞–і–љ–Њ –±–Њ–Љ–±–Є–ї–∞ –≥–Є—В–ї–µ—А–Њ–≤—Б–Ї–∞—П –∞–≤–Є–∞—Ж–Є—П, –њ–Њ–ґ–∞—А—Л –њ–Њ–ї—Л—Е–∞–ї–Є –≤–Њ –≤—Б–µ—Е —А–∞–є–Њ–љ–∞—Е, "–≤–µ–ї–∞ –Њ–±—Б—В—А–µ–ї —В—П–ґ–µ–ї–∞—П –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—П –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞, —Б–љ–∞—А—П–і—Л —А–≤–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞ —Г–ї–Є—Ж–∞—Е, —А–∞–Ј—А—Г—И–∞–ї–Є –ґ–Є–ї—Л–µ –і–Њ–Љ–∞, —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–∞–ї–Є –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–µ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є–µ. –Э–µ–Љ—Ж—Л —Б—В—А–µ–Љ–Є–ї–Є—Б—М –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –љ–∞ —Д—А–Њ–љ—В–∞—Е, –Ї–Њ–ї—М—Ж–Њ–Љ –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞–≤—И–Є—Е –≥–Њ—А–Њ–і, –љ–Њ –Є –±–µ—Б–њ–Њ—Й–∞–і–љ—Л–Љ –Є—Б—В—А–µ–±–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –ґ–Є—В–µ–ї–µ–є —Б–ї–Њ–Љ–Є—В—М –≤–Њ–ї—О –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—П—О—Й–Є—Е—Б—П –Є –≤—Л–љ—Г–і–Є—В—М –Є—Е –Ї —Б–і–∞—З–µ. –†–∞–±–Њ—В–∞—П –≤ —И—В–∞–±–µ —Д—А–Њ–љ—В–∞, –Ц—Г–Ї–Њ–≤ –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –±–Њ–Љ–±–µ–ґ–µ–Ї –Є –Њ–±—Б—В—А–µ–ї–∞ –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –Ї—А—Г–њ–љ–Њ–Ї–∞–ї–Є–±–µ—А–љ–Њ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–µ–є –љ–µ —Г—Е–Њ–і–Є–ї –≤ –±–Њ–Љ–±–Њ—Г–±–µ–ґ–Є—Й–µ, –Њ–љ –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї—Б—П –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В–µ. –Я–Њ–і –Ј–і–∞–љ–Є–µ–Љ –°–Љ–Њ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –±—Л–ї–Њ —Е–Њ—А–Њ—И–µ–µ –±–Њ–Љ–±–Њ—Г–±–µ–ґ–Є—Й–µ —Б –њ–Њ–і–≤–µ–і–µ–љ–љ—Л–Љ–Є —В—Г–і–∞ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞–Љ–Є —Б–≤—П–Ј–Є, –љ–Њ –Ј–∞ –≤—Б–µ –≤—А–µ–Љ—П –њ—А–µ–±—Л–≤–∞–љ–Є—П –≤ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–µ –Ц—Г–Ї–Њ–≤ —Б–њ—Г—Б—В–Є–ї—Б—П —В—Г–і–∞ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–і–Є–љ —А–∞–Ј, –Є —В–Њ –і–ї—П –Њ—Б–Љ–Њ—В—А–∞. –£ –љ–µ–≥–Њ –љ–µ –±—Л–ї–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –љ–∞ –±–µ–≥–Њ—В–љ—О –≤–љ–Є–Ј –Є –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ, –і–Њ—А–Њ–≥–∞ –±—Л–ї–∞ –Ї–∞–ґ–і–∞—П –Љ–Є–љ—Г—В–∞, –∞ –±–Њ–Љ–±–µ–ґ–Ї–Є –Є –Њ–±—Б—В—А–µ–ї—Л —И–ї–Є –њ–Њ—З—В–Є –љ–µ–њ—А–µ—А—Л–≤–љ–Њ. –Э–µ –Є–Љ–µ—П –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–є –љ–∞–і–µ–ґ–і—Л –њ–Њ–ї—Г—З–Є—В—М –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М –Є–Ј–≤–љ–µ, –Ц—Г–Ї–Њ–≤ —Б—В–∞–ї —Б–Њ–±–Є—А–∞—В—М —В–µ —Б–Є–ї—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –µ—Й–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –Ј–і–µ—Б—М, –≤ –Њ–Ї—А—Г–ґ–µ–љ–Є–Є, –Є –Љ–∞–љ–µ–≤—А–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –Є–Љ–Є. –Ф–ї—П –Њ—В—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П —В–∞–љ–Ї–Њ–≤ –Є –њ—А–µ–і–Њ—В–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є—П –њ—А–Њ—А—Л–≤–∞ –Њ–љ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї –љ–∞ —Б–∞–Љ—Л—Е –Њ–њ–∞—Б–љ—Л—Е –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П—Е, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –љ–∞ –Я—Г–ї–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е –≤—Л—Б–Њ—В–∞—Е, –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М —З–∞—Б—В—М –Ј–µ–љ–Є—В–љ—Л—Е –Њ—А—Г–і–Є–є –Є–Ј –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–≤–Њ–Ј–і—Г—И–љ–Њ–є –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л –≥–Њ—А–Њ–і–∞. –Э–∞ —Б–∞–Љ—Л–є –Њ–њ–∞—Б–љ—Л–є —Г—З–∞—Б—В–Њ–Ї - –£—А–Є—Ж–Ї - –Я—Г–ї–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–µ –≤—Л—Б–Њ—В—Л - –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї —Б–Њ—Б—А–µ–і–Њ—В–Њ—З–Є—В—М –Њ–≥–Њ–љ—М –Ї–Њ—А–∞–±–µ–ї—М–љ–Њ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є. –Э–∞ –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ —Г—П–Ј–≤–Є–Љ—Л—Е –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П—Е –љ–µ–Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞–ї –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ—Л–µ —А–∞–±–Њ—В—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –њ—А–Є–і–∞–≤–∞–ї –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–Њ–µ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ, –Љ–Њ–±–Є–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞–ї –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є–µ, –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ—Л–µ —З–∞—Б—В–Є –Є –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –і–ї—П —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є—П –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ —Н—И–µ–ї–Њ–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л. –†–∞–±–Њ—В—Л —И–ї–Є –≤ —Б–≤–µ—А—Е—Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В–љ–Њ–Љ —В–µ–Љ–њ–µ, –≤ –њ—А–µ–і–µ–ї—М–љ–Њ–Љ –љ–∞–њ—А—П–ґ–µ–љ–Є–Є —Б–Є–ї –Є, –і–Њ–±–∞–≤–ї—О, –љ–µ—А–≤–Њ–≤. –Я—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ —В–Њ–Љ, –≤ –Ї–∞–Ї–Њ–Љ –≤–Ј–≤–Є–љ—З–µ–љ–љ–Њ–Љ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є –±—Л–ї –≤ —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Ц—Г–Ї–Њ–≤, –і–∞–µ—В —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ–Њ–≥–Њ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д—А–Њ–љ—В–∞ –С–Њ—А–Є—Б–∞ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З–∞ –С—Л—З–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ. –≠—В–Њ –±—Л–ї –љ–µ–Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–є –Є–љ—В–µ–ї–ї–Є–≥–µ–љ—В–љ—Л–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –Є —В–Њ—В —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–µ–ї —Г –љ–µ–≥–Њ –њ—А–Є –њ–µ—А–≤–Њ–Љ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Б—В–≤–µ —Б –Ц—Г–Ї–Њ–≤—Л–Љ, –µ–≥–Њ –Њ–±–µ—Б–Ї—Г—А–∞–ґ–Є–ї. –Э–Њ —П –њ—А–Є–≤–Њ–ґ—Г –µ–≥–Њ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј –і–ї—П —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ–±—Л –Љ—Л —Б –≤–∞–Љ–Є —Г–≤–Є–і–µ–ї–Є –Ц—Г–Ї–Њ–≤–∞ –µ—Й–µ –Є –≥–ї–∞–Ј–∞–Љ–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ, –њ–Њ —Б—Г—В–Є –і–µ–ї–∞, –љ–µ–Ј–∞—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–љ–Њ –Њ–±–Є–ґ–∞—О—В... –Т–Њ –≤—Б–µ–Љ, —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–Љ –С—Л—З–µ–≤—Б–Ї–Є–Љ, —П–≤–љ–Њ —Б–Ї–≤–Њ–Ј–Є—В –Њ–±–Є–і–∞. –°–і–µ–ї–∞–µ–Љ –љ–∞ –љ–µ–µ —Б–Ї–Є–і–Ї—Г. –Э–Њ –њ—А–Є –≤—Б–µ–Љ –њ—А–Є —В–Њ–Љ –≤ –њ—А—П–Љ–Њ–є —А–µ—З–Є –Є, —П –±—Л —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї, –≤ –ґ–µ—Б—В–∞—Е –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤—Г–µ—В "–ґ—Г–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –Ї–Њ–ї–Њ—А–Є—В". –°–ї–µ–і—Г–µ—В –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ —Г—З–µ—Б—В—М –Є —В–Њ, —З—В–Њ —А–µ—З—М —И–ї–∞ –Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є—Е –њ–µ—А–µ–і –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–Љ —А—Г–±–µ–ґ–∞—Е..." 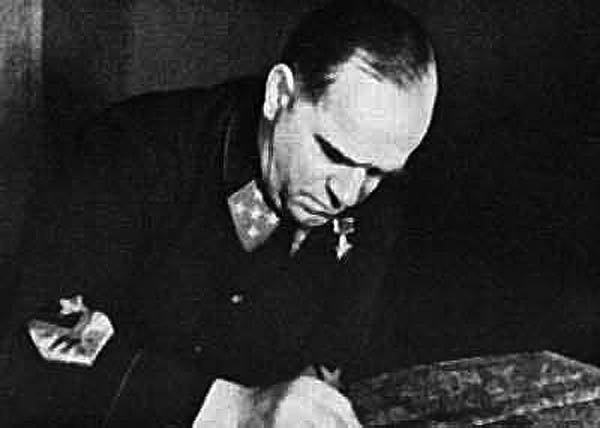 –Э–∞–і–µ—П—Б—М, —З—В–Њ –љ–Є–Ї–Њ–Љ—Г –љ–µ –њ—А–Є–і–µ—В –≤ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г —Б—З–Є—В–∞—В—М —Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–µ –њ–Њ–њ—Л—В–Ї–Њ–є –Њ–њ—А–∞–≤–і–∞—В—М —Е–∞–Љ—Б–Ї–Њ–µ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ —Б—В–∞—А—И–µ–≥–Њ –њ–Њ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—О –Ї –Љ–ї–∞–і—И–µ–Љ—Г, –Ј–∞–Љ–µ—В–Є–Љ, —З—В–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є–Љ –Є –Љ–љ–Њ–≥–Є–Љ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Л –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–µ, –њ—Г—Б—В—М –Є –≤ —Б–Љ—П–≥—З–µ–љ–љ–Њ–Љ –≤–Є–і–µ, —Б—Ж–µ–љ—Л, –≤ –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є "–Љ–ї–∞–і—И–µ–≥–Њ" –Є–ї–Є "—Б—В–∞—А—И–µ–≥–Њ"... –Ъ—В–Њ –љ–µ –љ–µ –њ—Л—В–∞–ї—Б—П –њ–Њ–љ—П—В—М –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ—Г—О —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г, —В–Њ—В, —В–Њ—В, –Ї–∞–Ї –њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ, –Є —Б–Ї–ї–Њ–љ–µ–љ —А–∞–Ј–±—А–∞—Б—Л–≤–∞–µ—В—Б—П "–Ї–∞–Љ–љ—П–Љ–Є"... –Ъ—Б—В–∞—В–Є, —Г–Љ–љ—Л–µ –њ–µ–і–∞–≥–Њ–≥–Є —Г—З–∞—В –љ–∞—И–Є—Е –і–µ—В–µ–є –Љ—Л—Б–ї–Є—В—М –Ї–Њ–љ–Ї—А–µ—В–љ–Њ, —В–Њ –µ—Б—В—М "–љ–µ –≤–Њ–Њ–±—Й–µ", –∞ —Б —Г—З–µ—В–Њ–Љ –≤—Б–µ—Е –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤ "–Љ–µ—Б—В–∞ –Є –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є". –Ъ–∞–Ї? –Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –≤–Њ—В —В–∞–Ї! "–Я–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–Є—В–µ –Љ–Є–љ–Є-—Б—Ж–µ–љ–Ї—Г –Є —Б–і–µ–ї–∞–є—В–µ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ –Њ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–µ –њ–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Ц—Г–Ї–Њ–≤–∞, –≤—Л–±—А–∞–≤ –љ—Г–ґ–љ–Њ–µ —Б–ї–Њ–≤–Њ –Є–Ј —Б–њ–Є—Б–Ї–∞ –љ–∞ –і–Њ—Б–Ї–µ. –Э–∞ –і–Њ—Б–Ї–µ: —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ—Л–є —Г—А–∞–≤–љ–Њ–≤–µ—И–µ–љ–љ—Л–є —В—А–µ–±–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є —А–µ–Ј–Ї–Є–є –Ґ—А–Є —Г—З–µ–љ–Є–Ї–∞ —А–∞–Ј—Л–≥—А—Л–≤–∞—О—В –Љ–Є–љ–Є-—Б—Ж–µ–љ–Ї—Г. –Ц—Г–Ї–Њ–≤. –Э–µ–Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї—П–є—В–µ—Б—М –Є –њ–Њ–Љ–љ–Є—В–µ: –µ—Б–ї–Є –Ї –і–µ–≤—П—В–Є —З–∞—Б–∞–Љ —И–µ—Б—В–∞—П –і–Є–≤–Є–Ј–Є—П –љ–µ –±—Г–і–µ—В –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–µ вАУ —А–∞—Б—Б—В—А–µ–ї—П—О! (–£—Е–Њ–і–Є—В.) –У–µ–љ–µ—А–∞–ї –Ш.–Ш. –§–µ–і—О–љ–Є–љ—Б–Ї–Є–є (—Б —Г–ї—Л–±–Ї–Њ–є). –Я–Њ–њ–∞–ї–Њ, –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А? –Ш–љ–ґ–µ–љ–µ—А –С.–Т. –С—Л—З–µ–≤—Б–Ї–Є–є. –°–∞–Љ—Г—О –Љ–∞–ї–Њ—Б—В—М, —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї. –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є–є –Њ–±–µ—Й–∞–ї —А–∞—Б—Б—В—А–µ–ї—П—В—М, –µ—Б–ї–Є –Ї —Г—В—А—Г —И–µ—Б—В–∞—П –і–Є–≤–Є–Ј–Є—П –љ–µ –±—Г–і–µ—В –љ–∞ –Њ–Ї—А—Г–ґ–љ–Њ–є –і–Њ—А–Њ–≥–µ. –У–µ–љ–µ—А–∞–ї –Ш.–Ш. –§–µ–і—О–љ–Є–љ—Б–Ї–Є–є (—Б —Г–ї—Л–±–Ї–Њ–є). –Э–µ —Б–µ—А—З–∞–є, –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А! –Э–∞—Б —Б –І–ї–µ–љ–Њ–Љ –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –°–Њ–≤–µ—В–∞ –Р—А–Љ–Є–Є –Ј–∞ —В–Њ –ґ–µ —Б–∞–Љ–Њ–µ –У–µ–Њ—А–≥–Є–є –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ–Њ–≤–Є—З –њ–Њ–≤–µ—Б–Є—В—М –Њ–±–µ—Й–∞–ї. –Ф–µ—В–Є –Ї–Њ–Љ–Љ–µ–љ—В–Є—А—Г—О—В. –£. –Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –У–µ–Њ—А–≥–Є–є –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ–Њ–≤–Є—З –Ц—Г–Ї–Њ–≤ –љ–Є–Ї–Њ–≥–Њ –љ–µ —А–∞—Б—Б—В—А–µ–ї—П–ї, –љ–Њ —Б–ї–Њ–ґ–љ–∞—П –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї–∞ –њ—А–Є–љ—П—В–Є—П –±—Л—Б—В—А—Л—Е —А–µ—И–µ–љ–Є–є. –Ю—В–Ї—Г–і–∞ –≤–Ј—П—В—М –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –Њ—А—Г–і–Є—П –і–ї—П —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–µ–љ–Є—П —В–∞–љ–Ї–Њ–≤? –Ш –Ц—Г–Ї–Њ–≤—Г –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В –љ–µ—Б—В–∞–љ–і–∞—А—В–љ–Њ–µ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ вАУ —Б–љ—П—В—М –Є—Е —Б –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є, –∞ –µ—Б–ї–Є –љ–∞–і–Њ, —В–Њ –і–∞–ґ–µ —Б ¬Ђ–Р–≤—А–Њ—А—Л¬ї. –Ш –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, –Ј–∞–ї–њ—Л —В—П–ґ–µ–ї—Л—Е –Ї–Њ—А–∞–±–µ–ї—М–љ—Л—Е –Њ—А—Г–і–Є–є —Б–Љ–Њ–≥–ї–Є –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М –њ–Њ–ї—З–Є—Й–∞ —Д–∞—И–Є—Б—В—Б–Ї–Є—Е ¬Ђ—В–Є–≥—А–Њ–≤¬ї –љ–∞ –њ–Њ–і—Е–Њ–і–µ –Ї –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Г." –Э–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–µ —Г—В–Њ—З–љ–µ–љ–Є–µ –Є –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ, –Ї–∞—Б–∞—О—Й–µ–µ—Б—П –≤–Ї–ї–∞–і–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–µ–ї—М–љ–Њ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є –≤ –Ј–∞—Й–Є—В—Г –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –љ–∞ –Э–µ–≤–µ. - "–Я–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–ї–∞ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –љ–Њ–≤–∞—П —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є—П вАФ –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї –њ–Њ–і–Њ—И—С–ї –Ї –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Г –Є –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –≤ —А–∞–і–Є—Г—Б–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –і–≤–µ–љ–∞–і—Ж–∞—В–Є–і—О–є–Љ–Њ–≤—Л—Е (305-–Љ–Љ) –Њ—А—Г–і–Є–є –ї–Є–љ–Ї–Њ—А–Њ–≤ –Є –Ї—А–Њ–љ—И—В–∞–і—Б–Ї–Є—Е —Д–Њ—А—В–Њ–≤. –£–ґ–µ 28 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ –њ–Њ –њ—А–Є–±–ї–Є–Ј–Є–≤—И–µ–Љ—Г—Б—П –Ї –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Г –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї—Г –Њ—В–Ї—А—Л–ї–Є –Њ–≥–Њ–љ—М —Б—В–Њ—П–≤—И–Є–µ –љ–∞ –Э–µ–≤–µ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є. –Ю –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П—Е –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є –њ—А–Є —И—В—Г—А–Љ–µ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–∞ –≤ —Б–µ–љ—В—П–±—А–µ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—З–µ–љ—М –Љ–љ–Њ–≥–Њ. –Э–Њ –Њ–±—А–∞—В–Є–Љ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –љ–∞ –Љ–љ–µ–љ–Є–µ ¬Ђ–љ–µ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–±–ї—О–і–∞—В–µ–ї—П¬ї, –љ–µ –Љ–Њ—А—П–Ї–∞. –Э–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ—Л—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д—А–Њ–љ—В–∞ –С.–Т.–С—Л—З–µ–≤—Б–Ї–Є–є —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–µ—В: ¬Ђ–Ю–і–љ–∞ –Є–Ј –≤–∞–ґ–љ–µ–є—И–Є—Е –њ—А–Є—З–Є–љ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–≤–∞–ї–∞ –њ–ї–∞–љ–∞ –≥–Є—В–ї–µ—А–Њ–≤—Ж–µ–≤ –≤–Њ—А–≤–∞—В—М—Б—П –≤ –≥–Њ—А–Њ–і –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞–µ—В—Б—П –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Ї... —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ —Б–µ–љ—В—П–±—А—П... –≤—А–∞–ґ–µ—Б–Ї–Є–µ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞... –њ–Њ–њ–∞–ї–Є –њ–Њ–і —Г–±–Є–є—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –Њ–≥–Њ–љ—М –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞¬ї –Я—А–Є—З—С–Љ –Љ–Њ—А—Б–Ї–∞—П –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—П —Б—В—А–µ–ї—П–ї–∞ –њ–Њ–і –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–Њ–Љ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ –љ–µ–Љ—Ж–∞–Љ, –Њ —З—С–Љ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –≤–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –Ї–љ–Є–≥–∞—Е, –љ–Њ –Є –њ–Њ —Д–Є–љ–љ–∞–Љ."  –Э–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є–Љ, —З—В–Њ –Є –≤–Є–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М, –Є –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М —А–∞–≤–љ–Њ —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—В, –љ–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞ —А–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є, –њ—А–Є –Њ–±—А–µ—В–µ–љ–Є–Є —В—А–µ–±—Г–µ–Љ—Л—Е –≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л—Е –Є –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Љ–∞—Б—И—В–∞–±–Њ–≤ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П —П—Б–љ—Л–Љ –Є –Њ–і–љ–Њ–Ј–љ–∞—З–љ—Л–Љ, —З—В–Њ –µ—Б—В—М –≤–Є–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М, –∞ —З—В–Њ "—А–∞–Ј—Г–Љ–љ–∞—П –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М". –Я—А–Є–≤–µ–і–µ–Љ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є–µ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј —А–µ–∞–ї—М–љ—Л—Е —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–≤. "–Р –љ–µ–Љ—Ж—Л –њ–Њ–і—Е–Њ–і–Є–ї–Є –≤—Б–µ –±–ї–Є–ґ–µ –Є –±–ї–Є–ґ–µ –Ї –≥–Њ—А–Њ–і—Г. –Я–Њ—З—В–Є –≤—Б–µ –Љ–Њ–ї–Њ–і—Л–µ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л, –Љ–Њ–±–Є–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ –љ–∞ —А—Л—В—М–µ –Њ–Ї–Њ–њ–Њ–≤ –Є–Љ–њ—А–Њ–≤–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –ї–Є–љ–Є–Є, —В–µ–њ–µ—А—М —Б—В–∞–ї–Є –Љ–∞—Б—Б–∞–Љ–Є –±–µ–ґ–∞—В—М –≤ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і, –Ї—В–Њ –њ–µ—И–Ї–Њ–Љ –њ–Њ –±–Њ–ї–Њ—В–∞–Љ, –ї–µ—Б–∞–Љ –Є –љ–µ—Е–Њ–ґ–µ–љ—Л–Љ –і–Њ—А–Њ–≥–∞–Љ, –Ї—В–Њ –љ–∞ —Б–ї—Г—З–∞–є–љ—Л—Е –Љ–∞—И–Є–љ–∞—Е. –° –Є—Е —Б–ї–Њ–≤ –њ–Њ–ї—Г—З–∞–ї–Њ—Б—М —В–∞–Ї, —З—В–Њ –≤—Б—П –Є—Е —А–∞–±–Њ—В–∞ –њ–Њ—И–ї–∞ –љ–∞—Б–Љ–∞—А–Ї—Г: —З—Г—В—М –ї–Є –љ–µ –љ–∞ –Є—Е –≥–ї–∞–Ј–∞—Е –њ–Њ—П–≤–ї—П–ї–Є—Б—М –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є–µ —З–∞—Б—В–Є, –±—Л—Б—В—А–Њ –њ–µ—А–µ–Њ—А–Є–µ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–≤—И–Є–µ –њ—Г–ї–µ–Љ–µ—В–љ—Л–µ –≥–љ–µ–Ј–і–∞ –Є –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Ї–Є –і–ї—П –Њ—А—Г–і–Є–є –≤ –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ–Љ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –Є –Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞–≤—И–Є–µ –Њ–≥–Њ–љ—М –њ–Њ –љ–∞—И–Є–Љ —В—Л–ї–∞–Љ; —Е–Њ–і–Є–ї–Є —Б–ї—Г—Е–Є –Њ –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є—Е –њ–∞—А–∞—И—О—В–Є—Б—В–∞—Е, –Њ—В –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М —Б–њ–∞—Б–∞—В—М—Б—П, –њ—А–Њ–±–Є—А–∞—П—Б—М –≤ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і. –Э–∞ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ –≤—Б–µ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї–Њ –љ–µ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ —В–∞–Ї: –Ы—Г–ґ—Б–Ї–∞—П –ї–Є–љ–Є—П –Ј–∞–і–µ—А–ґ–∞–ї–∞ –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Њ–µ –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ –њ–Њ—З—В–Є –љ–∞ –Љ–µ—Б—П—Ж, –љ–Њ —П, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, —Г–Ј–љ–∞–ї –Њ–± —Н—В–Њ–Љ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —З–µ—А–µ–Ј —В—А–Є–і—Ж–∞—В—М –ї–µ—В –Є–Ј –Ї–љ–Є–≥–Є –У–∞—А—А–Є—Б–Њ–љ–∞ –°–Њ–ї—Б–±–µ—А–Є ¬Ђ900 –і–љ–µ–є¬ї. (–Ю–љ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –Є –Є–Љ—П –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–∞, —Б–њ–∞—Б—И–µ–≥–Њ —В–Њ–≥–і–∞ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і: –С—Л—З–µ–≤—Б–Ї–Є–є). –Э–Њ –Є–Ј —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л, –≤–µ—А–љ–Њ –±—Л–ї–Њ —В–Њ, —З—В–Њ –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Њ–µ –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ –љ–µ—Г–Љ–Њ–ї–Є–Љ–Њ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–Њ—Б—М." –Ф–∞, –±—Л–≤–∞–µ—В, –њ–Њ—А–Њ–є —З–∞—Б—В–Њ, —З—В–Њ "–љ–µ—В –њ—А–Њ—А–Њ–Ї–∞ –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ". –Ъ—А–∞—В–Ї–Њ –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–Љ—Б—П –љ–∞ —Б–Њ–±—Л—В–Є—П—Е, –њ—А–µ–і—И–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–Є—Е –≤—Б—В—А–µ—З–µ –њ–Њ–і–њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї–∞ –С—Л—З–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–Њ–Љ –∞—А–Љ–Є–Є –Ц—Г–Ї–Њ–≤—Л–Љ. "... –Ю–і–љ–Є–Љ –Є–Ј —Д–∞–Ї—В–Њ—А–Њ–≤, –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є–≤—И–Є—Е —Б—В–Њ–є–Ї–Њ—Б—В—М —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –≤ –±–Є—В–≤–µ –Ј–∞ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і, –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–≤—И–µ–є—Б—П —Б 10 –Є—О–ї—П 1941 –≥. –њ–Њ 9 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 1944 –≥., —Б—В–∞–ї–Њ –љ–∞–ї–Є—З–Є–µ —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л –њ—А–Њ—З–љ—Л—Е –Є –і–Њ–ї–≥–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л—Е –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–є –љ–∞ –і–∞–ї—М–љ—Л—Е –Є –±–ї–Є–ґ–љ–Є—Е –њ–Њ–і—Б—В—Г–њ–∞—Е –Ї –≥–Њ—А–Њ–і—Г, —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–љ—Л—Е –≤–Њ–є—Б–Ї–∞–Љ–Є –Є —Б–∞–Љ–Є–Љ–Є –ї–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Ж–∞–Љ–Є, –љ–∞—З–Є–љ–∞—П —Б –њ–µ—А–≤—Л—Е –і–љ–µ–є –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л. –Я–Њ –≥–Њ—А—П—З–Є–Љ —Б–ї–µ–і–∞–Љ —Б–Њ–±—Л—В–Є–є, —Г–ґ–µ —Б 28 –Є—О–ї—П 1941 –≥. —Г—З–∞—Б—В–Є–µ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П –≤ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–љ–Њ-—Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —А–∞–±–Њ—В–∞—Е –Њ—Б–≤–µ—Й–∞–ї–Њ—Б—М –љ–∞ —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж–∞—Е –≥–∞–Ј–µ—В—Л ¬Ђ"–Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–∞—П –њ—А–∞–≤–і–∞" –љ–∞ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–љ–Њ–є —Б—В—А–Њ–є–Ї–µ¬ї. –Ч–∞—В–µ–Љ —Н—В–∞ —В–µ–Љ–∞ –љ–∞ –і–Њ–ї–≥–Є–µ –≥–Њ–і—Л –±—Л–ї–∞ –њ—А–µ–і–∞–љ–∞ –Ј–∞–±–≤–µ–љ–Є—О, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –љ–∞—А—Г—И–Є–ї –≤ 1963 –≥. –≤ –Ї–љ–Є–≥–µ "–У–Њ—А–Њ–і-—Д—А–Њ–љ—В" –С. –Т. –С—Л—З–µ–≤—Б–Ї–Є–є, –≤–Ї—А–∞—В—Ж–µ –Њ—Б–≤–µ—В–Є–≤—И–Є–є –Є –і–∞–љ–љ—Л–є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б."  –Э–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –Њ–ґ–µ—Б—В–Њ—З–µ–љ–љ–Њ–µ —Б–Њ–њ—А–Њ—В–Є–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—П–≤—И–Є—Е—Б—П —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–є—Б–Ї, –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї, –љ–µ—Б—П –њ–Њ—В–µ—А–Є, –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї –њ—А–Њ–і–≤–Є–≥–∞—В—М—Б—П –≤ —Б–µ–≤–µ—А–Њ-–≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–Љ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є. –£—З–Є—В—Л–≤–∞—П –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –њ—А–Њ—А—Л–≤–∞ –≥–Є—В–ї–µ—А–Њ–≤—Ж–µ–≤ –љ–∞ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і, –°—В–∞–≤–Ї–∞ –њ—А–Є–≤–ї–µ–Ї–ї–∞ –Ї –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–µ –≥–Њ—А–Њ–і–∞ —Б —О–≥–∞ —З–∞—Б—В—М —Б–Є–ї –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ —Д—А–Њ–љ—В–∞ (–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ–Њ–≥–Њ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –њ–Њ–і–њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї –С. –Т. –С—Л—З–µ–≤—Б–Ї–Є–є), –њ–µ—А–µ–і–∞–≤ –µ–Љ—Г –њ–Њ–ї–Њ—Б—Г –Њ—В –§–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–∞–ї–Є–≤–∞ –і–Њ –Њ–Ј–µ—А–∞ –Ш–ї—М–Љ–µ–љ—М. –Я–µ—А–≤—Л–Љ –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ —А—Г–±–µ–ґ–Њ–Љ, –њ—А–Є–Ї—А—Л–≤–∞–≤—И–Є–Љ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і —Б —О–≥–∞, –±—Л–ї–∞ —А–µ–Ї–∞ –Ы—Г–≥–∞. –Ъ –љ–∞—З–∞–ї—Г –±–Њ–µ–≤ –љ–∞ –Ы—Г–≥–µ —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–є –µ—Й–µ –љ–µ –±—Л–ї–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–µ–љ–Њ, –љ–Њ —Б—О–і–∞ —Г–ґ–µ –≤—Л–і–≤–Є–≥–∞–ї–Є—Б—М –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –Ы—Г–ґ—Б–Ї–Њ–є –Њ–њ–µ—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–є –≥—А—Г–њ–њ—Л –њ–Њ–і –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–∞ –Ъ. –Я. –Я—П–і—Л—И–µ–≤–∞ –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ —З–µ—В—Л—А–µ—Е —Б—В—А–µ–ї–Ї–Њ–≤—Л—Е –і–Є–≤–Є–Ј–Є–є, —В—А–µ—Е –і–Є–≤–Є–Ј–Є–є –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–њ–Њ–ї—З–µ–љ–Є—П, –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–µ—Е–Њ—В–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞, –Њ—В–і–µ–ї—М–љ–Њ–є –≥–Њ—А–љ–Њ—Б—В—А–µ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–є –±—А–Є–≥–∞–і—Л –Є –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –±–∞—В–∞–ї—М–Њ–љ–∞ (34-–є –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л–є –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ—Л–є –±–∞—В–∞–ї—М–Њ–љ). –Ъ 10 –Є—О–ї—П –≥—А—Г–њ–њ–∞ [83] –Ј–∞–љ—П–ї–∞ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Г—О –њ–Њ–ї–Њ—Б—Г –њ–Њ —А–µ–Ї–µ –Ь—И–∞–≥–∞ –Є —Г—З–∞—Б—В–Њ–Ї –≤ —А–∞–є–Њ–љ–µ –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –Ы—Г–≥–∞. –Т –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Ы—Г–ґ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —А—Г–±–µ–ґ–∞, –≤–Њ–Ј–≤–Њ–і–Є–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П —Б–Є–ї–∞–Љ–Є –њ–Њ–і—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –Њ–њ–µ—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–є –≥—А—Г–њ–њ—Л –Є –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П –њ–Њ–і —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ–Љ —Б–∞–њ–µ—А–Њ–≤, –±–Њ–ї—М—И—Г—О —А–Њ–ї—М —Б—Л–≥—А–∞–ї –ї–Є—З–љ—Л–є —Б–Њ—Б—В–∞–≤ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞. —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї –Є–Ј –і–≤—Г—Е –њ–Њ–ї–Њ—Б –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л –њ—А–Њ—В—П–ґ–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О –і–Њ 175 –Ї–Љ –Є –≥–ї—Г–±–Є–љ–Њ–є 10-12 –Ї–Љ. –Я–µ—А–µ–і –њ–µ—А–µ–і–љ–Є–Љ –Ї—А–∞–µ–Љ –Є –≤ –≥–ї—Г–±–Є–љ–µ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л —Г—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М –Љ–Є–љ—Л, –Њ—В—А—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—В–∞–љ–Ї–Њ–≤—Л–µ —А–≤—Л, —Г—Б—В—А–∞–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М –ї–µ—Б–љ—Л–µ –Ј–∞–≤–∞–ї—Л –Є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –Ј–∞–±–Њ–ї–∞—З–Є–≤–∞–љ–Є–µ –Љ–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞ —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–µ –Ј–∞–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ–Є–є –±—Л–ї–Є –Ј–∞–љ—П—В—Л –њ—П—В—М —Б–∞–њ–µ—А–љ—Л—Е, –Њ–і–Є–љ –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ—Л–є, –і–≤–∞ –њ–Њ–љ—В–Њ–љ–љ—Л—Е –Є –≤–Њ—Б–µ–Љ—М —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –±–∞—В–∞–ї—М–Њ–љ–Њ–≤. 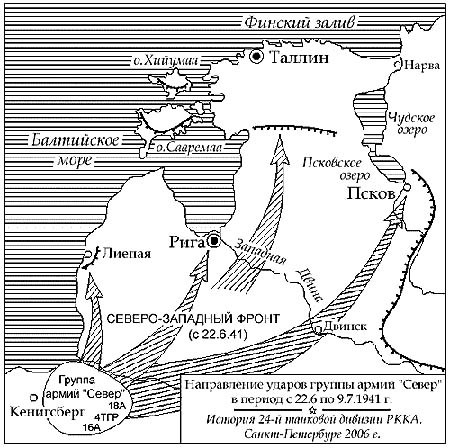 –Я–Њ–Љ–Є–Љ–Њ —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —А—Г–±–µ–ґ–∞ –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ—Л–µ —З–∞—Б—В–Є –Є –њ–Њ–і—А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є –≤ –Њ—В—А—П–і–∞—Е –Ј–∞–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –±—Л–ї–Є —Б–Њ–Ј–і–∞–љ—Л –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ —Д—А–Њ–љ—В–∞ —Б —Ж–µ–ї—М—О –≤—Л–Є–≥—А–∞—В—М –≤—А–µ–Љ—П –љ–∞ –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї—Г –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л –љ–∞ –Ы—Г–ґ—Б–Ї–Њ–Љ —А—Г–±–µ–ґ–µ –Є –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ—Л –≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –љ–∞ —И–Њ—Б—Б–µ –Ы—Г–≥–∞ вАФ –Я—Б–Ї–Њ–≤. –Ш–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ—Л–µ —З–∞—Б—В–Є –Є –њ–Њ–і—А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –°–µ–≤–µ—А–Њ-–Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ–≥–Њ —Д—А–Њ–љ—В–∞ (–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї –Ш–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ–Њ–≥–Њ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–Љ–∞–є–Њ—А –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ—Л—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –Т. –§. –Ч–Њ—В–Њ–≤) –≤ –њ–µ—А–Є–Њ–і —Б 14 –њ–Њ 18 –Є—О–ї—П —А–µ—И–∞–ї–Є –Ј–∞–і–∞—З—Г –њ–Њ –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ–Њ–Љ—Г –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є—О –Ї–Њ–љ—В—А—Г–і–∞—А–∞ –≤–Њ–є—Б–Ї 11-–є –∞—А–Љ–Є–Є –≤ —А–∞–є–Њ–љ–µ –°–Њ–ї—М—Ж—Л: –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞–ї–Є –њ—А–Њ–і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ –≤–Њ–є—Б–Ї, –њ—А–Є–Ї—А—Л–≤–∞–ї–Є –Ј–∞–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ–Є—П–Љ–Є –Є—Е —Д–ї–∞–љ–≥–Є, –Ј–∞–Ї—А–µ–њ–ї—П–ї–Є –і–Њ—Б—В–Є–≥–љ—Г—В—Л–µ —А—Г–±–µ–ґ–Є. –Ф–ї—П –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є—П –Ї–Њ–љ—В—А—Г–і–∞—А–∞ 11-—П –∞—А–Љ–Є—П –±—Л–ї–∞ —Г—Б–Є–ї–µ–љ–∞ —В—А–µ–Љ—П –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ—Л–Љ–Є –±–∞—В–∞–ї—М–Њ–љ–∞–Љ–Є. –Т —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –Ї–Њ–љ—В—А—Г–і–∞—А–∞ –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї –±—Л–ї –Њ—В–±—А–Њ—И–µ–љ –љ–∞ 40 –Ї–Љ –Ї –Ј–∞–њ–∞–і—Г. –Т –Є—В–Њ–≥–µ –±–Њ–µ–≤—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є –љ–∞—И–Є—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ –≥—А—Г–њ–њ—Л –∞—А–Љ–Є–є ¬Ђ–°–µ–≤–µ—А¬ї –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞ 19 –Є—О–ї—П –±—Л–ї–Њ –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ –љ–∞ —А—Г–±–µ–ґ–µ —А–µ–Ї–Є –Ы—Г–≥–∞. –Т–Њ–є—Б–Ї–∞ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М —Б–Њ–Ј–і–∞—В—М –±–Њ–ї–µ–µ –њ—А–Њ—З–љ—Г—О –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Г –љ–∞ –і–∞–ї—М–љ–Є—Е –Є –±–ї–Є–ґ–љ–Є—Е –њ–Њ–і—Б—В—Г–њ–∞—Е –Ї –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Г... –Ю–±—А–∞—В–Є–Љ—Б—П –Ї "–Т–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П–Љ –С—Л—З–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –С.–Т. –і–ї—П —Б–±–Њ—А–љ–Є–Ї–∞ "–Ю–±–Њ—А–Њ–љ–∞ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–∞ 1941-1944 –≥–≥.", –Њ–љ–Є, –њ–Њ–ґ–∞–ї—Г–є, –Є–Ј –≤—Б–µ–≥–Њ –Є–Љ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–Њ—Б—П—В –≤ –љ–∞–Є–±–Њ–ї—М—И–µ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В–љ—Л–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А. "–Я—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –Є –±–Њ–ї—М—И–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В—Б—П –Њ —В—П–ґ–µ–ї–µ–є—И–µ–Љ –њ–µ—А–Є–Њ–і–µ –±–ї–Њ–Ї–∞–і—Л, –Њ–± –Њ—Б–µ–љ–Є –Є –Ј–Є–Љ–µ 1941/1942 –≥. –Т —Б–≤—П–Ј–Є —Б —Н—В–Є–Љ –Љ–љ–µ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –њ–∞–Љ—П—В–µ–љ –Њ–і–Є–љ —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А –≤ –°–Љ–Њ–ї—М–љ–Њ–Љ –≤ –і–µ–Ї–∞–±—А–µ 1941 –≥. –Ъ —З–ї–µ–љ—Г –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–≤–µ—В–∞ —Д—А–Њ–љ—В–∞ вАФ —Б–µ–Ї—А–µ—В–∞—А—О –≥–Њ—А–Ї–Њ–Љ–∞ –њ–∞—А—В–Є–Є –Р. –Р. –Ъ—Г–Ј–љ–µ—Ж–Њ–≤—Г –њ—А–Є—И–µ–ї –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–Љ–∞–є–Њ—А –Я. –Р. –Ч–∞–є—Ж–µ–≤. –Т —В—Г –њ–Њ—А—Г –Њ–љ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–ї 168-–є —Б—В—А–µ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–є –і–Є–≤–Є–Ј–Є–µ–є —Г –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Ф—Г–±—А–Њ–≤–Ї–Є –Є –ї–Є—З–љ–Њ –≤–Њ–і–Є–ї –≤ –ї–Њ–±–Њ–≤—Л–µ –∞—В–∞–Ї–Є –љ–∞ –њ–ї–∞—Ж–і–∞—А–Љ–µ-–њ—П—В–∞—З–Ї–µ —Г–і–∞—А–љ—Л–є –њ–Њ–ї–Ї –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є—Б—В–Њ–≤ –Є –Ї–Њ–Љ—Б–Њ–Љ–Њ–ї—М—Ж–µ–≤. –Ю–±—А–∞—Й–∞—П—Б—М –Ї –Ъ—Г–Ј–љ–µ—Ж–Њ–≤—Г, –Я. –Р. –Ч–∞–є—Ж–µ–≤ —Б –≥–Њ—А–µ—З—М—О –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї –Њ –±–µ—Б—Ж–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є —Н—В–Є—Е –∞—В–∞–Ї, –љ–µ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–љ—Л—Е –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є–Љ –Њ–≥–љ–µ–Љ –Є–Ј-–Ј–∞ –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Ї–∞ —Б–љ–∞—А—П–і–Њ–≤. –Ч–∞ –і–≤–∞-—В—А–Є –і–љ—П –Њ–љ –њ–Њ—В–µ—А—П–ї 800 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, —В. –µ. —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –≤–µ—Б—М –њ–Њ–ї–Ї. 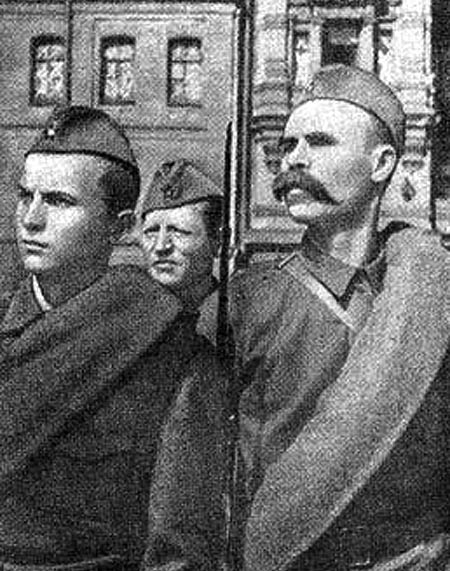 –Я—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В. –Ю–±—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ –Ї –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Є–Ї–∞–Љ –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е —Г—З–Є–ї–Є—Й. 65-–ї–µ—В–љ–µ–Љ—Г —О–±–Є–ї–µ—О –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞, 60-–ї–µ—В–Є—О –њ–µ—А–≤—Л—Е –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–Њ–≤ –Ґ–±–Є–ї–Є—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –†–Є–ґ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е —Г—З–Є–ї–Є—Й –њ–Њ—Б–≤—П—Й–∞–µ—В—Б—П.–Я–Њ–ґ–∞–ї—Г–є—Б—В–∞, –љ–µ –Ј–∞–±—Л–≤–∞–є—В–µ —Б–Њ–Њ–±—Й–∞—В—М —Б–≤–Њ–Є–Љ –Њ–і–љ–Њ–Ї–∞—И–љ–Є–Ї–∞–Љ –Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –љ–∞—И–µ–≥–Њ –±–ї–Њ–≥–∞, –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е —Г—З–Є–ї–Є—Й, –Њ –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є–Є –љ–Њ–≤—Л—Е –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є–є. –°–Њ–Њ–±—Й–∞–є—В–µ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Њ —Б–µ–±–µ –Є —Б–≤–Њ–Є—Е –Њ–і–љ–Њ–Ї–∞—И–љ–Є–Ї–∞—Е, –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞—В–µ–ї—П—Е: –≥–Њ–і—Л –Є –Љ–µ—Б—В–∞ —Б–ї—Г–ґ–±—Л, —Г—З–µ–±—Л, –њ–Њ–≤—Л—И–µ–љ–Є—П –Ї–≤–∞–ї–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є, –Љ–µ—Б—В–Њ —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П, –ґ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞, –Є–љ—Л–µ –±–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П. –Ь—Л —Б—В—А–µ–Љ–Є–Љ—Б—П —Б–Њ–±—А–∞—В—М –≤—Б–µ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л–µ –і–∞–љ–љ—Л–µ –Њ –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Є–Ї–∞—Е, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞—Е, –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В–µ–ї—П—Е –≤—Б–µ—Е —В—А–µ—Е –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е —Г—З–Є–ї–Є—Й. –Я—А–Њ—Б—М–±–∞ –њ—А–Є—Б—Л–ї–∞—В—М –≤—Б–µ, —З–µ–Љ —Б—З–Є—В–∞–µ—В–µ –≤–њ—А–∞–≤–µ –њ–Њ–і–µ–ї–Є—В—М—Б—П, –≤—Б–µ, —З—В–Њ, –њ–Њ –Т–∞—И–µ–Љ—Г –Љ–љ–µ–љ–Є—О, –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –љ–∞–є—В–Є –Њ—В—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –≤ –љ–∞—И–µ–є –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є. –Т–µ—А—О–ґ—Б–Ї–Є–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Т–Э–Р), –У–Њ—А–ї–Њ–≤ –Ю–ї–µ–≥ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Ю–Р–У), –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З (–Ь–Т–Т), –Ъ–°–Т. 198188. –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥, —Г–ї. –Ь–∞—А—И–∞–ї–∞ –У–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤–∞, –і–Њ–Љ 11/3, –Ї–≤. 70. –Ъ–∞—А–∞—Б–µ–≤ –°–µ—А–≥–µ–є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З, –∞—А—Е–Є–≤–∞—А–Є—Г—Б. karasevserg@yandex.ru
07.11.200908:2807.11.2009 08:28:40
0
06.11.200909:1906.11.2009 09:19:32
–°–Х–Т–Р–°–Ґ–Ю–Я–Ю–Ы–ђ–°–Ъ–Ш–Щ –Т–Р–Ы–ђ–°. –Ю–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є–µ.–Ш –њ–Њ—И–ї–Њ-–њ–Њ–µ—Е–∞–ї–Њ... –Ч–∞ –і–≤–∞ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є—Е –Љ–µ—Б—П—Ж–∞ –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–≤–∞ —А–∞–Ј–∞ –њ–Њ–±—Л–≤–∞—В—М –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥—Г. –Т –њ–µ—А–≤—Л–є —А–∞–Ј –і–ї—П —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ–±—Л –Ј–∞–±—А–∞—В—М –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–є –≤ –Ї–∞–Љ–µ—А–µ —Е—А–∞–љ–µ–љ–Є—П –≤–Њ–Ї–Ј–∞–ї–∞ —З–µ–Љ–Њ–і–∞–љ, –∞ –≤—В–Њ—А–Њ–є —А–∞–Ј -–і–ї—П "–њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П" –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–∞–Љ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П –≤ —А–µ—Б—В–Њ—А–∞–љ–µ "–Я—А–Є–Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–є". –Т —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –љ–∞ —Д–ї–Њ—В–µ –±—Л–ї–Њ –ґ–µ—Б—В–Њ–Ї–Њ–µ, –љ–Њ —Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ–µ –њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ: –њ–Њ–Ї–∞ –љ–µ —Б–і–∞—И—М –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л—Е –Ј–∞—З–µ—В–Њ–≤ –Є –љ–µ –±—Г–і–µ—И—М –і–Њ–њ—Г—Й–µ–љ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–Њ–Љ –Ї —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ—Г —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—О –≥—А—Г–њ–њ–Њ–є, –±–Њ–µ–≤–Њ–є —З–∞—Б—В—М—О, –љ–µ—Б–µ–љ–Є—О —П–Ї–Њ—А–љ–Њ–є –Є —Е–Њ–і–Њ–≤–Њ–є –≤–∞—Е—В, –Њ —Б—Е–Њ–і–µ –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥ –Ј–∞–±—Г–і—М! –≠—В–Њ –±—Л–ї–∞ —Б—Г—А–Њ–≤–∞—П, –љ–Њ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–∞—П —И–Ї–Њ–ї–∞. –Я—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –±—Г–Ї–≤–∞–ї—М–љ–Њ "–љ–∞ –±—А—О—Е–µ" –њ–Њ–ї–Ј–∞—В—М –њ–Њ —В—А—О–Љ–∞–Љ –Є –≤—Л–≥–Њ—А–Њ–і–Ї–∞–Љ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П, –Ј–∞–≥–ї—П–і—Л–≤–∞—В—М –≤ —Б–∞–Љ—Л–µ —В—А—Г–і–љ–Њ–і–Њ—Б—В—Г–њ–љ—Л–µ –Љ–µ—Б—В–∞, —З—В–Њ–±—Л –љ–∞—Г—З–Є—В—М—Б—П –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞–Є–Ј—Г—Б—В—М —А–Є—Б–Њ–≤–∞—В—М –≤—Б–µ –Ї–Њ—А–∞–±–µ–ї—М–љ—Л–µ —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л –Є —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–∞, –љ–Њ –Є —Г–Љ–µ—В—М —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В—М –±–Њ—А—М–±–Њ–є –Ј–∞ –ґ–Є–≤—Г—З–µ—Б—В—М —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –Њ—В—Б–µ–Ї–∞, —Б–∞–Љ–Њ–Љ—Г —В—Г—И–Є—В—М –њ–Њ–ґ–∞—А—Л, –Ј–∞–і–µ–ї—Л–≤–∞—В—М –њ—А–Њ–±–Њ–Є–љ—Л, –Њ—Б—Г—И–∞—В—М –Ј–∞—В–Њ–њ–ї–µ–љ–љ—Л–µ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П –Є –Љ–љ–Њ–≥–Њ–µ-–Љ–љ–Њ–≥–Њ–µ –і—А—Г–≥–Њ–µ, –≤—А–Њ–і–µ –њ—А–∞–≤–Є–ї –њ—А–µ–і—Г–њ—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П —Б—В–Њ–ї–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П —Б—Г–і–Њ–≤ –≤ –Љ–Њ—А–µ, –њ—А–∞–≤–Є–ї –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Ј—А–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –Є —А–∞–і–Є–Њ—Б–≤—П–Ј–Є, —Б—А–µ–і—Б—В–≤ —А–∞–і–Є–Њ—В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞–±–ї—О–і–µ–љ–Є—П –Є —В.–і., –Є —В.–њ. –Ю—Д–Є—Ж–µ—А, –љ–µ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–≤—И–Є–є –≤–Њ–≤—А–µ–Љ—П –њ—А–∞–≤–∞ —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ —Г–њ—А–∞–≤–ї—П—В—М –≤–≤–µ—А–µ–љ–љ—Л–Љ –µ–Љ—Г –њ–Њ–і—А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Є —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ –љ–µ—Б—В–Є –≤–∞—Е—В—Г, —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї—Б—П –±–µ—Б–њ–µ—А—Б–њ–µ–Ї—В–Є–≤–љ—Л–Љ, –њ—А–Њ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А—П—В, —З—В–Њ "—Б–ї—Г–ґ–±–∞ —Г –љ–µ–≥–Њ –љ–µ –њ–Њ—И–ї–∞", –µ–≥–Њ —Г–±–Є—А–∞—О—В —Б –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є, –љ–∞—З–Є–љ–∞—О—В –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥—Г, —В–Њ –µ—Б—В—М —В–∞–Љ, –Ї—Г–і–∞ –µ–≥–Њ –љ–µ –≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї–Є, –љ–Њ –Є –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥—Г –Њ–љ –њ—А–Є–ґ–Є–≤–∞–µ—В—Б—П —А–µ–і–Ї–Њ. –Т –Ї–Њ–љ—Ж–µ –Ї–Њ–љ—Ж–Њ–≤ —Д–ї–Њ—В –Є–Ј–±–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Њ—В —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–∞, –∞ –Њ–љ –≤—Б—О –Њ—Б—В–∞–≤—И—Г—О—Б—П –ґ–Є–Ј–љ—М –±—А—О–Ј–ґ–Є—В –Њ–± "–Њ—И–Є–±–Ї–µ" –≤ –≤—Л–±–Њ—А–µ –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Є. –Ю—Д–Є—Ж–µ—А –ґ–µ, —Б—Г–Љ–µ–≤—И–Є–є –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ—В—М —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ —В—А—Г–і–љ–Њ—Б—В–Є, –њ–Њ–ї—Г—З–∞–µ—В –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ–Њ —Б–ї—Г–ґ–Є—В—М, —В–Њ –µ—Б—В—М –і–µ–ї–∞—В—М —В–Њ, –Ї —З–µ–Љ—Г –≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї—Б—П –≤—Б–µ –≥–Њ–і—Л —Г—З–µ–±—Л, –љ–Њ –Є –њ–Њ–ї—Г—З–∞—В—М –Њ—В —Б–ї—Г–ґ–±—Л, —П –±—Л —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї, –љ–∞—Б–ї–∞–ґ–і–µ–љ–Є–µ –Є –љ–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ–Њ, –∞ –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –Є —В—А–Є—Г–Љ—Д–∞–ї—М–љ–Њ –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–≤–∞—В—М –µ–µ –Ї—А—Г—В—Л–µ —Б—В—Г–њ–µ–љ–Є. –Ґ–∞–Ї–Њ–є –Њ—Д–Є—Ж–µ—А –Є –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ–є —И—В–∞–±–љ–Њ–є, —В—Л–ї–Њ–≤–Њ–є –Є–ї–Є –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В–µ–ї—М—Б–Ї–Є–є —Б–ї—Г–ґ–±–µ –±—Г–і–µ—В –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–µ, –Њ–љ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –њ–Њ–ґ–∞–ї–µ–µ—В –Њ–± –Є–Ј–±—А–∞–љ–љ–Њ–Љ –њ—Г—В–Є. –Ь–µ–ґ–і—Г —В–µ–Љ –љ–∞—З–∞–ї–Є —А–µ–∞–ї–Є–Ј–Њ–≤—Л–≤–∞—В—М—Б—П –і–∞–ї–µ–Ї–Є–µ –љ–∞–Љ–µ—В–Ї–Є –Ї–∞–і—А–Њ–≤–Є–Ї–Њ–≤. –Ы–µ—В–Њ–Љ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ –≥–Њ–і–∞ –Љ–µ–љ—П –љ–∞–Ј–љ–∞—З–Є–ї–Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–Љ –Љ–Є–љ–љ–Њ-–∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–є –±–Њ–µ–≤–Њ–є —З–∞—Б—В–Є –љ–∞ –љ–Њ–≤–Њ—Б—В—А–Њ—П—Й—Г—О—Б—П –ї–Њ–і–Ї—Г. –Ю—Б–µ–љ—М—О –Љ—Л, —В–Њ –µ—Б—В—М –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Л –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П, –љ–∞—З–∞–ї–Є –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В—М "–Љ–∞—В—З–∞—Б—В—М" –≤ –≥–Њ—А–Њ–і–µ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–µ. –Ю–і–љ–∞–ґ–і—Л –≤–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П —Б—В–∞—А—И–µ–≥–Њ –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї–∞ –Љ–љ–µ –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞–≤–Є—В—М —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ—Г—О –Њ—В –≤–∞—Е—В—Л —З–∞—Б—В—М —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–∞ –і–ї—П –њ—А–Є–µ–Љ–Ї–Є –Њ—В –Ј–∞–≤–Њ–і–∞ —В–µ—Е —Б–∞–Љ—Л—Е –≤–Њ–і–Њ–ї–∞–Ј–љ—Л—Е –∞–њ–њ–∞—А–∞—В–Њ–≤, –≤ –Њ–і–љ–Њ–Љ –Є–Ј –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л—Е –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ —П —З—Г—В—М –љ–µ —Г—В–Њ–љ—Г–ї –љ–∞ –°–µ–≤–µ—А–µ. –Р–њ–њ–∞—А–∞—В—Л –±—Л–ї–Є –љ–Њ–≤–µ–љ—М–Ї–Є–µ. –Ш—Е —А–µ–Ј–Є–љ–Њ–≤—Л–µ –і—Л—Е–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –Љ–µ—И–Ї–Є –±—Л–ї–Є –њ–µ—А–µ—Б—Л–њ–∞–љ—Л —В–∞–ї—М–Ї–Њ–Љ, –Є –Љ–Њ–Є–Љ –Љ–∞—В—А–Њ—Б–∞–Љ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї–Њ—Б—М –Є—Е –њ—А–Њ–Љ—Л—В—М. –Ф–ї—П –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є—П —Н—В–Њ–є –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Ј–∞–≤–Њ–і–Њ–Љ –±—Л–ї–Њ –≤—Л–і–µ–ї–µ–љ–Њ —Н–љ–љ–Њ–µ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ —З–Є—Б—В–Њ–≥–Њ —Б–њ–Є—А—В–∞... –ѓ –Њ—В–Ї—А–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ —Б–Ї—Г—З–∞–ї, –љ–∞–±–ї—О–і–∞—П –Ј–∞ —А–∞–±–Њ—В–Њ–є –њ–Њ–і—З–Є–љ–µ–љ–љ—Л—Е, –Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –ї–µ–≥–Ї–Њ–Љ—Л—Б–ї–µ–љ–љ–Њ —А–∞–Ј—А–µ—И–Є–ї –Є–Љ –љ–µ –≤—Л–ї–Є–≤–∞—В—М –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї—О –Њ—В—А–∞–±–Њ—В–∞–љ–љ—Л–є, —З–µ—А–љ—Л–є –Њ—В —В–∞–ї—М–Ї–∞ —Б–њ–Є—А—В, –∞ –љ–∞–Њ–±–Њ—А–Њ—В —Б–Њ–±—А–∞—В—М –µ–≥–Њ –≤ –љ–∞–є–і–µ–љ–љ—Л–µ –љ–∞ –Ј–∞–≤–Њ–і—Б–Ї–Њ–Љ –і–≤–Њ—А–µ –µ–Љ–Ї–Њ—Б—В–Є –Є –і–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М –≤ –Ї–∞–Ј–∞—А–Љ—Г, –≥–і–µ –Љ—Л –ґ–Є–ї–Є, —П–Ї–Њ–±—Л –і–ї—П —З–Є—Б—В–Ї–Є –Ј–∞–њ–∞—З–Ї–∞–љ–љ—Л—Е –±—Г—И–ї–∞—В–Њ–≤ –Є –і—А—Г–≥–Є—Е –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–≤ —Д–ї–Њ—В—Б–Ї–Њ–є –Њ–і–µ–ґ–і—Л. "–Т—Б–µ –њ—П—В–љ–∞ –Њ—З–Є—Й–∞–µ—В!" - –њ—А–µ–і–∞–љ–љ–Њ –≥–ї—П–і—П –Љ–љ–µ –≤ –≥–ї–∞–Ј–∞, —Г–≤–µ—А—П–ї–Є —Б—В–∞—А–Њ—Б–ї—Г–ґ–∞—Й–Є–µ. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ... –Ч–∞–є–і—П –њ–Њ—Б–ї–µ –≤–µ—З–µ—А–љ–µ–є –њ–Њ–≤–µ—А–Ї–Є –≤ –Ї—Г–±—А–Є–Ї —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–∞, —Б—В–∞—А–њ–Њ–Љ –њ—А–Є—И–µ–ї –≤ —Г–ґ–∞—Б. –Э–Є–Ї—В–Њ –љ–µ –ї–Њ–ґ–Є–ї—Б—П —Б–њ–∞—В—М. –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–∞ –±—Л–ї–∞ —З–µ–Љ-—В–Њ –≤–Њ–Ј–±—Г–ґ–і–µ–љ–∞. –Я—А–Є –≤–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ, —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–Є –≤—Л—П—Б–љ–Є–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –≤—Б–µ –±–µ–Ј –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—П –Љ–∞—В—А–Њ—Б—Л –Є —Б—В–∞—А—И–Є–љ—Л - –њ—М—П–љ—Л "–≤ —Б—В–µ–ї—М–Ї—Г". –°—В–∞—А–њ–Њ–Љ, –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, –њ—А–Є–Ј–≤–∞–ї –Љ–µ–љ—П –Ї –Њ—В–≤–µ—В—Г, "—А–∞—Б–њ–µ–Ї" –і–ї—П –љ–∞—З–∞–ї–∞, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б–Њ –Љ–љ–Њ–є —Б —В—А—Г–і–Њ–Љ —Г–ї–Њ–ґ–Є–ї –≤—Б–µ—Е —Б–њ–∞—В—М. –Э–∞–ї–Є—Ж–Њ - "–І–Я"! –Ф–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–µ —А–∞—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ, –Ї–∞–Ї—Г—О –≤–Њ–њ–Є—О—Й—Г—О –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ—Г—О –љ–µ–Њ–њ—Л—В–љ–Њ—Б—В—М —П –њ—А–Њ–і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞–ї, —А–∞–Ј—А–µ—И–Є–≤ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є—В—М "–≥—А—П–Ј–љ—Л–є" —Б–њ–Є—А—В! –Ю–њ—Л—В–љ—Л–µ —Б–ї—Г–ґ–∞–Ї–Є –њ—А–Њ–і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є, —З—В–Њ –њ—А–Њ–њ—Г—Й–µ–љ–љ—Л–є —Б–Ї–≤–Њ–Ј—М –Ї–Њ—А–Њ–±–Ї—Г –Њ–±—Л—З–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–≥–∞–Ј–∞ "–≥—А—П–Ј–љ—Л–є" —Б–њ–Є—А—В —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї—Б—П —З–Є—Б—В—Л–Љ "–Ї–∞–Ї —Б–ї–µ–Ј–∞" –Є –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –њ—А–Є–≥–Њ–і–љ—Л–Љ –і–ї—П –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ–≥–Њ –њ–Њ—В—А–µ–±–ї–µ–љ–Є—П. –≠—В–Њ –±—Л–ї –Љ–Њ–є –њ–µ—А–≤—Л–є –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Б–Ї–Є–є —Г—А–Њ–Ї –ґ–Є–Ј–љ–Є. –Ґ—Г—В —П –Є –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї –њ—А–Њ –њ—П—В—Г—О –њ—Г–≥–Њ–≤–Є—Ж—Г, –Ј–∞—Б—В–µ–≥–љ—Г—В—Г—О –љ–∞ –Ї–Є—В–µ–ї–µ. –Т–Є–і–љ–Њ, –љ–µ –њ–Њ–≤–µ—А–љ—Г–ї–Њ—Б—М –Љ–Њ–µ –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–Ј–Ј—А–µ–љ–Є–µ –љ–∞ 180 –≥—А–∞–і—Г—Б–Њ–≤. –Э—Г–ґ–љ–Њ —Б—А–Њ—З–љ–Њ "–і–Њ–≤–Њ—А–∞—З–Є–≤–∞—В—М". –Т –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї–µ –њ–Њ—Б–ї–µ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є—П –Ј–∞–≤–Њ–і—Б–Ї–Є—Е –Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є–є –≤—Л—П—Б–љ–Є–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –ї–Њ–і–Ї–∞ –љ–∞—И–∞ –њ—А–µ–і–љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–∞ –і–ї—П –Ґ–Є—Е–Њ–Њ–Ї–µ–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞. –Ґ–∞–Ї —З—В–Њ —Б –Љ–µ—З—В–Њ–є –Њ —Б–ї—Г–ґ–±–µ –љ–∞ –І–µ—А–љ–Њ–Љ –Љ–Њ—А–µ –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М —А–∞—Б—Б—В–∞—В—М—Б—П.  –Я–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –Љ–∞—П 1956 –≥–Њ–і–∞, –љ–∞ —А–∞—Б—Б–≤–µ—В–µ, –Љ—Л –њ—А–Њ–і–µ—Д–Є–ї–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є –≤–і–Њ–ї—М –≤—Л—Б—В—А–Њ–Є–≤—И–Є—Е—Б—П –љ–∞ –њ–∞—А–∞–і –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є –Є –љ–∞–≤—Б–µ–≥–і–∞ –њ–Њ–Ї–Є–љ—Г–ї–Є —Б–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—М—Б–Ї—Г—О –≥–∞–≤–∞–љ—М. –Т–њ–µ—А–µ–і–Є –±—Л–ї –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і –њ–Њ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–Є–Љ –≤–Њ–і–љ—Л–Љ –њ—Г—В—П–Љ –љ–∞ –°–µ–≤–µ—А, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ –њ–Њ –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–Љ—Г –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ—Г –њ—Г—В–Є - –љ–∞ –Ґ–Є—Е–Є–є –Њ–Ї–µ–∞–љ. –Ч–Є–Љ–Њ–є —В–Њ–≥–Њ –ґ–µ –≥–Њ–і–∞ —П —Б—В–∞–ї –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞, –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –і–Њ–њ—Г—Б–Ї –Ї —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ—Г —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—О –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–Љ –Є, —Б—В–Њ—П "–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Б–Ї—Г—О" –≤–∞—Е—В—Г –≤–Њ –ї—М–і–∞—Е, –Є–Љ–µ–ї –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –ї—О–±–Њ–≤–∞—В—М—Б—П —Д–ї–Њ—А–Њ–є –Є —Д–∞—Г–љ–Њ–є –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –Ы–µ–і–Њ–≤–Є—В–Њ–≥–Њ –Њ–Ї–µ–∞–љ–∞, –®–ї–Є –≤ –љ–∞–і–≤–Њ–і–љ–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є: –і–Є–Ј–µ–ї—М-—Н–ї–µ–Ї—В—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–µ –ї–Њ–і–Ї–Є –і–Њ–ї–≥–Њ –њ–ї–∞–≤–∞—В—М –њ–Њ–і–Њ –ї—М–і–∞–Љ–Є –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є, –љ—Г–ґ–і–∞–ї–Є—Б—М –≤–Њ –≤—Б–њ–ї—Л—В–Є–Є –і–ї—П –Ј–∞—А—П–і–Ї–Є. –∞–Ї–Ї—Г–Љ—Г–ї—П—В–Њ—А–Њ–≤. –І–∞—Б—В–Њ –њ—А–Њ–±–Є—В—Л–є –Є–і—Г—Й–Є–Љ –≤–њ–µ—А–µ–і–Є –Ї–∞—А–∞–≤–∞–љ–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є (–і–µ–≤—П—В–љ–∞–і—Ж–∞—В—М –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї –Є –і–≤–µ –њ–ї–∞–≤–±–∞–Ј—Л) –ї–µ–і–Њ–≤—Л–є —Д–∞—А–≤–∞—В–µ—А –њ–µ—А–µ—Б–µ–Ї–∞–ї–Є –Љ–µ–і–≤–µ–ґ—М–Є —Б–ї–µ–і—Л, –∞ –Є–љ–Њ–≥–і–∞ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ —А—П–і–Њ–Љ —Б —З–Є—Б—В–Њ–є –≤–Њ–і–Њ–є —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ –≤–Њ—Б—Б–µ–і–∞–ї–∞ –Љ–µ–і–≤–µ–і–Є—Ж–∞ —Б –±–µ–ї—Л–Љ –Ј–∞–±–∞–≤–љ—Л–Љ –Љ–µ–і–≤–µ–ґ–Њ–љ–Ї–Њ–Љ –Є–ї–Є –ї–µ–ґ–∞–ї–∞ –Љ–Њ—А–ґ–Є—Е–∞ —Б –Љ–Њ—А–ґ–Њ–љ–Ї–Њ–Љ... –Ъ–∞–Ї-—В–Њ —А–∞–Ј, –Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–∞—И –Ї–∞—А–∞–≤–∞–љ —Б—В–Њ—П–ї –≤ —Б–њ–ї–Њ—И–љ–Њ–Љ –ї—М–і—Г, –Њ–ґ–Є–і–∞—П –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –ї–µ–і–Њ–≤–Њ–є –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Є, –Є–Ј –±–ї–Є–Ј–ї–µ–ґ–∞—Й–µ–є –њ–Њ–ї—Л–љ—М–Є –љ–∞ –ї–µ–і –≤—Л–ї–µ–Ј –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л–є –Љ–Њ—А–ґ-—Б–∞–Љ–µ—Ж. –Ю–љ –≤–∞–ґ–љ–Њ –њ—А–Њ–Ї–Њ–≤—Л–ї—П–ї –Ї –±–Њ—А—В—Г –ї–Њ–і–Ї–Є –Є –њ–Њ–њ—Л—В–∞–ї—Б—П —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є –≥—А–Њ–Ј–љ—Л–Љ–Є –±–Є–≤–љ—П–Љ–Є –њ—А–Њ–±–Є—В—М –Ї–Њ—А–њ—Г—Б –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П. –°—В–∞—А–њ–Њ–Љ —Б–њ—Г—Б—В–Є–ї—Б—П –љ–∞ –Ї–Њ—А–Љ–Њ–≤—Г—О –љ–∞–і—Б—В—А–Њ–є–Ї—Г –Є –њ–Њ–њ—Л—В–∞–ї—Б—П —Б—В—Г–Ї–љ—Г—В—М "–Ј–ї–Њ–і–µ—П" –њ–Њ –≥–Њ–ї–Њ–≤–µ –≤–∞–ї–µ–љ–Ї–Њ–Љ, –Њ–±—Г—В—Л–Љ –≤ –≥–∞–ї–Њ—И—Г. "–Ч–ї–Њ—Г–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Є–Ї" –≤–Ј—А–µ–≤–µ–ї –Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ –њ–Њ–і–њ—А—Л–≥–љ—Г–ї, —Б—Г–Љ–µ–ї –Ј–∞–і–µ—В—М –Ї–ї—Л–Ї–∞–Љ–Є –≤–∞–ї–µ–љ–Њ–Ї –Є —Б–Њ—А–≤–∞–ї-—В–∞–Ї–Є —Б –љ–µ–≥–Њ –Ї–∞–Ј–µ–љ–љ—Г—О –≥–∞–ї–Њ—И—Г! –Я–Њ—Б–ї–µ —Н—В–Њ–≥–Њ –і–µ–Љ–∞—А—И–∞ –Љ–Њ—А–ґ-—И–∞—В—Г–љ –≥–Њ—А–і–Њ —Г–і–∞–ї–Є–ї—Б—П –≤ —З–µ—А–љ—Г—О —Е–Њ–ї–Њ–і–љ—Г—О –≤–Њ–і—Г –њ–Њ–ї—Л–љ—М–Є. –Р–ї—М–±–∞—В—А–Њ—Б—Л, –ї–µ—В–∞–≤—И–Є–µ –љ–∞–і –Ї–∞—А–∞–≤–∞–љ–Њ–Љ –≤ –љ–∞–і–µ–ґ–і–µ –њ–Њ–ґ–Є–≤–Є—В—М—Б—П –њ–Є—Й–µ–≤—Л–Љ–Є –Њ—В—Е–Њ–і–∞–Љ–Є, –Њ—В–Ї—А–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ —А–∞—Б—Е–Њ—Е–Њ—В–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞–і –њ–Њ—Б—А–∞–Љ–ї–µ–љ–љ—Л–Љ —Б—В–∞—А–њ–Њ–Љ–Њ–Љ.  –Т–µ—З–µ—А–∞–Љ–Є —П –њ–Њ –њ—А–Њ—Б—М–±–µ —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–∞ —З–Є—В–∞–ї –њ–Њ –Ї–Њ—А–∞–±–µ–ї—М–љ–Њ–є —В—А–∞–љ—Б–ї—П—Ж–Є–Є –љ–µ—Г–≤—П–і–∞–µ–Љ—Л–µ —И–µ–і–µ–≤—А—Л —О–Љ–Њ—А–∞ "–Ф–≤–µ–љ–∞–і—Ж–∞—В—М —Б—В—Г–ї—М–µ–≤" –Є "–Ч–Њ–ї–Њ—В–Њ–є —В–µ–ї–µ–љ–Њ–Ї". –®–ї–Є –Љ—Л –Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ. –Ш–Ј —В—А–µ—Е –Љ–µ—Б—П—Ж–µ–≤ –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–∞ –љ–∞ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ —Е–Њ–і–Њ–≤—Л–µ –і–љ–Є –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П –Љ–µ—Б—П—Ж. –Ю—Б—В–∞–ї—М–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П —Б—В–Њ—П–ї–Є –≤–Њ –ї—М–і—Г, –Є—Б–њ–Њ–ї–љ—П—П –Ј–∞–Ї–Њ–љ –Р—А–Ї—В–Є–Ї–Є: "–Ґ–µ—А–њ–µ–ї–Є–≤–Њ –ґ–і–Є, –±—Л—Б—В—А–Њ –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є!" –Э–Њ –Љ—Л –љ–µ —Б–Ї—Г—З–∞–ї–Є. –Ъ–∞–Ї —А–∞–Ј –≤ —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П —Б—В—А–∞–љ–∞ —Г–Ј–љ–∞–ї–∞ –Њ –Ј–∞–њ—Г—Б–Ї–µ –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–њ—Г—В–љ–Є–Ї–∞. –≠—В–Њ –±—Л–ї–∞ —Б–µ–љ—Б–∞—Ж–Є—П! –Ъ–∞—О—В-–Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є—П –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–љ–µ–є —Б—В—А–Њ–Є–ї–∞ –њ—А–Њ–≥–љ–Њ–Ј—Л –љ–∞ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Б–њ—Г—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –і–ї—П –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є—П –Љ–Њ—А–µ–њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є—П. –Э–∞–і–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —З—В–Њ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –њ—А–µ–≤–Ј–Њ—И–ї–∞ –≤—Б–µ –љ–∞—И–Є —В–Њ–≥–і–∞—И–љ–Є–µ –Љ–µ—З—В—Л. –°–µ–≥–Њ–і–љ—П, –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г—П —Б–њ—Г—В–љ–Є–Ї–Є —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ–Њ–≥–Њ, –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П, –Љ–Њ—А–µ–њ–ї–∞–≤–∞—В–µ–ї–Є –≤—Б–µ–≥–Њ –Љ–Є—А–∞ –њ–ї–∞–≤–∞—О—В –µ—Б–ї–Є –Є –љ–µ–±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ, —В–Њ, –≤–Њ –≤—Б—П–Ї–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ, –≥–Њ—А–∞–Ј–і–Њ —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–µ–µ, —З–µ–Љ –≤ –Њ–њ–Є—Б—Л–≤–∞–µ–Љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П. –Т –њ–µ—А–≤–Њ–Љ –Њ—В—Б–µ–Ї–µ –њ–Њ—З—В–Є –µ–ґ–µ–і–љ–µ–≤–љ–Њ –Ї—А—Г—В–Є–ї–Є –Ј–∞—Е–≤–∞—З–µ–љ–љ—Л–µ —Б —Б–Њ–±–Њ–є –Ї–Є–љ–Њ—Д–Є–ї—М–Љ—Л. –Т–Њ –≤—А–µ–Љ—П —Б—В–Њ—П–љ–Њ–Ї –≤–Њ –ї—М–і—Г —Е–Њ–і–Є–ї–Є –њ–µ—И–Ї–Њ–Љ –і—А—Г–≥ –Ї –і—А—Г–≥—Г —Б –ї–Њ–і–Ї–Є –љ–∞ –ї–Њ–і–Ї—Г –≤ –≥–Њ—Б—В–Є, –Љ–µ–љ—П–ї–Є—Б—М —Д–Є–ї—М–Љ–∞–Љ–Є. –Ъ–∞–Ї-—В–Њ —А–∞–Ј —П —Б—В–∞–ї –љ–µ–≤–Њ–ї—М–љ—Л–Љ –Ј–∞—З–Є–љ—Й–Є–Ї–Њ–Љ –Њ—З–µ–љ—М –±—Г—А–љ–Њ–≥–Њ, –∞ —Б–∞–Љ–Њ–µ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–µ, –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б–њ–Њ—А–∞: "–С—Г–і–µ—В –ї–Є —А–µ–≤–љ–Њ—Б—В—М –њ—А–Є –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є–Ј–Љ–µ?" –Я–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –њ–Њ–љ—П—В–Є–µ –Њ–± —Г—А–Њ–≤–љ–µ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П –ї—О–і–µ–є –≤ –і–∞–ї–µ–Ї–Њ–Љ –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –±—Г–і—Г—Й–µ–Љ, –Ї–∞–Ї –≤—Л—П—Б–љ–Є–ї–Њ—Б—М, —Г –≤—Б–µ—Е –±—Л–ї–Њ —А–∞–Ј–љ—Л–Љ, —Б–њ–Њ—А —Н—В–Њ—В –Ј–∞—В—П–љ—Г–ї—Б—П –і–Њ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Є—Е–Њ–і–∞ –Ї –љ–Њ–≤–Њ–Љ—Г –Љ–µ—Б—В—Г –±–∞–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П. –Т —Б–њ–Њ—А –±—Л–ї–Є –≤–Њ–≤–ї–µ—З–µ–љ—Л –≤—Б–µ –±–µ–Ј –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—П —З–ї–µ–љ—Л —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–∞, –Є –≤—Б–њ—Л—И–Ї–Є –µ–≥–Њ –њ–µ—А–Є–Њ–і–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Њ—В–Љ–µ—З–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞ –љ–∞—И–µ–є –ї–Њ–і–Ї–µ –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е –ї–µ—В. –Ґ–∞–Ї —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, –Є–Ј –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є—П –≤ –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є–µ.  –Ю—Б–µ–љ—М 1954 –≥–Њ–і–∞. –°–µ–≤–µ—А–љ—Л–є –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –њ—Г—В—М –њ–Њ–Ј–∞–і–Є! –С—Г—Е—В–∞ –Я—А–Њ–≤–Є–і–µ–љ–Є—П. –Ъ —Д–Њ—А—И—В–µ–≤–љ—О –ї–Њ–і–Ї–Є –њ—А–Є–≤–∞—А–µ–љ —Б–≤–Њ–µ–Њ–±—А–∞–Ј–љ—Л–є "—А–Њ–≥". –Ш–Љ, –њ—А–Є –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є, –ї–Њ–і–Ї–∞ –Љ–Њ–≥–ї–∞ —Г–њ–µ—А–µ—В—М—Б—П –≤ –Ї–Њ—А–Љ—Г –ї–µ–і–Њ–Ї–Њ–ї–∞  "–Ь–Њ—А—П–Љ–Є —В–µ–њ–ї—Л–Љ–Є –Њ–Љ—Л—В–∞—П, –¶–≤–µ—В–∞–Љ–Є —П—А–Ї–Є–Љ–Є –њ–Њ–Ї—А—Л—В–∞—П, –°—В—А–∞–љ–∞ —А–Њ–і–љ–∞—П –Ш–љ–і–Њ–љ–µ–Ј–Є—П..." –Я–Њ–њ—Г–ї—П—А–љ–∞—П –Є–љ–і–Њ–љ–µ–Ј–Є–є—Б–Ї–∞—П –њ–µ—Б–µ–љ–Ї–∞ –Ї–Њ–љ—Ж–∞ 1950-1960-—Е –≥–Њ–і–Њ–≤ –•–Ю–Ц–Ф–Х–Э–Ш–Х –Ч–Р –І–Х–Ґ–Ђ–†–Х –Ь–Ю–†–ѓ–Т–µ—Б–љ–∞ 1962 –≥–Њ–і–∞. –ѓ - —Б—В–∞—А—И–Є–є –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –Њ–і–љ–Њ—В–Є–њ–љ–Њ–є —Б "–°-235" –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є "–°-236". –С–∞–Ј–Є—А—Г–µ–Љ—Б—П –≤ –Њ–і–љ–Њ–Љ –Є–Ј –Ї—А–∞—Б–Є–≤–µ–є—И–Є—Е –Љ–µ—Б—В –і–∞–ї—М–љ–µ–≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –Я—А–Є–Љ–Њ—А—М—П - –Ј–∞–ї–Є–≤–µ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–∞. –°—В–∞–ї —Б–µ–Љ–µ–є–љ—Л–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–Љ. –Я–Њ–ї—Г—З–Є–ї –њ–µ—А–≤–Њ–µ –≤ —Б–≤–Њ–µ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є –ґ–Є–ї—М–µ - –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В—Г –≤ –і–Њ–Љ–∞—Е –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞ –њ–Њ—Б–µ–ї–Ї–∞ —Б —А–Њ–Љ–∞–љ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ–Љ "–†–∞–Ї—Г—И–Ї–∞". –Ъ–∞–Ї –≤—Б–µ–≥–і–∞, –Љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–ї–∞–≤–∞–µ–Љ. –Ю—В—А–∞–±–∞—В—Л–≤–∞–µ–Љ –Є —Б–і–∞–µ–Љ –Ј–∞–і–∞—З–Є "–Ъ—Г—А—Б–∞ –±–Њ–µ–≤–Њ–є –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–Є", –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П–µ–Љ –±–Њ–µ–≤—Л–µ —Г–њ—А–∞–ґ–љ–µ–љ–Є—П, —Б—В—А–µ–ї—П–µ–Љ —В–Њ—А–њ–µ–і–∞–Љ–Є, —Е–Њ–і–Є–Љ –∞–ґ –≤ –Ґ–Њ–Ї–Є–є—Б–Ї–Є–є –Ј–∞–ї–Є–≤ - –≤–µ–і–µ–Љ –∞–Ї—В–Є–≤–љ—Г—О —А–∞–Ј–≤–µ–і–Ї—Г, –≤–µ–і—М –ѓ–њ–Њ–љ–Є—П –Є–Ј –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞ –°–®–Р –≤ –њ—А–Њ—И–µ–і—И–µ–є –≤–Њ–є–љ–µ —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –њ—А–µ–≤—А–∞—В–Є–ї–∞—Б—М —Б–µ–є—З–∞—Б –≤ –Є—Е —Б–Њ—О–Ј–љ–Є–Ї–∞. –Т–Њ –≤—Б—П–Ї–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ, –≤ –µ–µ –њ–Њ—А—В–∞—Е –Є –±–∞–Ј–∞—Е –љ–∞—Е–Њ–і—П—В –њ—А–Є—О—В –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є 7-–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞ "–≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞". –Э–∞—И–∞ –ї–Њ–і–Ї–∞, –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –Ј–∞–±–Њ—В–∞–Љ –µ–µ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –Ѓ—А–Є—П –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З–∞ –Я–µ—А–µ–≥—Г–і–Њ–≤–∞, –Ј–∞—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–љ–Њ –Њ–±—К—П–≤–ї–µ–љ–∞ –Њ—В–ї–Є—З–љ–Њ–є. –Т –Љ–µ—А—Г —Б–≤–Њ–Є—Е —Б–Є–ї –Є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–µ–є –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–µ–Љ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Г –Є –Љ—Л, –µ–≥–Њ –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї–Є: —П, –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –Т–Є—В–∞–ї–Є–є –Ы–µ–љ–Є–љ—Ж–µ–≤ (–Њ—Б—В—А—П–Ї–Є –≥–Њ–≤–Њ—А—П—В, —З—В–Њ –і–Њ –і–≤–∞–і—Ж–∞—В–Њ–≥–Њ —Б—К–µ–Ј–і–∞, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –Э.–°.–•—А—Г—Й–µ–≤ –≤—Л—Б—В—Г–њ–Є–ї —Б –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є–µ–Љ –Є —А–∞–Ј–Њ–±–ї–∞—З–µ–љ–Є–µ–Љ –Ї—Г–ї—М—В–∞ –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є –°—В–∞–ї–Є–љ–∞, –Т–Є—В–∞–ї–Є–є –љ–Њ—Б–Є–ї —Д–∞–Љ–Є–ї–Є—О "–°—В–∞–ї–Є–љ—Ж–Њ–≤") –Є –Ј–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї—М –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –њ–Њ –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —З–∞—Б—В–Є –Т–Њ–ї–Њ–і—П –Ы–µ–њ–µ—И–Є–љ—Б–Ї–Є–є (—Н—В–Њ –Њ–љ, –±—Г–і—Г—З–Є –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Ж–µ–Љ, —Б–љ–Є–Љ–∞–ї—Б—П –≤ —Д–Є–ї—М–Љ–µ "–°–µ–ї—М—Б–Ї–∞—П —Г—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж–∞" –≤ —А–Њ–ї–Є –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Њ–≥–Њ —Г—З–µ–љ–Є–Ї–∞ - –Я—А–Њ–≤–∞ –Т–Њ—А–Њ–љ–Њ–≤–∞). –Т —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ–µ –Њ—В —Б–ї—Г–ґ–±—Л –≤—А–µ–Љ—П —Н–Ї–Є–њ–∞—Е –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–µ—В –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–µ —Г—З–∞—Б—В–Є–µ –≤ —Б–∞–Љ–Њ–і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є. –Ф–∞–ґ–µ —П, –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –Є–≥—А–∞–≤—И–Є–є –і–Њ —Н—В–Њ–≥–Њ –љ–Є –љ–∞ –Њ–і–љ–Њ–Љ –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –Є–љ—Б—В—А—Г–Љ–µ–љ—В–µ, –Ї—А–Њ–Љ–µ –≥—Г–±–љ–Њ–є –≥–∞—А–Љ–Њ—И–Ї–Є, –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–∞—О —В–µ–њ–µ—А—М –≤ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Б–Ї–Њ–Љ –≤–Њ–Ї–∞–ї—М–љ–Њ-–Є–љ—Б—В—А—Г–Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –∞–љ—Б–∞–Љ–±–ї–µ –Є–≥—А—Г –љ–∞ –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–Њ–є –±–∞—Б-–±–∞–ї–∞–ї–∞–є–Ї–µ. –°–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ –њ–Њ –±–Њ–µ–≤–Њ–є —В—А–µ–≤–Њ–≥–µ —Г—Е–Њ–і–Є–Љ –≤ –У–ї–∞–≤–љ—Г—О –±–∞–Ј—Г —Д–ї–Њ—В–∞ - –Т–ї–∞–і–Є–≤–Њ—Б—В–Њ–Ї (–Ї—Б—В–∞—В–Є, –Њ—З–µ–љ—М –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О—Й–Є–є –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—М). –Ш–Ј –Т–ї–∞–і–Є–≤–Њ—Б—В–Њ–Ї–∞ –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ –Љ–∞—П —Г—Е–Њ–і–Є–Љ –≤... –Ш–љ–і–Њ–љ–µ–Ј–Є—О. –Ь–∞—А—И—А—Г—В –љ–∞—И, –≤ –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ –Њ—В "–•–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –Ј–∞ —В—А–Є –Љ–Њ—А—П" –Р—Д–∞–љ–∞—Б–Є—П –Э–Є–Ї–Є—В–Є–љ–∞, –њ—А–Њ–ї–µ–≥–∞–µ—В –Ј–∞ —З–µ—В—Л—А–µ –Љ–Њ—А—П: –ѓ–њ–Њ–љ—Б–Ї–Њ–µ, –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ-–Ъ–Є—В–∞–є—Б–Ї–Њ–µ, –Ѓ–ґ–љ–Њ-–Ъ–Є—В–∞–є—Б–Ї–Њ–µ –Є –ѓ–≤–∞–љ—Б–Ї–Њ–µ. –Ф–Њ –њ–Њ—А—Л –і–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Њ —Ж–µ–ї–Є –љ–∞—И–µ–≥–Њ –њ–Њ—Е–Њ–і–∞ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –±—А–Є–≥–∞–і—Л - –∞ —Г—И–ї–Є –Љ—Л —В—Г–і–∞ –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ —Ж–µ–ї–Њ–є –±—А–Є–≥–∞–і—Л –ї–Њ–і–Њ–Ї, –і–∞–ґ–µ –њ–ї–∞–≤–±–∞–Ј—Г "–Р—П—Е—В–∞" —Б —Б–Њ–±–Њ–є "–њ—А–Є—Е–≤–∞—В–Є–ї–Є" - –љ–∞–Љ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–µ—В. –Т –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–є –±–∞–Ј–µ –Ш–љ–і–Њ–љ–µ–Ј–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞ - –°—Г—А–∞–±–∞–є–µ, –њ–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј—Г –љ–∞—И–µ–≥–Њ —Б—В–∞—А—И–µ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–∞ –≤ —Н—В–Њ–є —Б—В—А–∞–љ–µ –≤–Є—Ж–µ-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–∞ –І–µ—А–љ–Њ–±–∞—П, –љ–∞—Б –њ–µ—А–µ–Њ–і–µ–ї–Є –≤ –љ–µ–Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Г—О (–±–µ–Ј –Ј–љ–∞–Ї–Њ–≤ —А–∞–Ј–ї–Є—З–Є—П) —З—Г–ґ—Г—О —Д–Њ—А–Љ—Г, –∞ –љ–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П—Е –њ–Њ–і–љ—П–ї–Є –Є–љ–і–Њ–љ–µ–Ј–Є–є—Б–Ї–Є–µ —Д–ї–∞–≥–Є...  –Э–∞ –±–µ—А–µ–≥—Г - —Б–њ–ї–Њ—И–љ–∞—П —Н–Ї–Ј–Њ—В–Є–Ї–∞. –Ю–≥—А–Њ–Љ–љ—Л–µ –њ–∞–ї—М–Љ—Л —Б –Ї–Њ–Ї–Њ—Б–Њ–≤—Л–Љ–Є –Њ—А–µ—Е–∞–Љ–Є. –С–∞–љ–∞–љ—Л —А–∞—Б—В—Г—В –љ–∞ –Ї—Г—Б—В–∞—Е –≤ –Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ –і–≤–Њ—А–µ. –Т –њ–∞—А–Ї–∞—Е –њ–Њ –∞–ї–ї–µ—П–Љ –±—А–Њ–і—П—В –Њ–±–µ–Ј—М—П–љ—Л, –Ї–ї—П–љ—З–∞—В —Г –ї—О–і–µ–є —Г–≥–Њ—Й–µ–љ–Є–µ, –µ–і—П—В —Б —А—Г–Ї, –Ї–∞–Ї —Г –љ–∞—Б –≤ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –њ–∞—А–Ї–∞—Е - –±–µ–ї–Ї–Є. –Т –Ј–Њ–Њ–њ–∞—А–Ї–∞—Е –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –≤–Є–і–µ—В—М –≥—А–Њ–Љ–∞–і–љ—Л—Е —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ—Л—Е –Њ–±–µ–Ј—М—П–љ - –Њ—А–∞–љ–≥—Г—В–∞–љ–Њ–≤ (–Њ—А–∞–љ–≥ - —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, —Г—В–∞–љ - –ї–µ—Б; –Ј–љ–∞—З–Є—В "–ї–µ—Б–љ–Њ–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї"). –Я–Њ—А–∞–ґ–∞—О—В –µ–≥–Њ —А–∞–Ј–Љ–µ—А—Л. –У–Њ–≤–Њ—А—П—В, —З—В–Њ –µ—Б—В—М —Б–ї—Г—З–∞–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ —В–∞–Ї–Є–µ –Њ–±–µ–Ј—М—П–љ—Л –њ–Њ—Е–Є—Й–∞—О—В –Є–љ–і–Њ–љ–µ–Ј–Є–є—Б–Ї–Є—Е –ґ–µ–љ—Й–Є–љ –Є —Б–ї–µ–і—Л –Є—Е —В–µ—А—П—О—В—Б—П –≤ –і–ґ—Г–љ–≥–ї—П—Е... –Э–∞ —Г–ї–Є—Ж–∞—Е, –≤–і–Њ–ї—М —В—А–Њ—В—Г–∞—А–Њ–≤, –њ–Њ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–Љ –Ї–∞–љ–∞–ї–∞–Љ —В–µ–Ї—Г—В –љ–µ—З–Є—Б—В–Њ—В—Л: –Њ—В–Ї—А—Л—В–∞—П –Ї–∞–љ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П, —Б–Њ–ї–љ—Ж–µ, –Љ–Њ–ї, –≤—Б–µ –≤—Л—Б—Г—И–Є—В! –Х—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, –Ј–∞–њ–∞—Е –љ–∞ —В–∞–Ї–Є—Е —Г–ї–Є—Ж–∞—Е, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –љ–∞ –±–∞–Ј–∞—А–∞—Е –Є —А—Л–љ–Ї–∞—Е - "—Б–њ–µ—Ж–Є—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є". –° –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ —В–µ–Љ–љ–Њ—В—Л —В—Г—В –Є —В–∞–Љ –њ—А–Њ–±–µ–≥–∞—О—В —Б—В–∞–є–Ї–Є –Ї—А—Л—Б, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Ј–і–µ—Б—М –Њ—З–µ–љ—М –Љ–љ–Њ–≥–Њ. –°—Л—А—Г—О –≤–Њ–і—Г –њ–Є—В—М –Ї–∞—В–µ–≥–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Ј–∞–њ—А–µ—Й–µ–љ–Њ: –≤ —Н—В–Њ–є –≤–Њ–і–µ - –±–∞—Ж–Є–ї–ї—Л –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–µ–є, –≤–њ–ї–Њ—В—М –і–Њ –±—А—О—И–љ–Њ–≥–Њ —В–Є—Д–∞. –Т –Њ–±—Й–µ–Љ, –Ї–∞–Ї –≤ —Б–Ї–∞–Ј–Ї–µ –њ—А–Њ –і–Њ–±—А–Њ–≥–Њ –Р–є–±–Њ–ї–Є—В–∞. –£–ґ–∞—Б–љ–∞—П –ґ–∞—А–∞: –≤ —В–µ–љ–Є +30¬∞–°! –° –ї—О–±–Њ–њ—Л—В—Б—В–≤–Њ–Љ –љ–∞–±–ї—О–і–∞–µ–Љ –ґ–Є–Ј–љ—М —З—Г–ґ–Њ–є —Б—В—А–∞–љ—Л. –°—Г–і—П –њ–Њ –ї–Њ–Ј—Г–љ–≥–∞–Љ, —Б—В—А–∞–љ–∞ —Б—В—А–Њ–Є—В —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї–Є–Ј–Љ, –љ–Њ –љ–∞—И–Є –љ–∞–±–ї—О–і–µ–љ–Є—П –≥–Њ–≤–Њ—А—П—В –Њ–± –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ–Љ. –Ф–Є–Ї–∞—П –љ–Є—Й–µ—В–∞ –Ј–і–µ—Б—М —Б–Њ—Б–µ–і—Б—В–≤—Г–µ—В —Б —А–Њ—Б–Ї–Њ—И—М—О. –°—А–µ–і–љ–µ–≥–Њ –Ї–ї–∞—Б—Б–∞ –љ–µ—В: –Є–ї–Є –Њ—З–µ–љ—М –±–Њ–≥–∞—В—Л–µ, –Є–ї–Є –Њ—З–µ–љ—М –±–µ–і–љ—Л–µ. –Т –∞—А–Љ–Є–Є –Є –љ–∞ —Д–ї–Њ—В–µ –і–Є—Б—Ж–Є–њ–ї–Є–љ–∞ –≤ –±—Г–Ї–≤–∞–ї—М–љ–Њ–Љ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ –њ–∞–ї–Њ—З–љ–∞—П. –Я—А–Њ—Ж–≤–µ—В–∞–µ—В –Љ–Њ—А–і–Њ–±–Њ–є. –Я—А–Є—З–µ–Љ —Б–∞–Љ–Є –Љ–∞—В—А–Њ—Б—Л –Є —Б–Њ–ї–і–∞—В—Л –њ—А–µ–і–њ–Њ—З–Є—В–∞—О—В –њ–Њ–ї—Г—З–Є—В—М –њ–Њ—Й–µ—З–Є–љ—Г –≤—Л—З–µ—В–∞–Љ –Є–Ј —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –ґ–∞–ї–Њ–≤–∞–љ—М—П: –∞—А–Љ–Є—П –Є —Д–ї–Њ—В –Ј–і–µ—Б—М —Б–Њ—Б—В–Њ—П—В –Є–Ј —Б–ї—Г–ґ–∞—Й–Є—Е –њ–Њ –Ї–Њ–љ—В—А–∞–Ї—В–∞–Љ. –Ю—Д–Є—Ж–µ—А—Л –і–Њ —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ —Б –Љ–∞—В—А–Њ—Б–∞–Љ–Є –љ–µ —Б–љ–Є—Б—Е–Њ–і—П—В, –њ–Њ —Б–ї—Г–ґ–±–µ –Њ—В–і–∞—О—В –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —З–µ—А–µ–Ј —Б—В–∞—А—И–Є–љ. –Ф–∞–ґ–µ –≤ –Ї–Є–љ–Њ–Ј–∞–ї–µ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Л, —Б—В–∞—А—И–Є–љ—Л –Є –Љ–∞—В—А–Њ—Б—Л —А—П–і–Њ–Љ –љ–µ —Б–Є–і—П—В: –Є—Е —А–∞–Ј–і–µ–ї—П—О—В –њ—Г—Б—В—Л–µ —А—П–і—Л. –Ю–±—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ —Б –Њ—А—Г–ґ–Є–µ–Љ –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –≤–Њ–ї—М–љ–Њ–µ. –°—А–µ–і–Є –љ–Њ—З–Є –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б–ї—Л—И–∞—В—М –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л–µ –≤—Л—Б—В—А–µ–ї—Л –Є –і–∞–ґ–µ –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В–љ—Л–µ –Њ—З–µ—А–µ–і–Є. –Ю—Д–Є—Ж–µ—А—Л –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ –љ–Њ—Б—П—В –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В—Л, –њ—А–Є—З–µ–Љ –Љ–Њ–≥—Г—В –Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—В—М –Є—Е –≥–і–µ –њ–Њ–њ–∞–ї–Њ: –љ–∞ —А–µ—Б—В–Њ—А–∞–љ–љ–Њ–Љ —Б—В–Њ–ї–Є–Ї–µ, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П —В–∞–љ—Ж–µ–≤. –Т—Б–µ –Љ–µ–ї–Ї–Є–µ –ї–∞–≤–Њ—З–Ї–Є –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞—В –Ї–Є—В–∞–є—Ж–∞–Љ. –Э–∞ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –≤–Є–і–љ–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ –≤ —В–∞–Ї–Њ–є –ї–∞–≤—З–Њ–љ–Ї–µ –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –Ї—А–∞—Б—Г–µ—В—Б—П –њ–Њ—А—В—А–µ—В –Ь–∞–Њ-–¶–Ј—Н–і—Г–љ–∞. –Ъ—А—Г–њ–љ—Л–µ —Б—Г–њ–µ—А–Љ–∞—А–Ї–µ—В—Л - –ї–Є–±–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ, –ї–Є–±–Њ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –≤—Л—Е–Њ–і—Ж–µ–≤ –Є–Ј –Ш–љ–і–Є–Є. –Э–Є—Й–Є–µ –Љ–∞–ї—М—З–Є—И–Ї–Є –љ–∞ —Г–ї–Є—Ж–∞—Е –љ–µ –і–∞—О—В –њ—А–Њ—Е–Њ–і–∞: "–†—Г—Б—Б–Ї–Є–є, —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є, –і–∞–є —А—Г–±–∞—И–Ї–∞!"; "–•—А—Г—Й–µ–≤ –±–∞–є–Ї (—Е–Њ—А–Њ—И–Є–є)! –Ь–∞–Ї–љ–∞–Љ–∞—А–∞ (—В–Њ–≥–і–∞—И–љ–Є–є –Љ–Є–љ–Є—Б—В—А –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л –°–®–Р) —В–Є–і–∞-–±–∞–є–Ї (–љ–µ—Е–Њ—А–Њ—И–Є–є)!" –Э–Њ –≤ –Њ–±—Й–µ–Љ, –љ–∞—А–Њ–і –Њ—З–µ–љ—М –≥–Њ—Б—В–µ–њ—А–Є–Є–Љ–љ—Л–є –Є –Ї –љ–∞–Љ, —А—Г—Б—Б–Ї–Є–Љ, –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П —Б –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ —Г–≤–∞–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ. –•–Њ—З—Г –Њ—В–Љ–µ—В–Є—В—М, —З—В–Њ –љ–µ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ –Њ—В –Љ–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–є –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Є –Є–љ–і–Њ–љ–µ–Ј–Є–є—Б–Ї–Њ–µ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–µ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Љ–∞–Ї—Б–Є–Љ–∞–ї—М–љ–Њ –Њ–±–ї–µ–≥—З–∞–ї–Њ –љ–∞—И –±—Л—В –Є —Б—В–∞—А–∞–ї–Њ—Б—М —А–∞–Ј–љ–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–Є—В—М –Њ—В–і—Л—Е. –Ф–∞–ґ–µ –≤ —В—А–µ–≤–Њ–ґ–љ—Л–µ –і–љ–Є "–Ъ–∞—А–Є–±—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї—А–Є–Ј–Є—Б–∞", –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤–µ–Ј–і–µ—Б—Г—Й–Є–µ —Б—Г—А–∞–±–∞–є—Б–Ї–Є–µ –Љ–∞–ї—М—З–Є—И–Ї–Є, –Ј–∞–≤–Є–і–µ–≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ, —Б—А—Л–≤–∞–ї–Є —Б–Њ —Б–≤–Њ–Є—Е –љ–Њ–≥ –ї—О–±–Њ–µ –њ–Њ–і–Њ–±–Є–µ –Њ–±—Г–≤–Є –Є —Б—В—Г—З–∞–ї–Є –Є–Љ –њ–Њ –њ–Њ—А–µ–±—А–Є–Ї—Г —В—А–Њ—В—Г–∞—А–∞, –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–∞—П –њ–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ –Э–Є–Ї–Є—В—Л –°–µ—А–≥–µ–µ–≤–Є—З–∞ –•—А—Г—Й–µ–≤–∞ –љ–∞ —В—А–Є–±—Г–љ–µ –Ю–Ю–Э, –∞ –≤—Б–µ–Љ –љ–∞–Љ –±—Л–ї–Њ –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Њ, —З—В–Њ –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ-–∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л –≤—Б–µ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–µ, –Ї–∞–Ї, –≤–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –Є –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є–µ, —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В—Л –±—Г–і—Г—В –њ—А–Њ—Б—В–Њ-–љ–∞–њ—А–Њ—Б—В–Њ –Є–љ—В–µ—А–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ—Л, —В–Њ –µ—Б—В—М –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ—Л –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–ї–∞–≥–µ—А—М, –љ–∞—Б, —В–µ–Љ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ, –Ї–∞–ґ–і–Њ–µ –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ—М–µ –≤—Л–≤–Њ–Ј–Є–ї–Є –Ї—Г–і–∞-–љ–Є–±—Г–і—М –Ј–∞ –≥–Њ—А–Њ–і, –≤ –≥–Њ—А—Л –Є–ї–Є –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥ –Њ–Ї–µ–∞–љ–∞, –≥–і–µ –±—Л–ї–Њ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ—А–Њ—Е–ї–∞–і–љ–Њ. –Т —Д–µ—И–µ–љ–µ–±–µ–ї—М–љ—Л—Е –±–∞—Б—Б–µ–є–љ–∞—Е –љ–∞ —В—Г—А–Є—Б—В—Б–Ї–Є—Е –±–∞–Ј–∞—Е –Є –≤ —Б–∞–љ–∞—В–Њ—А–Є—П—Е –≤ –≥–Њ—А–∞—Е, –љ–∞ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ—Л—Е –њ–µ—Б—З–∞–љ—Л—Е –Њ–Ї–µ–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –њ–ї—П–ґ–∞—Е –Љ—Л –Љ–Њ–≥–ї–Є –Ї—Г–њ–∞—В—М—Б—П –Є –Ј–∞–≥–Њ—А–∞—В—М...  –≠—В–Њ, –Њ–њ—П—В—М –ґ–µ, —А–µ–Ј–Ї–Њ –Ї–Њ–љ—В—А–∞—Б—В–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Њ —Б –±—Л—В–Њ–Љ –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–∞ –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞–≤—И–Є—Е –љ–∞—Б –ї—О–і–µ–є. –І–µ—А–µ–Ј –≤–µ—Б—М –≥–Њ—А–Њ–і –њ—А–Њ—В–µ–Ї–∞–µ—В —А–µ–Ї–∞ –Њ–і–Є–љ–∞–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Б –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–Љ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є—П: –°–∞—А–∞–±–∞–є—П, –Њ—В "—Б—Г—А–∞" - –∞–Ї—Г–ї–∞ –Є "–±–∞–є—П" - –Ї—А–Њ–Ї–Њ–і–Є–ї. –Ъ—А–Њ–Ї–Њ–і–Є–ї–Њ–≤, –њ—А–∞–≤–і–∞, –≤ —А–µ–Ї–µ –і–∞–≤–љ–Њ –љ–µ –≤–Є–і–љ–Њ, –љ–Њ –ї—О–і–µ–є –љ–∞ –љ–µ–є –≤–Є–і–Є–Љ–Њ-–љ–µ–≤–Є–і–Є–Љ–Њ! –Ю–љ–Є –ґ–Є–≤—Г—В –љ–∞ –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л—Е —Б—Г–і–µ–љ—Л—И–Ї–∞—Е, —Б—В–Њ—П—Й–Є—Е –≤–і–Њ–ї—М –±–µ—А–µ–≥–Њ–≤. –Т —А–µ–Ї–µ –ї—О–і–Є —Б—В–Є—А–∞—О—В, –Љ–Њ—О—В—Б—П, —Г–Љ—Л–≤–∞—О—В—Б—П, —З–Є—Б—В—П—В –Ј—Г–±—Л –Є, —Б—Г–і—П –њ–Њ –≤—Б–њ–ї—Л–≤–∞—О—Й–Є–Љ –Ј–∞ –Ї–∞–Ї–Њ–є-–љ–Є–±—Г–і—М —В–Њ—А—З–∞—Й–µ–є –Є–Ј –≤–Њ–і—Л –≥–Њ–ї–Њ–≤–Њ–є "–њ—А–Њ–і—Г–Ї—В–∞–Љ –њ–Є—Й–µ–≤–∞—А–µ–љ–Є—П", –і–µ–ї–∞—О—В –≤ —В—Г –ґ–µ —А–µ–Ї—Г –≤—Б–µ —Б–≤–Њ–Є –і–µ–ї–∞. –Ю–і–љ–Є–Љ —Б–ї–Њ–≤–Њ–Љ, –љ–µ —А–µ–Ї–∞, –∞ –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ –≥–Є–≥–∞–љ—В—Б–Ї–Є–є –±–∞–љ–љ–Њ-–њ—А–∞—З–µ—З–љ–Њ-—В—Г–∞–ї–µ—В–љ—Л–є –Ї–Њ–Љ–±–Є–љ–∞—В. –Ф–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ –љ–∞ —Г–ї–Є—Ж–∞—Е —В–Њ–ґ–µ —Б–≤–Њ–µ–Њ–±—А–∞–Ј–љ–Њ–µ. –Ю—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–µ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–Њ –њ–µ—А–µ–і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П –њ–Њ –≥–Њ—А–Њ–і—Г - –≤–µ–ї–Њ—Б–Є–њ–µ–і. –Я–µ–і–∞–ї–Є –Ї—А—Г—В—П—В –і–∞–ґ–µ –і—А–µ–≤–љ–Є–µ —Б—В–∞—А—Г—Е–Є. –Ґ—Г—В –Є —В–∞–Љ –њ—А–Њ–µ–Ј–ґ–∞—О—В —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –Є–Ј —В—А–µ—Е –≤–µ–ї–Њ—Б–Є–њ–µ–і–љ—Л—Е –Ї–Њ–ї–µ—Б –Є —Б–Є–і–µ–љ–Є–є-–Ї—А–µ—Б–µ–ї. –≠—В–Њ –≤–µ–ї–Њ—А–Є–Ї—И–Є, –Ї–∞–Ї –Є—Е —В—Г—В –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В - "–±–Є—З–∞–≥–Є". –У–ї—П–і—П –љ–∞ —В–Њ, –Ї–∞–Ї –њ–Њ–Ј–∞–і–Є —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –і–Є–≤–∞–љ–∞, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ —А–∞–Ј–≤–∞–ї–Є–ї–∞—Б—М —Ж–µ–ї–∞—П —Б–µ–Љ—М—П –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –ї–∞–≤–Њ—З–љ–Є–Ї–∞ –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ —А–∞–Ј–ґ–Є—А–µ–≤—И–µ–≥–Њ –њ–∞–њ–∞—И–Є, –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ –ґ–Є—А–љ–Њ–є –Љ–∞–Љ–∞—И–Є –Є —В—А–µ—Е-—З–µ—В—Л—А–µ—Е —Г–њ–Є—В–∞–љ–љ—Л—Е –Љ–∞–ї—Л—И–µ–є, –Ї—А—Г—В–Є—В –±–Њ—Б—Л–Љ–Є –љ–Њ–≥–∞–Љ–Є –њ–µ–і–∞–ї–Є —Е—Г–і—О—Й–Є–є, –њ—А–Њ–ґ–ґ–µ–љ–љ—Л–є —Б–Њ–ї–љ—Ж–µ–Љ "–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М", —Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М –њ–ї–∞–Ї–∞—В—М. –Р –љ–Є—Й–Є–µ? –І—В–Њ–±—Л –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В—М, —З—В–Њ —В–∞–Ї–Њ–µ –Є–љ–і–Њ–љ–µ–Ј–Є–є—Б–Ї–Є–є –љ–Є—Й–Є–є, –љ—Г–ґ–љ–Њ —Г–≤–Є–і–µ—В—М –њ–µ—А–µ–і —Б–Њ–±–Њ–є –Њ–±—В—П–љ—Г—В—Л–є –Ј–∞–і—Г–±–µ–ї–Њ–є, —Б–µ—А–Њ–є –Њ—В –њ—Л–ї–Є, —Б –≥–љ–Њ—П—Й–Є–Љ–Є—Б—П –Є —Б–Њ—З–∞—Й–Є–Љ–Є—Б—П –Ї—А–Њ–≤—М—О —П–Ј–≤–∞–Љ–Є, –Ї–∞–Ї –њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ –±–µ–Ј —А—Г–Ї–Є –Є–ї–Є –љ–Њ–≥–Є, –∞ —В–Њ –Є –±–µ–Ј —А—Г–Ї –Є –љ–Њ–≥ –≤–Њ–Њ–±—Й–µ, —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Є–є —Б–Ї–µ–ї–µ—В, –њ—А–Є—З–µ–Љ –∞–±—Б–Њ–ї—О—В–љ–Њ –≥–Њ–ї—Л–є –Є–ї–Є –≤ —А–µ–і–Ї–Є—Е —Б–ї—Г—З–∞—П—Е —Б –њ–Њ–і–Њ–±–Є–µ–Љ —В–∞–Ј–Њ–±–µ–і—А–µ–љ–љ–Њ–є –њ–Њ–≤—П–Ј–Ї–Є –≤ –љ–Є–ґ–љ–µ–є —З–∞—Б—В–Є –ґ–Є–≤–Њ—В–∞. –Э–∞—И —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–є –љ–Є—Й–Є–є, —Б—В–Њ—П—Й–Є–є –љ–∞ –њ–∞–њ–µ—А—В–Є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –Є–ї–Є –≤ –њ–Њ–і–Ј–µ–Љ–љ–Њ–Љ –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–µ. вАҐ "–Љ–Є–ї–ї–Є–Њ–љ–µ—А" –њ–Њ —Б—А–∞–≤–љ–µ–љ–Є—О —Б —В—А–Њ–њ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –љ–Є—Й–Є–Љ... "–Т–Њ—В —Н—В–∞ –Є –µ—Б—В—М –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Є–Ј–Љ?" - —Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞—О—В –љ–∞—И–Є –Љ–∞—В—А–Њ—Б—Л. –Р –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –љ–Є—Е –њ—А–Є–Ј–љ–∞–µ—В—Б—П: "–Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ —В–µ–њ–µ—А—М, —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ-–ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В, —П –њ–Њ–љ—П–ї, —З—В–Њ –≤—Б–µ, –Њ —З–µ–Љ –≤—Л –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є –љ–∞ –њ–Њ–ї–Є—В–Ј–∞–љ—П—В–Є—П—Е –≤ –°–Њ—О–Ј–µ, - –њ—А–∞–≤–і–∞!" –Э–Њ, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –±—Л–ї–Є –Є "—О–Љ–Њ—А–љ—Л–µ" –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В—Л. –Э–∞ –Њ–і–љ–Њ–Љ –Є–Ј –∞–≤—В–Њ–±—Г—Б–Њ–≤, –≤—Л–≤–Њ–Ј–Є–≤—И–Є—Е –љ–∞—Б –Ј–∞ –≥–Њ—А–Њ–і, —А–∞–±–Њ—В–∞–ї –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –њ–Њ–ґ–Є–ї–Њ–є, –љ–Њ –Њ—З–µ–љ—М –≤–µ—Б–µ–ї—Л–є –≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М. –Ю–љ –ї—О–±–Є–ї –≤ –њ—Г—В–Є —А–∞–Ј–≤–ї–µ–Ї–∞—В—М –љ–∞—Б —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–Љ–Є, –Ї–∞–Ї –≤ –≥–Њ–і—Л –≤—В–Њ—А–Њ–є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л –µ–≥–Њ –Љ–Њ–±–Є–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є –≤ —Б–≤–Њ—О –∞—А–Љ–Є—О —П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Є–µ –Њ–Ї–Ї—Г–њ–∞–љ—В—Л –Є –Ї–∞–Ї –Њ–љ, –ї–µ—В–∞—П –љ–∞ –Є—Б—В—А–µ–±–Є—В–µ–ї–µ —Б –∞–≤–Є–∞–љ–Њ—Б—Ж–∞, —Е—А–∞–±—А–Њ —Б—А–∞–ґ–∞–ї—Б—П —Б –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ–Є –ї–µ—В—З–Є–Ї–∞–Љ–Є. –†–∞—Б–њ–∞–ї—П—П—Б—М –≤ —Е–Њ–і–µ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞, –Њ–љ, –Ї –љ–∞—И–µ–Љ—Г —Г–ґ–∞—Б—Г, –Љ–Њ–≥ –±—А–Њ—Б–Є—В—М —А—Г–ї—М –∞–≤—В–Њ–±—Г—Б–∞, –Љ—З–∞—Й–µ–≥–Њ—Б—П —Б–Њ —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В—М—О 90 –Ї–Љ/—З–∞—Б –њ–Њ —Г–Ј–Ї–Њ–є –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–є —Г–ї–Є—Ж–µ, –Ї–Є—И–∞—Й–µ–є –≤–µ–ї–Њ—Б–Є–њ–µ–і–∞–Љ–Є, "–±–Є—З–∞–≥–∞–Љ–Є", –Љ–Њ—В–Њ—А–Њ–ї–ї–µ—А–∞–Љ–Є, –Љ–Њ–њ–µ–і–∞–Љ–Є, –Љ–Њ—В–Њ—Ж–Є–Ї–ї–∞–Љ–Є –Є —В–∞–Ї–Є–Љ–Є –ґ–µ, –Ї–∞–Ї –љ–∞—И, –∞–≤—В–Њ–±—Г—Б–∞–Љ–Є, –і–ї—П —В–Њ–≥–Њ —З—В–Њ–±—Л –Ј–∞–і—А–∞—В—М —И—В–∞–љ–Є–љ—Г –Є –њ—А–Њ–і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞—В—М —Б–≤–Њ—О –Є–Ј—Г—А–Њ–і–Њ–≤–∞–љ–љ—Г—О, –Є–Ј—А–∞–љ–µ–љ–љ—Г—О –љ–Њ–≥—Г. –Ю–і–љ–∞–ґ–і—Л —П, —З—В–Њ–±—Л –њ—А–µ—А–≤–∞—В—М –µ–≥–Њ –Њ—З–µ—А–µ–і–љ–Њ–є —В–µ–Љ–њ–µ—А–∞–Љ–µ–љ—В–љ—Л–є —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј, —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–∞–µ–Љ—Л–є —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ —Г–ґ –±—Г—А–љ–Њ–є –ґ–µ—Б—В–Є–Ї—Г–ї—П—Ж–Є–µ–є, –Ј–∞–і–∞–ї –µ–Љ—Г –њ–Њ–ї—Г—И—Г—В–ї–Є–≤—Л–є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б: "–Р –њ—А–∞–≤–і–∞ –ї–Є, —З—В–Њ –≤ –і–ґ—Г–љ–≥–ї—П—Е –Ш–љ–і–Њ–љ–µ–Ј–Є–Є –і–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—В –њ–ї–µ–Љ–µ–љ–∞ –ї—О–і–Њ–µ–і–Њ–≤?" –С–∞–ї–∞–≥—Г—А-–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М —Б–і–µ–ї–∞–ї—Б—П —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ—Л–Љ, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ, –і–∞–ґ–µ –њ–µ—А–µ—Б—В–∞–≤ –≤–µ—А—В–µ—В—М –≥–Њ–ї–Њ–≤–Њ–є, –≤–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ–≤ –љ–∞ –і–Њ—А–Њ–≥—Г, –њ—А–Њ–Є–Ј–љ–µ—Б: "–Р —П –Є —Б–∞–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–Є–љ–Ї—Г –ї—О–±–ї—О. –Ь–љ–Њ–≥–Є—Е –њ—А–Њ–±–Њ–≤–∞–ї. –У–Њ–ї–ї–∞–љ–і—Ж–µ–≤, –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Ж–µ–≤, –∞–љ–≥–ї–Є—З–∞–љ, —П–њ–Њ–љ—Ж–µ–≤..." –Ч–∞—В–µ–Љ –≤–і—А—Г–≥ –Њ–±–µ—А–љ—Г–ї—Б—П, —Б—В—А–∞—И–љ–Њ –Њ—Б–Ї–∞–ї–Є–ї—Б—П, –њ–Њ—В–Њ–Љ —Г–ї—Л–±–љ—Г–ї—Б—П –Є –Ј–∞–Ї–ї—О—З–Є–ї: "–Р –≤–Њ—В —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –µ—Й–µ –љ–µ –µ–ї!" –Ь—Л —Б–і–µ—А–ґ–∞–љ–љ–Њ –њ–Њ—Г–ї—Л–±–∞–ї–Є—Б—М... –Т –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–µ –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ—М–µ –Є—О–ї—П (–Љ—Л –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј –Њ—В–Љ–µ—З–∞–ї–Є –Ф–µ–љ—М –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞) –њ–Њ—Б—В—Г–њ–∞–µ—В –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–∞—П –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–∞ –љ–∞ —Б—А–Њ—З–љ—Л–є –≤—Л—Е–Њ–і –≤ –Љ–Њ—А–µ. –І–µ—А–µ–Ј –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–љ–µ–є –Љ—Л —Г–ґ–µ –≥–∞–ї—Б–Є—А—Г–µ–Љ –≤ –Ј–∞–і–∞–љ–љ–Њ–Љ —А–∞–є–Њ–љ–µ –њ–∞—В—А—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П - –њ—А—П–Љ–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤ "–±–µ—А–µ–≥–∞ –Ь–∞–Ї–ї–∞—П". –Ч–і–µ—Б—М, –љ–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –Њ—Б—В—А–Њ–≤–∞ –Э–Њ–≤–∞—П –У–≤–Є–љ–µ—П, –љ–∞—И –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–є —Б–Њ–Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї —Г—З–µ–љ—Л–є –Є –њ—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї –Ь–Є–Ї–ї—Г—Е–Њ-–Ь–∞–Ї–ї–∞–є –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї —Б–≤–Њ–Є –∞–љ—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –≤ –≥–Њ—Б—В—П—Е —Г –Љ–µ—Б—В–љ—Л—Е —В—Г–Ј–µ–Љ—Ж–µ–≤-–њ–∞–њ—Г–∞—Б–Њ–≤. –Ю–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П, –Ш–љ–і–Њ–љ–µ–Ј–Є—П –Є–Љ–µ–µ—В –њ—А–µ—В–µ–љ–Ј–Є–Є –Ї –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–µ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є —Н—В–Њ–≥–Њ –Њ—Б—В—А–Њ–≤–∞, –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—П –µ–µ "–Ч–∞–њ–∞–і–љ—Л–є –Ш—А–Є–∞–љ". –Э–∞ —Н—В–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–µ –Э–Њ–≤–Њ–є –У–≤–Є–љ–µ–Є —Е–Њ–Ј—П–є–љ–Є—З–∞—О—В –≥–Њ–ї–ї–∞–љ–і—Ж—Л. –Э–Є–і–µ—А–ї–∞–љ–і—Л –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–Њ—В–µ–љ –ї–µ—В —Б—З–Є—В–∞–ї–Є –Ш–љ–і–Њ–љ–µ–Ј–Є—О —Б–≤–Њ–µ–є –Ї–Њ–ї–Њ–љ–Є–µ–є, –∞ –Ч–∞–њ–∞–і–љ—Л–є –Ш—А–Є–∞–љ –±—Л–ї –Ї–Њ–≥–і–∞-—В–Њ, –µ—Й–µ —А–∞–љ—М—И–µ, –њ—А–Є—Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ –Ї –Њ–і–љ–Њ–Љ—Г –Є–Ј –Є–љ–і–Њ–љ–µ–Ј–Є–є—Б–Ї–Є—Е –Ї–љ—П–ґ–µ—Б—В–≤. –Ш—Б—В–Њ—А–Є—П - —И—В—Г–Ї–∞ –Ј–∞–њ—Г—В–∞–љ–љ–∞—П, –Є —Б–µ–є—З–∞—Б —Г–ґ–µ —В—А—Г–і–љ–Њ —А–∞–Ј–Њ–±—А–∞—В—М—Б—П, –Ї—В–Њ —В—Г—В –њ—А–∞–≤, –Ї—В–Њ –≤–Є–љ–Њ–≤–∞—В, –љ–Њ... –Ь—Л –ґ–µ - –Є–љ—В–µ—А–љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї–Є—Б—В—Л, –±–Њ—А—Ж—Л —Б –Ї–Њ–ї–Њ–љ–Є–∞–ї–Є–Ј–Љ–Њ–Љ! –°–µ–є—З–∞—Б, –њ–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј—Г –љ–∞—И–µ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞, –Љ—Л –Ј–і–µ—Б—М –Є—Б–њ–Њ–ї–љ—П–µ–Љ —А–Њ–ї—М –і–Њ–±—А–Њ–≤–Њ–ї—М—Ж–µ–≤ –Є –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ –і—А—Г–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Ш–љ–і–Њ–љ–µ–Ј–Є–Є –≤–Њ–µ–љ–љ—Г—О –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М, –Т–Њ –≤—Б—П–Ї–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ, —З–µ—А–µ–Ј —А–∞–є–Њ–љ, –≥–і–µ –Љ—Л –њ–∞—В—А—Г–ї–Є—А—Г–µ–Љ, –љ–µ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –±–µ—Б–њ—А–µ–њ—П—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –њ—А–Њ–є—В–Є –љ–Є –Њ–і–љ–Њ —Б—Г–і–љ–Њ –Є–ї–Є –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М. –Т–Њ—В –Є —Г—В—О–ґ–Є–Љ –Љ—Л –Љ–Њ—А–µ –њ–Њ–і –≤–Њ–і–Њ–є, –њ–∞–і–∞—П –≤ –Њ–±–Љ–Њ—А–Њ–Ї–Є –Њ—В —В–µ–њ–ї–Њ–≤—Л—Е —Г–і–∞—А–Њ–≤: —В–µ–Љ–њ–µ—А–∞—В—Г—А–∞ –≤–Њ–Ј–і—Г—Е–∞ –≤ –Њ—В—Б–µ–Ї–∞—Е –≥–і–µ-—В–Њ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 60 –≥—А–∞–і—Г—Б–Њ–≤! –Э–Њ –Є —Н—В–Њ–Љ—Г –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В –Ї–Њ–љ–µ—Ж! –Я–Њ–ї—Г—З–∞–µ–Љ —И–Є—Д—А–Њ–≤–Ї—Г –Њ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є–Є: –≤–Њ–њ—А–Њ—Б —Б –Ш—А–Є–∞–љ–Њ–Љ —А–µ—И–µ–љ –Љ–Є—А–љ—Л–Љ –њ—Г—В–µ–Љ! –Х—Й–µ –і–≤–∞ –Љ–µ—Б—П—Ж–∞, –њ–Њ—З—В–Є –і–Њ –Э–Њ–≤–Њ–≥–Њ, 1963, –≥–Њ–і–∞, –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–µ–Љ—Б—П –Њ–±—Г—З–µ–љ–Є–µ–Љ –Є–љ–і–Њ–љ–µ–Ј–Є–є—Б–Ї–Є—Е —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–µ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –њ—А–Є–љ—П—В—М —Г –љ–∞—Б –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є. –Я–µ—А–µ–і–∞–µ–Љ –Є–Љ —Б–≤–Њ–Є –ї—О–±–Є–Љ—Л–µ "–ї–Њ–і–Њ—З–Ї–Є", –љ–∞—И–∞ "–°-236" –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–∞ –≤ –Ш–љ–і–Њ–љ–µ–Ј–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ —Д–ї–Њ—В–µ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –Є–Љ—П "–С—А–∞–Љ–∞—Б—В—А–∞" ("–Ф—А–Њ—В–Є–Ї"). –£–±—Л–≤–∞–µ–Љ –≤–Њ –Т–ї–∞–і–Є–≤–Њ—Б—В–Њ–Ї –љ–∞ –Њ–і–љ–Њ–Є–Љ–µ–љ–љ–Њ–Љ –њ–∞—Б—Б–∞–ґ–Є—А—Б–Ї–Њ–Љ —В–µ–њ–ї–Њ—Е–Њ–і–µ. –Т–њ–µ—А–µ–і–Є - –љ–Њ–≤—Л–є –≤–Є—В–Њ–Ї —Б–ї—Г–ґ–±—Л, –љ–Њ–≤—Л–µ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є, –љ–Њ–≤—Л–µ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П –Є —Г—З–µ–±–∞ –љ–∞ –Т—Л—Б—И–Є—Е –Њ—А–і–µ–љ–∞ –Ы–µ–љ–Є–љ–∞ –°–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Б–Ї–Є—Е –Ї–ї–∞—Б—Б–∞—Е –≤ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–µ. –Я—А–Њ—Й–∞–є—В–µ, —В—А–Њ–њ–Є–Ї–Є!  –Ч–Ф–†–Р–Т–°–Ґ–Т–£–Щ, –Ґ–Ш–•–Ш–Щ –Ю–Ъ–Х–Р–Э! –Ч–Ф–†–Р–Т–°–Ґ–Т–£–Щ, –Ґ–Ш–•–Ш–Щ –Ю–Ъ–Х–Р–Э!  –£ –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–µ–є —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—В –Ї—Г—А—Б—Л —Г—Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П. –Х—Б—В—М –Њ–љ–Є —Г –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–Њ–≤, –≤—А–∞—З–µ–є, —Г—З–Є—В–µ–ї–µ–є, —О—А–Є—Б—В–Њ–≤ –Є –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –і—А—Г–≥–Є—Е —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–Њ–≤. –Х—Б—В—М –Њ–љ–Є –Є —Г –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е: –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В—Л–µ –њ–Њ–і–Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤–љ—Л–µ –Ї—Г—А—Б—Л "–Т—Л—Б—В—А–µ–ї", –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А. –Ь–Њ—А—Б–Ї–Є–µ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Б–Ї–Є–µ –Ї–ї–∞—Б—Б—Л –≥–Њ—В–Њ–≤—П—В –Ї–∞–Ї –±—Г–і—Г—Й–Є—Е —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ—Л—Е "—Д–ї–∞–≥–Љ–∞–љ—Б–Ї–Є—Е" —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–Њ–≤, —В–Њ –µ—Б—В—М, –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤ —И—В–∞–±–Њ–≤, –≤–µ–і–∞—О—Й–Є—Е —Б–ї—Г–ґ–±–∞–Љ–Є —Н–Ї—Б–њ–ї—Г–∞—В–∞—Ж–Є–Є –Ї–Њ—А–∞–±–µ–ї—М–љ–Њ–є —В–µ—Е–љ–Є–Ї–Є (—Н–љ–µ—А–≥–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Њ–є, —И—В—Г—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±–Њ–є, —Б–ї—Г–ґ–±–Њ–є —Б–≤—П–Ј–Є, –≥–Є–і—А–Њ–∞–Ї—Г—Б—В–Є–Ї–Є –Є —А–∞–і–Є–Њ–ї–Њ–Ї–∞—Ж–Є–Є, –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є, —А–∞–Ї–µ—В–∞–Љ–Є, —В–Њ—А–њ–µ–і–∞–Љ–Є, —В—А–∞–ї–∞–Љ–Є –Є –≥–ї—Г–±–Є–љ–љ—Л–Љ–Є –±–Њ–Љ–±–∞–Љ–Є), —В–∞–Ї –Є –±—Г–і—Г—Й–Є—Е –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–≤ –љ–∞–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –Є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є. –Т –Ї–Њ–љ—Ж–µ –ї–µ—В–∞ 1963 –≥–Њ–і–∞, –њ–Њ–ї—Г—З–Є–≤ –Ј–∞–≤–µ—В–љ–Њ–µ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –Њ –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–Є–Є —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є, —П —Г–ґ–µ —Б—В–Њ—П–ї –њ–µ—А–µ–і –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–Љ –Њ—В–і–µ–ї–∞ –Ї–∞–і—А–Њ–≤ –Ґ–Є—Е–Њ–Њ–Ї–µ–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞. –Х—Й–µ —З–µ—А–µ–Ј –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –њ–∞—Б—Б–∞–ґ–Є—А—Б–Ї–Є–є —В–µ–њ–ї–Њ—Е–Њ–і "–Ш–ї—М–Є—З" –і–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –Љ–µ–љ—П –Ї –±–µ—А–µ–≥–∞–Љ –Љ–∞–ї–Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Њ–є –і–Њ —Н—В–Њ–≥–Њ –Ъ–∞–Љ—З–∞—В–Ї–Є. –Ч–і–µ—Б—М –Њ—В–љ—Л–љ–µ –Љ–љ–µ –њ—А–µ–і—Б—В–Њ—П–ї–Њ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞—В—М —Б–ї—Г–ґ–±—Г –і–ї—П –љ–∞—З–∞–ї–∞ –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ —Б—В–∞—А—И–µ–≥–Њ –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї–∞ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П 1 —А–∞–љ–≥–∞: –Ї—А–µ–є—Б–µ—А—Б–Ї–Њ–є –і–Є–Ј–µ–ї—М-—Н–ї–µ–Ї—В—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є, –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–љ–Њ–є —В—А–µ–Љ—П –±–∞–ї–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є —А–∞–Ї–µ—В–∞–Љ–Є –Є —И–µ—Б—В—М—О —В–Њ—А–њ–µ–і–∞–Љ–Є, –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є. –Я–Њ —В–µ–Љ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞–Љ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–∞—П –ї–Њ–і–Ї–∞ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–∞ –Є–Ј —Б–µ–±—П –≤–љ—Г—И–Є—В–µ–ї—М–љ—Г—О —Б–Є–ї—Г. –Я–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –µ–µ —А–∞–Ї–µ—В—Л –±—Л–ї–Є —Б–љ–∞–±–ґ–µ–љ—Л —П–і–µ—А–љ—Л–Љ–Є –±–Њ–µ–≥–Њ–ї–Њ–≤–Ї–∞–Љ–Є –Є –њ—А–µ–і–љ–∞–Ј–љ–∞—З–∞–ї–Є—Б—М –і–ї—П —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –≤–∞–ґ–љ—Л—Е –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Є —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Њ–±—К–µ–Ї—В–Њ–≤ –љ–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є "–≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞", –ї–Њ–і–Ї–∞ –±—Л–ї–∞ –љ–µ —В–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –Є –і–∞–ґ–µ –љ–µ –Њ–њ–µ—А–∞—В–Є–≤–љ—Л–Љ, –∞ —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ–Љ —Б—В—А–∞–љ—Л. –°–ї—Г–ґ–±–∞ –љ–∞ —В–∞–Ї–Њ–Љ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ –±—Л–ї–∞ –і–µ–ї–Њ–Љ –Њ—З–µ–љ—М –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –Є –њ–Њ—З–µ—В–љ—Л–Љ. –Р—В–Њ–Љ–љ—Л–є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–є —Д–ї–Њ—В, –Є–і—Г—Й–Є–є –љ–∞ —Б–Љ–µ–љ—Г –і–Є–Ј–µ–ї—М-—Н–ї–µ–Ї—В—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ—Г, –µ—Й–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞–±–Є—А–∞–ї —Б–Є–ї—Г. –У—А—Г–Ј —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є–Є —Г—Б—В—А–∞—И–µ–љ–Є—П, –∞ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —В–∞–Ї–∞—П —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є—П –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞–ї–∞ –≤ —В–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞ —Е—А—Г–њ–Ї–Є–є –Љ–Є—А –љ–∞ –љ–∞—И–µ–є –њ–ї–∞–љ–µ—В–µ, –ї–µ–ґ–∞–ї –њ–Њ–Ї–∞ –љ–∞ –њ–ї–µ—З–∞—Е —В–∞–Ї–Є—Е –≤–Њ—В –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є. –Э–µ –±–µ–Ј —В—А–µ–њ–µ—В–∞ —Б—В—Г–њ–Є–ї —П –љ–∞ –њ–∞–ї—Г–±—Г –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ї–µ—В–Њ–љ–Њ—Б—Ж–∞. –Ш–Ј—Г—З–∞—П –µ–≥–Њ —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–Њ –Є –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –µ–≥–Њ –≥—А–Њ–Ј–љ–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ - —А–∞–Ї–µ—В—Л, —Б –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–љ–Њ—Б—В—М—О –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В–µ–ї–µ–є —А–∞–Ї–µ—В–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Б–Ї–Є—Е –Ї–ї–∞—Б—Б–Њ–≤. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –Њ–њ—Л—В –Є –ї—О–±–Њ–≤—М –Ї –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Є –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї–Є –Љ–љ–µ —Г–ґ–µ —З–µ—А–µ–Ј –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–µ—Б—П—Ж–µ–≤ –њ–Њ–ї—Г—З–Є—В—М –і–Њ–њ—Г—Б–Ї –Ї —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ—Г —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—О —Н—В–Є–Љ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–Љ –Є –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞—В—М –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Г - –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ—Г 1 —А–∞–љ–≥–∞ –С–µ–ї–Њ—Г—Б–Њ–≤—Г –≤ –µ–≥–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ—В—А—Г–і–љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ. –°–ї—Г–ґ–±–∞ –љ–∞ —А–∞–Ї–µ—В–Њ–љ–Њ—Б—Ж–µ –±—Л–ї–∞ –љ–∞ –њ–Њ—А—П–і–Њ–Ї —Б–ї–Њ–ґ–љ–µ–µ, —З–µ–Љ —Б–ї—Г–ґ–±–∞ –љ–∞ –ї–Њ–і–Ї–µ, –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–љ–Њ–є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —В–Њ—А–њ–µ–і–∞–Љ–Є. –®–ї–Њ –≤—А–µ–Љ—П, –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М –љ–∞—И —Е–Њ–і–Є–ї –љ–∞ –±–Њ–µ–≤—Г—О —Б–ї—Г–ґ–±—Г (–±–Њ–µ–≤–Њ–µ –њ–∞—В—А—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –≤ –Ј–∞–і–∞–љ–љ–Њ–Љ —А–∞–є–Њ–љ–µ –≤ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ–є –≥–Њ—В–Њ–≤–љ–Њ—Б—В–Є –Ї –љ–∞–љ–µ—Б–µ–љ–Є—О —А–∞–Ї–µ—В–љ–Њ-—П–і–µ—А–љ–Њ–≥–Њ —Г–і–∞—А–∞) –≤ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л–µ, –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ —Г–і–∞–ї–µ–љ–љ—Л–µ –Њ—В –Ї–∞–Љ—З–∞—В—Б–Ї–Є—Е –±–µ—А–µ–≥–Њ–≤ —А–∞–є–Њ–љ—Л –Ґ–Є—Е–Њ–≥–Њ –Њ–Ї–µ–∞–љ–∞, –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–∞–ї –Є –Љ–Њ–є –Њ–њ—Л—В –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–∞. "...–Ш —З–∞–є–Ї–Є —Б—А–∞–Ј—Г –љ–µ –њ–Њ–≤–µ—А—П—В, –Ъ–Њ–≥–і–∞ –≤ –њ—А–µ–і—Г—В—А–µ–љ–љ–Є–є —В—Г–Љ–∞–љ –Т—Б–њ–ї—Л–≤–µ–Љ —Б –Љ–µ—З—В–Њ–є —Г–≤–Є–і–µ—В—М –±–µ—А–µ–≥, –Я–Њ–і–Љ—П–≤ –њ–Њ–і –Ї–Њ—А–њ—Г—Б –Њ–Ї–µ–∞–љ". "–°–∞–Љ–Њ–і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–∞—П –њ–µ—Б–љ—П-–≥–Є–Љ–љ —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–∞ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є "–Ъ-129", –њ–Њ–≥–Є–±—И–µ–є –≤ –Љ–∞—А—В–µ 1968 –≥–Њ–і–∞ –≤ –Ґ–Є—Е–Њ–Љ –Њ–Ї–µ–∞–љ–µ –њ—А–Є –і–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А –љ–µ –≤—Л—П—Б–љ–µ–љ–љ—Л—Е –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞—Е) –Я—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В.
06.11.200909:1906.11.2009 09:19:32
0
06.11.200908:3106.11.2009 08:31:32
–Р–≤—В–Њ—А - - —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї –¶—Г—Б–Є–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –љ–∞ –Љ–Є–љ–Њ–љ–Њ—Б—Ж–µ ¬Ђ–С–µ–і–Њ–≤—Л–є¬ї, —А—Г–Ї–Њ–њ–Є—Б—М –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –≤–љ—Г–Ї, –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Є–Ї –†–Є–ґ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞ 1952 –≥–Њ–і–∞, –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ 1 —А–∞–љ–≥–∞ –Т–µ—З–µ—Б–ї–Њ–≤ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –У–µ–Њ—А–≥–Є–µ–≤–Є—З. –У–ї–∞–≤–∞ 9. –Ш–Ј –і–љ–µ–≤–љ–Є–Ї–∞ –Љ–Є—З–Љ–∞–љ–∞ –Ґ—Г–ї—Г–±–µ–µ–≤–∞. –Ю–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є–µ.–Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –≤—Б–µ–Љ—Г –Љ—Л –±—Г–і–µ–Љ —Г—З–Є—В—М—Б—П –љ–∞ —Б–ї—Г–ґ–±–µ, –љ–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Г –Ї–Њ–≥–Њ? –Э–∞–і–Њ —Г—З–Є—В—М—Б—П —В–µ—Е–љ–Є–Ї–µ, –љ–Њ –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї—Л –Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Л –Њ—В –љ–µ—С –і–∞–ї–µ–Ї–Є. –Я–∞—А—Г—Б–љ–Њ–µ –і–µ–ї–Њ –Є–Љ –≤–њ–Є—В–∞–ї–Њ—Б—М –≤ –Ї—А–Њ–≤—М, –Є –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ, —Б —З–µ–Љ –Њ–љ–Є –µ—Й—С –Љ–Є—А—П—В—Б—П, - —Н—В–Њ —А–∞–љ–≥–Њ—Г—В–љ—Л–µ —Б—Г–і–∞. –Э–∞–і–Њ —Б–Ї–Њ—А–µ–µ –Є–і—В–Є –≤ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Б–Ї–Є–µ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ –Ї–ї–∞—Б—Б—Л, —В–∞–Љ –µ—Й—С –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ–Њ—Г—З–Є—В—М—Б—П —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ. –Т–µ–і—М, –≤ —Б—Г—Й–љ–Њ—Б—В–Є, —П –µ—Й—С —В–∞–Ї –Љ–Њ–ї–Њ–і, –Љ–љ–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –≤–Њ—Б–µ–Љ–љ–∞–і—Ж–∞—В—М –ї–µ—В. –Р –≤—Б—С-—В–∞–Ї–Є –Ї–Њ—А–њ—Г—Б —П –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О —Б —Е–Њ—А–Њ—И–Є–Љ —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–Љ. –ѓ —Б–∞–Љ –Є–Ј –±–µ–і–љ–Њ–є —Б–µ–Љ—М–Є, –Њ—В–µ—Ж —Г–Љ–µ—А –≤–љ–µ–Ј–∞–њ–љ–Њ, –і–µ—В–µ–є –±—Л–ї–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ, –Є –Љ–љ–µ –њ–Њ–Љ–Њ–≥–ї–Њ —В–Њ, —З—В–Њ –Њ—В–µ—Ж –Ї–Њ–≥–і–∞-—В–Њ –±—Л–ї –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В–Њ–Љ, –∞ –≤ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї–Є –њ–Њ –њ–µ—А–≤–Њ–Љ—Г —А–∞–Ј—А—П–і—Г –і–µ—В–µ–є –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–≤, –∞ –њ–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–Љ—Г вАУ –і–µ—В–µ–є –њ–Њ—В–Њ–Љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –і–≤–Њ—А—П–љ. –°–љ–∞—З–∞–ї–∞ –Љ–µ–љ—П –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї–Є –≤ –≥—Г–±–µ—А–љ—Б–Ї–Є–є –≥–Њ—А–Њ–і –≤ –≥–Є–Љ–љ–∞–Ј–Є—О –Є –њ–Њ–Љ–µ—Б—В–Є–ї–Є –≤ —Б–Є—А–Њ—В—Б–Ї–Є–є –і–Њ–Љ, –њ–Њ—В–Њ–Љ –≤ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є –њ–∞–љ—Б–Є–Њ–љ, —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—Й–Є–є—Б—П –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–Љ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–Љ, –Є –≤ 12 –ї–µ—В —П –њ–Њ–њ–∞–ї –≤ –Љ–ї–∞–і—И—Г—О –њ—П—В—Г—О —А–Њ—В—Г. –Ь–љ–µ, –њ—А–Њ–≤–Є–љ—Ж–Є–∞–ї—Г, –Љ–∞–ї—М—З–Є–Ї—Г –Є–Ј –љ–µ–±–Њ–≥–∞—В–Њ–є —Б–µ–Љ—М–Є, –љ–µ –Ј–љ–∞—О—Й–µ–Љ—Г –±–∞–ї–Њ–≤—Б—В–≤–∞, –Ї–Њ—А–њ—Г—Б –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П —Б–Є–Љ–њ–∞—В–Є—З–љ—Л–Љ –Є —И–Є–Ї–∞—А–љ—Л–Љ. –Ф—Г—Е –Р—А—Б–µ–љ—М–µ–≤–∞ –±—Л–ї –њ–Њ–ї–µ–Ј–µ–љ –Є –≤ —В–Њ–Љ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є, —З—В–Њ –љ–µ –±—Л–ї–Њ –і—А–∞–Ї, —Е–∞–Љ—Б—В–≤–∞, –≥—А—Г–±–Њ—Б—В–Є, –Ї–∞–Ї–Є–Љ–Є –Ї–Њ–≥–і–∞-—В–Њ —Б–ї–∞–≤–Є–ї–Є—Б—М –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–µ —Г—З–µ–±–љ—Л–µ –Ј–∞–≤–µ–і–µ–љ–Є—П. –Ъ–∞–і–µ—В—Л –±—Л–ї–Є –±–ї–∞–≥–Њ–≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –і–µ—В—М–Љ–Є. –Э–µ–і–∞—А–Њ–Љ –ґ–µ –Ї–∞–і–µ—В—Б–Ї–Є–є —Д–Њ–ї—М–Ї–ї–Њ—А –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї:  –Р—А—Б–µ–љ—М–µ–≤ –љ–∞—И –Є –і–Њ–±—А, –Є –Љ—П–≥–Њ–Ї! –£—Б–µ—А–і–љ–Њ —И–∞—А–Ї–∞—П –љ–Њ–≥–Њ–є, –Ю–љ —Н–ї–µ–≥–∞–љ—В–љ–Њ—Б—В—М –Є –њ–Њ—А—П–і–Њ–Ї –Т–љ—Г—И–∞–µ—В –љ–∞–Љ, –Ї–∞–Ї –і–Њ–ї–≥ —Б–≤—П—В–Њ–є. –Я—А–∞–≤–і–∞, –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П —Н—В–Њ–Љ—Г –ґ–µ –Љ—Л –≤—Л—Е–Њ–і–Є–ї–Є –Є–Ј –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–∞ –ї—О–і—М–Љ–Є –њ–Њ–ї—Г—И—В–∞—В—Б–Ї–Є–Љ–Є, –ї–Є—И—С–љ–љ—Л–Љ–Є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –і—Г—Е–∞. –Э–Њ –≤–Њ—В —З–µ–Љ—Г –љ–µ –Љ–Њ–≥ –љ–∞—Б –љ–∞—Г—З–Є—В—М –Р—А—Б–µ–љ—М–µ–≤, - —Н—В–Њ —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–Њ—Б—В–Є. –¶–µ—А–Ї–≤–Є –Љ—Л –љ–µ –ї—О–±–Є–ї–Є. –ѓ –њ–Њ–Љ–љ—О –µ—Й—С, —З—В–Њ –Љ–µ–љ—П –њ–Њ—А–∞–Ј–Є–ї–Њ вАУ —Н—В–Њ –Њ–±–Є–ї–Є–µ –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ—Л—Е —Д–∞–Љ–Є–ї–Є–є: –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Є–µ, –≥–Њ–ї–ї–∞–љ–і—Б–Ї–Є–µ, —И–Њ—В–ї–∞–љ–і—Б–Ї–Є–µ, –≤ –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–Љ –Є –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є–µ —Д–∞–Љ–Є–ї–Є–Є –Є–Ј—А—П–і–љ–Њ –Ј–∞–њ–Њ–ї–љ—П–ї–Є —А—П–і—Л —Г—З–∞—Й–Є—Е—Б—П –Ї–∞–і–µ—В–Њ–≤. –≠—В–Њ –±—Л–ї–Є –њ–Њ—В–Њ–Љ–Ї–Є –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–≤-–Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ—Ж–µ–≤ —Н–њ–Њ—Е–Є –≤–Њ—Б–µ–Љ–љ–∞–і—Ж–∞—В–Њ–≥–Њ —Б—В–Њ–ї–µ—В–Є—П, –њ–Њ—В–Њ–Љ–Ї–Є –±–µ–ґ–∞–≤—И–Є—Е –≤ –†–Њ—Б—Б–Є—О —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј–Њ–≤-—Н–Љ–Є–≥—А–∞–љ—В–Њ–≤ –Є–ї–Є –ґ–µ –њ–ї–µ–љ–љ—Л—Е —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј–Њ–≤, –≤–Ј—П—В—Л—Е –≤ –њ–ї–µ–љ –≤ 1812 –≥–Њ–і—Г. –С—Л–ї–Њ –Њ–±–Є–ї–Є–µ –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є—Е —Д–∞–Љ–Є–ї–Є–є –Є–Ј –Я—А–Є–±–∞–ї—В–Є–Ї–Є, —И–≤–µ–і—Б–Ї–Є–µ –Є —Д–Є–љ—Б–Ї–Є–µ —Д–∞–Љ–Є–ї–Є–Є –Є–Ј —Д–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –±—Г—А–ґ—Г–∞–Ј–Є–Є, –Є—В–∞–ї—М—П–љ—Б–Ї–Є–µ –Є –Є—Б–њ–∞–љ—Б–Ї–Є–µ, –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ –Ї–∞–Ї –њ–Њ–њ–∞–≤—И–Є–µ –≤ –†–Њ—Б—Б–Є—О –Є –∞–Ї–Ї–ї–Є–Љ–∞—В–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–≤—И–Є–µ—Б—П –≤–Њ —Д–ї–Њ—В–µ. –С—Л–ї–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ –Є –≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Д–∞–Љ–Є–ї–Є–є, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –Њ–±–Є–ї—М–љ–Њ –љ–∞—Б—Л—В–Є–≤—И–Є—Е —Д–ї–Њ—В –њ–Њ—Б–ї–µ –Ъ—А—Л–Љ—Б–Ї–Њ–є –Ї–∞–Љ–њ–∞–љ–Є–Є, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –њ–Њ—В–Њ–Љ–Ї–Є –С–∞–ї–∞–Ї–ї–∞–≤—Б–Ї–Њ–є –≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–є —А–Њ—В—Л, –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–Њ–≤, –њ–Њ–ї—Г—З–Є–≤—И–Є—Е —Б—В—А–∞–љ–љ—Г—О –њ—А–Є—Б—В–∞–≤–Ї—Г –Ї —Д–∞–Љ–Є–ї–Є–Є вАУ –Я–∞–њ–µ-–Х–≥–Њ—А–Њ–≤, –Я–∞–њ–µ-–§—С–і–Њ—А–Њ–≤ –Є —В. –і. –Ь–љ–Њ–≥–Њ —А—Г–Љ—Л–љ—Б–Ї–Є—Е —Д–∞–Љ–Є–ї–Є–є, –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Є—Е –Є —Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є—Е. –У—А–µ—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Є —Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є–µ —Д–∞–Љ–Є–ї–Є–Є –њ–Њ—П–≤–Є–ї–Є—Б—М –≤ –Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–µ –њ—А–Є –Х–Ї–∞—В–µ—А–Є–љ–µ II, –Ї–Њ–≥–і–∞ –±—Л–ї —А–∞—Б—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б —З—Г–ґ–µ—Б—В—А–∞–љ–љ—Л—Е –µ–і–Є–љ–Њ–≤–µ—А—Ж–µ–≤, —З–∞—Б—В—М –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –≤–ї–Є–ї–∞—Б—М –≤ –Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ—А–њ—Г—Б. –ѓ –і—Г–Љ–∞—О, —З—В–Њ –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ—Л—Е —Д–∞–Љ–Є–ї–Є–є –≤ –Љ–Њ—С–Љ –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–µ –±—Л–ї–Њ –і–Њ 50%, –Є –њ–Њ–ї–∞–≥–∞—О, —З—В–Њ —Н—В–Є–Љ –Є –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –Њ–±—К—П—Б–љ–Є—В—М —В—Г –Њ—В—З—Г–ґ–і—С–љ–љ–Њ—Б—В—М, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –ї–µ–ґ–∞–ї–∞ –Љ–µ–ґ–і—Г –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–Љ–Є –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–∞–Љ–Є –Є –Љ–∞—В—А–Њ—Б–∞–Љ–Є. –І–µ–Љ –Ј–љ–∞—В–љ–µ–µ –Є –±–Њ–≥–∞—З–µ –±—Л–ї –Њ—Д–Є—Ж–µ—А, —В–µ–Љ –њ—А–µ–Ј—А–Є—В–µ–ї—М–љ–µ–µ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є–ї—Б—П –Њ–љ –Ї –Љ–∞—В—А–Њ—Б–∞–Љ. –Ю—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ —Н—В–Є–Љ –Њ—В–ї–Є—З–∞–ї–Є—Б—М –њ—А–Є–±–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Є–µ –±–∞—А–Њ–љ—Л –Є —Д–Є–љ–ї—П–љ–і—Б–Ї–Є–µ —И–≤–µ–і—Л. –Ю–љ–Є –љ–µ —Б–Ї—А—Л–≤–∞–ї–Є, —З—В–Њ —Б–ї—Г–ґ–∞—В –і–Є–љ–∞—Б—В–Є–Є, –∞ –љ–µ –†–Њ—Б—Б–Є–Є. –Ф–µ—В–Є –њ–Њ–ї–љ–Њ–≥–Њ –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–∞ –Ъ—А–µ–Љ–µ—А–∞, –±—Л–≤—И–µ–≥–Њ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ –У–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —И—В–∞–±–∞, –і–∞–ґ–µ –љ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є –њ–Њ-—А—Г—Б—Б–Ї–Є. –Э–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Л —Б–ї—Г–ґ–Є–ї–Є –≤–Њ —Д–ї–Њ—В–µ, —Б–Њ—Е—А–∞–љ—П—П –і–∞–ґ–µ –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ–Њ–µ –њ–Њ–і–і–∞–љ—Б—В–≤–Њ –Є –і–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞—П—Б—М –і–Њ —З–Є–љ–∞ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–∞ I —А–∞–љ–≥–∞. –Ъ–Њ—А–њ—Г—Б–љ–Њ–≥–Њ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞-–∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Ї–∞ –Љ—Л –Ј–≤–∞–ї–Є –Ї–Њ–Ј–Њ–є –≤ —Б–∞—А–∞—Д–∞–љ–µ, –љ–Њ –≤—Б—С –ґ–µ –ї—О–±–Є–ї–Є –µ–≥–Њ, —Е–Њ—В—П —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ—Л—Е —Б–ї—Г–ґ–± –љ–µ —В–µ—А–њ–µ–ї–Є. –Ш –Ї–Њ–≥–і–∞ –Љ—Л –≤–Є–і–µ–ї–Є –≤ —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –љ–∞—И–µ–≥–Њ –≤–Є—Ж–µ-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–∞, –њ—А–µ–Ї–ї–Њ–љ–Є–≤—И–µ–≥–Њ –Ї–Њ–ї–µ–љ–∞ –Є –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–≤—И–µ–≥–Њ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г –љ–∞ —Б—В—Г–ї –≤ –њ–Њ–Ј–µ –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Н–Ї—Б—В–∞–Ј–∞, –Љ—Л –±—Л–ї–Є —Г–±–µ–ґ–і–µ–љ—Л, —З—В–Њ –Њ–љ –њ–Њ–њ—А–Њ—Б—В—Г —Б–њ–Є—В. –°–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї –љ–∞—И –љ–µ –±—Л–ї —Д–∞–љ–∞—В–Є–Ї–Њ–Љ. –Ф–ї—П —Н—В–Њ–≥–Њ –Њ–љ –±—Л–ї —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ —Г–Љ—С–љ. –Ю–љ –µ–ї –≤ –њ–Њ—Б—В —Б–Ї–Њ—А–Њ–Љ–љ–Њ–µ, –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї –њ—А–Њ–њ–Њ–≤–µ–і–Є –љ–∞ —В–µ–Љ—Л, –±–ї–Є–Ј–Ї–Є–µ –Ї –ґ–Є–Ј–љ–Є, –Є –љ–µ–Є–Ј–Љ–µ–љ–љ–Њ —Е–Њ–і–∞—В–∞–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –Ј–∞ –≤—Б–µ—Е –њ—А–Њ–≤–Є–љ–Є–≤—И–Є—Е—Б—П –Ї–∞–і–µ—В. –Т—Б–µ, –Ї–Њ–Љ—Г –≥—А–Њ–Ј–Є–ї–Њ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ, —И–ї–Є –Ї –љ–µ–Љ—Г. –Ф–∞–ґ–µ –µ–≥–Њ —Г—З–µ–±–љ–Є–Ї –і–ї—П –≥–∞—А–і–µ–Љ–∞—А–Є–љ, —Б–Њ–Ї—А–∞—Й—С–љ–љ—Л–є –Ї—Г—А—Б –±–Њ–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є—П –њ–Њ–і –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ–Љ ¬Ђ–Ь–Њ—А—П–Ї-—Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ–Є–љ¬ї, –Љ—Л —З–Є—В–∞–ї–Є —Б –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–Љ. –≠—В–∞ –Ї–љ–Є–≥–∞ –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –і–Є–њ–ї–Њ–Љ–Њ–Љ –љ–∞ –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Њ–Љ –∞–Ї—В–µ –≤—Л–і–∞–≤–∞–ї–∞—Б—М –љ–∞–Љ –љ–∞ —А—Г–Ї–Є. –Т—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О —Б —Б–Є–Љ–њ–∞—В–Є–µ–є –Є –љ–∞—И–µ–≥–Њ –Є–љ—Б–њ–µ–Ї—В–Њ—А–∞, –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Њ–≥–Њ –Є –±–Њ—А–Њ–і–∞—В–Њ–≥–Њ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В–∞ –Т–∞–ї—М—А–Њ–љ–і–∞. –Ю–љ –±—Л–ї –њ–Њ—Е–Њ–ґ –љ–∞ –≥–љ–Њ–Љ–∞, —Е–Њ–ї–Њ—Б—В –Є, –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ —Б–≤–Њ–є –њ–Њ—З—В–µ–љ–љ—Л–є –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В, –±–Њ—П–ї—Б—П —Б–≤–Њ–µ–є —Б—В—А–Њ–≥–Њ–є –Љ–∞–Љ–∞—И–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –Њ—В–љ–Њ—Б–Є–ї–∞—Б—М –Ї –љ–µ–Љ—Г –Ї–∞–Ї –Ї –Љ–∞–ї—М—З–Є–Ї—Г. –Т –Ї–ї–∞—Б—Б–љ–Њ–Љ –Ї–Њ—А–Є–і–Њ—А–µ –±—Л–ї –Ї–Њ–Љ–њ–∞—Б–љ—Л–є –Ј–∞–ї, –≥–і–µ –љ–∞ –њ–Њ–ї—Г –Є–Љ–µ–ї—Б—П –љ–∞—А–Є—Б–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є –≥—А–Њ–Љ–∞–і–љ—Л–є –Ї–Њ–Љ–њ–∞—Б. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –Љ–Њ—А—П–Ї-—Г—З–Є—В–µ–ї—М –≤—Л–≥–Њ–љ—П–ї –Ї–∞–і–µ—В –Є–Ј –Ї–ї–∞—Б—Б–∞, —В–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї: ¬Ђ–Т—Б—В–∞–љ—М—В–µ –љ–∞ —В–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ —А—Г–Љ–±¬ї (–Њ–±—Л—З–љ–Њ –љ–∞ –љ–Њ—А–і –Є–ї–Є –љ–∞ –Ј—О–є–і). –Т–∞–ї—М—А–Њ–љ–і –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П —Г—А–Њ–Ї–∞ –њ—А–Њ–≥—Г–ї–Є–≤–∞–ї—Б—П –њ–Њ –Ї–Њ—А–Є–і–Њ—А—Г. –Ъ–∞–ґ–µ—В—Б—П, –Њ–љ –Ј–љ–∞–ї –љ–∞–Є–Ј—Г—Б—В—М –≤—Б–µ –Ї–ї–∞—Б—Б–љ—Л–µ —Б–њ–Є—Б–Ї–Є. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ –≤—Б—В—А–µ—З–∞–ї –Ї–∞–і–µ—В–∞, –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї—Б—П –≤–Њ —Д—А–Њ–љ—В –Є –Ї–ї–∞–љ—П–ї—Б—П. –Ю–±—Л—З–љ–Њ –Т–∞–ї—М—А–Њ–љ–і –Њ—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞–ї—Б—П –Є —В–Њ–љ–µ–љ—М–Ї–Є–Љ –≥–Њ–ї–Њ—Б–Ї–Њ–Љ –≤—Б—В—Г–њ–∞–ї –≤ –±–µ—Б–µ–і—Г: - –Ъ–∞–Ї —Д–∞–Љ–Є–ї–Є—П? - –Ґ–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ, –Т–∞—И–µ –њ—А–µ–≤–Њ—Б—Е–Њ–і–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ! - –С—А–∞—В? вАУ —Н—В–Њ—В –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –Ј–∞–і–∞–≤–∞–ї—Б—П –≤ —В–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ, –µ—Б–ї–Є —Г –Ї–∞–і–µ—В–∞ –Є–Љ–µ–ї—Б—П —Б—В–∞—А—И–Є–є –±—А–∞—В. - –Ґ–∞–Ї —В–Њ—З–љ–Њ, –Т–∞—И–µ –њ—А–µ–≤–Њ—Б—Е–Њ–і–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ. - –Т –њ—П—В–љ–∞–і—Ж–∞—В–Њ–Љ –Ї–ї–∞—Б—Б–µ? (–≤ –Ї–∞–ґ–і–Њ–є —А–Њ—В–µ –±—Л–ї–Њ —В—А–Є –њ–∞—А–∞–ї–ї–µ–ї—М–љ—Л—Е –Ї–ї–∞—Б—Б–∞, –љ—Г–Љ–µ—А–∞—Ж–Є—П –Ї–ї–∞—Б—Б–Њ–≤ –±—Л–ї–∞ –Њ–±—Й–∞—П) - –Ґ–∞–Ї —В–Њ—З–љ–Њ. - –Ф–≤–Њ–µ–Ї –љ–µ—В? - –Э–Є–Ї–∞–Ї –љ–µ—В. - –•–Њ—А–Њ—И–Њ, —Б—В—Г–њ–∞–є—В–µ. –°–Њ —Б—В–Њ—П—Й–Є–Љ–Є –љ–∞ —А—Г–Љ–±–∞—Е –±–µ—Б–µ–і–∞ –±—Л–ї–∞ –±–Њ–ї–µ–µ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ–є.  –Ю–њ–µ—А—Г ¬Ђ–•–∞–Њ—Б¬ї –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ—Л–µ –≥–∞—А–і–µ–Љ–∞—А–Є–љ—Л —Б—В–∞–≤–Є–ї–Є –≤ –і–µ–љ—М —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–µ–Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–∞ –≤–µ—Б–µ–љ–љ–µ–≥–Њ —А–∞–≤–љ–Њ–і–µ–љ—Б—В–≤–Є—П. –Т—Б–µ —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Є –±—Л–ї–Є –Ј–∞–≥—А–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ—Л –њ–Њ–і –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–љ—Л—Е –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–∞–ї–Є, –Є –і–∞–ґ–µ –њ—А–Є–≥–ї–∞—И–∞–ї–Є —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–∞ –і–ї—П —Б–љ—П—В–Є—П –≥—А—Г–њ–њ—Л —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–≤. –Э–∞—З–∞–ї—М—Б—В–≤–Њ, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –Њ–± —Н—В–Њ–Љ –Ј–љ–∞–ї–Њ, –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ –Ј–∞–њ—А–µ—Й–∞–ї–Њ —Н—В–Њ –њ—А–∞–Ј–і–љ–µ—Б—В–≤–Њ, –љ–Њ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–∞—Б—В—Г–њ–∞–ї –≤–µ—З–µ—А 9 –Љ–∞—А—В–∞, –і–µ–ґ—Г—А–љ—Л–µ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Л –≥–∞—А–і–µ–Љ–∞—А–Є–љ—Б–Ї–Є—Е —А–Њ—В –і–µ–ї–Є–Ї–∞—В–љ–Њ —Б–Ї—А—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М, –Є —Б—В–∞—А—И–Є–µ –≥–∞—А–і–µ–Љ–∞—А–Є–љ—Л –њ–Њ–ї—Г—З–∞–ї–Є –њ–Њ–ї–љ—Г—О —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Г –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П. –У–≤–Њ–Ј–і—С–Љ –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ—Л —П–≤–ї—П–ї–Њ—Б—М —Б–ґ–Є–≥–∞–љ–Є–µ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –∞–ї—М–Љ–∞–љ–∞—Е–∞, –љ–∞—З–Є–љ—С–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤—Б—П–Ї–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ –≤–Ј—А—Л–≤—З–∞—В—Л–Љ–Є –≤–µ—Й–µ—Б—В–≤–∞–Љ–Є, –Њ—В—З–µ–≥–Њ –Њ–љ –≥–Њ—А–µ–ї –±—Л—Б—В—А–Њ –Є —Н—Д—Д–µ–Ї—В–љ–Њ. –С—Л–≤–∞–ї–Є –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –Є –љ–µ—Б—З–∞—Б—В–љ—Л–µ —Б–ї—Г—З–∞–Є –≤ –≤–Є–і–µ –Њ–ґ–Њ–≥–Њ–≤. –Я—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї–Њ –њ—А–µ–і–∞–љ–Є–µ –∞–љ–∞—Д–µ–Љ–µ –≤—Б–µ—Е –љ–µ–њ—А–Є—П—В–љ—Л—Е –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В–µ–є, –њ—А–Њ—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ —Н–Ї–≤–∞—В–Њ—А–∞, –њ–ї—П—Б–Ї–∞ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е —Б–Є—А–µ–љ. –Ф–ї—П —Н—В–Є—Е —А–Њ–ї–µ–є –≤—Л–±–Є—А–∞–ї–Є—Б—М —Б–∞–Љ—Л–µ –Ї—А—Г–њ–љ—Л–µ –Є –Љ–∞—Б—Б–Є–≤–љ—Л–µ –≥–∞—А–і–µ–Љ–∞—А–Є–љ—Л. –Ю–њ–µ—А–∞ ¬Ђ–•–∞–Њ—Б¬ї —Б—В–∞–≤–Є–ї–∞—Б—М –Ї–∞–Ї —Д–Є–љ–∞–ї. –Р—А—В–Є—Б—В—Л –њ–µ–ї–Є –Є–ї–Є –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –Ј–∞–≤—Л–≤–∞–ї–Є —Б–≤–Њ–Є —А–Њ–ї–Є. –І—В–Њ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Њ—В–Љ–µ—В–Є—В—М вАУ —Н—В–Њ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ –њ—М—П–љ—Б—В–≤–∞ –Є —А–∞–Ј–≥—Г–ї–∞. –Э–µ –±—Л–ї–Њ –љ–Є –≤–Њ–і–Ї–Є, –љ–Є –≤–Є–љ–∞, –∞ –±—Л–ї–Њ –ї–Є—И—М –њ–Є—А–Њ–ґ–љ–Њ–µ –Є –Ї–Њ–µ-—З—В–Њ —Б–ї–∞–і–Ї–Њ–µ.  –Э–∞–≤–∞—А–Є–љ—Б–Ї–Њ–µ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–µ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ (1827). –Ь–Њ–є –≤—Л–њ—Г—Б–Ї –њ–Њ—З–µ–Љ—Г-—В–Њ –ї—О–±–Є–ї –њ–Њ—Б—Л–ї–∞—В—М —О–±–Є–ї–µ–є–љ—Л–µ —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ—Л. –Т 1897 –≥–Њ–і—Г –±—Л–ї —Б–µ–Љ–Є–і–µ—Б—П—В–Є–ї–µ—В–љ–Є–є —О–±–Є–ї–µ–є –Ь—Л –Ј–љ–∞–ї–Є, —З—В–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–≤–∞ —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–∞ —Н—В–Њ–≥–Њ –±–Њ—П –Њ—Б—В–∞–ї–Є—Б—М –≤ –ґ–Є–≤—Л—Е. –Т —Б–≤–Њ—С –≤—А–µ–Љ—П –Э–∞–≤–∞—А–Є–љ –±—Л–ї –і–∞–ґ–µ –Њ—В–Љ–µ—З–µ–љ –≤ ¬Ђ–Ь—С—А—В–≤—Л—Е –і—Г—И–∞—Е¬ї —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ–Љ, —З—В–Њ –љ–∞ –І–Є—З–Є–Ї–Њ–≤–µ –±—Л–ї —Д—А–∞–Ї –љ–∞–≤–∞—А–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і—Л–Љ–∞ —Б –њ–ї–∞–Љ–µ–љ–µ–Љ. –Ц–Є–≤—Л–Љ–Є —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—П–Љ–Є —Н—В–Њ–≥–Њ –±–Њ—П —П–≤–ї—П–ї–Є—Б—М –Є –Ч–∞–≤–Њ–є–Ї–Њ –њ–ї–∞–≤–∞–ї –Љ–Є—З–Љ–∞–љ–Њ–Љ –љ–∞ ¬Ђ–Р–Ј–Њ–≤–µ¬ї –њ–Њ–і –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–є –Ь.–Я.–Ы–∞–Ј–∞—А–µ–≤–∞, –∞ –У–µ–є–і–µ–љ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–ї —И—Е—Г–љ–Њ–є ¬Ђ–Ю–њ—Л—В¬ї. –Т—Б–µ–є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є —Н—Б–Ї–∞–і—А–Њ–є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–ї –µ–≥–Њ –Њ—В–µ—Ж, –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї –У–µ–є–і–µ–љ. –Ч–∞–≤–Њ–є–Ї–Њ –ґ–Є–ї –љ–∞ –њ–Њ–Ї–Њ–µ –≤ –і–µ—А–µ–≤–љ–µ, –∞ –У–µ–є–і–µ–љ вАУ –≤ –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–µ. –Ю–љ –±—Л–ї —Г–Ї—А–∞—И–µ–љ –µ—Й—С –У–µ–Њ—А–≥–Є–µ–Љ IV —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є –Ј–∞ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ—П–ґ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –і–∞–≤–∞–ї–Є –Љ–Њ—А—П–Ї–∞–Љ –њ—А–Є –Я–∞–≤–ї–µ I –Є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–µ I, –Њ—А–і–µ–љ–Њ–Љ –Р–љ–і—А–µ—П –Я–µ—А–≤–Њ–Ј–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ, –њ—П—В—М—О –њ–Њ—А—В—А–µ—В–∞–Љ–Є —Б –±—А–Є–ї–ї–Є–∞–љ—В–∞–Љ–Є —Ж–∞—А–µ–є, –њ—А–Є –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Б–ї—Г–ґ–Є–ї, —З—В–Њ —П–≤–ї—П–ї–Њ—Б—М –≤—Л—Б—И–µ–є –љ–∞–≥—А–∞–і–Њ–є. –Т –Љ–Є—З–Љ–∞–љ—Л –Њ–љ –±—Л–ї –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і—С–љ 14-—В–Є –ї–µ—В. –Ч–∞–≤–Њ–є–Ї–Њ –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї –љ–∞–Љ –ї—О–±–µ–Ј–љ–Њ–є —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ–Њ–є, –∞ –У–µ–є–і–µ–љ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є–ї–Њ—Б—М –≤ —Н—В–Њ–Љ –≥–Њ–і—Г 96 –ї–µ—В, —Г–±–Є–ї —Б–≤–Њ–µ–є —Г—В–Њ–љ—З—С–љ–љ–Њ–є –ї—О–±–µ–Ј–љ–Њ—Б—В—М—О –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞—Б, –љ–Њ –Є –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–љ–Њ–µ –љ–∞—З–∞–ї—М—Б—В–≤–Њ. –≠—В–Њ—В –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Є–є —Б—В–∞—А–Є–Ї –≤ –њ–Њ–ї–љ–Њ–є –њ–∞—А–∞–і–љ–Њ–є —Д–Њ—А–Љ–µ —П–≤–Є–ї—Б—П –ї–Є—З–љ–Њ –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–Є—В—М –≥–∞—А–і–µ–Љ–∞—А–Є–љ –Ј–∞ –њ–∞–Љ—П—В—М –Є –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ. –Ю–љ –њ—А–Њ—Б–Є–ї –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А–∞ –≤—Л–Ј–≤–∞—В—М –≤—Б–µ—Е —Д–µ–ї—М–і—Д–µ–±–µ–ї–µ–є, –≤ –ї–Є—Ж–µ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Є –њ–Њ–±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–Є–ї –≥–∞—А–і–µ–Љ–∞—А–Є–љ; –љ–µ –±–µ–Ј –ї—О–±–Њ–њ—Л—В—Б—В–≤–∞ —Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї–Є —Д–µ–ї—М–і—Д–µ–±–µ–ї–Є –љ–∞ —Н—В—Г –ґ–Є–≤—Г—О –Є—Б—В–Њ—А–Є—О —Д–ї–Њ—В–∞ –Ј–∞ —Ж–µ–ї–Њ–µ —Б—В–Њ–ї–µ—В–Є–µ.  –ѓ —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–ї –Љ–Є–Љ–Њ –Ї–Њ–љ—Д–µ—А–µ–љ—Ж-–Ј–∞–ї–∞ –Є —Г–≤–Є–і–µ–ї –µ–≥–Њ. –ѓ —Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї –љ–∞ –љ–µ–≥–Њ —Б –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–Љ –Є –њ–Њ –і—А—Г–≥–Њ–є –њ—А–Є—З–Є–љ–µ. –Т –Љ–Є—З–Љ–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ –њ–∞—В–µ–љ—В–µ –Љ–Њ–µ–≥–Њ –Њ—В—Ж–∞, –≤—Л–і–∞–љ–љ–Њ–Љ –≤ 1854 –≥–Њ–і—Г, –Ј–љ–∞—З–Є–ї–∞—Б—М –њ–Њ–і–њ–Є—Б—М –і–µ–ґ—Г—А–љ–Њ–≥–Њ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–∞–і—К—О—В–∞–љ—В–∞, –≤–Є—Ж–µ-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–∞ –≥—А–∞—Д–∞ –У–µ–є–і–µ–љ–∞. –≠—В–Њ –Є –±—Л–ї —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, —Б—В–Њ—П—Й–Є–є –њ–µ—А–µ–і–Њ –Љ–љ–Њ–є. –Ю—В–µ—Ж —Г–Љ–µ—А –≤ 1890 –≥–Њ–і—Г —Г–ґ–µ –њ–Њ–ґ–Є–ї—Л–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–Љ, –∞ —Н—В–Њ—В –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї –µ–≥–Њ –і–µ—В—Б–Ї–Є—Е –ї–µ—В вАУ –±—Л–ї –ґ–Є–≤. –Э–Њ —П –Њ—В–≤–ї—С–Ї—Б—П –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г. –Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, —Н—В–Њ –Є –њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ. –Т–Љ–µ—Б—В–µ —Б–Њ –Љ–љ–Њ–є –≤ –Њ–і–Є–љ —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ –≤—Л—И–µ–ї –Є –Љ–Є—З–Љ–∞–љ –Ь–µ–і–≤–µ–і–µ–≤. –Т–Њ—В –њ—А–Њ –љ–µ–≥–Њ-—В–Њ –Љ–љ–µ –Є –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї—Б—П –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ —А–µ–і–Ї–Є–є —Н–њ–Є–Ј–Њ–і. –Ь–µ–і–≤–µ–і–µ–≤ –њ–Є—Б–∞–ї —Б—В–Є—Е–Є, –Є –Њ—З–µ–љ—М –љ–µ–њ–ї–Њ—Е–Є–µ. –Ю–љ, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї –≤ —Б—В–Є—Е–∞—Е –Є—Б—В–Њ—А–Є—О –Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–∞, –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–≤ –і–ї—П —Н—В–Њ–≥–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–µ —Б—В–Є—Е–Є –Р.–Ъ. –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–≥–Њ –Њ–± –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –†–Њ—Б—Б–Є–Є. –Х–≥–Њ —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є—П –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є–ї–Є –≤—Л—И–µ—Г–њ–Њ–Љ—П–љ—Г—В—Г—О —В–µ—В—А–∞–і—М —Д–Њ–ї—М–Ї–ї–Њ—А–∞ –Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–∞. –Ю—Б—В–∞–ї–Є—Б—М –≤ –њ–∞–Љ—П—В–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ 4 —Б—В—А–Њ—З–Ї–Є –њ—А–Њ —Н–≤–∞–Ї—Г–∞—Ж–Є—О –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–∞ –≤ –§–Є–љ–ї—П–љ–і–Є—О, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Э–∞–њ–Њ–ї–µ–Њ–љ —Б–Њ–±–Є—А–∞–ї—Б—П –Є–і—В–Є –љ–∞ –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥: –Т –°–≤–µ–∞–±–Њ—А–≥ –Љ—Л –±–µ–ґ–∞–ї–Є –Т –і–≤–µ–љ–∞–і—Ж–∞—В–Њ–Љ –≥–Њ–і—Г, –Ґ–∞–Љ —Б–µ–Ї—Б—Г —Б –њ—Г–љ—И–µ–Љ –ґ—А–∞–ї–Є, –Э–µ –≥–ї—П–і—П –љ–∞ –±–µ–і—Г. –У–ї–∞–≤–∞ 10. –¶–∞—А—Б–Ї–Є–є –Ї—А–µ–і–Є—В–Њ—А (–њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ –Љ–Є—З–Љ–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–љ–µ–≤–љ–Є–Ї–∞).–Ф–µ–љ—М–≥–Є –љ–∞ –±–Њ—З–Ї—Г.  –Ъ–Њ–≥–і–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є II, –≤—Б—В—Г–њ–Є–≤ –љ–∞ –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї –Є –≤ –њ–µ—А–≤—Л–є —А–∞–Ј –њ—А–Є–µ—Е–∞–≤ –≤ –Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ—А–њ—Г—Б, –і–µ–ї–∞–ї –Њ—Б–Љ–Њ—В—А –Ъ–Њ—А–њ—Г—Б–∞ –Є –Њ–±—Е–Њ–і–Є–ї —А—П–і—Л –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤, –≤—Л—Б—В—А–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –≤ —Б—В–Њ–ї–Њ–≤–Њ–є, –њ—А–Є –µ–≥–Њ –њ—А–Њ—Е–Њ–і–µ –Љ–Є–Љ–Њ –љ–∞—И–µ–є —А–Њ—В—Л –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И—С–ї –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ—Л–є —Н–њ–Є–Ј–Њ–і. –Ш–Ј —А—П–і–Њ–≤ –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –≤—Л—Б—В—Г–њ–Є–ї –Ї–∞–і–µ—В –Ь–µ–і–≤–µ–і–µ–≤ –Є —Г–њ–∞–ї –љ–∞ –Ї–Њ–ї–µ–љ–Є. –Т—Б–µ –Њ—Ж–µ–њ–µ–љ–µ–ї–Є. –¶–∞—А—М –±—Л–ї –Є–Ј—Г–Љ–ї—С–љ –і–Њ–љ–µ–ї—М–Ј—П –Є, –≤–Є–і–Є–Љ–Њ, –љ–µ –Ј–љ–∞–ї, –Ї–∞–Ї –µ–Љ—Г –љ–∞ —Н—В–Њ —А–µ–∞–≥–Є—А–Њ–≤–∞—В—М. –Э–Њ –Ь–µ–і–≤–µ–і–µ–≤ —Б—В–Њ—П–ї —Б —Б–∞–Љ—Л–Љ –≤–µ—А–љ–Њ–њ–Њ–і–і–∞–љ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –ї–Є—Ж–∞ –Є –і–µ—А–ґ–∞–ї –≤ —А—Г–Ї–∞—Е –Ї–∞–Ї—Г—О-—В–Њ –±—Г–Љ–∞–≥—Г. - –Т—Б—В–∞–љ—М—В–µ, - —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї, –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, —Ж–∞—А—М, - —З—В–Њ –Т–∞–Љ –љ–∞–і–Њ? –Т—Л –љ–∞ —З—В–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М –ґ–∞–ї—Г–µ—В–µ—Б—М? - –Т–∞—И–µ –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Б–Ї–Њ–µ –≤–µ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ, —П –њ—А–Њ—И—Г –Т–∞—И–µ–≥–Њ –Љ–Є–ї–Њ—Б—В–Є–≤–µ–є—И–µ–≥–Њ —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є—П –њ–Њ–і–љ–µ—Б—В–Є –Т–∞—И–µ–Љ—Г –≤–µ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤—Г –Њ–і—Г –њ–Њ —Б–ї—Г—З–∞—О –≤–Њ—Б—И–µ—Б—В–≤–Є—П –Т–∞—И–µ–≥–Њ –љ–∞ –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї –њ—А–∞—А–Њ–і–Є—В–µ–ї—М—Б–Ї–Є–є. вАУ –Ь–µ–і–≤–µ–і–µ–≤ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї –≥—А–Њ–Љ–Ї–Є–Љ –Є –Ј–≤—Г—З–љ—Л–Љ –≥–Њ–ї–Њ—Б–Њ–Љ. - –Я—А–Њ—З—В–Є—В–µ, - —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї —Ж–∞—А—М –њ–Њ—Б–ї–µ –Љ–Є–љ—Г—В–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–і—Г–Љ—М—П, –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ–≤ –љ–∞ –±—Г–Љ–∞–≥—Г –Є —Г–≤–Є–і—П, —З—В–Њ –Њ–љ–∞ –љ–µ –Њ—З–µ–љ—М –±–Њ–ї—М—И–∞—П. –Ь–µ–і–≤–µ–і–µ–≤ –њ—А–Њ—З—С–ї –µ—С —Б —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–Љ. –Ю–і–∞ –±—Л–ї–∞ –љ–µ–њ–ї–Њ—Е–∞—П. –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є II –Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П —А–∞—Б—В–µ—А—П–љ–љ—Л–Љ. –Ю–љ –љ–µ –Ј–љ–∞–ї, –Ї–∞–Ї –Њ—В–љ–µ—Б—В–Є—Б—М –Ї —В–∞–Ї–Њ–Љ—Г —Б–ї—Г—З–∞—О, –љ–µ –≤—Е–Њ–і—П—Й–µ–Љ—Г –≤ —Г—Б–ї–Њ–≤–љ—Л–µ —А–∞–Љ–Ї–Є. –Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –њ—А–Є–љ—Г–ґ–і—С–љ–љ–Њ —Г–ї—Л–±–∞—П—Б—М, —Ж–∞—А—М —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї: - –С–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—О –Ј–∞ –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–љ—Л–µ —З—Г–≤—Б—В–≤–∞. –І—В–Њ –ґ–µ –Т—Л —Е–Њ—В–Є—В–µ? –≠—В–Њ –Є –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М —А–Њ–Ї–Њ–≤—Л–Љ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–Љ. –Ь–µ–і–≤–µ–і–µ–≤ —Б–љ–Њ–≤–∞ —Г–њ–∞–ї –љ–∞ –Ї–Њ–ї–µ–љ–Є, —Б–і–µ–ї–∞–ї –Ј–µ–Љ–љ–Њ–є –њ–Њ–Ї–ї–Њ–љ, –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–µ–љ–љ–Њ —Б–ї–Њ–ґ–Є–ї —А—Г–Ї–Є –Є –њ—А–Њ–Љ–Њ–ї–≤–Є–ї: - –Т–∞—И–µ –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Б–Ї–Њ–µ –≤–µ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ, –Љ–љ–µ –љ—Г–ґ–љ–Њ –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ. –ѓ –Њ—З–µ–љ—М –±–µ–і–µ–љ, –∞ —Б–µ–Љ—М—П —Г –Љ–Њ–Є—Е —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є –±–Њ–ї—М—И–∞—П. –ѓ –њ—А–Њ—И—Г –њ–Њ–і–∞—А–Є—В—М –Љ–љ–µ 10000 —А—Г–±–ї–µ–є. –Ы–Є—Ж–∞ –љ–∞—З–∞–ї—М—Б—В–≤–∞, —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–∞–≤—И–µ–≥–Њ —Ж–∞—А—П, –Є –µ–≥–Њ —Б–≤–Є—В—Л –≤—Л—А–∞–Ј–Є–ї–Є —Б–Љ—П—В–µ–љ–Є–µ. –¶–∞—А—М –Њ–і–љ–Њ –Љ–≥–љ–Њ–≤–µ–љ—М–µ –Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –Њ—И–µ–ї–Њ–Љ–ї—С–љ–љ—Л–Љ. –Ч–∞—В–µ–Љ –Њ–љ –Њ–њ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П –Є, –Њ–±–µ—А–љ—Г–≤—И–Є—Б—М –Ї —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–∞–≤—И–µ–Љ—Г –µ–≥–Њ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–∞–і—К—О—В–∞–љ—В—Г, —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї: - –І—В–Њ –ґ–µ, –≤—Л–і–∞–є—В–µ –µ–Љ—Г –Є–Ј —Б—Г–Љ–Љ –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В–∞ —Н—В–Є –і–µ–љ—М–≥–Є. –Ь–µ–і–≤–µ–і–µ–≤ —Б—Е–≤–∞—В–Є–ї —А—Г–Ї—Г —Ж–∞—А—П –Є –њ–Њ—Ж–µ–ї–Њ–≤–∞–ї. –Т—Б—С —Н—В–Њ –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –≥–ї—Г–њ—Л–Љ. –¶–∞—А—М –њ—А–Њ—Б—В–Є–ї—Б—П –Є —Г–µ—Е–∞–ї, –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–≤, –Ї–∞–Ї –≤—Б–µ–≥–і–∞, –Њ—В–њ—Г—Б—В–Є—В—М –Ї–∞–і–µ—В –љ–∞ —В—А–Є –і–љ—П, –∞ –Ь–µ–і–≤–µ–і–µ–≤–∞ вАУ –љ–µ –љ–∞–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М. –Ю–љ —Б–њ—Г—Б–Ї–∞–ї—Б—П –њ–Њ –ї–µ—Б—В–љ–Є—Ж–µ —Б—А–µ–і–Є –Ї—А–Є–Ї–Њ–≤ ¬Ђ–£—А–∞¬ї, –Є, —Е–Њ—В—П –Њ–Ї—В—П–±—А—М—Б–Ї–∞—П –њ–Њ–≥–Њ–і–∞ –±—Л–ї–∞ —Е–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ–≤–∞—В–∞, –Ї–∞–і–µ—В—Л –≤ –Њ–і–љ–Є—Е —Д–ї–∞–љ–µ–ї—М–Ї–∞—Е –±–µ–ґ–∞–ї–Є –Ј–∞ —Ж–∞—А—Б–Ї–Є–Љ–Є —Б–∞–љ—П–Љ–Є –њ–Њ –љ–∞–±–µ—А–µ–ґ–љ–Њ–є, –њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–∞—П –Є—Е –і–Њ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—Б—В–∞. –Ґ–∞–Ї–Њ–µ –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ ¬Ђ–љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ—Б—В–Њ—А–≥–∞¬ї –і–Њ–њ—Г—Б–Ї–∞–ї–Њ—Б—М. –Ю–і–Є–љ –Ї–∞–і–µ—В –≤–ї–µ–Ј –љ–∞ –Ј–∞–њ—П—В–Ї–Є —Б–∞–љ–µ–є –Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Б–Є–ї—М–љ–Њ —В—А—П—Е–љ—Г–ї–Њ —Б–∞–љ–Є –љ–∞ –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ –Ї–Њ–ї–і–Њ–±–Є–љ–µ, —Б—Е–≤–∞—В–Є–ї—Б—П –Ј–∞ –Ј–∞–і–љ–Є–є –Ї–ї–∞–њ–∞–љ —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–∞–ї—М—В–Њ. –Ь–µ–і–≤–µ–і–µ–≤–∞ –љ–µ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є. –Ю–љ —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї —Б–µ–±—П –≥–µ—А–Њ–µ–Љ, –њ–Є—Б–∞–ї —Б—В–Є—Е–Є –Є –і–Њ–±—А–Њ—Б–Њ–≤–µ—Б—В–љ–Њ —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –≤–Њ –≤—Б–µ—Е –і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–∞—Ж–Є—П—Е, –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ—Л—Е ¬Ђ–±–µ–љ–µ—Д–Є—Б–∞–Љ–Є¬ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Ї–∞–і–µ—В—Л –Є–љ–Њ–≥–і–∞ —Г—Б—В—А–∞–Є–≤–∞–ї–Є –≤ —З–µ—Б—В—М –љ–µ –ї—О–±–Є–Љ—Л—Е –Є–Љ–Є –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–≤, –љ–Њ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –Ј–∞–±—Л–≤–∞–ї, —З—В–Њ 10000 —Г –љ–µ–≥–Њ, —В–∞–Ї —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, –≤ –Ї–∞—А–Љ–∞–љ–µ. –Т—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В—Б—П –Њ–і–Є–љ ¬Ђ–±–µ–љ–µ—Д–Є—Б¬ї –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–љ–Њ–Љ—Г –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Г, –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В—Г –Т–∞–ї—М, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Ј–≤–∞–ї–Є –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є –Ы—М–≤–Њ–≤–Є—З, –∞ –Ї–∞–і–µ—В—Л –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –њ—А–Њ—Б—В–Њ ¬Ђ–Т–∞—Б—М–Ї–∞-—Б–≤–Њ–ї–Њ—З—М¬ї –Ј–∞ –µ–≥–Њ —Б—Л—Й–Є—Ж–Ї–Є–µ –љ–∞–Ї–ї–Њ–љ–љ–Њ—Б—В–Є. –Т —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ –ї–µ—В–∞ ¬Ђ–Т–∞—Б—М–Ї–∞-—Б–≤–Њ–ї–Њ—З—М¬ї –≤–љ–µ–Ј–∞–њ–љ–Њ –Є —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ —Г–µ—Е–∞–ї –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥, –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –±—Л—В—М, –љ–µ –њ–Њ–ї–∞–і–Є–≤ —Б –Ї–Њ–љ—В—А-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–Њ–Љ –Я–ї–µ—Б—Б–µ—А–Њ–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –і–µ—А–ґ–∞–ї —Д–ї–∞–≥ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ –Ї–∞–і–µ—В—Б–Ї–Є–Љ –Њ—В—А—П–і–Њ–Љ —Б—Г–і–Њ–≤ –љ–∞ –љ–∞—И–µ–Љ —Г—З–µ–±–љ–Њ–Љ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ. –Ь—Л –±—Л–ї–Є –Њ—В—З–∞—П–љ–љ–Њ —А–∞–і—Л, –Є –≤–Њ—В –Ь–µ–і–≤–µ–і–µ–≤ –њ—А–Є–Ј–≤–∞–ї –љ–∞—Б –Ї ¬Ђ–±–µ–љ–µ—Д–Є—Б—Г¬ї. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –Т–∞–ї—М —Б–∞–і–Є–ї—Б—П –љ–∞ –Ї–∞—В–µ—А, –Ї–∞–і–µ—В—Л –≤—Л—Б—Г–љ—Г–ї–Є—Б—М –Є–Ј –Є–ї–ї—О–Љ–Є–љ–∞—В–Њ—А–Њ–≤ –Є –Ї—А–Є—З–∞–ї–Є: ¬Ђ—Б—Л—Й–Є–Ї¬ї, ¬Ђ–Т–∞—Б—М–Ї–∞-—Б–≤–Њ–ї–Њ—З—М, –њ—А–Њ—Й–∞–є, –Ї–∞—В–Є—Б—М –Ї —З–µ—А—В—Г¬ї. –Ъ—А–Є–Ї–Є –±—Л–ї–Є –љ–∞—Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≥—А–Њ–Љ–Ї–Є, —З—В–Њ –і–Њ–ї–µ—В–µ–ї–Є –і–Њ –Я–ї–µ—Б—Б–µ—А–∞, –≥—Г–ї—П–≤—И–µ–≥–Њ –љ–∞ —И–Ї–∞–љ—Ж–∞—Е. –Ю–љ –≤–Њ–Ј–Љ—Г—В–Є–ї—Б—П –Є –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї –≤—Л–Ј–≤–∞—В—М –Ї–∞–і–µ—В –Є –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М –љ–∞ –њ–∞–ї—Г–±–µ –≤–Њ —Д—А–Њ–љ—В. –Ъ–∞—В–µ—А —Б –Т–∞–ї–µ–Љ —Г–ґ–µ –Њ—В–≤–∞–ї–Є–ї –Њ—В —В—А–∞–њ–∞. –Ь—Л –Њ–ґ–Є–і–∞–ї–Є –ґ–µ—Б—В–Њ–Ї–Њ–є —А–∞—Б–њ—А–∞–≤—Л. –Я–ї–µ—Б—Б–µ—А, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Ј–≤–∞–ї–Є ¬Ђ–Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є –њ–∞—А—Г—Б–љ–Є–Ї¬ї, –Њ—В–ї–Є—З–∞–ї—Б—П –∞–±—Б–Њ–ї—О—В–љ—Л–Љ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ–Љ –Ї—А–∞—Б–љ–Њ—А–µ—З–Є—П. –Я—А–Њ–є–і—П –њ–Њ —Д—А–Њ–љ—В—Г, –Њ–љ –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї—Б—П –њ–µ—А–µ–і –љ–∞–Љ–Є –Є –њ—А–Њ–Є–Ј–љ—С—Б –Ї—А–∞—В–Ї—Г—О —А–µ—З—М, –≤—Л–Ј–≤–∞–≤—И—Г—О –љ–∞—И –≤–Њ—Б—В–Њ—А–≥ —Б–≤–Њ–Є–Љ –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ—Л–Љ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є–µ–Љ: - –Ґ–∞–Ї –љ–µ–ї—М–Ј—П, —Н—В–Њ —З–µ—А—В –Ј–љ–∞–µ—В, —З—В–Њ —В–∞–Ї–Њ–µ. –†–∞–Ј–≤–µ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —В–∞–Ї –Ї—А–Є—З–∞—В—М –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Г? –Я–Њ–ї–љ–Њ–µ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ –і–Є—Б—Ж–Є–њ–ї–Є–љ—Л! –С–µ–Ј–Њ–±—А–∞–Ј–Є–µ! –Ш –µ—Б–ї–Є —П —Б –≤–∞—Б –љ–µ –≤–Ј—Л—Б–Ї–Є–≤–∞—О, —В–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –Ј–љ–∞—О, —З—В–Њ —Н—В–Њ –Ј–∞ –≥—Г—Б—М! –†–∞–Ј–Њ–є—В–Є—Б—М! –Р —З–µ—А–µ–Ј –і–≤–∞ –і–љ—П –њ—А–Є—Б–ї–∞–ї –љ–∞–Љ –≤ –њ–∞–ї—Г–±—Г –≤ –і–µ–љ—М —Б–≤–Њ–Є—Е –Є–Љ–µ–љ–Є–љ —П–≥–Њ–і –Є –Ї–Њ–љ—Д–µ—В. –°–ї–∞–≤–љ—Л–є –±—Л–ї —Б—В–∞—А–Є–Ї. –Ъ–∞–Ї –±—Л —В–Њ –љ–Є –±—Л–ї–Њ, –Ь–µ–і–≤–µ–і–µ–≤ –±—Л–ї —Б–≤–Њ–µ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і—С–љ –≤ –Љ–Є—З–Љ–∞–љ—Л. –Э–Њ —Н—В–Є 10000 —А—Г–±–ї–µ–є –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є—Б—М –і–ї—П –љ–µ–≥–Њ —А–Њ–Ї–Њ–≤—Л–Љ–Є. –Ю–љ –Є—Е –њ–Њ–ї—Г—З–Є—В—М –љ–µ –Љ–Њ–≥, —Е–Њ—В—П, –њ–Њ–Ї–∞ –±—Л–ї –Ї–∞–і–µ—В–Њ–Љ –Є –≥–∞—А–і–µ–Љ–∞—А–Є–љ–Њ–Љ, –њ–Є—Б–∞–ї –ґ–∞–ї–Њ–±—Л –≤ –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Б–Ї—Г—О –Ї–∞–љ—Ж–µ–ї—П—А–Є—О –Є –≤–Њ –≤—Б–µ —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Љ–Њ–≥ –љ–∞–і–µ—П—В—М—Б—П –њ–Њ–ї—Г—З–Є—В—М —А–µ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—О —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–Њ–ї–≥–∞. –Я—А–Њ—И–µ–љ–Є–µ –љ–∞ –≤—Л—Б–Њ—З–∞–є—И–µ–µ –Є–Љ—П, –њ–Њ–і–∞–љ–љ–Њ–µ –Є–Љ, –Њ—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М –±–µ–Ј –Њ—В–≤–µ—В–∞. –Ъ–∞–Ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–Њ—Б—М –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ –≤ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Л, –Ь–µ–і–≤–µ–і–µ–≤ –≤–Љ–µ—Б—В–Њ –Њ—В–њ—Г—Б–Ї–∞ –њ–Њ–µ—Е–∞–ї –≤ –С–µ–ї–Њ–≤–µ–ґ—Б–Ї—Г—О –њ—Г—Й—Г, –≥–і–µ –≤ —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П —Ж–∞—А—М –Њ—Е–Њ—В–Є–ї—Б—П.  –Я–Њ–њ—Л—В–Ї–∞ –њ–Њ–њ–∞—Б—В—М –Ї —Ж–∞—А—О –µ–Љ—Г –љ–µ —Г–і–∞–ї–∞—Б—М. –Ю–љ –±—Л–ї –∞—А–µ—Б—В–Њ–≤–∞–љ –Є –њ–Њ–і –Ї–Њ–љ–≤–Њ–µ–Љ –ґ–∞–љ–і–∞—А–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–∞ –і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ –≤ –Ъ—А–Њ–љ—И—В–∞–і—В —Б –±—Г–Љ–∞–≥–Њ–є –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–Љ—Г –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Г –Є–Ј –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –Ї–≤–∞—А—В–Є—А—Л, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —А–µ–Ї–Њ–Љ–µ–љ–і–Њ–≤–∞–ї–Њ—Б—М –њ—А–Є–љ—П—В—М –њ—А–Њ—В–Є–≤ –Ь–µ–і–≤–µ–і–µ–≤–∞ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–µ –Љ–µ—А—Л, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї —Н—В–Њ—В –Њ—Д–Є—Ж–µ—А, –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, —Б—Г–Љ–∞—Б—И–µ–і—И–Є–є. –Ь–µ–і–≤–µ–і–µ–≤–∞ –њ–Њ—Б–∞–і–Є–ї–Є –≤ –Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –≥–Њ—Б–њ–Є—В–∞–ї—М –љ–∞ –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є–µ. –§–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Њ–љ –њ–Њ–њ–∞–ї –≤ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –љ–µ –ґ–µ–ї–∞–ї –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞—В—М—Б—П –Њ—В —Б–≤–Њ–µ–є –Ј–ї–Њ–≤—А–µ–і–љ–Њ–є –Є–і–µ–Є –њ–Њ–ї—Г—З–Є—В—М —Б —Ж–∞—А—П –Њ–±–µ—Й–∞–љ–љ—Л–µ 10000 —А—Г–±–ї–µ–є. –Т –≥–Њ—Б–њ–Є—В–∞–ї–µ –µ–≥–Њ –њ—А–Њ–і–µ—А–ґ–∞–ї–Є –љ–∞ –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є–Є –Њ–Ї–Њ–ї–Њ –≥–Њ–і–∞, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ –Ї—Г–і–∞-—В–Њ –њ–Њ—Б–∞–і–Є–ї–Є, –Є, —Е–Њ—В—П –Ь–µ–і–≤–µ–і–µ–≤ –Ј–љ–∞—З–Є–ї—Б—П –≤ —Б–њ–Є—Б–Ї–∞—Е –Љ–Є—З–Љ–∞–љ–Њ–≤ —Д–ї–Њ—В–∞, —Б–ї–µ–і –Љ–Њ–µ–≥–Њ –Ј–ї–Њ–њ–Њ–ї—Г—З–љ–Њ–≥–Њ –і—А—Г–≥–∞ –Ј–∞—В–µ—А—П–ї—Б—П. –Ш—В–∞–Ї, –Љ—Л, –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–µ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Л, —Б–ї—Г–ґ–Є–ї–Є –њ–Њ–Ї–∞ –≤ —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–µ, –љ–µ—Б–ї–Є –і–µ–ґ—Г—А—Б—В–≤–∞, –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї–Є—Б—М —Б –љ–Њ–≤–Њ–±—А–∞–љ—Ж–∞–Љ–Є —Б—В—А–Њ–µ–Љ –Є –≥—А–∞–Љ–Њ—В–љ–Њ—Б—В—М—О –Є –ґ–і–∞–ї–Є –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П –љ–∞ —Б—Г–і–∞. –ѓ –Љ–µ—З—В–∞–ї –њ–Њ–њ–∞—Б—В—М –≤ –і–∞–ї—М–љ–µ–≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ—Г—О —Н—Б–Ї–∞–і—А—Г. –°–ї—Г—Е–Є —Б–≤–Є—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–∞ –°–≤—П—В–Њ–і—Г—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–µ–љ—П –Љ–∞–ї–Њ —Б–Љ—Г—Й–∞–ї–Є. –†–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ –Љ–µ–ґ–і—Г –Љ–љ–Њ–є –Є –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–Њ–Љ –±—Л–ї–Њ —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ. –Ш –≤–Њ—В –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ —П –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї —Г–≤–µ–і–Њ–Љ–ї–µ–љ–Є–µ, —З—В–Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ –љ–∞ –±—А–Њ–љ–µ–љ–Њ—Б–µ—Ж ¬Ђ–°–≤—П—В–Њ—Б–ї–∞–≤¬ї –≤–∞—Е—В–µ–љ–љ—Л–Љ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–Љ. –С—А–Њ–љ–µ–љ–Њ—Б—Ж–µ–Љ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–ї —Б–Є–Љ–њ–∞—В–Є—З–љ—Л–є, –њ–Њ –Њ–±—Й–Є–Љ –Њ—В–Ј—Л–≤–∞–Љ, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А, –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ I-–≥–Њ —А–∞–љ–≥–∞ –§–µ–і–Њ—В–Њ–≤, –±—А–∞—В –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ –Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —И—В–∞–±–∞. –≠—Б–Ї–∞–і—А–∞ —Г–ґ–µ —Б—В–Њ—П–ї–∞ –≤ –Ы–Є–±–∞–≤–µ, –Є —П —Г–µ—Е–∞–ї —В—Г–і–∞ –љ–∞ –њ–Њ–µ–Ј–і–µ. –Я–Њ–µ–Ј–і –њ—А–Є—И—С–ї –≤ –Ы–Є–±–∞–≤—Г –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 7 —З–∞—Б–Њ–≤ —Г—В—А–∞. –¶–µ—А–µ–Љ–Њ–љ–Є—П –њ–Њ–і—К—С–Љ–∞ —Д–ї–∞–≥–∞ –Є–Ј-–Ј–∞ –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–≥–Њ —А–∞—Б—Б–≤–µ—В–∞ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М –≤ 9 —З–∞—Б–Њ–≤ —Г—В—А–∞, —В–∞–Ї —З—В–Њ —П —Г—Б–њ–µ–ї –Ї —Н—В–Њ–Љ—Г –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –њ—А–Є–±—Л—В—М –≤ –Я–Њ—А—В –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ III, –≥–і–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П –Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–Ї, –њ—А–Њ–±—А–∞—В—М—Б—П –љ–Є–Ї–µ–Љ –љ–µ –Ј–∞–Љ–µ—З–µ–љ–љ—Л–Љ –љ–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≥—А—Г–Ј–Є–ї —Г–≥–Њ–ї—М, –љ–∞—Б–Ї–Њ—А–Њ –Њ–±–ї–∞—З–Є—В—М—Б—П –≤ –Љ—Г–љ–і–Є—А –Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В—М—Б—П —Б –Њ–±—Л—З–љ–Њ–є —Д–Њ—А–Љ–Њ–є —П–≤–Ї–Є —Б—В–∞—А—И–µ–Љ—Г –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Г –Ъ–Њ–ї–µ—Б–љ–Є–Ї–Њ–≤—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є, –њ—А–Є–љ—П–≤ –Љ–µ–љ—П –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ, –ї—О–±–µ–Ј–љ–Њ –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї –Ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Г.  –Ъ–Њ–ї–µ—Б–љ–Є–Ї–Њ–≤ –±—Л–ї –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Ї, —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ—Л–є, –љ–µ —Б—Г–Љ–∞—В–Њ—И–љ—Л–є, –Ї–∞–Ї –Љ–љ–µ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –љ–Њ–≤—Л–µ —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–Є, –Њ—Д–Є—Ж–µ—А, –љ–Њ —А–∞–≤–љ–Њ–і—Г—И–љ—Л–є –Ї –Љ–Њ—А—О —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї. –Ю–љ –њ–Є—Б–∞–ї –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ –љ–∞—Г—З–љ—Л–є —В—А—Г–і, –≤–Є–і–Є–Љ–Њ, –љ–µ –±—Л–ї ¬Ђ–Љ–∞—А—Б–∞—Д–∞–ї–Є—Б—В–Њ–Љ¬ї, –Ї–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –ї—О–±–Є—В–µ–ї–µ–є –њ–∞—А—Г—Б–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞, –њ—А–Є–љ—П–≤—И–Є–є –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –ї–Є—И—М –і–ї—П –Њ—В–±—Л—В–Є—П —Ж–µ–љ–Ј–∞. –Т –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–Љ, –Ї–∞–Ї –≤—Л—П—Б–љ–Є–ї–Њ—Б—М, –Њ–љ –Љ–µ—З—В–∞–ї –Њ–± —Г—З—С–љ–Њ–є –Ї–∞—А—М–µ—А–µ. –°–≤—П—В–Њ–і—Г—Б–Ї–Є–є –Є –§–µ–і–Њ—В–Њ–≤ –њ—А–Є–љ—П–ї–Є –µ–≥–Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Ї–∞–Ї –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Ї–∞. –Я–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–Њ–Љ –Ъ–Њ–ї–µ—Б–љ–Є–Ї–Њ–≤–∞ –±—Л–ї–Њ —В–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –љ–µ –±–Є–ї –Љ–∞—В—А–Њ—Б–Њ–≤. –У–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є, —З—В–Њ –Њ–љ –±—Г–і—В–Њ –±—Л –њ–Є—Б–∞–ї —В—А–∞–Ї—В–∞—В –Њ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ –±–Њ–µ –≤ —Б—В—А–Њ–µ –Ї—А—Г–≥–∞. –°—В–∞—А—И–Є–Љ –њ–Њ—Б–ї–µ –Ъ–Њ–ї–µ—Б–љ–Є–Ї–Њ–≤–∞ –Є –µ–≥–Њ –Ј–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї–µ–Љ –±—Л–ї –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В –Т—А–∞–≥–Є–љ. –Ю–љ –љ–µ –±—Л–ї —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–Њ–Љ. –Х–≥–Њ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є ¬Ђ–Ф—П–і—П –Т–∞–љ—П¬ї, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –Њ–љ –±—Л–ї —Г–ґ–µ –љ–∞ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ-–ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В—Б–Ї–Њ–Љ –Њ–Ї–ї–∞–і–µ. ¬Ђ–Ф—П–і—П –Т–∞–љ—П¬ї, –і–Њ–ї–≥–Њ–≤—П–Ј—Л–є, –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ –љ–µ—Г–Ї–ї—О–ґ–Є–є, –ґ–Є–ї –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П–Љ–Є –Њ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—П—Е –њ–∞—А—Г—Б–љ–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞. –Ф–∞–ї–µ–µ —И—С–ї —А—П–і –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В–Њ–≤, —Б—В–∞—А—И–Є—Е –Є –Љ–ї–∞–і—И–Є—Е —Б—Г–і–Њ–≤—Л—Е —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–Њ–≤ –Є –Љ–Є—З–Љ–∞–љ–Њ–≤, —Б—А–µ–і–Є –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –±—Л–ї, —Б—В–∞—А—И–µ –Љ–µ–љ—П –њ–Њ –≤—Л–њ—Г—Б–Ї—Г, –≤–µ—Б—С–ї—Л–є –Љ–Є—З–Љ–∞–љ –Ч–Є–Љ–Є–љ. –Ю—Д–Є—Ж–µ—А—Б–Ї–Є–є —Б–Њ—Б—В–∞–≤ –≤–Ї–ї—О—З–∞–ї –Є —Б—Г–і–Њ–≤—Л—Е –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ї–Њ–≤, –љ–µ –Є–Љ–µ—О—Й–Є—Е —З–Є–љ–Њ–≤ –Є –≤–µ–ї–Є—З–∞–µ–Љ—Л—Е –њ–Њ –Ј–≤–∞–љ–Є—О ¬Ђ—Б—В–∞—А—И–Є–є —Б—Г–і–Њ–≤–Њ–є –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ї¬ї, ¬Ђ–Љ–ї–∞–і—И–Є–є¬ї –Є —В–∞–Ї –і–∞–ї–µ–µ. –І–Є–љ—Л, –Є —В–Њ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Є–µ, –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ї–Є –њ–Њ–ї—Г—З–∞–ї–Є –ї–Є—И—М –њ—А–Є –Њ—В—Б—В–∞–≤–Ї–µ. –Я–Њ–≥–Њ–љ—Л –љ–Њ—Б–Є–ї–Є —Г–Ј–µ–љ—М–Ї–Є–µ. –ѓ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –Љ–ї–∞–і—И–Є–Љ —Б—В—А–Њ–µ–≤—Л–Љ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–Љ –Є –њ–Њ–Љ–µ—Б—В–Є–ї—Б—П –≤ –Њ–і–љ–Њ–є –Ї–∞—О—В–µ —Б –Ч–Є–Љ–Є–љ—Л–Љ. –Э–µ –Ј–љ–∞—О, –њ–Њ –Ї–∞–Ї–Њ–є —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є —П –њ–Њ–є–і—Г –і–∞–ї—М—И–µ. –ѓ —Е–Њ—В–µ–ї –±—Л –±—Л—В—М –Є –Љ–Є–љ—С—А–Њ–Љ, –Є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—Б—В–Њ–Љ, –Є —И—В—Г—А–Љ–∞–љ–Њ–Љ, –Є, –њ–Њ–ґ–∞–ї—Г–є, –і–∞–ґ–µ –≤–Њ–і–Њ–ї–∞–Ј–Њ–Љ, –љ–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ —А–µ–≤–Є–Ј–Њ—А–Њ–Љ. –Ч–∞–≤–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–Њ–Љ –љ–µ –≤ –Љ–Њ—С–Љ –≤–Ї—Г—Б–µ, –∞, –Ї—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –њ—А–Њ —А–µ–≤–Є–Ј–Њ—А–Њ–≤ –≤—Б—С –µ—Й—С —Е–Њ–і–Є—В –і—Г—А–љ–∞—П —Б–ї–∞–≤–∞, –≥–Њ–≤–Њ—А—П—В, —З—В–Њ –≤ –Ј–∞–≥—А–∞–љ–Є—З–љ–Њ–Љ –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є–Є –Њ–љ–Є –±–µ—А—Г—В –≤–Ј—П—В–Ї–Є –Њ—В –њ–Њ—Б—В–∞–≤—Й–Є–Ї–Њ–≤, —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В –њ–Њ–і–і–µ–ї—М–љ—Л–µ —Б—З–µ—В–∞ –Є –њ—А. –ѓ –і–∞–ґ–µ —Б–ї—Л—И–∞–ї, —З—В–Њ —А–µ–≤–Є–Ј–Њ—А–Њ–≤ –і–µ–ї—П—В –љ–∞ —В—А–Є —А–∞–Ј—А—П–і–∞: ¬Ђ—А–µ–≤–Є–Ј–Њ—А-–∞–Ї—Г–ї–∞¬ї вАУ –≤—Б—С —Б–µ–±–µ –Є –љ–Є—З–µ–≥–Њ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—О; ¬Ђ—Г–Љ–љ—Л–є —А–µ–≤–Є–Ј–Њ—А¬ї вАУ –Є —Б–µ–±–µ, –Є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—О; –Є ¬Ђ—А–µ–≤–Є–Ј–Њ—А –≥–ї—Г–њ—Л–є¬ї вАУ –љ–Є —Б–µ–±–µ, –љ–Є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—О. –С—Л–≤–∞–ї–Є —Б–ї—Г—З–∞–Є, —З—В–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–µ –∞–≥–µ–љ—В—Л –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞–ї–Є –і–ї—П —Б—Г–і–Њ–≤ –Ї–Њ–љ—В—А–∞–Ї—В—Л –њ–Њ –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Ї–µ –≤—Б–µ—Е –≤–Є–і–Њ–≤ —Б–љ–∞–±–ґ–µ–љ–Є—П, –њ—А–Є—З—С–Љ –Ї–Њ–љ—В—А–∞–Ї—В–Њ–≤—Л–µ —Ж–µ–љ—Л –±—Л–ї–Є –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤—Л—И–µ —А—Л–љ–Њ—З–љ—Л—Е. –Э–∞—И —А–µ–≤–Є–Ј–Њ—А —Н—В–Є–Љ –≤–Њ–Ј–Љ—Г—Й–∞–ї—Б—П –Є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї, —З—В–Њ –≤—Б—С —А–∞–≤–љ–Њ –Њ–љ –±—Г–і–µ—В –±—А–∞—В—М –њ—А–Њ–≤–Є–Ј–Є—О –Є —Г–≥–Њ–ї—М –љ–∞ —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ–Љ —А—Л–љ–Ї–µ. –Т –њ–Њ—А—В–∞—Е –Њ–±—Л—З–љ–Њ –Ј–∞–њ—А–∞—И–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М —Г –Ї–Њ–љ—Б—Г–ї–Њ–≤ —Б–њ—А–∞–≤–Њ—З–љ—Л–µ —Ж–µ–љ—Л –љ–∞ —А—Л–љ–Ї–µ, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Є –і–µ–љ–µ–ґ–љ—Л–є –Ї—Г—А—Б —Д—Г–љ—В–∞ —Б—В–µ—А–ї–Є–љ–≥–Њ–≤ –Є–ї–Є —Д—А–∞–љ–Ї–∞, –њ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Л –њ–Њ–ї—Г—З–∞–ї–Є —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–µ –Є–Ј —А–∞—Б—З—С—В–∞ 4 —Д—А–∞–љ–Ї–∞ –Ј–∞ —А—Г–±–ї—М –Є –Њ–і–Є–љ —Д—Г–љ—В –Ј–∞ 25 —Д—А–∞–љ–Ї–Њ–≤. –≠—В–Њ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Њ—Б—М —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–µ –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–Љ. –Ю—В –Ъ–Њ–ї–µ—Б–љ–Є–Ї–Њ–≤–∞ —П –њ—А–Є—И—С–ї –Ї –§–µ–і–Њ—В–Њ–≤—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Б–Є–і–µ–ї –≤ —Б–≤–Њ—С–Љ —Б–∞–ї–Њ–љ–µ –≤ —А–∞—Б—Б—В—С–≥–љ—Г—В–Њ–Љ –Ї–Є—В–µ–ї–µ –Є –≤ –Љ—П–≥–Ї–Є—Е —В—Г—Д–ї—П—Е. –Ю–љ –њ—А–Є–љ—П–ї –Љ–µ–љ—П –њ—А–Є–≤–µ—В–ї–Є–≤–Њ –Є –і—А—Г–ґ–µ—Б–Ї–Є. –§–µ–і–Њ—В–Њ–≤ –±—Л–ї –ї—Л—Б, —В—Г—З–µ–љ –Є –љ–µ –Є–Љ–µ–ї –≤–Є–і–∞ –ї–Є—Е–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–∞. –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї –Љ–љ–µ —Б—В–∞–Ї–∞–љ –Ї—А–µ–њ–Ї–Њ–≥–Њ —З–∞—П —Б —А–Њ–Љ–Њ–Љ –Є –њ–µ—З–µ–љ—М–µ–Љ –Є –љ–∞—З–∞–ї —А–∞—Б—Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞—В—М –Њ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–µ, –≥–і–µ —Г—З–Є–ї—Б—П –µ–≥–Њ –њ–ї–µ–Љ—П–љ–љ–Є–Ї. –Ъ–Њ–µ-–Ї–∞–Ї–Є–µ —Б–ї—Г—Е–Є –Њ —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–Љ –Ї—А–µ–і–Є—В–Њ—А–µ –і–Њ –љ–µ–≥–Њ –і–Њ—И–ї–Є, –Є —П –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Г –≤—Б—О –Є—Б—В–Њ—А–Є—О –Ь–µ–і–≤–µ–і–µ–≤–∞. –§–µ–і–Њ—В–Њ–≤ –і–Њ–ї–≥–Њ —Е–Њ—Е–Њ—В–∞–ї. –Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –≤—Л—А–∞–Ј–Є–≤ –љ–∞–і–µ–ґ–і—Г, —З—В–Њ —П –±—Г–і—Г —Б–ї—Г–ґ–Є—В—М –і–Њ–±—А–Њ—Б–Њ–≤–µ—Б—В–љ–Њ, –Њ–љ –Љ–µ–љ—П –Њ—В–њ—Г—Б—В–Є–ї. –Т –Ї–∞—О—В-–Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є–Є —П —Г–Ј–љ–∞–ї, —З—В–Њ –°–≤—П—В–Њ–і—Г—Б–Ї–Є–є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —А–∞–Ј –±—Л–ї –љ–∞ ¬Ђ–°–≤—П—В–Њ—Б–ї–∞–≤–µ¬ї –Є –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞–ї—Б—П, –≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–Љ, —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ, –њ–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—О –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞, –±—А–Њ–љ–µ–љ–Њ—Б–µ—Ж –Љ–Њ–ґ–µ—В –њ—А–Є–љ—П—В—М –≤–Њ–і—Л –Є —Г–≥–ї—П. –Р –Ї–Њ–≥–і–∞ –§–µ–і–Њ—В–Њ–≤ –љ–∞–Ј–≤–∞–ї –µ–Љ—Г —Ж–Є—Д—А—Л, –≤–њ–∞–ї –≤ —П—А–Њ—Б—В—М –Є –Ј–∞–Ї—А–Є—З–∞–ї: вАУ –Э–µ–≤–µ—А–љ–Њ, —А–∞—Б—Б—З–Є—В—Л–≤–∞–є—В–µ, —З—В–Њ –≤–∞–Љ –љ—Г–ґ–љ–Њ –±—Г–і–µ—В –њ—А–Є–љ—П—В—М –≤–і–≤–Њ–µ –Є–ї–Є –≤—В—А–Њ–µ –±–Њ–ї—М—И–µ –Є –≤–Њ–і—Л, –Є —Г–≥–ї—П! –Ь—Л –љ–µ —И—Г—В–Ї–Є —И—Г—В–Є–Љ, –∞ –Є–і—С–Љ –≤ –і–∞–ї—М–љ–Є–є –њ–Њ—Е–Њ–і! вАУ –Ф–∞ –Ї—Г–і–∞ –ґ–µ —П –і–µ–љ—Г —Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤–Њ–і—Л –Є —Г–≥–ї—П, вАУ —Г–ґ–∞—Б–љ—Г–ї—Б—П –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А, вАУ –±—А–Њ–љ–µ–љ–Њ—Б–µ—Ж –Љ–Њ–ґ–µ—В –њ–Њ—В–µ—А—П—В—М –Њ—Б—В–Њ–є—З–Є–≤–Њ—Б—В—М, –љ–∞ –њ–∞–ї—Г–±–µ –љ–µ–ї—М–Ј—П –±—Г–і–µ—В –њ–Њ–≤–µ—А–љ—Г—В—М—Б—П, –њ—Г—И–µ—З–љ—Л–µ –њ–Њ—А—В–∞ —Г–є–і—Г—В –≤ –≤–Њ–і—Г, –і–љ–Њ –Њ—В –Є–Ј–ї–Є—И–Ї–∞ –≤–Њ–і—Л –Љ–Њ–ґ–µ—В –њ—А–Њ–≥–љ—Г—В—М—Б—П. вАУ –С—Г–і–µ—В–µ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ—П—В—М –Љ–Њ–Є —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є—П, –∞ –љ–µ —Б–≤–Њ–Є —А–∞–Ј–Љ—Л—И–ї–µ–љ–Є—П, –∞ –љ–µ —В–Њ —П –њ—А–Њ–≥–Њ–љ—О –≤–∞—Б –±–µ–Ј –Ј–∞—Е–Њ–і–∞ –≤ –њ–Њ—А—В—Л –і–Њ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –Я–Њ—А—В-–Р—А—В—Г—А–∞! –Т—Л, –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, –і—Г–Љ–∞–µ—В–µ, —З—В–Њ –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є–µ вАУ —Н—В–Њ —Г–≤–µ—Б–µ–ї–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П –њ—А–Њ–≥—Г–ї–Ї–∞ –љ–∞ —П—Е—В–µ. –° —А–∞–Ј–і—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –Є –Ј–ї–Њ–±–Њ–є –°–≤—П—В–Њ–і—Г—Б–Ї–Є–є –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї –љ–∞ –§–µ–і–Њ—В–Њ–≤–∞. вАУ –ѓ –љ–∞—Г—З—Г –Т–∞—Б, –Ї–∞–Ї –љ–∞–і–Њ —Б–ї—Г–ґ–Є—В—М! –Ю–љ —Г–µ—Е–∞–ї, –Њ—Б—В–∞–≤–Є–≤ —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ ¬Ђ–°–≤—П—В–Њ—Б–ї–∞–≤–∞¬ї –≤ –њ–∞–љ–Є–Ї–µ.  –Ъ–Њ—А–∞–±–ї–Є –≤—Л—Е–Њ–і–Є–ї–Є –≤ –Љ–Њ—А–µ –і–ї—П –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є—П —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В–µ–є, —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –і–µ–≤–Є–∞—Ж–Є–Є –Ї–Њ–Љ–њ–∞—Б–Њ–≤ –Є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –≤—Б–µ—Е —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В–Њ–≤ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П, —В. –µ. –µ–≥–Њ –њ–Њ–≤–Њ—А–Њ—В–ї–Є–≤–Њ—Б—В–Є, —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Е–Њ–і–∞, –Ї—А–µ–љ–∞, —Ж–Є—А–Ї—Г–ї—П—Ж–Є–Є, –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, –њ–Њ—В—А–µ–±–љ–Њ–≥–Њ –і–ї—П –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–∞ —Б –њ–µ—А–µ–і–љ–µ–≥–Њ —Е–Њ–і–∞ –љ–∞ –Ј–∞–і–љ–Є–є —Е–Њ–і, –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –≤—Б–µ—Е –њ—А–Є–±–Њ—А–Њ–≤ —Б –њ–Њ–ї–љ–Њ–є –љ–∞–≥—А—Г–Ј–Ї–Њ–є, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–∞ —Г—З–µ–±–љ—Л–µ –Є –±–Њ–µ–≤—Л–µ —Б—В—А–µ–ї—М–±—Л. –Т—Л—Е–Њ–і–Є–ї –Є ¬Ђ–°–≤—П—В–Њ—Б–ї–∞–≤¬ї. –Я–Њ–љ–µ–Љ–љ–Њ–≥—Г –Ї–Њ—А–∞–±–µ–ї—М–љ–∞—П –ґ–Є–Ј–љ—М –љ–∞–ї–∞–ґ–Є–≤–∞–ї–∞—Б—М, –Є –ї–Є—З–љ—Л–є —Б–Њ—Б—В–∞–≤ –≤—В—П–≥–Є–≤–∞–ї—Б—П –≤ —Б–ї—Г–ґ–±—Г, –љ–∞–ї–∞–ґ–Є–≤–∞—П –µ—С —З—С—В–Ї–Є–є —В–µ–Љ–њ. –Я—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В. –Ю–±—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ –Ї –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Є–Ї–∞–Љ –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е —Г—З–Є–ї–Є—Й. 65-–ї–µ—В–љ–µ–Љ—Г —О–±–Є–ї–µ—О –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞, 60-–ї–µ—В–Є—О –њ–µ—А–≤—Л—Е –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–Њ–≤ –Ґ–±–Є–ї–Є—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –†–Є–ґ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е —Г—З–Є–ї–Є—Й –њ–Њ—Б–≤—П—Й–∞–µ—В—Б—П.–Я–Њ–ґ–∞–ї—Г–є—Б—В–∞, –љ–µ –Ј–∞–±—Л–≤–∞–є—В–µ —Б–Њ–Њ–±—Й–∞—В—М —Б–≤–Њ–Є–Љ –Њ–і–љ–Њ–Ї–∞—И–љ–Є–Ї–∞–Љ –Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –љ–∞—И–µ–≥–Њ –±–ї–Њ–≥–∞, –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е —Г—З–Є–ї–Є—Й, –Њ –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є–Є –љ–Њ–≤—Л—Е –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є–є. –°–Њ–Њ–±—Й–∞–є—В–µ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Њ —Б–µ–±–µ –Є —Б–≤–Њ–Є—Е –Њ–і–љ–Њ–Ї–∞—И–љ–Є–Ї–∞—Е, –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞—В–µ–ї—П—Е: –≥–Њ–і—Л –Є –Љ–µ—Б—В–∞ —Б–ї—Г–ґ–±—Л, —Г—З–µ–±—Л, –њ–Њ–≤—Л—И–µ–љ–Є—П –Ї–≤–∞–ї–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є, –Љ–µ—Б—В–Њ —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П, –ґ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞, –Є–љ—Л–µ –±–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П. –Ь—Л —Б—В—А–µ–Љ–Є–Љ—Б—П —Б–Њ–±—А–∞—В—М –≤—Б–µ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л–µ –і–∞–љ–љ—Л–µ –Њ –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Є–Ї–∞—Е, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞—Е, –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В–µ–ї—П—Е –≤—Б–µ—Е —В—А–µ—Е –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е —Г—З–Є–ї–Є—Й. –Я—А–Њ—Б—М–±–∞ –њ—А–Є—Б—Л–ї–∞—В—М –≤—Б–µ, —З–µ–Љ —Б—З–Є—В–∞–µ—В–µ –≤–њ—А–∞–≤–µ –њ–Њ–і–µ–ї–Є—В—М—Б—П, –≤—Б–µ, —З—В–Њ, –њ–Њ –Т–∞—И–µ–Љ—Г –Љ–љ–µ–љ–Є—О, –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –љ–∞–є—В–Є –Њ—В—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –≤ –љ–∞—И–µ–є –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є. –Т–µ—А—О–ґ—Б–Ї–Є–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Т–Э–Р), –У–Њ—А–ї–Њ–≤ –Ю–ї–µ–≥ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Ю–Р–У), –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З (–Ь–Т–Т), –Ъ–°–Т. 198188. –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥, —Г–ї. –Ь–∞—А—И–∞–ї–∞ –У–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤–∞, –і–Њ–Љ 11/3, –Ї–≤. 70. –Ъ–∞—А–∞—Б–µ–≤ –°–µ—А–≥–µ–є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З, –∞—А—Е–Є–≤–∞—А–Є—Г—Б. karasevserg@yandex.ru
06.11.200908:3106.11.2009 08:31:32
0
05.11.200909:0305.11.2009 09:03:56
–Ъ–Р–Ъ–Р–ѓ –°–Ы–£–Ц–С–Р –Ш–Э–Ґ–Х–†–Х–°–Э–Х–Щ?–Ъ—Г—А—Б–∞–љ—В—Б–Ї–Є–µ –≥–Њ–і—Л. –Я–µ—А–≤—Л–µ –і–≤–∞ –Ї—Г—А—Б–∞. –Т —Г—З–µ–±–µ - –Ї—А–µ–љ –љ–∞ –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є–µ –Њ–±—Й–Є—Е –і–ї—П –≤—Б–µ—Е —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –≤—Г–Ј–Њ–≤ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–≤: –≤—Л—Б—И–µ–є –Љ–∞—В–µ–Љ–∞—В–Є–Ї–Є, —Д–Є–Ј–Є–Ї–Є, —Е–Є–Љ–Є–Є, –љ–∞—З–µ—А—В–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –≥–µ–Њ–Љ–µ—В—А–Є–Є, —В–µ–Њ—А–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ї–Є, –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞. –Э–Њ –љ–∞–≤–Є–≥–∞—Ж–Є—П, —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–Њ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П, –Љ–Њ—А—Б–Ї–∞—П –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–∞ –Є –і—А—Г–≥–Є–µ "—Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ" –њ—А–µ–і–Љ–µ—В—Л –њ—А–Є–і–∞—О—В —Г—З–µ–±–µ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –љ–Њ–≤—Л–є –≤–Ї—Г—Б. –Т—Б–µ –≥–ї—Г–±–ґ–µ –Є –≥–ї—Г–±–ґ–µ –≤–≥—А—Л–Ј–∞–µ–Љ—Б—П –≤ –Љ–Њ—А—Б–Ї—Г—О —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М. –Т –љ–∞—И–Є —А—П–і—Л –њ–ї–∞–≤–љ–Њ –≤–ї–Є–ї–Є—Б—М –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Є–Ї–Є –†–Є–ґ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞. –Х—Б—В—М –љ–∞ –љ–∞—И–µ–Љ –Ї—Г—А—Б–µ –Є –Њ–і–Є–љ –≤–Ј–≤–Њ–і, –њ—А–Є–Ј–≤–∞–љ–љ—Л–є —Б "–≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–Ї–Є". –Э–Є–Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ –∞–љ—В–∞–≥–Њ–љ–Є–Ј–Љ–∞ –Ь–µ–ґ–і—Г –љ–∞–Љ–Є –љ–µ—В. –Т–Њ–Њ–±—Й–µ –љ–∞—И–µ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ –Є–Љ–µ–µ—В —Е–Њ—А–Њ—И—Г—О —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—О –і—А—Г–ґ–±—Л —Б—В–∞—А—И–Є—Е –Є –Љ–ї–∞–і—И–Є—Е, —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—О –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –Њ–±—Й–љ–Њ—Б—В–Є. –Э–µ —Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, –≤–µ–і—М –љ–∞—З–Є–љ–∞—П —Б 1947 –≥–Њ–і–∞ –љ–∞—И –Ї—Г—А—Б, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –ґ–Є–≤–µ—В –Є —Г—З–Є—В—Б—П –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –і–≤—Г–Љ—П –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б—В–∞—А—И–Є–Љ–Є –Ї—Г—А—Б–∞–Љ–Є. –Ш–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ, —З—В–Њ –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ—Л–µ, –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–µ –≤—Б–µ–Љ—Г —Г—З–Є–ї–Є—Й—Г —Д–Є–≥—Г—А—Л —Б—В–∞–ї–Є –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В—Л–Љ–Є –Є –њ–Њ—Б–ї–µ –µ–≥–Њ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є—П. –Я–Њ—З—В–Є –≤—Б–µ–Љ –±—Л–ї –Є–Ј–≤–µ—Б—В–µ–љ –Т–Є—В—П –®—В–µ–є–љ–±–µ—А–≥, –≤–µ—З–љ–Њ "–≤–Є—Б—П—Й–Є–є" –љ–∞ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ —В–µ–ї–µ—Д–Њ–љ–µ-–∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В–µ –≤ –≤–µ—Б—В–Є–±—О–ї–µ –Ї–ї—Г–±–∞. –Ґ–µ–њ–µ—А—М —Н—В–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–є –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М –Т–Є–Ї—В–Њ—А –Ъ–Њ–љ–µ—Ж–Ї–Є–є. –Т—Б–µ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ –Ј–љ–∞–ї–Њ –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ–∞ –Ь–∞–Ї–∞—А–Њ–≤–∞, –Њ–±–∞—П—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ, –і–∞–ґ–µ –Ї—А–∞—Б–Є–≤–Њ–≥–Њ, –≤—Б–µ–≥–і–∞ –≤ —В—Й–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ–Њ–і–Њ–≥–љ–∞–љ–љ–Њ–є —Д–Њ—А–Љ–µ —О–љ–Њ—И—Г. –≠—В–Њ—В —О–љ–Њ—И–∞ –і–Њ—Б—В–Є–≥ –±–Њ–ї—М—И–Є—Е –≤—Л—Б–Њ—В –≤ —Б–ї—Г–ґ–±–µ, —Г—И–µ–ї –≤ –Ј–∞–њ–∞—Б —Б –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ –У–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ —И—В–∞–±–∞ –Т–Ь–§.  вАУ –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї—Л –Є –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї—Л –Т–Ь–§, —З–ї–µ–љ—Л –њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П, –њ–Њ–њ–µ—З–Є—В–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–≤–µ—В–∞, –њ–Њ—З–µ—В–љ—Л–µ —З–ї–µ–љ—Л –Є –Є—Б–њ–Њ–ї–Ї–Њ–Љ ¬Ђ–Ъ–ї—Г–±–∞ –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–Њ–≤¬ї –љ–∞ –≤—Е–Њ–і–µ –≤ –≥–ї–∞–≤–љ—Л–є —И—В–∞–± –Т–Ь–§ 07 –Љ–∞—П 2007 –≥., —Б–ї–µ–≤–∞ –љ–∞–њ—А–∞–≤–Њ: –Я–µ—А–≤—Л–є —А—П–і: –Т–Є—Ж–µ-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤ –Ѓ—А–Є–є –У–µ–Њ—А–≥–Є–µ–≤–Є—З, –Р–і–Љ–Є—А–∞–ї —Д–ї–Њ—В–∞ –У—А–Њ–Љ–Њ–≤ –§–µ–ї–Є–Ї—Б –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З, –Р–і–Љ–Є—А–∞–ї —Д–ї–Њ—В–∞ –Ъ–∞–њ–Є—В–∞–љ–µ—Ж –Ш–≤–∞–љ –Ь–∞—В–≤–µ–µ–≤–Є—З, –Р–і–Љ–Є—А–∞–ї —Д–ї–Њ—В–∞ –Ъ—Г—А–Њ–µ–і–Њ–≤ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З, –Р–і–Љ–Є—А–∞–ї —Д–ї–Њ—В–∞ –Ь–∞—Б–Њ—А–Є–љ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З, –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–µ–љ–Ї–Њ –Э–Є–љ–∞ –Р–љ–∞—В–Њ–ї—М–µ–≤–љ–∞, –Р–і–Љ–Є—А–∞–ї —Д–ї–Њ—В–∞ –Ь–∞–Ї–∞—А–Њ–≤ –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ–Њ–≤–Є—З... –С—Л–ї –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В –Є –Њ–і–Є–љ –Є–Ј "–∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Ж–µ–≤" - –Ы–µ—И–∞ –Ъ–Є—А–љ–Њ—Б–Њ–≤, –њ–Њ—Н—В, –і–∞–ґ–µ –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—В–Њ—А, —Б—В–∞–≤—И–Є–є –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ –Ї–Њ–љ—Ж–Њ–≤ –Њ—З–µ–љ—М —Е–Њ—А–Њ—И–Є–Љ –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї–µ–Љ. –Ъ —Б–Њ–ґ–∞–ї–µ–љ–Є—О, –Ы–µ—И–∞ —А–∞–љ–Њ —Г—И–µ–ї –Є–Ј –ґ–Є–Ј–љ–Є. –Т 1952 –≥–Њ–і—Г —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Њ –≤ –Я–µ—А–≤–Њ–Љ–∞–є—Б–Ї–Њ–Љ –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –њ–∞—А–∞–і–µ. –Х—Й–µ –ґ–Є–ї "–Њ—В–µ—Ж –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤", –Є, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ –ґ–µ, –њ—А–Њ—Е–Њ–і—П –њ–Њ –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–є –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Є, –Љ—Л —Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞ –љ–µ–≥–Њ –Є –љ–∞ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –У–µ—А–∞—Б–Є–Љ–Њ–≤–Є—З–∞ –Ъ—Г–Ј–љ–µ—Ж–Њ–≤–∞. –Я—А–Њ—И–ї–Є –Љ—Л —В–Њ–≥–і–∞ –њ–Њ –±—А—Г—Б—З–∞—В–Ї–µ –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Є "–љ–∞ –Њ—В–ї–Є—З–љ–Њ". –Э–∞ –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї—Г –Љ—Л –µ–Ј–і–Є–ї–Є –љ–∞ –°–µ–≤–µ—А. –Ы–µ—В–Њ–Љ 1951 –≥–Њ–і–∞ - –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–∞ –љ–∞ –±—А–Є–≥–∞–і–µ –Ю—Е—А–∞–љ—Л –≤–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–є–Њ–љ–∞ (–Ю–Т–†–∞). –Ґ–∞–Љ –Љ—Л –Є–Љ–µ–ї–Є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –њ–Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є—В—М—Б—П —Б —В–µ–Љ–Є —Б–∞–Љ—Л–Љ–Є, –њ–Њ —В–Њ–≥–і–∞—И–љ–µ–є –Ї–ї–∞—Б—Б–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є, –С–Њ–ї—М—И–Є–Љ–Є –Њ—Е–Њ—В–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –Ј–∞ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–Љ–Є –ї–Њ–і–Ї–∞–Љ–Є, —В–µ–Љ–Є —Б–∞–Љ—Л–Љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Г—Е–Є—В—А–Є–ї—Б—П –њ–µ—А–µ–≥–љ–∞—В—М –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –≤–Њ–є–љ—Л –Є–Ј –Р–Љ–µ—А–Є–Ї–Є –љ–∞—И –Њ–±–Њ–ґ–∞–µ–Љ—Л–є —В–Њ–≥–і–∞—И–љ–Є–є –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞ - –Ї–Њ–љ—В—А-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї –С–Њ—А–Є—Б –Т–Є–Ї—В–Њ—А–Њ–≤–Є—З –Э–Є–Ї–Є—В–Є–љ. –Я—А–∞–Ї—В–Є–Ї–∞ –ї–µ—В–∞ 1952 –≥–Њ–і–∞ –±—Л–ї–∞ –љ–µ–Њ–±—Л—З–љ–Њ–є. –Ч–∞ —В—А–Є –Љ–µ—Б—П—Ж–∞ –љ–∞–Љ –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –і—Г–±–ї–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –Љ–ї–∞–і—И–Є—Е —Б—В–∞—А—И–Є–љ (–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–≤ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є–є) –љ–∞ –Ї—А–µ–є—Б–µ—А–∞—Е, —Н—Б–Љ–Є–љ—Ж–∞—Е, –±–Њ–ї—М—И–Є—Е –Њ—Е–Њ—В–љ–Є–Ї–∞—Е –Ј–∞ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–Љ–Є –ї–Њ–і–Ї–∞–Љ–Є (–љ–∞ —Н—В–Њ—В —А–∞–Ј - –Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞), —В—А–∞–ї—М—Й–Є–Ї–∞—Е –Є –і–∞–ґ–µ –њ–Њ–ї–µ—В–∞—В—М –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –љ–∞–±–ї—О–і–∞—В–µ–ї–µ–є –љ–∞ —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В–∞—Е –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є —А–∞–Ј–≤–µ–і–Ї–Є. –Э–Њ —Б–∞–Љ–Њ–µ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–µ - –і–≤–µ –љ–µ–і–µ–ї–Є –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–Є –Љ—Л –њ—А–Њ–≤–µ–ї–Є –љ–∞ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Ї–∞—Е! –Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –і–≤–µ –љ–µ–і–µ–ї–Є - —Н—В–Њ –љ–µ —Б—А–Њ–Ї, –љ–Њ —З–µ–Љ-—В–Њ —Б–ї—Г–ґ–±–∞ –љ–∞ —Н—В–Є—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П—Е –Њ—З–∞—А–Њ–≤–∞–ї–∞ –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –Є–Ј –љ–∞—Б. –Ю—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, –і–µ–ї–Њ –±—Л–ї–Њ –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —Б–ї—Г–ґ–±–∞ –љ–∞ –ї–Њ–і–Ї–∞—Е –≤—Л–≥–Њ–і–љ–Њ –Њ—В–ї–Є—З–∞–ї–∞—Б—М –Њ—В –Ї—А–µ–є—Б–µ—А—Б–Ї–Њ–є –Љ—Г—И—В—А—Л –Є –і–∞–ґ–µ –Љ–Є–љ–Њ–љ–Њ—Б–љ–Њ–є "–ї–Є—Е–Њ—Б—В–Є" —Б–≤–Њ–µ–є –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ –Њ—Б–Њ–±–Њ–є –і—Г—И–µ–≤–љ–Њ–є –і—А—Г–ґ–±–Њ–є —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–µ–є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є. –Ь–Њ–љ–Њ—В–Њ–љ–љ–Њ–µ –≥–∞–ї—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –љ–∞ –Љ–Є–љ–љ—Л—Е –њ–Њ–ї—П—Е "–њ–∞—Е–∞—А–µ–є –Љ–Њ—А—П" - —В—А–∞–ї—М—Й–Є–Ї–Њ–≤, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ –ґ–µ, –љ–µ –≤—Л–Ј—Л–≤–∞–ї–Њ –Њ—Б–Њ–±–Њ–≥–Њ –Њ—В–Ї–ї–Є–Ї–∞ –≤ –љ–∞—И–Є—Е –Љ–Њ–ї–Њ–і—Л—Е, –Ї–Є–њ—П—Й–Є—Е —Н–љ–µ—А–≥–Є–µ–є –і—Г—И–∞—Е. –Р –±–µ–Ј—Г—Б–њ–µ—И–љ—Л–є –њ–Њ–Є—Б–Ї –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї –Њ—Е–Њ—В–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–Њ–±–∞–≤–Є–ї –љ–∞—И–µ–≥–Њ —Г–≤–∞–ґ–µ–љ–Є—П –Ї "–Ї–Њ—А–∞–±–ї—П–Љ-—В–µ–љ—П–Љ", –±–µ—Б—И—Г–Љ–љ–Њ –Є –њ–Њ—З—В–Є –±–µ–Ј–љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ —Б–Ї–Њ–ї—М–Ј—П—Й–Є–Љ –≤ –≥–ї—Г–±–Є–љ–∞—Е –Љ–Њ—А–µ–є... –Т–Њ –≤—Б—П–Ї–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ, –≤ —В–Њ–≤–∞—А–љ—Л—Е –≤–∞–≥–Њ–љ–∞—Е, –Є–Љ–µ–љ—Г–µ–Љ—Л—Е –≤ –љ–∞—А–Њ–і–µ "—В–µ–ї—П—В–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є" (–∞ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ —В–∞–Ї–Є—Е "–Ї–Њ–Љ—Д–Њ—А—В–∞–±–µ–ї—М–љ—Л—Е" —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞—Е –њ–µ—А–µ–і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П –њ–Њ –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–Љ –і–Њ—А–Њ–≥–∞–Љ —Б—В—А–∞–љ—Л –љ–∞—Б —В–Њ–≥–і–∞ –≤–Њ–Ј–Є–ї–Є), —Б–њ–Њ—А—Л –Њ —В–Њ–Љ, –љ–∞ –Ї–∞–Ї–Є—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П—Е –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–µ–µ —Б–ї—Г–ґ–Є—В—М, –љ–µ –Ј–∞—В–Є—Е–∞–ї–Є –Њ—В –Ь—Г—А–Љ–∞–љ—Б–Ї¬ї –і–Њ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–∞!  –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ —Г–ґ–µ –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ —Г—З–µ–±–љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ–і–∞ —Б–њ–Њ—А—Л –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —В–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї–∞—П —Б–ї—Г–ґ–±–∞ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–µ–µ, –±—Л–ї–Є —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ—Л. –Ю—В–≥—Г–ї—П–≤ —Б–≤–Њ–є –Њ—З–µ—А–µ–і–љ–Њ–є –Њ—В–њ—Г—Б–Ї —Б —В—А–µ–Љ—П –Ј–Њ–ї–Њ—В—Л–Љ–Є "–Ї—Г—А—Б–Њ–≤–Ї–∞–Љ–Є" –љ–∞ –ї–µ–≤—Л—Е —А—Г–Ї–∞–≤–∞—Е —Б—Г–Ї–Њ–љ–Њ–Ї, –Љ—Л –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–Є–ї–Є—Б—М –≤ —А–Њ–і–љ—Л–µ —Б—В–µ–љ—Л –±—Л–≤—И–µ–≥–Њ –њ—А–Є—О—В–∞, –≤ –њ–µ—А–µ—Г–ї–Ї–µ, –њ–µ—А–µ–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–Љ –≤ –Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–є. –Э–∞—Б –Њ–ґ–Є–і–∞–ї–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–Є–µ –Њ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є–Є —Д–∞–Ї—Г–ї—М—В–µ—В–Њ–≤. –Ф–Њ –Њ—Б–µ–љ–Є 1952 –≥–Њ–і–∞ –≤—Б–µ —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ—Л–µ "—Б—В—А–Њ–µ–≤—Л–µ" –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–µ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞ –≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї–Є –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤ —И–Є—А–Њ–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—Д–Є–ї—П - –≤–∞—Е—В–µ–љ–љ—Л—Е –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤. –Т—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Є–Ї —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞, –њ—А–Є–±—Л–≤ –љ–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М, –Љ–Њ–≥ –±—Л—В—М –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ —И—В—Г—А–Љ–∞–љ–Њ–Љ, –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—Б—В–Њ–Љ, –Љ–Є–љ–µ—А–Њ–Љ –Є –і–∞–ґ–µ —Б–≤—П–Ј–Є—Б—В–Њ–Љ –Є–ї–Є —Е–Є–Љ–Є–Ї–Њ–Љ, —Б–Љ–Њ—В—А—П –њ–Њ —В–Њ–Љ—Г, –Ї–∞–Ї–∞—П –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В—М –±—Л–ї–∞ –≤–∞–Ї–∞–љ—В–љ–Њ–є. –Ґ–µ–њ–µ—А—М –ґ–µ –Є–Ј –љ–∞—Б —А–µ—И–Є–ї–Є –≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В—М —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–Њ–≤ –Ј–∞—А–∞–љ–µ–µ: —В–µ—Е–љ–Є–Ї–∞ —Г—Б–ї–Њ–ґ–љ—П–ї–∞—Б—М, –Є –≤ –≤–Њ–Ј–і—Г—Е–µ —Г–ґ–µ –≤–Є—В–∞–ї–∞ –Љ—Л—Б–ї—М –Њ–± –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ–Њ–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –і–ї—П –≤—Б–µ—Е –Ї–Њ—А–∞–±–µ–ї—М–љ—Л—Е –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤. –° –љ–∞–Љ–Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї–Њ –њ—А–Њ—Б—В–Њ: –Њ–і–љ—Г —А–Њ—В—Г –Ј–∞—З–Є—Б–ї–Є–ї–Є –љ–∞ —И—В—Г—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–Є–є, –∞ –і—А—Г–≥—Г—О, –Ї—Г–і–∞ –њ–Њ–њ–∞–ї –Є —П, –љ–∞ –Љ–Є–љ–љ–Њ-—В–Њ—А–њ–µ–і–љ—Л–є —Д–∞–Ї—Г–ї—М—В–µ—В. –Я—А–∞–≤–і–∞, –Њ—Б–Њ–±–Њ –љ–∞—Б—В–Њ–є—З–Є–≤—Л–Љ –њ–Њ—И–ї–Є –љ–∞–≤—Б—В—А–µ—З—Г. –Ґ—А–Є –Є–ї–Є —З–µ—В—Л—А–µ –Ї—Г—А—Б–∞–љ—В–∞ –љ–∞—И–µ–≥–Њ –і—А—Г–ґ–љ–Њ–≥–Њ –≤–Ј–≤–Њ–і–∞ "–њ–Њ–і–∞–ї–Є—Б—М" –≤ —И—В—Г—А–Љ–∞–љ–∞. –Ю—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–µ –і–Њ–≤–µ—А–Є–ї–Є —Б–≤–Њ–Є —Б—Г–і—М–±—Л –љ–∞—З–∞–ї—М—Б—В–≤—Г –Є –њ—А–Є—Б—В—Г–њ–Є–ї–Є –Ї –±–Њ–ї–µ–µ –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ–Љ—Г –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є—О —В–Њ—А–њ–µ–і, –Љ–Є–љ, –њ—А–Є–±–Њ—А–Њ–≤ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П —В–Њ—А–њ–µ–і–љ–Њ–є —Б—В—А–µ–ї—М–±–Њ–є, –≥–ї—Г–±–Є–љ–љ—Л—Е –±–Њ–Љ–± –Є –±–Њ–Љ–±–Њ–Љ–µ—В–Њ–≤, –Ї–Њ–љ—В–∞–Ї—В–љ—Л—Е –Є –љ–µ–Ї–Њ–љ—В–∞–Ї—В–љ—Л—Е —В—А–∞–ї–Њ–≤. –Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –≤—Б–µ –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–µ –љ–∞—Г–Ї–Є, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Є "—И—В—Г—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–Є–µ" (–љ–∞–≤–Є–≥–∞—Ж–Є—П, –∞—Б—В—А–Њ–љ–Њ–Љ–Є—П, —В–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Љ–∞–љ–µ–≤—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Є –њ—А.), –Љ—Л –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–Є –Є–Ј—Г—З–∞—В—М, –њ—А–∞–≤–і–∞, –љ–µ —В–∞–Ї –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ, –Ї–∞–Ї –±—Г–і—Г—Й–Є–µ —И—В—Г—А–Љ–∞–љ–∞. –Я—А–Њ—И–ї–Њ –µ—Й–µ –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, –Є —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ –±—Л–ї–Њ —А–µ–Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–Њ –≤ "–њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–µ". –Ґ–µ–њ–µ—А—М, –Ї —А–∞–і–Њ—Б—В–Є –∞–±—Б–Њ–ї—О—В–љ–Њ–≥–Њ –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–∞ –Є–Ј –љ–∞—Б, –Љ—Л –Ј–љ–∞–ї–Є, —З—В–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–∞ –±—Г–і–µ–Љ —Б–ї—Г–ґ–Є—В—М –љ–∞ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Ї–∞—Е! –£—З–µ–±–∞ –њ–Њ—И–ї–∞ –≤–µ—Б–µ–ї–µ–µ: –Њ–±—Й–µ–Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В—Л —Г—Б—В—Г–њ–Є–ї–Є –Љ–µ—Б—В–Њ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞–Љ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–Љ. –Ь—Л –±—Г–Ї–≤–∞–ї—М–љ–Њ –љ–∞—Б–ї–∞–ґ–і–∞–ї–Є—Б—М, —Б–ї—Г—И–∞—П –ї–µ–Ї—Ж–Є–Є –њ–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞ –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Њ—А–∞, –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–∞ 1 —А–∞–љ–≥–∞ –У–µ–ї—М—Д–Њ–љ–і–∞, –∞ –ї–µ–Ї—Ж–Є–Є –њ–Њ —В–∞–Ї—В–Є–Ї–µ —Д–ї–Њ—В–∞ - –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–∞ 1 —А–∞–љ–≥–∞ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В–Њ–≥–Њ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–∞, –У–µ—А–Њ—П –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞, —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–∞ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л –≤ –Ш—Б–њ–∞–љ–Є–Є, –њ–Њ–±—Л–≤–∞–≤—И–µ–≥–Њ –≤ —Д–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ –њ–ї–µ–љ—Г, —П, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –њ–Њ–Љ–љ—О –њ–Њ —Б–µ–є –і–µ–љ—М. –С—Л–ї, –њ—А–∞–≤–і–∞, –Є –љ–µ –Њ—З–µ–љ—М –њ—А–Є—П—В–љ—Л–є –Ї—Г—А—Б –ї–µ–≥–Ї–Њ–≤–Њ–і–Њ–ї–∞–Ј–љ–Њ–є –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–Є. –Ф–ї—П –Њ—В—А–∞–±–Њ—В–Ї–Є –≤—Л—Е–Њ–і–∞ –Є–Ј –∞–≤–∞—А–Є–є–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є - –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –і–ї–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–і—К–µ–Љ–∞ –Є–Ј-–њ–Њ–і –≤–Њ–і—Л –≤ –ї–µ–≥–Ї–Њ–≤–Њ–і–Њ–ї–∞–Ј–љ–Њ–Љ —Б–љ–∞—А—П–ґ–µ–љ–Є–Є –њ–Њ –Ј–∞–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –Ї –±—Г–є–Ї—Г —В—А–Њ—Б—Г —Б –Љ—Г—Б–Є–љ–≥–∞–Љ–Є (—И–∞—А–∞–Љ–Є-—Г–Ј–ї–∞–Љ–Є) –і–ї—П "–Њ—В—Б–Є–і–Ї–Є" —Б —Ж–µ–ї—М—О –њ—А–µ–і–Њ—В–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є—П –Ї–µ—Б—Б–Њ–љ–љ–Њ–є –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–Є - –љ–∞—Б –≤–Њ–Ј–Є–ї–Є –≤ —Г—З–µ–±–љ—Л–є –Њ—В—А—П–і –њ–Њ–і–њ–ї–∞–≤–∞ –љ–∞ –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤—Б–Ї–Є–є –Њ—Б—В—А–Њ–≤. –Ґ–∞–Љ –Є —Б–µ–є—З–∞—Б —Г—З–∞—В —Н—В–Њ–Љ—Г –Љ–Њ–ї–Њ–і—Л—Е –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤, –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г—П –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї—М–љ—О –±—Л–≤—И–µ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є. –Ь—Л –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –µ–µ "–±–∞—И–љ–µ–є —Б–Љ–µ—А—В–Є", –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –Љ–∞–ї–µ–є—И–∞—П –љ–µ–Є—Б–њ—А–∞–≤–љ–Њ—Б—В—М –Є–Ј–Њ–ї–Є—А—Г—О—Й–µ–≥–Њ –і—Л—Е–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –∞–њ–њ–∞—А–∞—В–∞ –Є–ї–Є –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–µ –Є–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ –Љ–Њ–≥–ї–Є –њ—А–Є–≤–µ—Б—В–Є –Ї –Њ—З–µ–љ—М –љ–µ–њ—А–Є—П—В–љ—Л–Љ –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є—П–Љ. –Э–Њ –Є —Н—В—Г "–љ–µ–њ—А–Є—П—В–љ–Њ—Б—В—М" –Љ—Л –њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤–∞–ї–Є —В–µ—А–њ–µ–ї–Є–≤–Њ, –Ј–љ–∞—П, —З—В–Њ –ї–µ–≥–Ї–Њ–≤–Њ–і–Њ–ї–∞–Ј–љ–∞—П –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–∞ –і–ї—П –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–∞ —В–∞–Ї –ґ–µ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–∞, –Ї–∞–Ї –ї–µ—В—З–Є–Ї—Г –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–∞ –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–∞ –њ–∞—А–∞—И—О—В–љ–∞—П. –Ы–µ—В–љ—П—П –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–∞ –љ–∞ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Ї–∞—Е –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞ –µ—Й–µ –±–Њ–ї–µ–µ —Г–Ї—А–µ–њ–Є–ї–∞ —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є—П –Њ—В –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –≤—Л–±—А–∞–љ–љ–Њ–є –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Є. –Э–∞ —А—Г–±–Ї–∞—Е –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї –∞–ї–µ–ї–Є –Ї—А–∞—Б–љ—Л–µ –Ј–≤–µ–Ј–і—Л, –≤ —Ж–µ–љ—В—А–µ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –љ–∞ –±–µ–ї—Л—Е –Ї—А—Г–ґ–Ї–∞—Е —З–µ—А–љ–µ–ї–Є —Ж–Є—Д—А—Л –њ–Њ—В–Њ–њ–ї–µ–љ–љ—Л—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є –Є —Б–±–Є—В—Л—Е —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В–Њ–≤. –Т "–Ш—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –ґ—Г—А–љ–∞–ї–∞—Е" (–±—Л–ї–Є —В–∞–Ї–Є–µ –љ–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П—Е) –Љ—Л —З–Є—В–∞–ї–Є –Њ–± –∞—В–∞–Ї–∞—Е –Є –Ї–Њ–љ—В—А–∞—В–∞–Ї–∞—Е, –Њ –±–Њ–Љ–±–µ–ґ–Ї–∞—Е –≥–ї—Г–±–Є–љ–љ—Л–Љ–Є –±–Њ–Љ–±–∞–Љ–Є, –Њ–± —Г–Ї–ї–Њ–љ–µ–љ–Є—П—Е –Њ—В –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –Є –њ—А–µ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–ї–Њ–і–Њ—З–љ—Л–Љ–Є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П–Љ–Є –Є —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В–∞–Љ–Є. –Т –Ш—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –ґ—Г—А–љ–∞–ї–µ "–Ъ–∞—В—О—И–Є" - –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –Ї—А–µ–є—Б–µ—А—Б–Ї–Њ–є —В–Є–њ–∞ "–Ъ" –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Љ–љ–µ –і–Њ–≤–µ–ї–Њ—Б—М –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–Њ–≤–∞—В—М—Б—П, - –±—Л–ї–∞, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, —В–∞–Ї–∞—П –Ј–∞–њ–Є—Б—М: "–°—В–Њ–Є–Љ —Г –љ–∞–±–µ—А–µ–ґ–љ–Њ–є –Ы–µ—В–љ–µ–≥–Њ —Б–∞–і–∞ (–ї–Њ–і–Ї–∞ –Ј–Є–Љ–Њ–є 1942 –≥–Њ–і–∞ –Ј–Є–Љ–Њ–≤–∞–ї–∞ –≤ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–µ). –Э–∞–ї–µ—В –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Њ–є –∞–≤–Є–∞—Ж–Є–Є. –Т–µ–і–µ–Љ –∞—А—В–Њ–≥–Њ–љ—М –Є–Ј 45-–Љ–Є–ї–ї–Є–Љ–µ—В—А–Њ–≤–Њ–є –њ—Г—И–Ї–Є. –Ю—Б–Ї–Њ–ї–Ї–Њ–Љ –±–Њ–Љ–±—Л —Г–±–Є—В –≤–µ—А—Е–љ–Є–є –≤–∞—Е—В–µ–љ–љ—Л–є –Љ–∞—В—А–Њ—Б –°–Љ–Є—А–љ–Њ–≤..." –Я—А–Њ—З–Є—В–∞–≤ —В–∞–Ї—Г—О —Б–і–µ–ї–∞–љ–љ—Г—О –Њ—В —А—Г–Ї–Є –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–Љ –Љ–∞—В—А–Њ—Б–Њ–Љ –Є–ї–Є –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–Љ-–Є—Б—В–Њ—А–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Њ–Љ –Ј–∞–њ–Є—Б—М, —П —Б —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–Љ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–≥–Њ –і—Г—И–µ–≤–љ–Њ–≥–Њ —В—А–µ–њ–µ—В–∞ –Њ—Б–≤–∞–Є–≤–∞–ї –≥–µ—А–Њ–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О "—Б–Њ—А–Њ–Ї–∞–њ—П—В–Ї—Г" –Є, –Ј–∞—Б—В—Г–њ–∞—П –љ–∞ –≤–µ—А—Е–љ—О—О –≤–∞—Е—В—Г (–≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–љ–∞—П –≤–∞—Е—В–∞ —Г —В—А–∞–њ–∞ –ї–Њ–і–Ї–Є), –љ–µ –Љ–Њ–≥ –љ–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В—М —Б–µ–±—П –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–µ –њ–Њ–≥–Є–±—И–µ–≥–Њ –Љ–∞—В—А–Њ—Б–∞... 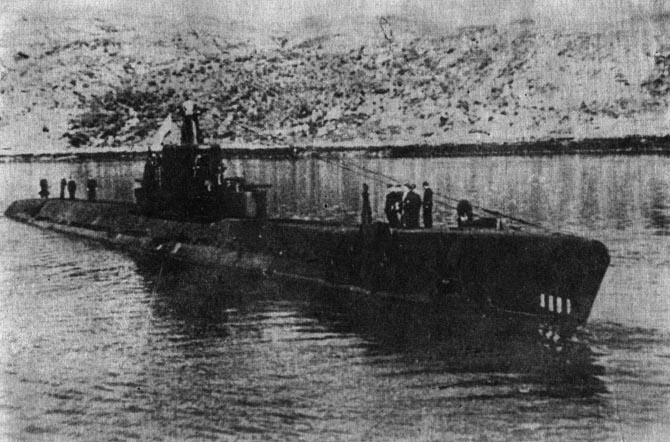 –Я–Њ–і–≤–Њ–і–љ–∞—П –ї–Њ–і–Ї–∞ —В–Є–њ–∞ "–°—В–∞–ї–Є–љ–µ—Ж" –≤—Е–Њ–і–Є—В –≤ –Х–Ї–∞—В–µ—А–Є–љ–Є–љ—Б–Ї—Г—О –≥–∞–≤–∞–љ—М –≥.–Я–Њ–ї—П—А–љ–Њ–≥–Њ. 1952-1953–≥.–≥ "–У–Њ—Б–њ–Њ–і–∞ —О–љ–Ї–µ—А–∞, –Ї–µ–Љ –≤—Л –±—Л–ї–Є –≤—З–µ—А–∞, –Р —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –≤—Л –≤—Б–µ - –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Л..." –С—Г–ї–∞—В –Ю–Ї—Г–і–ґ–∞–≤–∞ "–І–Ґ–Ю–С –Э–Х –С–Ю–ѓ–Ы–°–ѓ!" 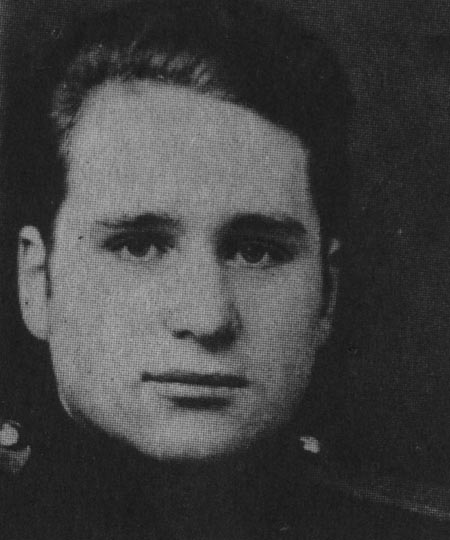 –Э–µ –Љ–Њ–≥—Г –љ–µ –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М –Њ–і–Є–љ –Њ—З–µ–љ—М —П—А–Ї–Є–є —Н–њ–Є–Ј–Њ–і –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є —Г—З–µ–±—Л. –Ы–Њ–і–Ї–∞ –Њ—В—А–∞–±–∞—В—Л–≤–∞–ї–∞ –њ–Њ–Ї–ї–∞–і–Ї—Г –љ–∞ –≥—А—Г–љ—В. –У—А—Г–њ–њ–∞ –Ї—Г—А—Б–∞–љ—В–Њ–≤, –Є —П –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ, –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М –≤ –њ–µ—А–≤–Њ–Љ –Њ—В—Б–µ–Ї–µ. –Ы–Њ–і–Ї–∞ "–ї–µ–≥–ї–∞" –љ–∞ –≥—А—Г–љ—В –љ–∞ –≥–ї—Г–±–Є–љ–µ 60 –Љ–µ—В—А–Њ–≤. –°–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ –Є–Ј —В—А—О–Љ–∞ –Њ—В—Б–µ–Ї–∞ –≤–і—А—Г–≥ –≤—Л—А–≤–∞–ї–∞—Б—М —В—Г–≥–∞—П —Б—В—А—Г—П –Ј–∞–±–Њ—А—В–љ–Њ–є –≤–Њ–і—Л. –Ю—В—Б–µ–Ї –±—Л–ї –Љ–≥–љ–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ –Њ–Ї—Г—В–∞–љ –Љ–µ–ї–Ї–Є–Љ–Є –≤–Њ–і—П–љ—Л–Љ–Є –±—А—Л–Ј–≥–∞–Љ–Є-—В—Г–Љ–∞–љ–Њ–Љ (–і–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ-—В–Њ –Ј–∞–±–Њ—А—В–љ–Њ–є –≤–Њ–і—Л - 6 –∞—В–Љ–Њ—Б—Д–µ—А!). –Т—Б–µ –Њ—Ж–µ–њ–µ–љ–µ–ї–Є. –Ь–љ–Њ–≥–Є–µ, –і–∞–ґ–µ —Б—В–∞—А–Њ—Б–ї—Г–ґ–∞—Й–Є–µ –њ–Њ –њ—П—В–Њ–Љ—Г –≥–Њ–і—Г, –≤–Љ–µ—Б—В–Њ –Њ–±—К—П–≤–ї–µ–љ–Є—П –∞–≤–∞—А–Є–є–љ–Њ–є —В—А–µ–≤–Њ–≥–Є –Є –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П —В—Л—Б—П—З—Г —А–∞–Ј –Њ—В—А–∞–±–∞—В—Л–≤–∞–≤—И–Є—Е—Б—П —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ—Л—Е "–њ–µ—А–≤–Є—З–љ—Л—Е –Љ–µ—А–Њ–њ—А–Є—П—В–Є–є –њ–Њ –±–Њ—А—М–±–µ —Б –њ–Њ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –≤–Њ–і—Л", –Ј–∞–±–Є–ї–Є—Б—М –≤ —Г–≥–ї—Л –Њ—В—Б–µ–Ї–∞, –∞ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –њ–Њ–ї–µ–Ј–ї–Є –љ–∞ –≤–µ—А—Е–љ–Є–µ –Ї–Њ–є–Ї–Є (–Њ—В—Б–µ–Ї –ґ–Є–ї–Њ–є). –Ш —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–і–Є–љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –љ–µ —А–∞—Б—В–µ—А—П–ї—Б—П. –Я–Њ —Б—З–∞—Б—В–ї–Є–≤–Њ–є —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ—Б—В–Є –ї–Њ–і–Ї—Г –Њ–±—Е–Њ–і–Є–ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –±—А–Є–≥–∞–і—Л - –Њ–њ—Л—В–љ—Л–є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї, –У–µ—А–Њ–є –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞, –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ 1 —А–∞–љ–≥–∞ –Я—А–Њ–±–Њ–Є–љ–∞ –Ј–∞—Б—В–∞–ї–∞ –µ–≥–Њ –≤ –њ–µ—А–≤–Њ–Љ –Њ—В—Б–µ–Ї–µ. –Ъ–Њ–Љ–±—А–Є–≥ –≥—А–Њ–Љ–Њ–≤—Л–Љ –≥–Њ–ї–Њ—Б–Њ–Љ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї –і–∞—В—М –≤–Њ–Ј–і—Г—Е –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–≥–Њ –і–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –≤ –Њ—В—Б–µ–Ї -–і–ї—П —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є—П "–њ–Њ–і–њ–Њ—А–∞", –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ —Б–∞–Љ, –Њ—В—В–Њ–ї–Ї–љ—Г–≤ –Љ–µ—И–∞–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –њ–Њ–і –љ–Њ–≥–∞–Љ–Є –Њ—Ж–µ–њ–µ–љ–µ–≤—И–µ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є—П —В—А—О–Љ–љ—Л—Е –Љ–∞—И–Є–љ–Є—Б—В–Њ–≤, –њ—А—Л–≥–љ—Г–ї –≤ —В—А—О–Љ. –°—В—А—Г—П –њ–Њ—Б—В—Г–њ–∞—О—Й–µ–є –≤–Њ–і—Л —Б—В–∞–ї–∞ —Г–Љ–µ–љ—М—И–∞—В—М—Б—П, "—В—Г–Љ–∞–љ" —А–∞—Б—Б–µ—П–ї—Б—П. –Ш–Ј —В—А—О–Љ–∞ —Б –≥—А–Њ—Е–Њ—В–Њ–Љ –≤—Л–ї–µ—В–µ–ї–∞ –Ї–∞–Ї–∞—П-—В–Њ –Љ–µ—В–∞–ї–ї–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —И—В—Г–Ї–Њ–≤–Є–љ–∞, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ –≤—Л–ї–µ–Ј –Љ–Њ–Ї—А—Л–є, –Ї—А–∞—Б–љ—Л–є, –Ј–ї–Њ–є –Ї–Њ–Љ–±—А–Є–≥. –Ю–љ –±—Л–ї –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–µ–љ. –Ю–≥–ї—П–і–µ–≤ –љ–∞—Б, —Б–Љ—Г—В–Є–≤—И–Є—Е—Б—П, –Ї–Њ–Љ–±—А–Є–≥ —Г–ї—Л–±–љ—Г–ї—Б—П –Є, —И—Г—В–ї–Є–≤–Њ –њ–Њ–≥—А–Њ–Ј–Є–≤ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Г-–Љ–Є–љ–µ—А—Г - –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Г –Њ—В—Б–µ–Ї–∞, —В–∞–Ї –Є –љ–µ –Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞–≤—И–µ–Љ—Г —А–Њ—В, –Ї—Г–ї–∞–Ї–Њ–Љ –Њ—В–і—А–∞–Є–ї –Ї–Њ—А–Љ–Њ–≤—Г—О –њ–µ—А–µ–±–Њ—А–Њ—З–љ—Г—О –і–≤–µ—А—М –Є –≤—Л—И–µ–ї –Є–Ј –Њ—В—Б–µ–Ї–∞. –Ю–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –њ–µ—А–µ–і –њ–Њ–Ї–ї–∞–і–Ї–Њ–є –љ–∞ –≥—А—Г–љ—В —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–Њ –≤–і–≤–Є–љ—Г—В—М –Њ–±—Л—З–љ–Њ –≤—Л–і–≤–Є–љ—Г—В—Л–є –Є–Ј –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–∞ –ї–Њ–і–Ї–Є –Љ–µ—Е–∞–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –і–∞—В—З–Є–Ї –ї–∞–≥–∞ - —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–Њ —Б "–≤–µ—А—В—Г—И–Ї–Њ–є", —Б–ї—Г–ґ–Є–≤—И–µ–є –і–ї—П –Є–Ј–Љ–µ—А–µ–љ–Є—П —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В–Є –Є –њ—А–Њ–є–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —А–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є—П (–≤—А–Њ–і–µ –≤–Њ–і—П–љ–Њ–≥–Њ —Б–њ–Є–і–Њ–Љ–µ—В—А–∞). –Ь–∞—В—А–Њ—Б, —А–∞—Б–њ–Є—Б–∞–љ–љ—Л–є –љ–∞ —Н—В–Њ–є –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–Є, –Ј–∞–±—Л–ї –≤–і–≤–Є–љ—Г—В—М –ї–∞–≥, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ—А–Є —Б–Њ–њ—А–Є–Ї–Њ—Б–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–Є —Б –≥—А—Г–љ—В–Њ–Љ –±—Л–ї –≤—Л–±–Є—В –Є–Ј —Б–≤–Њ–µ–є —И–∞—Е—В—Л –≤ —В—А—О–Љ, –∞ –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–є –Ї–ї–∞–њ–∞–љ (–Ї–Є–љ–≥—Б—В–Њ–љ) –њ–µ—А–µ–Ї—А—Л—В –љ–µ –±—Л–ї, —Б–Ї–≤–Њ–Ј—М –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О "–њ—А–Њ–±–Њ–Є–љ—Г" –≤ –Њ—В—Б–µ–Ї —Е–ї—Л–љ—Г–ї–∞ —Е–Њ–ї–Њ–і–љ–∞—П –Ј–∞–±–Њ—А—В–љ–∞—П –≤–Њ–і–∞. –Х—Й–µ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–Є–љ—Г—В –њ—А–Њ–Љ–µ–і–ї–µ–љ–Є—П, –Є –љ–µ –Љ–Є–љ–Њ–≤–∞—В—М —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ–Њ–є –∞–≤–∞—А–Є–Є, —Б–Њ –≤—Б–µ–Љ–Є –≤—Л—В–µ–Ї–∞—О—Й–Є–Љ–Є –Є–Ј –Ј–∞—В–Њ–њ–ї–µ–љ–Є—П –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В—Б–µ–Ї–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є—П–Љ–Є! –Э–∞ —В–Њ–є –њ–∞–Љ—П—В–љ–Њ–є –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–µ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї —П –Є –Њ–њ—Л—В... "—Г—В–Њ–љ—Г—В–Є—П". –Р –і–µ–ї–Њ –±—Л–ї–Њ —В–∞–Ї. –≠–Ї–Є–њ–∞–ґ –ї–Њ–і–Ї–Є, –∞ –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –љ–Є–Љ –Є –Љ—Л, –Ї—Г—А—Б–∞–љ—В—Л, –Њ—В—А–∞–±–∞—В—Л–≤–∞–ї–Є –Њ—З–µ—А–µ–і–љ–Њ–µ —Г–њ—А–∞–ґ–љ–µ–љ–Є–µ –Ї—Г—А—Б–∞ –Ј–∞–і–∞—З –ї–µ–≥–Ї–Њ–≤–Њ–і–Њ–ї–∞–Ј–љ–Њ–є –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–Є. –Э–∞ —Н—В–Њ—В —А–∞–Ј –љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞–ї–Њ –Њ—В—А–∞–±–Њ—В–∞—В—М –≤—Л—Е–Њ–і –Є–Ј –∞–≤–∞—А–Є–є–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є, —П–Ї–Њ–±—Л –ї–µ–ґ–∞—Й–µ–є –љ–∞ –≥—А—Г–љ—В–µ, —З–µ—А–µ–Ј —В–Њ—А–њ–µ–і–љ—Л–µ –∞–њ–њ–∞—А–∞—В—Л. –£–њ—А–∞–ґ–љ–µ–љ–Є–µ –Њ—В—А–∞–±–∞—В—Л–≤–∞–ї–Њ—Б—М –≤ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –±–∞—Б—Б–µ–є–љ–µ, —Б –њ–Њ–≥—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Л–Љ –≤ –љ–µ–≥–Њ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–Љ —Г—З–µ–±–љ—Л–Љ –Љ–∞–Ї–µ—В–Њ–Љ –Њ—В—Б–µ–Ї–∞ –ї–Њ–і–Ї–Є. –Ф–µ–ї–∞–µ—В—Б—П —Н—В–Њ —В–∞–Ї: –≤ –Њ—В—Б–µ–Ї–µ –Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –Ј–∞–і–љ—П—П (–≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ—П—П) –Ї—А—Л—И–Ї–∞ —В—А—Г–±—Л —В–Њ—А–њ–µ–і–љ–Њ–≥–Њ –∞–њ–њ–∞—А–∞—В–∞, –≤ —Н—В—Г —В—А—Г–±—Г –њ—А–Њ—В–Є—Б–Ї–Є–≤–∞—О—В—Б—П –і—А—Г–≥ –Ј–∞ –і—А—Г–≥–Њ–Љ —В—А–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –≤ –ї–µ–≥–Ї–Њ–≤–Њ–і–Њ–ї–∞–Ј–љ—Л—Е –Ї–Њ—Б—В—О–Љ–∞—Е, –Ј–∞—В–µ–Љ –Ј–∞–і–љ—П—П –Ї—А—Л—И–Ї–∞ –Ј–∞–і—А–∞–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –Є —В—А—Г–±–∞ –∞–њ–њ–∞—А–∞—В–∞ –Ј–∞–њ–Њ–ї–љ—П–µ—В—Б—П –≤–Њ–і–Њ–є, –і–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –≤–љ—Г—В—А–Є —В—А—Г–±—Л —Г—А–∞–≤–љ–Є–≤–∞–µ—В—Б—П —Б –Ј–∞–±–Њ—А—В–љ—Л–Љ, –њ–µ—А–≤—Л–є, –ї–µ–ґ–∞—Й–Є–є –±–ї–Є–ґ–µ –≤—Б–µ—Е –Ї –њ–µ—А–µ–і–љ–µ–є –Ї—А—Л—И–Ї–µ –∞–њ–њ–∞—А–∞—В–∞, –і–Њ–ґ–і–∞–≤—И–Є—Б—М, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Є–Ј –Њ—В—Б–µ–Ї–∞ –ї–Њ–і–Ї–Є –Њ—В–Ї—А–Њ—О—В –њ–µ—А–µ–і–љ—О—О –Ї—А—Л—И–Ї—Г, –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–∞–µ—В –љ–∞ –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В—М –±–∞—Б—Б–µ–є–љ–∞ (–Љ–Њ—А—П) –±—Г–є –Є, –Ј–∞–Ї—А–µ–њ–Є–≤ —В—А–Њ—Б–Є–Ї —Н—В–Њ–≥–Њ –±—Г–є–Ї–∞ (–±—Г–є—А–µ–њ) –Ї —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–Љ—Г —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤—Г –љ–∞ –∞–њ–њ–∞—А–∞—В–µ, –≤—Л—Е–Њ–і–Є—В –љ–∞ –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В—М, –і–µ—А–ґ–∞—Б—М –Ј–∞ —Н—В–Њ—В –±—Г–є—А–µ–њ (–њ–Њ–Љ–љ–Є—В–µ, —П —Г–ґ–µ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї –њ—А–Њ "–±–∞—И–љ—О —Б–Љ–µ—А—В–Є"?). –Ю—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–µ, –ї–µ–ґ–∞–≤—И–Є–µ –Ј–∞ –њ–µ—А–µ–і–љ–Є–Љ, –≤—Л—Е–Њ–і—П—В –љ–∞ –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В—М –≤—Б–ї–µ–і –Ј–∞ –љ–Є–Љ. –Т—Л—И–µ–і—И–Є–є –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–Љ —Б—В—Г—З–Є—В "—Г—Б–ї–Њ–≤–љ—Л–Љ —Б—В—Г–Ї–Њ–Љ" –њ–Њ —В—А—Г–±–µ –∞–њ–њ–∞—А–∞—В–∞, –њ–µ—А–µ–і–љ—О—О –Ї—А—Л—И–Ї—Г –Ј–∞–Ї—А—Л–≤–∞—О—В, –∞–њ–њ–∞—А–∞—В –Њ—Б—Г—И–∞—О—В, –Є –њ—А–Њ—Ж–µ–і—Г—А–∞ –≤—Л—Е–Њ–і–∞ –њ–Њ–≤—В–Њ—А—П–µ—В—Б—П. –Я—А–Є —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –≤—Л—Е–Њ–і–µ –Є–Ј –∞–≤–∞—А–Є–є–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є –Є–Ј –њ–Њ–Ї–Є–і–∞—О—Й–Є—Е –µ–µ, –љ–∞–і–µ–≤ –≤–Њ–і–Њ–ї–∞–Ј–љ–Њ–µ —Б–љ–∞—А—П–ґ–µ–љ–Є–µ, –Ј–∞–њ–Њ–ї–љ—П–µ—В –≤–µ—Б—М –Њ—В—Б–µ–Ї –≤–Њ–і–Њ–є, —Г—А–∞–≤–љ–Є–≤–∞–µ—В –і–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ (–≤ –Њ—В—Б–µ–Ї–µ –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–∞—П –≤–Њ–Ј–і—Г—И–љ–∞—П "–њ–Њ–і—Г—И–Ї–∞") —Б –Ј–∞–±–Њ—А—В–љ—Л–Љ, –Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞–µ—В –Њ–±–µ –Ї—А—Л—И–Ї–Є –∞–њ–њ–∞—А–∞—В–∞, –њ–Њ–і–љ—Л—А–Є–≤–∞–µ—В –Є –≤—Л—Е–Њ–і–Є—В —З–µ—А–µ–Ј –µ–≥–Њ —В—А—Г–±—Г –љ–∞ –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В—М. –ѓ –ї–µ–ґ–∞–ї –≤ –∞–њ–њ–∞—А–∞—В–µ –≤—В–Њ—А—Л–Љ. –Э–µ —А–∞—Б—Б—З–Є—В–∞–≤, —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ —Г–і–∞—А–Є–ї—Б—П –≥–Њ–ї–Њ–≤–Њ–є –≤ —В—П–ґ–µ–ї—Л–µ –≤–Њ–і–Њ–ї–∞–Ј–љ—Л–µ –±–Њ—В–Є–љ–Ї–Є –ї–µ–ґ–∞—Й–µ–≥–Њ –≤–њ–µ—А–µ–і–Є, –Љ–∞—И–Є–љ–∞–ї—М–љ–Њ –Њ—Е–љ—Г–ї –Є –≤—Л–њ—Г—Б—В–Є–ї –Є–Ј–Њ —А—В–∞ –Ї–ї–∞–њ–∞–љ -–Ј–∞–≥—Г–±–љ–Є–Ї, —З–µ—А–µ–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –і—Л—И–∞–ї. –Ь–∞—Б–Ї–∞ –љ–∞ –Љ–љ–µ –±—Л–ї–∞ –љ–µ –≥–µ—А–Љ–µ—В–Є—З–љ–∞ (–≤–Њ–і–∞ —Б—В–Њ—П–ї–∞ –љ–∞ —Г—А–Њ–≤–љ–µ –≥–ї–∞–Ј), —П –љ–µ–њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –≤–і–Њ—Е–љ—Г–ї –≤ —Б–µ–±—П –≤–Љ–µ—Б—В–Њ –≤–Њ–Ј–і—Г—Е–∞ –≤–Њ–і—Г –Є... –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –Ј–∞—Е–ї–µ–±–љ—Г–ї—Б—П. –Я–µ—А–µ–і –≥–ї–∞–Ј–∞–Љ–Є –њ–Њ—И–ї–Є –Љ—Г—В–љ–Њ-–Ј–µ–ї–µ–љ—Л–µ –Ї—А—Г–≥–Є... –Ъ–Њ—А–Њ—З–µ, —П —Г—В–Њ–љ—Г–ї. –Я–Њ–ї–Ј—Г—Й–Є–є —Б–Ј–∞–і–Є –Ї—Г—А—Б–∞–љ—В, –њ–Њ—З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤ –љ–µ–ї–∞–і–љ–Њ–µ, –њ–Њ–і–∞–ї —Г—Б–ї–Њ–≤–љ—Л–є —Б–Є–≥–љ–∞–ї —В—А–µ–≤–Њ–≥–Є –Є –≤—Л—В–Њ–ї–Ї–љ—Г–ї –Љ–µ–љ—П –Є–Ј –∞–њ–њ–∞—А–∞—В–∞. –Т—Б–њ–ї—Л–ї —П –≤ –±–µ—Б—Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є, –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є "–њ–ї–∞–≤—Г—З–µ—Б—В–Є", –±–µ–Ј–Њ –≤—Б—П–Ї–Є—Е –±—Г–є–Ї–Њ–≤ –Є –±—Г–є—А–µ–њ–Њ–≤. –Т —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ–є –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–µ –њ—А–Є –≤—Л—Е–Њ–і–µ —Б –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –≥–ї—Г–±–Є–љ—Л —П –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –Љ–Њ–≥ –±—Л —Б—Е–≤–∞—В–Є—В—М –Ї–µ—Б—Б–Њ–љ–љ—Г—О –±–Њ–ї–µ–Ј–љ—М: –њ—А–Є —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ –±—Л—Б—В—А–Њ–Љ –≤—Л—Е–Њ–і–µ –≤–Њ–і–Њ–ї–∞–Ј–∞ –љ–∞ –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В—М –њ—Г–Ј—Л—А—М–Ї–Є –∞–Ј–Њ—В–∞ –≤ –µ–≥–Њ –Ї—А–Њ–≤–Є –љ–µ —Г—Б–њ–µ–≤–∞—О—В —А–∞—Б—В–≤–Њ—А–Є—В—М—Б—П, –Ј–∞–Ї—Г–њ–Њ—А–Є–≤–∞—О—В –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ–Њ –≤–∞–ґ–љ—Л–µ –Ї—А–Њ–≤–Њ—В–Њ–Ї–Є, –≤—Л–Ј—Л–≤–∞—П –њ–∞—А–∞–ї–Є—З... –Ъ–Њ—А–Њ—З–µ –≥–Њ–≤–Њ—А—П, –Њ—З–љ—Г–ї—Б—П —П —Г–ґ–µ –љ–∞ —Б—В–µ–љ–Ї–µ –±–∞—Б—Б–µ–є–љ–∞ –Њ—В—В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –љ–∞ –Љ–љ–µ —Б–Є–і–µ–ї –Љ–Є—З–Љ–∞–љ-–Є–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Њ—А, —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞—П –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л–µ –Љ–∞–љ–Є–њ—Г–ї—П—Ж–Є–Є —Б –Љ–Њ–Є–Љ–Є —А—Г–Ї–∞–Љ–Є, –∞ –Є–Ј–Њ —А—В–∞ —Г –Љ–µ–љ—П —Б–∞–Љ—Л–Љ –љ–∞—В—Г—А–∞–ї—М–љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ —Е–ї–µ—Б—В–∞–ї —Д–Њ–љ—В–∞–љ –≤–Њ–і—Л. –ѓ –µ—Й–µ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ —Г—Б–њ–µ–ї —Б–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–Є—В—М, –∞ —Г–ґ–µ –≤—Л—И–µ—Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–є –Љ–Є—З–Љ–∞–љ –±—Л—Б—В—А–Њ –љ–∞–њ—П–ї–Є–ї –Љ–љ–µ –љ–∞ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г –ї–µ–≥–Ї–Њ–≤–Њ–і–Њ–ї–∞–Ј–љ—Г—О –Љ–∞—Б–Ї—Г –Є –њ–Њ–і—В–Њ–ї–Ї–љ—Г–ї –Ї —В—А–∞–њ—Г, –≤–µ–і—Г—Й–µ–Љ—Г –љ–∞ –Љ–∞–Ї–µ—В –ї–Њ–і–Ї–Є. –Ш–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Њ—А –Ј–∞—Б—В–∞–≤–Є–ї –Љ–µ–љ—П –≤–љ–Њ–≤—М –Ј–∞–ї–µ–Ј—В—М –≤ –∞–њ–њ–∞—А–∞—В –Є –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–Є—В—М-—В–∞–Ї–Є —Г–њ—А–∞–ґ–љ–µ–љ–Є–µ! –Ш –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї! "–І—В–Њ–±—Л –љ–µ –±–Њ—П–ї—Б—П!" - –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Њ, –љ–Њ –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ–Љ—Л—Б–ї–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ—П—Б–љ–Є–ї –Њ–љ —Б–≤–Њ–Є –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П. –Ф–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, —П –±–Њ–ї—М—И–µ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї —Б—В—А–∞—Е–∞ –њ—А–Є –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–Є –ї–µ–≥–Ї–Њ–≤–Њ–і–Њ–ї–∞–Ј–љ—Л—Е —Г–њ—А–∞–ґ–љ–µ–љ–Є–є. –Я–†–Р–Ч–Ф–Э–Ш–Ъ –° –У–†–£–°–Ґ–Ш–Э–Ъ–Ю–Щ–Т—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Њ–є –Ї—Г—А—Б –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В—Б—П –Ї–∞–Ї —Б–њ–ї–Њ—И–љ–Њ–є –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї, –љ–Њ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї —Б —Н—В–∞–Ї–Њ–є –≥—А—Г—Б—В–Є–љ–Ї–Њ–є. –Ь—Л —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–ї–Є, —З—В–Њ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ —Б–Ї–Њ—А–Њ –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤—Г –Є–Ј –љ–∞—Б –њ—А–µ–і—Б—В–Њ–Є—В –љ–∞–і–Њ–ї–≥–Њ –њ—А–Њ—Б—В–Є—В—М—Б—П —Б –ї—О–±–Є–Љ—Л–Љ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–Њ–Љ. –ѓ –љ–µ –Њ–≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞—О—Б—М. –Ф–∞–ґ–µ –і–ї—П –Љ–µ–љ—П - –Љ–Њ—Б–Ї–≤–Є—З–∞ - –Љ–Њ—П —А–Њ–і–љ–∞—П –Ь–Њ—Б–Ї–≤–∞ –Њ—В–Њ—И–ї–∞ –Ї–∞–Ї –±—Л –љ–∞ –≤—В–Њ—А–Њ–є –њ–ї–∞–љ. –ѓ –і–∞–ґ–µ —Б—В–∞–ї –њ—А–Є –≤—Б—П–Ї–Њ–Љ —Г–і–Њ–±–љ–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –Њ—В–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М—Б—П –Њ—В –µ–Ј–і—Л –њ–Њ –≥–Њ—А–Њ–і—Г –≤ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–µ, –њ–Њ–ї—О–±–Є–ї –Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ—Л–µ –њ–µ—И–Є–µ –њ—А–Њ–≥—Г–ї–Ї–Є –њ–Њ —Б–ї–∞–≤–љ–Њ–є –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є –Ц–µ–Љ—З—Г–ґ–Є–љ–µ! –Т–µ—З–љ–∞—П –±–µ–≥–Њ—В–љ—П –њ–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л–Љ —В–∞–љ—Ж–µ–≤–∞–ї—М–љ—Л–Љ –Ј–∞–ї–∞–Љ –≤ –њ–Њ–Є—Б–Ї–∞—Е –њ–Њ–ї—Г–Ј–∞–њ—А–µ—Й–µ–љ–љ—Л—Е —В–∞–љ–≥–Њ, —Д–Њ–Ї—Б—В—А–Њ—В–Њ–≤, –Њ—Б—Г–ґ–і–∞–µ–Љ—Л—Е "–±—Г–≥–µ—И-–љ–Є–Ї–Њ–≤* –Є —А–Њ–Ї-–љ-—А–Њ–ї–ї–Њ–≤, —Б—В—Л–і–ї–Є–≤–Њ –Є–Љ–µ–љ—Г–µ–Љ—Л—Е "–Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ—Л–Љ–Є" –Є "–±—Л—Б—В—А—Л–Љ–Є" —В–∞–љ—Ж–∞–Љ–Є, –≤—Б–µ —З–∞—Й–µ –Є —З–∞—Й–µ —Г—Б—В—Г–њ–∞–ї–∞ –њ–Њ—Б–µ—Й–µ–љ–Є—П–Љ —В–µ–∞—В—А–Њ–≤ –Є –Љ—Г–Ј–µ–µ–≤. –•–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М, –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –і–∞–ґ–µ –њ–Њ–і—Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, –Ї–∞–Ї –±—Л –≤–њ–Є—В–∞—В—М –≤ —Б–µ–±—П –ї–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Є–є –і—Г—Е... –Э–Њ –≤—А–µ–Љ—П –љ–µ—Г–Љ–Њ–ї–Є–Љ–Њ. –Ш –≤–Њ—В —Г–ґ–µ - –ї–µ—В–Њ 1954-–≥–Њ. –Я–Њ–Ј–∞–і–Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ —Н–Ї–Ј–∞–Љ–µ–љ—Л. –У–Њ–ї–Њ–≤—Л –љ–∞—И–Є —Г–Ї—А–∞—И–µ–љ—Л —Г–ґ–µ –љ–µ –ї–Є—Е–Є–Љ–Є –±–µ—Б–Ї–Њ–Ј—Л—А–Ї–∞–Љ–Є, –∞ —Б–∞–Љ—Л–Љ–Є –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–Љ–Є –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Б–Ї–Є–Љ–Є —Д—Г—А–∞–ґ–Ї–∞–Љ–Є —Б "–љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ–Є" –Ї–Њ–Ј—Л—А—М–Ї–∞–Љ–Є, –∞ –љ–∞ –њ–Њ–≥–Њ–љ–∞—Е, –њ–Њ–і —П–Ї–Њ—А—П–Љ–Є, —И–Є—А–Њ–Ї–∞—П –Ј–Њ–ї–Њ—В–Є—Б—В–∞—П –њ–Њ–ї–Њ—Б–∞: –Љ—Л –Љ–Є—З–Љ–∞–љ—Л —Д–ї–Њ—В–∞! –Я–µ—А–µ–і –Њ—В–њ—А–∞–≤–Ї–Њ–є –љ–∞ —Б—В–∞–ґ–Є—А–Њ–≤–Ї—Г, –≥–і–µ –љ–∞–Љ –њ—А–µ–і—Б—В–Њ–Є—В –і—Г–±–ї–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї, –љ–∞–Љ –≤–і—А—Г–≥ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї–Є –љ–∞–њ–Є—Б–∞—В—М, –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ, –љ–∞ –Ї–∞–Ї–Њ–Љ –Є–Ј —Д–ї–Њ—В–Њ–≤ –Ї–∞–ґ–і—Л–є –Є–Ј –љ–∞—Б —Е–Њ—В–µ–ї –±—Л —Б–ї—Г–ґ–Є—В—М. –Э—Г–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–∞–њ–Є—Б–∞—В—М –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–µ –Є –Ј–∞–њ–∞—Б–љ–Њ–µ –ґ–µ–ї–∞–љ–Є—П. –Э–∞—И —Б–њ–∞—П–љ–љ—Л–є –Љ–љ–Њ–≥–Њ–ї–µ—В–љ–µ–є –і—А—Г–ґ–±–Њ–є –≤–Ј–≤–Њ–і –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї: –њ–µ—А–≤–Њ–µ –ґ–µ–ї–∞–љ–Є–µ - –І–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–є —Д–ї–Њ—В, –≤—В–Њ—А–Њ–µ –ґ–µ–ї–∞–љ–Є–µ - –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Є–є —Д–ї–Њ—В. –Т—Б–µ —Б–≤–Њ–Є –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–Є –≤ –≤—Л—Б—И–µ–Љ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ –Љ—Л –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–Є –љ–∞ –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–Љ —Д–ї–Њ—В–µ. –•–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М –њ–µ—А–µ–Љ–µ–љ. –Ц–µ–љ—П –§–∞–ї—О—В–Є–љ—Б–Ї–Є–є. –Ц–Њ—А–∞ –†—Л–ґ–Њ–≤, –Т–∞–ї—П –°–Є–Ј–Њ–≤, –Ѓ—А–∞ –Ъ–Њ–ї—З–Є–љ –Є —П —Б—В–∞–ґ–Є—А—Г–µ–Љ—Б—П –љ–∞ –ї–Њ–і–Ї–µ - 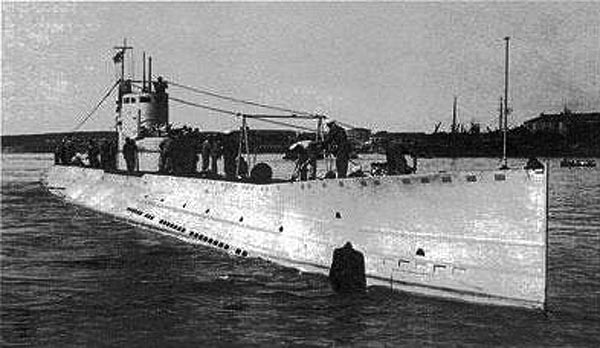 –° –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–∞–Љ–Є –Љ—Л —Г–ґ–µ –њ–Њ—З—В–Є –і—А—Г–Ј—М—П, –љ–Њ –≤—Б–µ-—В–∞–Ї–Є –Ї–∞–Ї–∞—П-—В–Њ —А–∞–Ј–љ–Є—Ж–∞ –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П—Е, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П—Е —Б –њ–Њ–і—З–Є–љ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –Љ–∞—В—А–Њ—Б–∞–Љ–Є –Є —Б—В–∞—А—И–Є–љ–∞–Љ–Є, –µ—Й–µ –µ—Б—В—М. –Ю–і–Є–љ –Є–Ј –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞ –Ї–∞–Ї-—В–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –љ–∞–Љ: "–Т–∞—И–µ –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–Ј–Ј—А–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–≤–µ—А–љ–µ—В—Б—П –љ–∞ 180 –≥—А–∞–і—Г—Б–Њ–≤ –њ–Њ—Б–ї–µ —В–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї –≤—Л –Ј–∞—Б—В–µ–≥–љ–µ—В–µ –њ—П—В—Г—О –њ—Г–≥–Њ–≤–Є—Ж—Г –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Є—В–µ–ї—П"! –Э–µ—Г–ґ–µ–ї–Є –Њ–љ –њ—А–∞–≤? –Э–Њ –≤–µ–і—М –Љ—Л - –њ–Њ—З—В–Є –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Л. –Т–Њ—В –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ - –њ–Њ—З—В–Є. –Ь–µ–ґ–і—Г —В–µ–Љ –љ–∞ —Д–ї–Њ—В—Л –љ–∞—З–Є–љ–∞—О—В –њ–Њ—Б—В—Г–њ–∞—В—М –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –љ–Њ–≤—Л–µ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–µ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є: –Љ–∞–ї—Л–µ –њ—А–Њ–µ–Ї—В–∞ 615 (–њ—А–Є–±—А–µ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П) - "–Ь–∞–ї—О—В–Ї–Є", —Б—А–µ–і–љ–Є–µ –њ—А–Њ–µ–Ї—В–∞ 613 (–і–ї—П –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є –≤ –Љ–Њ—А–µ) - "–Ч–µ–Ї–Є" –Є –±–Њ–ї—М—И–Є–µ –њ—А–Њ–µ–Ї—В–∞ 611 (–і–ї—П –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є –≤ –Њ–Ї–µ–∞–љ–µ) - "–С—Г–Ї–∞—И–Ї–Є". –Т –Ї–Њ–љ—Ж–µ —Б—В–∞–ґ–Є—А–Њ–≤–Ї–Є –Љ—Л –њ–Њ–њ–∞–і–∞–µ–Љ –≤ –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—М, –љ–∞ –ї–Њ–і–Ї–Є 613-–≥–Њ –њ—А–Њ–µ–Ї—В–∞. –Ф–∞, —Н—В–Є –ї–Њ–і–Ї–Є –≤—Л–≥–Њ–і–љ–Њ –Њ—В–ї–Є—З–∞–ї–Є—Б—М –Њ—В "–©—Г–Ї", "–°—В–∞–ї–Є–љ—Ж–µ–≤". "–Ы–µ–љ–Є–љ—Ж–µ–≤" –Є "–Ъ–∞—В—О—И", –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Л—Е –љ–∞–Љ. –Ъ–∞—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є —Б–Ї–∞—З–Њ–Ї –≤ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–Љ —Б—Г–і–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–Є –±—Л–ї –љ–∞–ї–Є—Ж–Њ. –Ы–Њ–і–Ї–∞ –њ–ї–∞–≤–∞–ї–∞ –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ –Є –і–∞–ї–µ–Ї–Њ. –Ь–Њ–≥–ї–∞ –њ–ї–∞–≤–∞—В—М –љ–∞ –њ–µ—А–Є—Б–Ї–Њ–њ–љ–Њ–є –≥–ї—Г–±–Є–љ–µ –Є –Ј–∞—А—П–ґ–∞—В—М –∞–Ї–Ї—Г–Љ—Г–ї—П—В–Њ—А—Л –њ–Њ–і –і–Є–Ј–µ–ї—П–Љ–Є. —Б—В—А–µ–ї—П—В—М —В–Њ—А–њ–µ–і–∞–Љ–Є —Б –≥–Њ—А–∞–Ј–і–Њ –±–Њ–ї—М—И–Є—Е, —З–µ–Љ –њ—А–µ–ґ–і–µ, –≥–ї—Г–±–Є–љ, –љ–µ –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–∞—П –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –љ–∞ –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В—М –Љ–Њ—А—П –і–µ–Љ–∞—Б–Ї–Є—А—Г—О—Й–Є–є –њ—Г–Ј—Л—А—М –Є –љ–µ "–њ–Њ–і—Б–Ї–∞–Ї–Є–≤–∞—П" –љ–∞ –Љ–∞–ї—Л–µ –≥–ї—Г–±–Є–љ—Л –њ–Њ—Б–ї–µ —В–Њ—А–њ–µ–і–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–ї–њ–∞, –љ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А—П —Г–ґ–µ –Њ –±–Њ–ї–µ–µ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–Љ —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ–љ–љ–Њ–Љ –Њ–±–Њ—А—Г–і–Њ–≤–∞–љ–Є–Є! –Э–Њ–≤—Л–µ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–µ –ї–Њ–і–Ї–Є —Б—В—А–Њ–Є–ї–Є—Б—М –љ–∞ –С–∞–ї—В–Є–Ї–µ, –І–µ—А–љ–Њ–Љ –Є –С–µ–ї–Њ–Љ –Љ–Њ—А—П—Е, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–∞ –Т–Њ–ї–≥–µ –Є –љ–∞ –Р–Љ—Г—А–µ –±—Л—Б—В—А–Њ, –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ–Є —Б–µ—А–Є—П–Љ–Є. –Ь—Л –Ј–љ–∞–ї–Є, —З—В–Њ —Б–ї—Г–ґ–Є—В—М –љ–∞–Љ –њ—А–Є–і–µ—В—Б—П –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –љ–∞ —В–∞–Ї–Є—Е –ї–Њ–і–Ї–∞—Е, –Є –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є –Њ—Б—В–∞–≤—И–Є–µ—Б—П –і–Њ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є—П —Б—В–∞–ґ–Є—А–Њ–≤–Ї–Є –і–љ–Є –і–ї—П –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ, –µ—Б–ї–Є –љ–µ –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ–≥–Њ –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є—П, —В–Њ –≤–Њ –≤—Б—П–Ї–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –і–Њ–±—А–Њ—Б–Њ–≤–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Б—В–≤–∞ —Б —Н—В–Є–Љ–Є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П–Љ–Є. –Э–Њ –≤–Њ—В –Є —Б—В–∞–ґ–Є—А–Њ–≤–Ї–∞ –њ–Њ–Ј–∞–і–Є. –Ч–∞—В–∞–Є–≤ –і—Л—Е–∞–љ–Є–µ, —Б–ї—Г—И–∞–µ–Љ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј –Ь–Є–љ–Є—Б—В—А–∞ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л –°–°–°–† –Њ –њ—А–Є—Б–≤–Њ–µ–љ–Є–Є –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –≤ –љ–∞—И–µ–є –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Б–Ї–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±–µ –Ј–≤–∞–љ–Є—П. "–Ы–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В –Ї–Њ—А–∞–±–µ–ї—М–љ–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±—Л" - –Ј–≤—Г—З–Є—В?! –Ш–Ј –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї—М—Б–Ї–Є—Е —А—Г–Ї –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–µ–Љ —В–µ–Љ–љ–Њ-—Б–Є–љ–Є–µ –Ї–љ–Є–ґ–µ—З–Ї–Є —Б —А–µ–ї—М–µ—Д–љ—Л–Љ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≥–µ—А–±–∞ –љ–∞ –Њ–±–ї–Њ–ґ–Ї–µ - –і–Є–њ–ї–Њ–Љ—Л –Њ –≤—Л—Б—И–µ–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–Є. –Я–Њ–ї—Г—З–∞–µ–Љ –Ї—А–∞—Б–Є–≤—Л–µ —А–Њ–Љ–±–Њ–≤–Є–і–љ—Л–µ –Ј–љ–∞—З–Ї–Є —Б –Ї—А–∞—Б–љ—Л–Љ–Є —А—Г–±–Є–љ–Њ–≤—Л–Љ–Є –Ј–≤–µ–Ј–і–∞–Љ–Є –Є –Ј–Њ–ї–Њ—В—Л–Љ–Є –≥–µ—А–±–∞–Љ–Є –°–°–°–† –љ–∞ –Є—Е —Д–Њ–љ–µ, –љ–Њ–≤–µ–љ—М–Ї–Є–µ, —Б–≤–µ—А–Ї–∞—О—Й–Є–µ –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–Љ –Є —Б–ї–Њ–љ–Њ–≤–Њ–є –Ї–Њ—Б—В—М—О –Ї–Њ—А—В–Є–Ї–Є —Б —А–Њ–Љ–∞–љ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є —Б–Є–ї—Г—Н—В–∞–Љ–Є —П–Ї–Њ—А–µ–є –Є –њ–∞—А—Г—Б–љ–Є–Ї–Њ–≤ –љ–∞ –љ–Њ–ґ–љ–∞—Е –Є, –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, —Б–∞–Љ–Њ–µ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–µ - –Ј–Њ–ї–Њ—В—Л–µ —Б –Њ–і–љ–Є–Љ —З–µ—А–љ—Л–Љ –њ—А–Њ—Б–≤–µ—В–Њ–Љ –Є –і–≤—Г–Љ—П –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Є–Љ–Є —Б–µ—А–µ–±—А–Є—Б—В—Л–Љ–Є –Ј–≤–µ–Ј–і–Њ—З–Ї–∞–Љ–Є –њ–Њ–≥–Њ–љ—Л! –Ъ —Н—В–Є–Љ –њ–Њ–≥–Њ–љ–∞–Љ –Љ—Л —И–ї–Є –і–Њ–ї–≥–Є–µ —Б–µ–Љ—М –ї–µ—В! –Я–Њ—Б–ї–µ —А–Њ—Б–њ—Г—Б–Ї–∞ —Б—В—А–Њ—П - –±–µ–≥–Њ–Љ –≤ —Б–њ–∞–ї—М–љ—Л–µ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П (–њ–Њ-–љ–∞—И–µ–Љ—Г, "–Ї—Г–±—А–Є–Ї–Є"). –Ґ–µ–њ–µ—А—М –Ј–і–µ—Б—М –ґ–Є–≤—Г—В –Ї—Г—А—Б–∞–љ—В—Л –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ –љ–∞–±–Њ—А–∞. –Э–∞ –Є—Е –Ї–Њ–є–Ї–∞—Е –љ–∞—Б –ґ–і—Г—В –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л–µ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В—Л –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В—Г–∞–ї–µ—В–∞. –С—Л—Б—В—А–Њ –њ–µ—А–µ–Њ–і–µ–≤–∞–µ–Љ—Б—П –Є –Ї–∞–Ї –±—Л –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –≤–Є–і–Є–Љ –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥–∞: –љ–Њ–≤–µ–љ—М–Ї–Є–µ, –µ—Й–µ –љ–µ –Њ–±–Љ—П—В—Л–µ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Б–Ї–Є–µ —И–Є–љ–µ–ї–Є –і–µ–ї–∞—О—В –Є–Ј –љ–∞—Б –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є—Е "–ґ–µ–ї—В–Њ—А–Њ—В—Л—Е" –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В–Њ–≤. –Х—Й–µ —З–µ—А–µ–Ј –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–Є–љ—Г—В –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–Љ —Ж–µ—А–µ–Љ–Њ–љ–Є–∞–ї—М–љ—Л–Љ –Љ–∞—А—И–µ–Љ –њ–Њ —В–Њ–Љ—Г —Б–∞–Љ–Њ–Љ—Г –і–≤–Њ—А—Г-–њ–ї–∞—Ж—Г, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ —А–Њ–±–Ї–Њ –≤—Б—В—Г–њ–Є–ї–Є –ґ–∞—А–Ї–Є–Љ –ї–µ—В–Њ–Љ —Б–Њ—А–Њ–Ї —Б–µ–і—М–Љ–Њ–≥–Њ... –Э–µ —Й–∞–і—П –љ–Њ–≤–µ–љ—М–Ї–Є—Е –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Б–Ї–Є—Е –±–Њ—В–Є–љ–Њ–Ї, "–і–∞–µ–Љ –љ–Њ–ґ–Ї—Г", –Ј–∞–≥–ї—Г—И–∞—П –Њ—А–Ї–µ—Б—В—А. –Т–њ–µ—А–≤—Л–µ (—Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –≤—Б–µ –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ!) –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–Љ –Ъ–Я–Я –±–µ–Ј —Г–≤–Њ–ї—М–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –Ј–∞–њ–Є—Б–Њ–Ї. –Э–Њ—З—М—О –Ї—А—Г–ґ–Є–Љ—Б—П –≤ –≤–∞–ї—М—Б–∞—Е, —Б–Ї–∞—З–µ–Љ –≤ —Д–Њ–Ї—Б—В—А–Њ—В–∞—Е –Є –≤—Б—П—З–µ—Б–Ї–Є—Е —А–Њ–Ї-–љ-—А–Њ–ї–ї–∞—Е, –Љ–ї–µ–µ–Љ –≤ —В–∞–љ–≥–Њ –љ–∞ –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Њ–Љ –±–∞–ї—Г. –Я—А–∞–≤–і–∞, –Њ–љ –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є—В –≤ —З—Г–ґ–Њ–Љ –Ї–ї—Г–±–µ: –љ–∞—И –Ї–ї—Г–± –љ–∞ —А–µ–Љ–Њ–љ—В–µ. –Я—А–Є—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –Њ—В–Љ–µ—З–∞—В—М –≤—Л–њ—Г—Б–Ї –≤ –Ч–∞–ї–µ –†–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞ –Є–Љ–µ–љ–Є –§—А—Г–љ–Ј–µ. –Ч–∞—В–Њ —Г—В—А–Њ–Љ –Є–Љ–µ–µ–Љ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –њ–Њ–ї—Г—З–Є—В—М –±–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–µ–љ–Є–µ –≤ –і–Њ–ї–≥–Њ–µ –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є–µ –њ–Њ –ґ–Є–Ј–љ–Є –Є –Љ–Њ—А—П–Љ –Њ—В –Ъ—А—Г–Ј–µ–љ—И—В–µ—А–љ–∞ –Є —Д–∞–Љ–Є–ї–Є–є —Д–ї–Њ—В–Њ–≤–Њ–і—Ж–µ–≤, —Г—З–µ–љ—Л—Е, —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є –њ—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤, –Њ—В–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–љ—Л—Е –љ–∞ –Љ—А–∞–Љ–Њ—А–љ—Л—Е –і–Њ—Б–Ї–∞—Е. –Я—А–Њ—Й–∞–є, —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ! –Ф–Њ —Б–≤–Є–і–∞–љ–Є—П, –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і!  "–Ш–і–Є, –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В, –њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞–є –Я–µ—А–Є—Б–Ї–Њ–њ—Л. –Э–∞ –і–Њ–ї—О —В–≤–Њ—О –µ—Й–µ —Е–≤–∞—В–Є—В –Я–Њ–±–µ–і!.." –У–µ–љ–љ–∞–і–Є–є –Э–Њ–≤–Є—Ж–Ї–Є–є "–Ы–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В–∞–Љ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–∞–Љ" –°–Х–Т–Р–°–Ґ–Ю–Я–Ю–Ы–ђ–°–Ъ–Ш–Щ –Т–Р–Ы–ђ–°–Т –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є —А–∞–Ј, –њ—А–Њ—Б–Ї–Њ—З–Є–≤ –њ—А–Њ–±–Є—В—Л–є –≤ —З—А–µ–≤–µ –Ї—А—Л–Љ—Б–Ї–Њ–є –≥–Њ—А—Л —В–Њ–љ–љ–µ–ї—М, –њ–Њ–µ–Ј–і –≤—Л–љ—Л—А–љ—Г–ї –љ–∞–≤—Б—В—А–µ—З—Г —П—А–Ї–Њ–Љ—Г —О–ґ–љ–Њ–Љ—Г —Б–Њ–ї–љ—Ж—Г –Є –≤–љ–µ–Ј–∞–њ–љ–Њ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї—И–µ–Љ—Г –≤ –њ—А–∞–≤–Њ–Љ –Њ–Ї–љ–µ –≤–∞–≥–Њ–љ–∞ –Љ–Њ—А—О. –Ь–Њ—А–µ —Б–≤–µ—А–Ї–∞–ї–Њ —Б–Є–љ–µ-–Ј–µ–ї–µ–љ—Л–Љ–Є –±–ї–Є–Ї–∞–Љ–Є –Є –±—Л–ї–Њ –њ–Њ—З—В–Є –њ—А–Њ–Ј—А–∞—З–љ—Л–Љ. –Ь–љ–µ –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –Њ–љ–Њ —И–µ–њ—В–∞–ї–Њ: "–Ч–і—А–∞–≤—Б—В–≤—Г–є, –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В, –≤–Њ—В –Љ—Л –Є –≤—Б—В—А–µ—В–Є–ї–Є—Б—М, —З—В–Њ–±—Л —В–µ–њ–µ—А—М –љ–µ —А–∞—Б—Б—В–∞–≤–∞—В—М—Б—П! –Т–µ–і–Є —Б–≤–Њ–є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М –њ–Њ –Љ–Њ–Є–Љ –њ—А–Њ—Б—В–Њ—А–∞–Љ, —П —В–µ–±—П –љ–µ –њ–Њ–і–≤–µ–і—Г, –љ–µ –њ—А–µ–і–∞–≤–∞–є –Є —В—Л –Љ–µ–љ—П!" –ѓ –Є —Б–µ–є—З–∞—Б —Б —Г–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Є–µ–Љ –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О —Н—В–Њ —З–Є—Б—В–Њ–µ, —О–љ–Њ–µ —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ –≤–Њ—Б—В–Њ—А–≥–∞ –Є –ї—О–±–≤–Є –Ї —Б—В–Є—Е–Є–Є, —Б –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —Б–≤—П–Ј–∞–ї–∞ –Љ–µ–љ—П –ґ–Є–Ј–љ—М. –Т—Л—А–∞–ґ–∞—П—Б—М –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–Љ —П–Ј—Л–Ї–Њ–Љ, "–Њ—В–Ї—А—Л–ї—Б—П" –Є –±–µ–ї–Њ–Ї–∞–Љ–µ–љ–љ—Л–є –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—М. –ѓ —Г–ґ–µ —Г—Б–њ–µ–ї –њ—А–Є–≤—Л–Ї–љ—Г—В—М –Ї –љ–µ–Љ—Г –Ј–∞ –≤—А–µ–Љ—П –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є—Е –і–љ–µ–є —Б—В–∞–ґ–Є—А–Њ–≤–Ї–Є, –љ–Њ —Б–µ–є—З–∞—Б, –Ї–∞–Ї –±—Л –Ј–∞–љ–Њ–≤–Њ, —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–ї —А–∞–Ј–±—А–Њ—Б–∞–љ–љ—Л–µ –њ–Њ –њ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Љ –≥–Њ—А–Ї–∞–Љ —З–Є—Б—В–µ–є—И–µ–µ "—З–∞—Б—В–љ—Л–µ" –і–Њ–Љ–Є–Ї–Є –Є –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л–µ –Є–Ј —А—Г–Є–љ –Ї—А–∞—Б–Є–≤—Л–µ, –Ї–∞–Ї –њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ –±–µ–ї—Л–µ, —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–µ –і–Њ–Љ–∞. –Ш–Ј–і–∞–ї–µ–Ї–∞ –љ–µ –±—Л–ї–Є –Ј–∞–Љ–µ—В–љ—Л –µ—Й–µ –Є–Љ–µ–≤—И–Є–µ—Б—П –≤ –≥–Њ—А–Њ–і–µ —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ–Є—П - –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є—П –ґ–µ—Б—В–Њ–Ї–Є—Е –±–Њ–µ–≤ –Ј–∞ –≥–Њ—А–Њ–і –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ –Ј–і–µ—Б—М, –і—Г–Љ–∞–ї–Њ—Б—М –Љ–љ–µ, –њ—А–µ–і—Б—В–Њ–Є—В —Б–ї—Г–ґ–Є—В—М –і–Њ–ї–≥–Є–µ –≥–Њ–і—Л... –Ъ–∞–Ї —Е–Њ—А–Њ—И–Њ, —З—В–Њ –Љ–Њ–µ –ґ–µ–ї–∞–љ–Є–µ —Б–ї—Г–ґ–Є—В—М –љ–∞ –І–µ—А–љ–Њ–Љ –Љ–Њ—А–µ —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Њ! –Ч–∞–±–µ–≥–∞—П –≤–њ–µ—А–µ–і, —Б–Ї–∞–ґ—Г, —З—В–Њ –њ—А–Є—З–Є–љ–∞ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ "–Є–і–µ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ" —Б–Њ–≤–њ–∞–і–µ–љ–Є—П –±—Л–ї–∞ –і–Њ –Њ–±–Є–і–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—Б—В–∞. –Ъ–∞–і—А–Њ–≤—Л–µ –Њ—А–≥–∞–љ—Л –Т–Ь–§ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ –Ј–љ–∞–ї–Є, —З—В–Њ –±—Г—А–љ–Њ–µ —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї –≤ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –љ–µ–і–∞–ї–µ–Ї–Њ–Љ –±—Г–і—Г—Й–µ–Љ –њ—А–Є–≤–µ–і–µ—В –љ—Л–љ–µ—И–љ–Є—Е "—З–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Ж–µ–≤" –Є "–±–∞–ї—В–Є–є—Ж–µ–≤" –љ–∞ –њ—А–Њ—Б—В–Њ—А—Л —Б–µ–≤–µ—А–љ—Л—Е –Љ–Њ—А–µ–є –Є –Ґ–Є—Е–Њ–≥–Њ –Њ–Ї–µ–∞–љ–∞. –Э–Њ —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ –≤–њ–µ—А–µ–і–Є, –∞ –њ–Њ–Ї–∞ —П, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, —В–∞–Ї –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –љ–µ –Ј–∞–≥–ї—П–і—Л–≤–∞–ї –Є –≤ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ–Љ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є –і—Г—Е–∞ —Б–њ—А—Л–≥–љ—Г–ї –љ–∞ —Б–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–є –њ–µ—А—А–Њ–љ. –Ю—Д–Є—Ж–µ—А –Њ—В–і–µ–ї–∞ –Ї–∞–і—А–Њ–≤ —Д–ї–Њ—В–∞, –Ї –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г —П —П–≤–Є–ї—Б—П, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–і–Є–ї —В–Њ, —З—В–Њ –±—Л–ї–Њ –Љ–љ–µ –Њ–±—К—П–≤–ї–µ–љ–Њ –µ—Й–µ –≤ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ: —П –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–Љ –Љ–Є–љ–љ–Њ-—В–Њ—А–њ–µ–і–љ–Њ–є –≥—А—Г–њ–њ—Л –љ–∞ —Б—А–µ–і–љ—О—О –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Г—О –ї–Њ–і–Ї—Г –њ—А–Њ–µ–Ї—В–∞ 613 "–°-90".  –Ф–Я–Ы –њ—А.613 —Г –њ—А–Є—З–∞–ї–∞ (Whiskey-V) –І–µ—А–µ–Ј –њ–∞—А—Г —З–∞—Б–Њ–≤ —П —Г–ґ–µ "–љ—Л—А—П–ї" –≤ –≤–µ—А—Е–љ–Є–є —А—Г–±–Њ—З–љ—Л–є –ї—О–Ї "–°-90", –Њ—И–≤–∞—А—В–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є –Ї –Њ–і–љ–Њ–Љ—Г –Є–Ј –њ–Є—А—Б–Њ–≤ –Ѓ–ґ–љ–Њ–є –±—Г—Е—В—Л –≥–Њ—А–Њ–і–∞. –Ы–Њ–і–Ї–∞ –≤—Е–Њ–і–Є–ї–∞ –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤ –±–∞–ї–∞–Ї–ї–∞–≤—Б–Ї–Њ–є –±—А–Є–≥–∞–і—Л –Є –µ–µ –њ—А–µ–±—Л–≤–∞–љ–Є–µ –≤ –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї–µ –±—Л–ї–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–Љ. –≠–Ї–Є–њ–∞–ґ –ґ–Є–ї –љ–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ, –∞ –љ–µ –≤ –±–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ–є –Ї–∞–Ј–∞—А–Љ–µ –Є–ї–Є –љ–∞ –њ–ї–∞–≤–±–∞–Ј–µ, –Ї–∞–Ї —Н—В–Њ –њ—А–Є–љ—П—В–Њ —Г –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ –≤ –њ—А–Њ–Љ–µ–ґ—Г—В–Ї–∞—Е –Љ–µ–ґ–і—Г –≤—Л—Е–Њ–і–∞–Љ–Є –≤ –Љ–Њ—А–µ. –Т—А–µ–Љ—П –±—Л–ї–Њ –Њ–±–µ–і–µ–љ–љ–Њ–µ, –Є, –≤–Њ–є–і—П –≤–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–є –Њ—В—Б–µ–Ї, —П –Ј–∞—Б—В–∞–ї –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П –Ј–∞ –Њ–±–µ–і–µ–љ–љ—Л–Љ —Б—В–Њ–ї–Њ–Љ. –≠—В–Њ –Љ–µ–љ—П —Б–Љ—Г—В–Є–ї–Њ, –Є —П –±—Л–ї–Њ –Њ—В—Б—В—Г–њ–Є–ї –Ї –Ї–Њ—А–Љ–Њ–≤–Њ–є –њ–µ—А–µ–±–Њ—А–Ї–µ –Њ—В—Б–µ–Ї–∞, –љ–∞–Љ–µ—А–µ–≤–∞—П—Б—М –і–Њ–ґ–і–∞—В—М—Б—П –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є—П –Њ–±–µ–і–∞, –љ–Њ —Б–Є–і–µ–≤—И–Є–є –≤–Њ –≥–ї–∞–≤–µ —Б—В–Њ–ї–∞ —Б–Є–Љ–њ–∞—В–Є—З–љ—Л–є –Ї–Њ—А–µ–љ–∞—Б—В—Л–є —И–∞—В–µ–љ —Б —П—А–Ї–Њ-–≥–Њ–ї—Г–±—Л–Љ–Є –≥–ї–∞–Ј–∞–Љ–Є, –њ–Њ–≥–Њ–љ–∞–Љ–Є –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–∞ 3 —А–∞–љ–≥–∞ –Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Б–Ї–Њ–є "–ї–Њ–і–Њ—З–Ї–Њ–є" –љ–∞ –≥—А—Г–і–Є –ґ–µ—Б—В–Њ–Љ –њ–Њ–і–Њ–Ј–≤–∞–ї –Љ–µ–љ—П –Ї —Б–µ–±–µ. "–Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А", - –њ–Њ–љ—П–ї —П –Є, –≤—Л—В—П–љ—Г–≤—И–Є—Б—М, –і–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї –Њ –њ—А–Є–±—Л—В–Є–Є "–і–ї—П –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–≥–Њ –њ—А–Њ—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П —Б–ї—Г–ґ–±—Л". –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А —Б–ї–µ–≥–Ї–∞ –њ—А–Є–≤—Б—В–∞–ї –Є, –≤ —Б–≤–Њ—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є–ї—Б—П: "–Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А "–°-90" –®–∞–њ–Њ–≤–∞–ї–Њ–≤", –њ—А–Њ—В—П–љ—Г–ї –Љ–љ–µ –і–ї—П —А—Г–Ї–Њ–њ–Њ–ґ–∞—В–Є—П —А—Г–Ї—Г –Є –њ—А–Є–≥–ї–∞—Б–Є–ї –Ї —Б—В–Њ–ї—Г. –°—В–∞—А–њ–Њ–Љ, –і–≤—Г–Љ—П –≥–Њ–і–∞–Љ–Є —А–∞–љ—М—И–µ –Њ–Ї–Њ–љ—З–Є–≤—И–Є–є –љ–∞—И–µ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ, —Г–Ї–∞–Ј–∞–ї –Љ–љ–µ –љ–∞ —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ—Л–є –≤—А–∞—Й–∞—О—Й–Є–є—Б—П —Б—В—Г–ї-–њ–Њ–ї—Г–Ї—А–µ—Б–ї–Њ: "–Ґ—Г—В –±—Г–і–µ—В —В–≤–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ!" –°—Л—В–љ–Њ –њ–Њ–Њ–±–µ–і–∞–≤, –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Л –њ–Њ—В—П–љ—Г–ї–Є—Б—М –љ–∞–≤–µ—А—Е, –њ–µ—А–µ–Ї—Г—А–Є—В—М –њ–µ—А–µ–і —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–Љ –љ–∞ —Д–ї–Њ—В–µ –њ–Њ—Б–ї–µ–Њ–±–µ–і–µ–љ–љ—Л–Љ –Њ—В–і—Л—Е–Њ–Љ. –Ь–∞—В—А–Њ—Б—Л –Є —Б—В–∞—А—И–Є–љ—Л —В–Њ–ґ–µ –њ–Њ—В—П–љ—Г–ї–Є—Б—М –≤ –Ї—Г—А–Є–ї–Ї—Г —Г —В–Њ—А—Ж–∞ –њ–Є—А—Б–∞. –Т–љ—Г—В—А–Є –ї–Њ–і–Ї–Є –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–Є—Б—М –Љ–Њ—О—Й–Є–µ –њ–Њ—Б—Г–і—Г –±–∞—З–Ї–Њ–≤—Л–µ –Є –≤–∞—Е—В–∞. –Я—А–Њ–Є–Ј–љ–µ—Б—П –Њ–±—Л—З–љ—Г—О —Б–Ї–Њ—А–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Ї—Г: "–Я—А–Њ—И—Г —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є—П –Њ—В —Б—В–Њ–ї–∞!" (–і–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А —В–Њ–ї–Ї–Њ–Љ –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г –њ–Њ–љ—П—В—М —Б–Љ—Л—Б–ї–∞ —Н—В–Њ–≥–Њ —А–Є—В—Г–∞–ї–∞), —П –љ–∞—З–∞–ї –≤—Л–±–Є—А–∞—В—М—Б—П –Є–Ј —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —Г–≥–ї–∞. –Ш —В—Г—В, —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ —В–∞–Ї, –Ї–∞–Ї –Љ–љ–Њ–≥–Њ –ї–µ—В —Б–њ—Г—Б—В—П –Ј–∞—П–≤–Є—В –љ–∞ —Н–Ї—А–∞–љ–∞—Е —В–µ–ї–µ–≤–Є–Ј–Њ—А–Њ–≤ –®—В–Є—А–ї–Є—Ж—Г –Ь—О–ї–ї–µ—А, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –њ—А–Њ–Є–Ј–љ–µ—Б: "–Р –≤–∞—Б, –†—Г–і–Њ–ї—М—Д –Т–Є–Ї—В–Њ—А–Њ–≤–Є—З, —П –њ–Њ–њ—А–Њ—И—Г –Њ—Б—В–∞—В—М—Б—П!" –Х—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, —П –Ј–∞–Љ–µ—А, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ, –њ–Њ–≤–Є–љ—Г—П—Б—М –њ—А–Є–≥–ї–∞—И–∞—О—Й–µ–Љ—Г –ґ–µ—Б—В—Г –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞, –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї –Ј–∞ –љ–Є–Љ –≤ –Ї–Њ—А–Љ–Њ–≤–Њ–є - —Б–µ–і—М–Љ–Њ–є –Њ—В—Б–µ–Ї –ї–Њ–і–Ї–Є. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ —Н—В–Є–Љ –Њ—В—Б–µ–Ї–Њ–Љ —П, –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –Ї–Њ—А–∞–±–µ–ї—М–љ—Л–Љ —А–∞—Б–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ–Љ, –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞—В—М –Њ—В–љ—Л–љ–µ. –Т–µ–ґ–ї–Є–≤–Њ (—П —Г–ґ–µ —Г—Б–њ–µ–ї –Ј–∞–Љ–µ—В–Є—В—М –Є –Њ—Ж–µ–љ–Є—В—М –≤–µ–ґ–ї–Є–≤–Њ—Б—В—М –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞) –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ 3 —А–∞–љ–≥–∞ –≤—Л–њ—А–Њ–≤–∞–ґ–Є–≤–∞–µ—В –Є–Ј –Њ—В—Б–µ–Ї–∞ –±–∞—З–Ї–Њ–≤—Л—Е –Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ –і–ї—П –Љ–µ–љ—П –њ—А–Є–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –њ—А–Є–≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В—М –Є –њ—А–Њ—Б—В—А–µ–ї—П—В—М –≤–Њ–Ј–і—Г—Е–Њ–Љ –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –Ї–Њ—А–Љ–Њ–≤—Л—Е —В–Њ—А–њ–µ–і–љ—Л—Е –∞–њ–њ–∞—А–∞—В–Њ–≤. "–Р –≤–Њ—В —Н—В–Њ - —Г–і–∞—З–∞!" - –њ—А–Њ–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П –≤ –Љ–Њ–µ–є –≥–Њ–ї–Њ–≤–µ: –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —В–∞–Ї–Њ–є –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б —Б—В–Њ—П–ї –≤ –Љ–Њ–µ–Љ –±–Є–ї–µ—В–µ –љ–∞ –≥–Њ—Б—Н–Ї–Ј–∞–Љ–µ–љ–µ –њ–Њ —В–Њ—А–њ–µ–і–љ–Њ–Љ—Г –Њ—А—Г–ґ–Є—О. –ѓ —В–Њ–≥–і–∞ –±–ї–µ—Б—В—П—Й–µ –њ—А–Њ–і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞–ї –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–Є —Г–Љ–µ–љ–Є–µ –≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В—М –Є —Б—В—А–µ–ї—П—В—М –Є–Ј —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –∞–њ–њ–∞—А–∞—В–∞ –Є, –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –њ—П—В–µ—А–Ї—Г. –Э–Њ... –І—В–Њ —Н—В–Њ? –°–≥–Њ—А–∞—П –Њ—В —Б—В—Л–і–∞, —П, –Ї–∞–Ї —Б–ї–µ–њ–Њ–є –Ї–Њ—В–µ–љ–Њ–Ї, —В—Л—А–Ї–∞—О—Б—М –Љ–µ–ґ–і—Г –∞–њ–њ–∞—А–∞—В–∞–Љ–Є, –Љ–µ—З—Г—Б—М –њ–Њ –Њ—В—Б–µ–Ї—Г, –љ–Њ —П–≤–љ–Њ –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ—Л–µ –Ј–љ–∞–љ–Є—П —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П –Љ–µ—И–∞—О—В –Љ–љ–µ —А–∞–Ј—Л—Б–Ї–∞—В—М –љ—Г–ґ–љ—Л–µ –Ї–ї–∞–њ–∞–љ–∞ –Є —А—Л—З–∞–≥–Є... –Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –Є–Ј—А—П–і–љ–Њ –≤–Ј–Љ–Њ–Ї–љ—Г–≤, –њ–Њ–љ—Г—А–Њ –≥–ї—П–і—П –Ї—Г–і–∞-—В–Њ –Љ–Є–Љ–Њ –≥–ї–∞–Ј –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞, –њ—А–Є–Ј–љ–∞—О—Б—М –µ–Љ—Г –≤ —Б–≤–Њ–µ–є –љ–µ–Ї–Њ–Љ–њ–µ—В–µ–љ—В–љ–Њ—Б—В–Є. –Ы–Є—Ж–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –љ–µ–њ—А–Њ–љ–Є—Ж–∞–µ–Љ–Њ: "–Ґ–µ–њ–µ—А—М —П—Б–љ–Њ, —З–µ–Љ –≤–∞–Љ –љ—Г–ґ–љ–Њ –±—Г–і–µ—В –Ј–∞–љ—П—В—М—Б—П –≤ –±–ї–Є–ґ–∞–є—И–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П?" - "–Ґ–∞–Ї —В–Њ—З–љ–Њ!" - –≤—Л–і–∞–≤–ї–Є–≤–∞—О –Є–Ј —Б–µ–±—П —Г—Б—В–∞–≤–љ–Њ–є –Њ—В–≤–µ—В –Є –Њ—Б—В–∞—О—Б—М –≤ –Њ—В—Б–µ–Ї–µ –Њ–і–Є–љ –љ–∞ –Њ–і–Є–љ —Б –∞–њ–њ–∞—А–∞—В–∞–Љ–Є, –Љ–∞–≥–Є—Б—В—А–∞–ї—П–Љ–Є, —А—Л—З–∞–≥–∞–Љ–Є –Є –Ї–ї–∞–њ–∞–љ–∞–Љ–Є.  –Я—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В.
05.11.200909:0305.11.2009 09:03:56
–°—В—А–∞–љ–Є—Ж—Л:
–Я—А–µ–і.
|
1
|
...
|
779
|
780
|
781
|
782
|
783
|
...
|
865
|
–°–ї–µ–і.
|