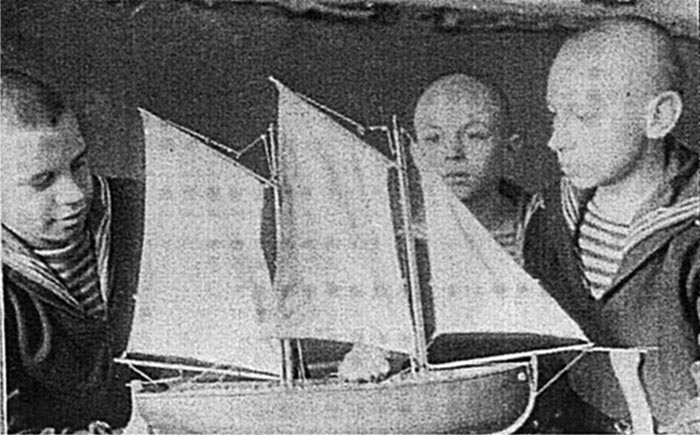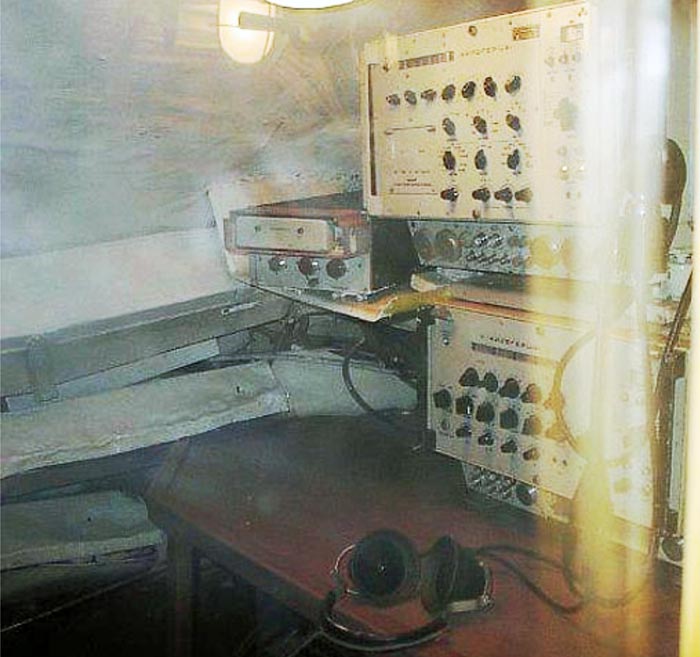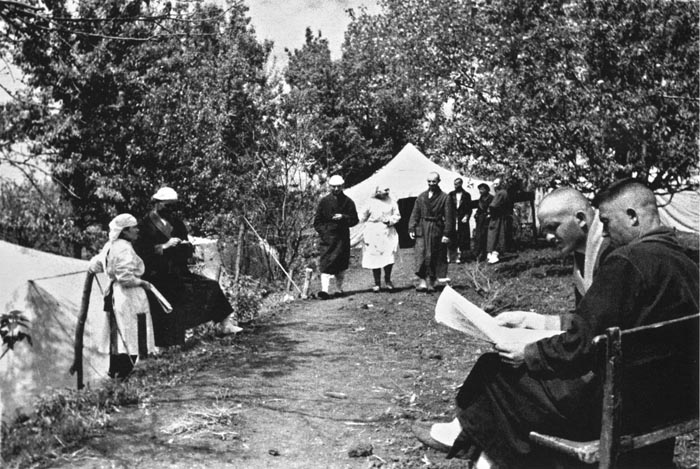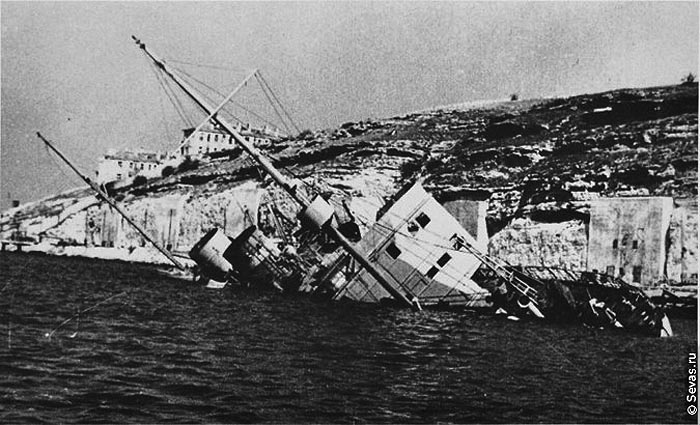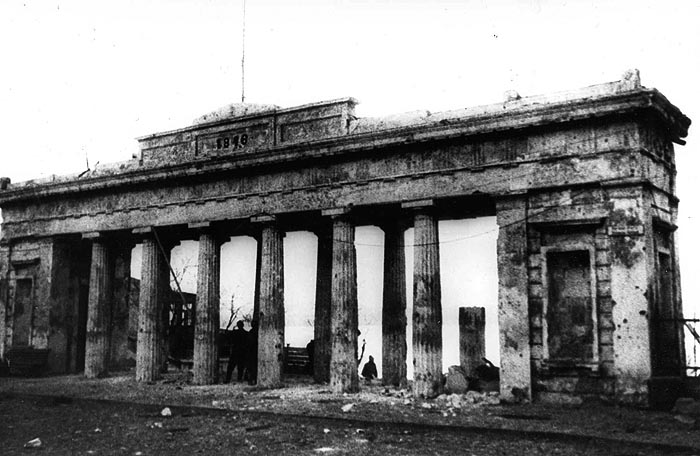–С–∞–љ–љ–µ—А

–Ш–Љ–њ–Њ—А—В–Њ–Ј–∞–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ
—Б—Г–і–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Њ–±–Њ—А—Г–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П
–і–ї—П –Т–Ь–§
|
–Т—Б–Ї–Њ—А–Љ–ї—С–љ–љ—Л–µ —Б –Ї–Њ–њ—М—П - –°–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є—П –Ј–∞ —П–љ–≤–∞—А—М 2013 –≥–Њ–і–∞
0
21.01.201302:1421.01.2013 02:14:21
–Я—А–µ—Б–љ–∞—П –≤–Њ–і–∞ –љ–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ –±—Л–ї–∞ –і–µ—Д–Є—Ж–Є—В–Њ–Љ, –љ–Њ –µ—Б–ї–Є —Г–і–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М –њ–µ—А–µ—Е–≤–∞—В–Є—В—М –ї–Є—И–љ–Є–є —Б—В–∞–Ї–∞–љ—З–Є–Ї, —В–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–∞ —Б–≤–Њ–µ–Љ —В–µ–ї–µ –њ—А–Њ—Б–ї–µ–і–Є—В—М —Б—В—А–∞–љ–љ–Њ–µ —П–≤–ї–µ–љ–Є–µ. –Ъ–Њ–≥–і–∞ —П –≤—Л–њ–Є–ї –Ј–∞–ї–њ–Њ–Љ –і–Њ—Б—В–∞–≤—И–Є–є—Б—П –Љ–љ–µ —Б—В–∞–Ї–∞–љ —Е–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ–є –≤–Њ–і–Є—З–Ї–Є, —В–Њ —З–µ—А–µ–Ј –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–µ–Ї—Г–љ–і –Њ—Й—Г—В–Є–ї —И–µ–≤–µ–ї–µ–љ–Є–µ –±—Г–Ї–≤–∞–ї—М–љ–Њ –≤—Б–µ–є –Ї–Њ–ґ–Є. –Ю–±—А–∞—В–Є–≤ –љ–∞ –љ–µ—С –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ, —П —Г–≤–Є–і–µ–ї, —З—В–Њ –њ–Њ –≤—Б–µ–Љ—Г —В–µ–ї—Г –њ–Њ–і —В–Њ–љ–Ї–Є–Љ –њ—А–Њ–Ј—А–∞—З–љ—Л–Љ —Б–ї–Њ–µ–Љ –Ї–Њ–ґ–Є –њ–Њ—П–≤–Є–ї–Є—Б—М —Б–≤–µ—В–ї—Л–µ –Љ–µ–ї–Ї–Є–µ –њ—Г–Ј—Л—А—М–Ї–Є –≤–Њ–і—Л. –Ю–љ–Є –ї–µ–≥–Ї–Њ –ї–Є–Ї–≤–Є–і–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –њ–Њ–ї–Њ—В–µ–љ—Ж–µ–Љ, –Є–Љ–µ–≤—И–Є–Љ—Б—П —Г –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ –≤ —А—Г–Ї–∞—Е –і–ї—П –±–Њ—А—М–±—Л —Б –њ–Њ—В–Њ–Љ. –Я–Њ–ї–Њ—В–µ–љ—Ж–µ –Є–Ј—А—П–і–љ–Њ –њ—А–Њ–Љ–Њ–Ї–ї–Њ, –µ–≥–Њ –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –Њ—В–ґ–Є–Љ–∞—В—М, –Ї —Б–ї—П–Ї–Њ—В–Є –љ–∞ –њ–∞–ї—Г–±–µ —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б—В–∞ –і–Њ–±–∞–≤–Є–ї–∞—Б—М –ї—Г–ґ–∞. –Э–∞ —Н—В–Њ–Љ –≤—Б—С –Є –Ї–Њ–љ—З–Є–ї–Њ—Б—М, —П –Њ—Б—В–∞–ї—Б—П —В–∞–Ї–Є–Љ –ґ–µ —А–∞–Ј–≥–Њ—А—П—З–µ–љ–љ—Л–Љ, –њ–Њ—В–љ—Л–Љ –Є –Љ—Г—З–Є–Љ—Л–є –ґ–∞–ґ–і–Њ–є, –Ї–∞–Ї–Є–Љ –Є –±—Л–ї –і–Њ —Б—В–∞–Ї–∞–љ–∞ –≤–Њ–і—Л. –Э–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –≤—Б—О –љ–µ–±–ї–∞–≥–Њ–њ—А–Є—П—В–љ—Г—О –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї—Г, –≤–µ—Б—М —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ –±–µ–Ј—А–Њ–њ–Њ—В–љ–Њ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П–ї —Б–≤–Њ–є –і–Њ–ї–≥, –љ–∞ –њ–Њ—Б—В–∞—Е, –≥–і–µ —В–µ–Љ–њ–µ—А–∞—В—Г—А–∞ –њ—А–Є–±–ї–Є–ґ–∞–ї–∞—Б—М –Ї 70 –≥—А–∞–і—Г—Б–∞–Љ, —Н–ї–µ–Ї—В—А–Є–Ї–Є, –≥–Є–і—А–Њ–∞–Ї—Г—Б—В–Є–Ї–Є, –і–∞–ґ–µ –њ—А–Є —Б–Њ–Ї—А–∞—Й—С–љ–љ–Њ–є –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –≤–∞—Е—В—Л, –±—Л–ї–Є –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ—Л –љ–µ—Б—В–Є –µ—С —Б –љ–∞—И–∞—В—Л—А—С–Љ –Є–Ј-–Ј–∞ –љ–µ—А–µ–і–Ї–Є—Е —Б–ї—Г—З–∞–µ–≤ –њ–Њ—В–µ—А–Є —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П. –Ґ–µ–Љ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–µ–Љ, –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г —Н—Б–Љ–Є–љ—Ж—Г –љ–∞–і–Њ–µ–ї–Њ –Ї—А—Г—В–Є—В—М—Б—П –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ –љ–µ–њ–Њ–і–≤–Є–ґ–љ–Њ–є –С-36, –Є –Њ–љ –љ–∞—З–∞–ї –≤–Ј—А—Л–≤–∞—В—М —Б–Є–≥–љ–∞–ї—М–љ—Л–µ –≥—А–∞–љ–∞—В—Л, –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, –њ—А–Є–≥–ї–∞—И–∞—П –љ–∞—Б –Ї –≤—Б–њ–ї—Л—В–Є—О. –£ –Љ–µ–љ—П –±—Л–ї –Њ–њ—Л—В –њ—А–Њ—Б–ї—Г—И–Є–≤–∞–љ–Є—П –≤–Ј—А—Л–≤–Њ–≤ –≥—А–∞–љ–∞—В, –Є–Љ–Є—В–Є—А–Њ–≤–∞–≤—И–Є—Е –≤–Ј—А—Л–≤—Л –≥–ї—Г–±–Є–љ–љ—Л—Е –±–Њ–Љ–±, –љ–∞ —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ—Л—Е —Г—З–µ–љ–Є—П—Е –°-178 –Є –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–ї–Њ–і–Њ—З–љ—Л—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є –Ъ–∞–Љ—З–∞—В—Б–Ї–Њ–є –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –§–ї–Њ—В–Є–ї–Є–Є –Ґ–Ю–§, –љ–Њ –≤–Ј—А—Л–≤—Л –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –≥—А–∞–љ–∞—В –њ–Њ –Є–љ—В–µ–љ—Б–Є–≤–љ–Њ—Б—В–Є –љ–µ –≤—Л–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–ї–Є –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ —Б—А–∞–≤–љ–µ–љ–Є—П —Б —В–µ–Љ, —З—В–Њ —П —Б–ї—Л—И–∞–ї –љ–∞ –Ґ–Ю–§–µ. –Ю–љ–Є –≥—Г–ї–Ї–Њ –Њ—В—А–∞–ґ–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–µ –ї–Њ–і–Ї–Є, –≤—Л–Ј—Л–≤–∞—П –Љ–Є–≥–∞–љ–Є–µ –ї–∞–Љ–њ–Њ—З–µ–Ї –Є –Њ—Б—Л–њ–∞–љ–Є–µ –Ї—А–Њ—И–µ–Ї –њ—А–Њ–±–Ї–Њ–≤–Њ–є –Є–Ј–Њ–ї—П—Ж–Є–Є —Б –њ–Њ–і–≤–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–≤ –Њ—В—Б–µ–Ї–Њ–≤. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –С-36 –і–∞–ї–∞ —Е–Њ–і –Љ–Њ—В–Њ—А–∞–Љ–Є, –≤–Ј—А—Л–≤—Л –њ—А–µ–Ї—А–∞—В–Є–ї–Є—Б—М, –∞ —А–∞–Ј—А—П–і–Ї–∞ –∞–Ї–Ї—Г–Љ—Г–ї—П—В–Њ—А–љ—Л—Е –±–∞—В–∞—А–µ–є —Г—Б–Ї–Њ—А–Є–ї–∞—Б—М, –љ–µ–Є–Ј–±–µ–ґ–љ–Њ –њ—А–Є–±–ї–Є–ґ–∞—П –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤—Б–њ–ї—Л—В–Є—П. –Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, —Н—В–Њ—В –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –љ–∞—Б—В—Г–њ–Є–ї. –Э–∞ –С-36 –±—Л–ї –њ—А–Њ–і—Г—В –≤–µ—Б—М –≥–ї–∞–≤–љ—Л–є –±–∞–ї–ї–∞—Б—В —Б—А–∞–Ј—Г, –Ї–∞–Ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Н—Б–Љ–Є–љ–µ—Ж –њ—А–Њ—И–µ–ї –љ–∞—И —В—А–∞–≤–µ—А–Ј –Є –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –ї–Њ–і–Ї—Г –Ј–∞ –Ї–Њ—А–Љ–Њ–є. –Ю–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –љ–∞—З–∞–ї–∞—Б—М –њ–µ—А–µ–і–∞—З–∞ –љ–∞ –¶–Ъ–Я –Т–Ь–§ —А–∞–і–Є–Њ –Њ –≤—Б–њ–ї—Л—В–Є–Є –ї–Њ–і–Ї–Є –Є –µ–µ –њ—А–µ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–ї–Њ–і–Њ—З–љ—Л–Љ–Є —Б–Є–ї–∞–Љ–Є –°–®–Р. –Я—А–µ–ґ–і–µ —З–µ–Љ –Њ—В–і—А–∞–Є—В—М —А—Г–±–Њ—З–љ—Л–є –ї—О–Ї, —З–µ—А–µ–Ј —И–∞—Е—В—Г –≤–і—Г–≤–љ–Њ–є –≤–µ–љ—В–Є–ї—П—Ж–Є–Є –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М —Б—А–∞–≤–љ—П—В—М –і–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –≤ –Њ—В—Б–µ–Ї–∞—Е —Б –∞—В–Љ–Њ—Б—Д–µ—А–љ—Л–Љ. –≠—В–Њ –і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ –≤—Л–Ј–≤–∞–ї–Њ –≤ –Њ—В—Б–µ–Ї–∞—Е —И–Є–њ–µ–љ–Є–µ –Є—Б–њ–∞—А—П–≤—И–µ–є—Б—П —Б –њ–∞–ї—Г–± —Б–ї—П–Ї–Њ—В–Є, –љ–∞ –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ —Б–Є—А–µ–љ–µ–≤–Њ–≥–Њ —В—Г–Љ–∞–љ–∞, —Б –Є—Б—З–µ–Ј–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ–Љ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –њ–∞–ї—Г–±—Л –Њ—В—Б–µ–Ї–Њ–≤ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є—Б—М —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ —Б—Г—Е–Є–Љ–Є. –Ы—О–Ї –Њ—В–і—А–∞–Є–≤–∞–ї –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ-–ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –Р–љ–і—А–µ–µ–≤. –Я—А–µ–ґ–і–µ —З–µ–Љ –њ–Њ–і–љ—П—В—М—Б—П –љ–∞ –Љ–Њ—Б—В–Є–Ї, –Њ–љ —З–µ—А–µ–Ј —А—Г–±–Њ—З–љ—Л–є –ї—О–Ї –њ—А–Њ—Б—Г–љ—Г–ї —А–∞–і–Є–Њ–∞–љ—В–µ–љ–љ—Г ¬Ђ–®—В—Л—А—М¬ї —Б –њ—А–Є–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–Љ –Ї –љ–µ–є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–Љ —Д–ї–∞–≥–Њ–Љ –°–°–°–†, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ –≤—Л—И–µ–ї –љ–∞ –Љ–Њ—Б—В–Є–Ї, –і–µ—А–ґ–∞ –∞–љ—В–µ–љ–љ—Г —Б —Д–ї–∞–≥–Њ–Љ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ –љ–∞–і —А—Г–±–Ї–Њ–є. 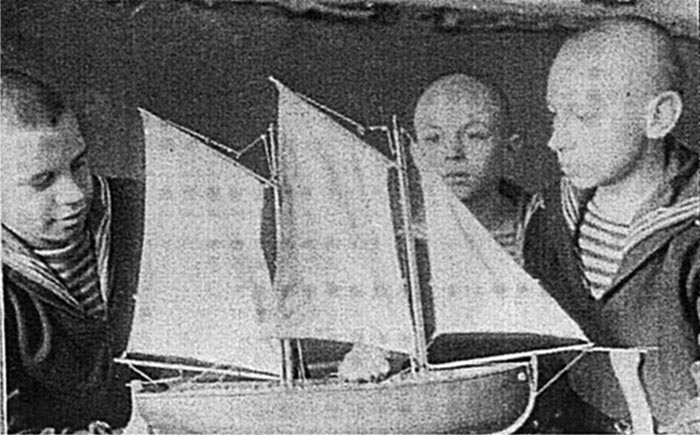 –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Ж—Л –Р.–Р–љ–і—А–µ–µ–≤, –Ѓ.–Ю—Б–Є–њ–Њ–≤ –Є –Т.–Ъ—Г—Б—В–∞—А–µ–≤ –љ–∞ —Г—А–Њ–Ї–µ –Т–Ь–Я. –Ф–≤–Њ–µ –Є–Ј –љ–Є—Е —Б—В–∞–ї–Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞–Љ–Є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї. –Ъ —Н—В–Њ–Љ—Г –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В—Г ¬Ђ–І–∞—А–ї—М–Ј –Я.–°–µ—Б—Б–Є–ї¬ї –њ—А–Є–±–ї–Є–ґ–∞–ї—Б—П –Ї –ї–Њ–і–Ї–µ —Б –µ—С –Ї–Њ—А–Љ–Њ–≤—Л—Е —Г–≥–ї–Њ–≤, –∞ –Њ—З–µ–љ—М –љ–Є–Ј–Ї–Њ –љ–∞–і —А—Г–±–Ї–Њ–є —З—Г—В—М –ї–Є –љ–µ –Ј–∞–і–µ–≤–∞—П –њ–Њ–і–љ—П—В—Л–є –љ–∞ —И—В—Л—А–µ —Д–ї–∞–≥, –њ—А–Њ–ї–µ—В–µ–ї –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–ї–Њ–і–Њ—З–љ—Л–є —Б–∞–Љ–Њ–ї—С—В –±–∞–Ј–Њ–≤–Њ–є –њ–∞—В—А—Г–ї—М–љ–Њ–є –∞–≤–Є–∞—Ж–Є–Є –Т–Ь–° –°–®–Р —В–Є–њ–∞ –Э–µ–њ—В—Г–љ. –Э–∞ —Н—Б–Љ–Є–љ—Ж–µ –±—Л–ї –њ–Њ–і–љ—П—В —Б–Є–≥–љ–∞–ї –Є–Ј —З–µ—В—Л—А—С—Е —Д–ї–∞–≥–Њ–≤ –°–≤–Њ–і–∞ —Б–Є–≥–љ–∞–ї–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Љ—Л –і–Њ–ї–≥–Њ –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є —А–∞–Ј–Њ–±—А–∞—В—М, –њ–Њ–Ї–∞ –љ–µ —А–∞–Ј–≥–ї—П–і–µ–ї–Є, —З—В–Њ —В–∞–Ї–Є–µ –ґ–µ —Д–ї–∞–≥–Є –љ–∞—А–Є—Б–Њ–≤–∞–љ—Л –љ–∞ –µ–≥–Њ –±–Њ–µ–≤–Њ–є —А—Г–±–Ї–µ. –Ґ—Г—В –Љ—Л –і–Њ–≥–∞–і–∞–ї–Є—Б—М, —З—В–Њ —Н—В–Њ –Љ–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ—Л–µ –њ–Њ–Ј—Л–≤–љ—Л–µ —Н—Б–Љ–Є–љ—Ж–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Њ–љ –њ–Њ–і–љ—П–ї –љ–∞ –Љ–∞—З—В–µ –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –њ—А–Є –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Б—В–≤–µ. –°–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–є —Б–Є–≥–љ–∞–ї –Є–Ј —В—А—С—Е —Д–ї–∞–≥–Њ–≤, –њ–Њ–і–љ—П—В—Л–є —Н—Б–Љ–Є–љ—Ж–µ–Љ, —П –ї–µ–≥–Ї–Њ –љ–∞—И–µ–ї –≤ –Ь–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–Љ —В—А—С—Е—Д–ї–∞–ґ–љ–Њ–Љ —Б–≤–Њ–і–µ —Б–Є–≥–љ–∞–ї–Њ–≤ (–Ь–°–°). –Ю–љ –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–ї –Ј–∞–њ—А–Њ—Б —Б —Н—Б–Љ–Є–љ—Ж–∞: ¬Ђ–І—В–Њ —Б–ї—Г—З–Є–ї–Њ—Б—М? –Э—Г–ґ–љ–∞ –ї–Є –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М?¬ї –°–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–µ —Б–Є–≥–љ–∞–ї–∞ —П –і–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї –љ–∞ –Љ–Њ—Б—В–Є–Ї, –≥–і–µ —Г–ґ–µ –±—Л–ї–Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –Є —Б—В–∞—А–њ–Њ–Љ –С-36, –∞ –≤ –Њ—В–≤–µ—В —Г—Б–ї—Л—И–∞–ї –њ–µ—А–µ–і–∞–љ–љ–Њ–µ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞: ¬Ђ–Э–µ –Њ—В–≤–µ—З–∞—В—М¬ї. –Т–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ, –Њ–љ –њ—А–Є–љ—П–ї –Љ–Њ–є –і–Њ–Ї–ї–∞–і –Ј–∞ –і–Њ–Ї–ї–∞–і –Њ—В —А–∞–і–Є—Б—В–Њ–≤. –Я–Њ—Б–ї–µ –љ–µ–Њ–і–љ–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ–є –њ–µ—А–µ–і–∞—З–Є —А–∞–і–Є–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ—Л –љ–∞ –¶–Ъ–Я –Т–Ь–§ –Њ –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–Љ –≤—Б–њ–ї—Л—В–Є–Є, –Љ—Л –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є –≤—Б–µ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л–µ –Ї–≤–Є—В–∞–љ—Ж–Є–Є –љ–∞ —А–∞–і–Є–Њ, –љ–Њ –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–є –љ–µ –њ–Њ–ї—Г—З–∞–ї–Є, –њ–Њ–Ї–∞ –љ–µ –і–Њ–љ–µ—Б–ї–Є –Њ–± —Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ–Љ –Њ—В—А—Л–≤–µ –Њ—В –њ—А–µ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є —Б–ї–µ–ґ–µ–љ–Є—П. –Я–ї–∞–≤–∞–љ–Є–µ –≤ —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Н—Б–Љ–Є–љ—Ж–∞ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –љ–∞ —А–µ–і–Ї–Њ—Б—В—М —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ—Л–Љ, –Є –µ—Б–ї–Є –±—Л –љ–µ –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ—Л–µ —В–µ—А–Ј–∞–љ–Є—П –Њ –њ—А–Њ–Є–≥—А—Л—И–µ –≤ —Б–≤–Њ–µ–Њ–±—А–∞–Ј–љ–Њ–є –і—Г—Н–ї–Є —Б –Я–Ы–° –Т–Ь–° –°–®–Р, –µ–≥–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –±—Л –љ–∞–Ј–≤–∞—В—М –Ї–Њ–Љ—Д–Њ—А—В–љ—Л–Љ. –Э–∞ –С-36 –љ–µ–њ—А–µ—А—Л–≤–љ–Њ –≤–µ–љ—В–Є–ї–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –Њ—В—Б–µ–Ї–Є —Б–≤–µ–ґ–Є–Љ –≤–Њ–Ј–і—Г—Е–Њ–Љ, —И–ї–∞ –њ–Њ–ї–љ–Њ—Ж–µ–љ–љ–∞—П –Ј–∞—А—П–і–Ї–∞ –∞–Ї–Ї—Г–Љ—Г–ї—П—В–Њ—А–љ–Њ–є –±–∞—В–∞—А–µ–Є, –±—Л–ї —Г–і–∞–ї—С–љ –≤–µ—Б—М –Љ—Г—Б–Њ—А –Є –Є—Б–њ–Њ—А—З–µ–љ–љ—Л–µ –њ—А–Њ–і—Г–Ї—В—Л, –љ–∞ –≤–µ—А—Е–љ–µ–є –њ–∞–ї—Г–±–µ –њ–µ—А–µ–±–Є—А–∞–ї–Є—Б—М –Њ—Б—В–∞–≤—И–Є–µ—Б—П –Њ–≤–Њ—Й–Є –Є —И–µ–ї —А–µ–Љ–Њ–љ—В –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л—Е –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–Љ–Њ–≤. –Ґ—А—О–Љ–љ—Л–µ —А–µ–Љ–Њ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є –≤–µ—А—Е–љ—О—О –Ї—А—Л—И–Ї—Г —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–∞ –Т–Ш–Я–°, –Љ–Њ—В–Њ—А–Є—Б—В—Л —З—В–Њ-—В–Њ –і–µ–ї–∞–ї–Є —Б –≥–∞–Ј–Њ–Њ—В–≤–Њ–і–∞–Љ–Є –і–Є–Ј–µ–ї–µ–є, –∞ —П –љ–∞ –Љ–Њ—Б—В–Є–Ї–µ —А–µ–Љ–Њ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–ї –Ј–∞–ї–Є—В—Л–є –≤–Њ–і–Њ–є –њ–µ–ї–µ–љ–≥–∞—В–Њ—А–љ—Л–є —А–µ–њ–Є—В–µ—А –≥–Є—А–Њ–Ї–Њ–Љ–њ–∞—Б–∞. –Ю–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤—Б–µ, –Ї—В–Њ –Є–Љ–µ–ї –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ –Ї –Љ–∞–љ–µ–≤—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—О –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є, –њ—А–Њ–і—Г–Љ—Л–≤–∞–ї–Є –Є —А–∞–Ј—А–∞–±–∞—В—Л–≤–∞–ї–Є –њ–ї–∞–љ –њ—А–µ–і—Б—В–Њ—П—Й–µ–≥–Њ –Њ—В—А—Л–≤–∞ –Њ—В —Б–ї–µ–ґ–µ–љ–Є—П. –С-36, –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞—П –Ј–∞—А—П–і–Ї—Г –∞–Ї–Ї—Г–Љ—Г–ї—П—В–Њ—А–љ–Њ–є –±–∞—В–∞—А–µ–Є, –Є–Љ–µ–ї–∞ —Е–Њ–і –љ–µ –±–Њ–ї–µ–µ 4-—Е —Г–Ј–ї–Њ–≤.  –Ґ–∞–Ї–∞—П –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–∞—П —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В—М –і–ї—П —Н—Б–Љ–Є–љ—Ж–∞ –°–®–Р –±—Л–ї–∞ –Ј–∞—В—А—Г–і–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–∞, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Њ–љ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ –Љ–∞–љ–µ–≤—А–Є—А–Њ–≤–∞–ї –≤–і–Њ–ї—М –ї–µ–≤–Њ–≥–Њ –±–Њ—А—В–∞ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є, –љ–µ —Г–і–∞–ї—П—П—Б—М –Њ—В –љ–µ—С –±–Њ–ї–µ–µ —З–µ–Љ –љ–∞ 5 –Ї–∞–±–µ–ї—М—В–Њ–≤. –Я–Њ—Б–ї–µ –њ—А–Њ—Е–Њ–і–∞ –≤–і–Њ–ї—М –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–∞ –С-36 –њ–∞—А–∞–ї–ї–µ–ї—М–љ—Л–Љ –Ї—Г—А—Б–Њ–Љ –љ–∞ —В—А–∞–≤–µ—А—Б–љ–Њ–Љ —А–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є –Њ—В –љ–µ—С –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 50 –Љ–µ—В—А–Њ–≤ –Є —Г–і–∞–ї–Є–≤—И–Є—Б—М –Њ—В –љ–µ—С –љ–∞ 5 –Ї–∞–±–µ–ї—М—В–Њ–≤, —Н—Б–Љ–Є–љ–µ—Ж –њ–Њ–≤–Њ—А–∞—З–Є–≤–∞–ї –≤–ї–µ–≤–Њ –љ–∞ –Њ–±—А–∞—В–љ—Л–є –Ї—Г—А—Б –Є –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–ї –Ї–Њ–љ—В—А–Ї—Г—А—Б–Њ–Љ, –љ–µ —Г–і–∞–ї—П—П—Б—М –Њ—В –ї–Њ–і–Ї–Є –і–∞–ї–µ–µ 5 –Ї–∞–±–µ–ї—М—В–Њ–≤—Л—Е, –њ–Њ—Б–ї–µ —З–µ–≥–Њ –Њ–њ—П—В—М –ї–Њ–ґ–Є–ї—Б—П –љ–∞ –њ–∞—А–∞–ї–ї–µ–ї—М–љ—Л–є –Ї—Г—А—Б. –Ґ–∞–Ї–Њ–µ, —П –±—Л —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –і–µ–ї–Є–Ї–∞—В–љ–Њ–µ –Љ–∞–љ–µ–≤—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ, —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–µ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–є –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–µ, –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–Њ—Б—М –љ–µ–њ—А–µ—А—Л–≤–љ–Њ –і–Њ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–≥—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –С-36. –≠—В–Њ–≥–Њ –љ–µ–ї—М–Ј—П –±—Л–ї–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М –Њ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П—Е –≤–µ—А—В–Њ–ї—С—В–Њ–≤ –Є —Б–∞–Љ–Њ–ї—С—В–Њ–≤ –Т–Ь–° –°–®–Р. –Ю–љ–Є –њ–µ—А–Є–Њ–і–Є—З–µ—Б–Ї–Є –њ—А–Њ–ї–µ—В–∞–ї–Є –љ–∞–і –ї–Њ–і–Ї–Њ–є –љ–∞ –Њ—З–µ–љ—М –Љ–∞–ї—Л—Е –≤—Л—Б–Њ—В–∞—Е, –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П—П —В–µ–ї–µ–≤–Є–Ј–Є–Њ–љ–љ—Г—О –Є —Д–Њ—В–Њ—Б—К—С–Љ–Ї—Г. –Э–µ–Ј–∞–і–Њ–ї–≥–Њ –і–Њ –Ј–∞–≤–µ—А—И–µ–љ–Є—П –≤—Б–µ—Е –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л—Е –Љ–µ—А–Њ–њ—А–Є—П—В–Є–є –њ–Њ –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–µ –С-36 –Ї –і–ї–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ—Г –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–Љ—Г –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є—О, –Ї–∞–Ї –≤—Б–µ–Љ –љ–∞–Љ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є–ї—Б—П —Г–і–Њ–±–љ—Л–є —Б–ї—Г—З–∞–є –і–ї—П –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є—П –њ–Њ–≥—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –Є –Њ—В—А—Л–≤–∞ –Њ—В —Б–ї–µ–ґ–µ–љ–Є—П. –Т –≤–µ—З–µ—А–љ–Є—Е —Б—Г–Љ–µ—А–Ї–∞—Е –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М —Б—Г–і–љ–Њ —Б –Њ–≥–љ—П–Љ–Є, –і–∞–≤–∞–≤—И–Є–Љ–Є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—М, —З—В–Њ —Н—В–Њ —В–∞–љ–Ї–µ—А. –Ъ–Њ–≥–і–∞ —В–∞–љ–Ї–µ—А –њ–Њ–і–Њ—И—С–ї –Ї –љ–∞–Љ –љ–∞ –Њ–і–љ—Г –Љ–Є–ї—О, —Н—Б–Љ–Є–љ–µ—Ж –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П –Ї –љ–µ–Љ—Г. –Я–∞–Љ—П—В—Г—П, –Ї–∞–Ї–Є–Љ –љ–µ –њ—А–Њ—Б—В—Л–Љ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–Њ–Љ –≤ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–Љ –Т–Ь–§, —П–≤–ї—П–ї–∞—Б—М –њ—А–Є—С–Љ–Ї–∞ —В–Њ–њ–ї–Є–≤–∞ –≤ –Љ–Њ—А–µ –љ–∞ —Е–Њ–і—Г, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –і–∞–ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г ¬Ђ–Я—А–Є–≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В—М—Б—П –Ї –њ–Њ–≥—А—Г–ґ–µ–љ–Є—О¬ї. –Ъ–∞–Ї–Њ–≤–Њ –ґ–µ –±—Л–ї–Њ –Є–Ј—Г–Љ–ї–µ–љ–Є–µ –≤—Б–µ—Е –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤, –Ї–Њ–≥–і–∞ –µ—Й—С –і–Њ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П —Н—В–Њ–є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Л –љ–∞ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–µ, —Н—Б–Љ–Є–љ–µ—Ж –Њ—В–Њ—И–µ–ї –Њ—В —В–∞–љ–Ї–µ—А–∞, –∞ –љ–∞—И–∞ —А–∞–і–Є–Њ—А–∞–Ј–≤–µ–і–Ї–∞ –њ–µ—А–µ—Е–≤–∞—В–Є–ї–∞ –µ–≥–Њ –і–Њ–љ–µ—Б–µ–љ–Є–µ –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥ –Њ –њ—А–Є—С–Љ–µ —Б —В–∞–љ–Ї–µ—А–∞ 150 —В–Њ–љ–љ —В–Њ–њ–ї–Є–≤–∞. –Ч–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–≤ –≤—Б–µ —А–∞–±–Њ—В—Л, –і–ї—П –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –±—Л–ї–Њ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—М—Б—П –≤ –љ–∞–і–≤–Њ–і–љ–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є, —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ –С-36 –≤—Б—В–∞–ї –њ–µ—А–µ–і –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М—О –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Є—В—М –Њ—В—А—Л–≤ –Њ—В —Б–ї–µ–ґ–µ–љ–Є—П. –Э–∞–і–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —З—В–Њ –Ї —Н—В–Њ–Љ—Г –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В—Г –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М —Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В—А—Л–≤–∞ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤–Њ–Ј—А–Њ—Б–ї–∞. –Т –Њ—В—Б–µ–Ї–∞—Е —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї—Б—П –љ–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ—Л–є –Љ–Є–Ї—А–Њ–Ї–ї–Є–Љ–∞—В, –≤—Б—С, —З—В–Њ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї–Њ –љ–µ–Њ—В–ї–Њ–ґ–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–Љ–Њ–љ—В–∞, –±—Л–ї–Њ –Њ—В—А–µ–Љ–Њ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Њ. –Я–Њ—Б–ї–µ —А–µ–Љ–Њ–љ—В–∞ –≤–µ—А—Е–љ–µ–є –Ї—А—Л—И–Ї–Є —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–∞ –Т–Ш–Я–°, –ї–Њ–і–Ї–∞ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–∞ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –≤—Л—Б—В—А–µ–ї–Є–≤–∞—В—М –њ—А–Є–±–Њ—А—Л –њ–Њ–Љ–µ—Е –Ї–Њ—А–∞–±–µ–ї—М–љ—Л–Љ –≥–Є–і—А–Њ–∞–Ї—Г—Б—В–Є–Ї–∞–Љ –Є –њ–Њ–≥—А—Г–ґ–∞—В—М—Б—П –і–Њ —А–∞–±–Њ—З–µ–є –≥–ї—Г–±–Є–љ—Л 240 –Љ–µ—В—А–Њ–≤, –∞ –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –Ј–∞—А—П–ґ–µ–љ–љ–∞—П –∞–Ї–Ї—Г–Љ—Г–ї—П—В–Њ—А–љ–∞—П –±–∞—В–∞—А–µ—П –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–ї–∞ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М –≤–µ—Б—М –і–Є–∞–њ–∞–Ј–Њ–љ —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В–µ–є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є. –Э–Њ, –њ–Њ–ґ–∞–ї—Г–є, —Б–∞–Љ—Л–Љ –≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ —Д–∞–Ї—В–Њ—А–Њ–Љ —Г—Б–њ–µ—Е–∞ –≤ –Њ—В—А—Л–≤–µ –Њ—В —Б–ї–µ–ґ–µ–љ–Є—П –≤ –Ї—А–∞—В—З–∞–є—И–Є–є —Б—А–Њ–Ї —П–≤–Є–ї–Њ—Б—М —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–∞ 2 —А–∞–љ–≥–∞ –Ф—Г–±–Є–≤–Ї–Њ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ—П –§–µ–і–Њ—Б–µ–µ–≤–Є—З–∞ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–Є—В—М —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –њ—А–Є—С–Љ –њ–Њ–і–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –≥–Є–і—А–Њ–ї–Њ–Ї–∞—В–Њ—А–∞ —Н—Б–Љ–Є–љ—Ж–∞, –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л–є –Љ–Є—З–Љ–∞–љ–Њ–Љ –Я–∞–љ–Ї–Њ–≤—Л–Љ. –Ф–µ–ї–Њ –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –≤—Б–µ–≥–Њ —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є—П —Н—Б–Љ–Є–љ–µ—Ж –љ–µ–њ—А–µ—А—Л–≤–љ–Њ —А–∞–±–Њ—В–∞–ї —А–∞–і–Є–Њ–ї–Њ–Ї–∞—В–Њ—А–Њ–Љ –Є –≥–Є–і—А–Њ–ї–Њ–Ї–∞—В–Њ—А–Њ–Љ. –Ь–Є—З–Љ–∞–љ –Я–∞–љ–Ї–Њ–≤, –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є–≤ —З–∞—Б—В–Њ—В—Г —А–∞–±–Њ—В—Л –≥–Є–і—А–Њ–ї–Њ–Ї–∞—В–Њ—А–∞, –Ј–∞–Љ–µ—В–Є–ї, —З—В–Њ –Њ–љ–∞ –≤—Е–Њ–і–Є—В –≤ –і–Є–∞–њ–∞–Ј–Њ–љ —З–∞—Б—В–Њ—В –љ–∞—И–µ–є —Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –≥–Є–і—А–Њ–∞–Ї—Г—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Б–≤—П–Ј–Є ¬Ђ–°–≤–Є—П–≥–∞¬ї, –Є –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї –љ–∞—Б—В—А–Њ–Є—В—М –µ—С –љ–∞ —З–∞—Б—В–Њ—В—Г –≥–Є–і—А–Њ–ї–Њ–Ї–∞—В–Њ—А–∞ —Н—Б–Љ–Є–љ—Ж–∞, —З—В–Њ–±—Л —Б–і–µ–ї–∞—В—М –µ–≥–Њ –≤ –љ—Г–ґ–љ—Л–є –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –±–µ—Б–њ–Њ–ї–µ–Ј–љ—Л–Љ —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О –љ–µ–њ—А–µ—А—Л–≤–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–Є–≥–љ–∞–ї–∞ –°–≤–Є—П–≥–Є.  –£—Б–њ–µ—И–љ–Њ—Б—В—М –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П –Љ–∞–љ–µ–≤—А–∞ –Њ—В—А—Л–≤–∞ –њ—А–µ–≤–Ј–Њ—И–ї–∞ –≤—Б–µ –Њ–ґ–Є–і–∞–љ–Є—П. –Я—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є —Б –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В–∞ –њ–Њ–≥—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –С-36 –љ–µ —Б–Љ–Њ–≥ –љ–Є –љ–∞ –Љ–Є–љ—Г—В—Г —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М —Б –љ–µ–є –Ї–Њ–љ—В–∞–Ї—В. –Ь–∞–љ–µ–≤—А –±—Л–ї –љ–∞—З–∞—В, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Н—Б–Љ–Є–љ–µ—Ж, —Б–ї–µ–і—Г—П –њ–∞—А–∞–ї–ї–µ–ї—М–љ—Л–Љ –Ї—Г—А—Б–Њ–Љ, —Г—И–µ–ї –љ–∞ 2-3 –Ї–∞–±–µ–ї—М—В–Њ–≤–∞ –≤–њ–µ—А—С–і. –Ы–Њ–і–Ї–∞ —Н–Ї—Б—В—А–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ–≥—А—Г–Ј–Є–ї–∞—Б—М –љ–∞ —Е–Њ–і—Г 12 —Г–Ј–ї–Њ–≤, –њ–µ—А–µ—Б–µ–Ї–∞—П –Ї–Є–ї—М–≤–∞—В–µ—А–љ—Г—О —Б—В—А—Г—О —Н—Б–Љ–Є–љ—Ж–∞, –≤—Л—Б—В–∞–≤–Є–ї–∞ –љ–∞ –≥–ї—Г–±–Є–љ–µ 60 –Љ–µ—В—А–Њ–≤ –Є–Ј —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–∞ –Т–Ш–Я–° –Є–Љ–Є—В–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є –њ–∞—В—А–Њ–љ, —Б–Њ–Ј–і–∞–≤—И–Є–є –Є–Ј –њ—Г–Ј—Л—А—М–Ї–Њ–≤ –Њ–±–ї–∞–Ї–Њ, –Є–Љ–Є—В–Є—А–Њ–≤–∞–≤—И–µ–µ –і–ї—П –≥–Є–і—А–Њ–ї–Њ–Ї–∞—В–Њ—А–∞ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є, –Ј–∞—В–µ–Љ, –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞—П –њ–Њ–≥—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ –і–Њ –≥–ї—Г–±–Є–љ—Л 200 –Љ–µ—В—А–Њ–≤, –њ—А–Є–≤–µ–ї–∞ —Н—Б–Љ–Є–љ–µ—Ж –Ј–∞ –Ї–Њ—А–Љ—Г –Є –љ–∞—З–∞–ї–∞ –±—Л—Б—В—А–Њ —Г–і–∞–ї—П—В—М—Б—П. –Ю–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Н—Б–Љ–Є–љ–µ—Ж –і–≤–∞–ґ–і—Л –љ–∞—З–Є–љ–∞–ї —А–∞–±–Њ—В–∞—В—М –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –ї–Њ–і–Ї–Є –≥–Є–і—А–Њ–ї–Њ–Ї–∞—В–Њ—А–Њ–Љ, –∞–Ї—Г—Б—В–Є–Ї–Є –С-36 –њ–Њ–і–∞–≤–ї—П–ї–Є —Б–Є–≥–љ–∞–ї–Њ–Љ ¬Ђ–°–≤–Є—П–≥–Є¬ї –µ–≥–Њ —А–∞–±–Њ—В—Г, –Є —Н—Б–Љ–Є–љ–µ—Ж –≤—Л–Ї–ї—О—З–∞–ї —Б–≤–Њ–є –≥–Є–і—А–Њ–ї–Њ–Ї–∞—В–Њ—А. –Я—А–Є —В—А–µ—В—М–µ–Љ –≤–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–Є –≥–Є–і—А–Њ–ї–Њ–Ї–∞—В–Њ—А —Н—Б–Љ–Є–љ—Ж–∞ —А–∞–±–Њ—В–∞–ї –≤ –Ї—А—Г–≥–Њ–≤–Њ–Љ –њ–Њ–Є—Б–Ї–µ, –±—Л–ї –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –Є –љ–µ –Њ–њ–∞—Б–µ–љ –і–ї—П –ї–Њ–і–Ї–Є, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г —А–µ—И–Є–ї–Є –µ–Љ—Г –љ–µ –Љ–µ—И–∞—В—М –Є –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–Є —Г–≤–µ–ї–Є—З–Є–≤–∞—В—М –і–Є—Б—В–∞–љ—Ж–Є—О. –Я–Њ–Љ–љ—П –Њ–± –Њ–њ—Л—В–µ –њ—А–µ–і—Л–і—Г—Й–µ–≥–Њ –љ–µ—Г–і–∞—З–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В—А—Л–≤–∞ –Њ—В —Н—Б–Љ–Є–љ—Ж–∞, –≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ—В–µ—А—П–≤—И–µ–≥–Њ –∞–Ї—Г—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Ї–Њ–љ—В–∞–Ї—В —Б –С-36, —П –±—Л–ї –Њ–Ј–∞–±–Њ—З–µ–љ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М—О –≤ —Н—В–Њ—В —А–∞–Ј –Ї–∞–Ї –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л—Б—В—А–µ–µ –Є –±–Њ–ї—М—И–µ –µ—С —Г–≤–µ–ї–Є—З–Є—В—М. –Р —Г –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П, –Ј–∞—И–µ–і—И–µ–≥–Њ –Ї–Њ –Љ–љ–µ –≤ —И—В—Г—А–Љ–∞–љ—Б–Ї—Г—О —А—Г–±–Ї—Г, –њ–Њ—П–≤–Є–ї–Њ—Б—М –љ–∞–Љ–µ—А–µ–љ–Є–µ —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—В—М –Ј–∞—А—П–і –∞–Ї–Ї—Г–Љ—Г–ї—П—В–Њ—А–љ–Њ–є –±–∞—В–∞—А–µ–Є, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Љ–љ–µ –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –њ—А–Є –і–Њ–Ї–ї–∞–і–∞—Е –µ–Љ—Г –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Ј–∞–љ–Є–ґ–∞—В—М —В–µ–Ї—Г—Й—Г—О –і–Є—Б—В–∞–љ—Ж–Є—О –і–Њ —Н—Б–Љ–Є–љ—Ж–∞, —З—В–Њ–±—Л –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞—В—М –Њ—В—А—Л–≤. –Т –Љ–Њ–µ–Љ –љ–∞–Љ–µ—А–µ–љ–Є–Є –Љ–љ–µ –њ–Њ–Љ–Њ–≥ –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ-–ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В –Р–љ–і—А–µ–µ–≤, –≤–Њ—И–µ–і—И–Є–є –≤ —А—Г–±–Ї—Г –њ–Њ—Б–ї–µ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞. –Я–µ—А–µ–Ї—А—Л–≤ —Б–≤–Њ–Є–Љ —В–µ–ї–Њ–Љ –≤—Л—Е–Њ–і –Є–Ј —А—Г–±–Ї–Є –Є –Ј–∞–Ї—А—Л–≤ –і–≤–µ—А—М, –Њ–љ —В–∞–Ї–ґ–µ –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Љ–љ–µ–љ–Є–µ –Њ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞—В—М –Њ—В—А—Л–≤. –£–±–µ–і–Є–≤—И–Є—Б—М, —З—В–Њ –С-36 –Њ—В–Њ—И–ї–∞ –Њ—В –Љ–µ—Б—В–∞ –њ–Њ–≥—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ —З–µ–Љ –љ–∞ 12 –Љ–Є–ї—М, —П –і–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Г –Њ–± —Н—В–Њ–Љ —А–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є –Є –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –Њ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є —Б–±–∞–≤–Є—В—М —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В—М.  –≠—Б–Љ–Є–љ–µ—Ж –Т–Ь–° –°–®–Р –І–∞—А–ї—М–Ј –Я.–°–µ—Б–Є–ї. –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є –≤–Ј–≥–ї—П–і —Б –С-36 –љ–∞ –Ї–Њ–љ–≤–Њ–Є—А–∞ –њ–µ—А–µ–і –њ–Њ–≥—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ. –†–∞—Б—Б—В–∞–µ–Љ—Б—П –љ–∞–≤—Б–µ–≥–і–∞. –° —Н—В–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В–∞ —Г –С-36 –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е –≤—Б—В—А–µ—З —Б –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П–Љ–Є –Т–Ь–° –°–®–Р –і–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–∞ –њ–Њ—Е–Њ–і–∞ –љ–µ –±—Л–ї–Њ. –Ю–± –Њ—В—А—Л–≤–µ –Њ—В —Б–ї–µ–ґ–µ–љ–Є—П –±—Л–ї–Њ –љ–µ–Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ –і–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Њ –љ–∞ –¶–Ъ–Я –Т–Ь–§ –Є –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–∞ –Ї–≤–Є—В–∞–љ—Ж–Є—П –Њ –њ—А–Є—С–Љ–µ –љ–∞—И–µ–≥–Њ –і–Њ–љ–µ—Б–µ–љ–Є—П. –І–µ—А–µ–Ј –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –љ–∞–Љ –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї–Њ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ –њ–Њ —Б–≤—П–Ј–Є, –љ–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –ґ–і–∞–ї —А–∞–і–Є–Њ —Б —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –њ–Њ –љ–∞—И–Є–Љ –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–Є–Љ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П–Љ, –∞ –Њ –љ–Є—Е –љ–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –±—Л–ї–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ. –Ш —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ –њ—А–Њ—И–µ—Б—В–≤–Є–Є –±–Њ–ї–µ–µ —Б—Г—В–Њ–Ї, –њ–Њ–ї—Г—З–Є–≤ –Њ—З–µ—А–µ–і–љ—Г—О —Б–ї—Г–ґ–µ–±–љ—Г—О —А–∞–і–Є–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ—Г, —И–Є—Д—А–Њ–≤–∞–ї—М—Й–Є–Ї –њ—А–Є—И–µ–ї –Ї —А–∞–і–Є—Б—В–∞–Љ –Є –Ј–∞—П–≤–Є–ї, —З—В–Њ, —Б—Г–і—П –њ–Њ –µ–≥–Њ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –≥—А—Г–њ–њ–∞–Љ, —А–∞–і–Є—Б—В—Л –њ—А–Њ–њ—Г—Б—В–Є–ї–Є –Њ–і–љ—Г —А–∞–і–Є–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ—Г. –Ю–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ –њ—А–Є—С–Љ–∞ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–є –њ–Њ —Б–≤—П–Ј–Є –≤—Б–Ї–Њ—А–µ –њ—А–Є—И–ї–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–µ —А–∞–і–Є–Њ —Б —В–Њ–є –ґ–µ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –і–ї—П —А–∞–і–Є—Б—В–Њ–≤ –≥—А—Г–њ–њ–Њ–є, —З—В–Њ –Є —А–∞–і–Є–Њ —Б —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П–Љ–Є –њ–Њ —Б–≤—П–Ј–Є. –°—З–Є—В–∞—П, —З—В–Њ —Н—В–Њ –њ–Њ–≤—В–Њ—А–µ–љ–Є–µ –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ —А–∞–і–Є–Њ, —А–∞–і–Є—Б—В—Л –љ–µ –њ–µ—А–µ–і–∞–ї–Є –µ–≥–Њ —И–Є—Д—А–Њ–≤–∞–ї—М—Й–Є–Ї—Г, –∞ –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї–Є –µ–≥–Њ –≤ –Ї–Њ—А–Ј–Є–љ—Г. –Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –њ–Њ –≤–Є–љ–µ –њ–µ—А–µ–і–∞—О—Й–µ–≥–Њ —А–∞–і–Є–Њ—Ж–µ–љ—В—А–∞ –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ (–Є –љ–µ–≤–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є —А–∞–і–Є—Б—В–Њ–≤?) –С-36 –±–Њ–ї–µ–µ —Б—Г—В–Њ–Ї –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–∞—Б—М –±–µ–Ј —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П —Б –¶–Ъ–Я. –Ъ–Њ–≥–і–∞ —И–Є—Д—А–Њ–≤–∞–ї—М—Й–Є–Ї —А–∞—Б—И–Є—Д—А–Њ–≤–∞–ї –Є–Ј–≤–ї–µ—З–µ–љ–љ—Г—О –Є–Ј –Ї–Њ—А–Ј–Є–љ—Л —А–∞–і–Є–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ—Г, –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –і–ї—П –С-36 –±—Л–ї–∞ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–∞ –љ–Њ–≤–∞—П –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—П, –љ–∞—Е–Њ–і–Є–≤—И–∞—П—Б—П –≤ –њ—П—В–Є—Б—В–∞—Е –Љ–Є–ї—П—Е –Ї —Б–µ–≤–µ—А–Њ-–≤–Њ—Б—В–Њ–Ї—Г –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –Њ—В –љ–∞—И–µ–≥–Њ –Љ–µ—Б—В–Њ–љ–∞—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П, –Ј–∞–љ—П—В—М –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –Љ—Л —Г–ґ–µ –Њ–њ–∞–Ј–і—Л–≤–∞–ї–Є. –Я—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –≤—Б–њ–ї—Л—В—М –Є –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П—В—М –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–љ–Њ–µ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ –њ–Њ–ї–љ—Л–Љ —Е–Њ–і–Њ–Љ. –Ъ –Њ–±—Й–µ–Љ—Г —Г–і–Є–≤–ї–µ–љ–Є—О –Є —Г–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Є—О –њ–µ—А–≤—Л–µ 400 –Љ–Є–ї—М —Н—В–Њ–≥–Њ –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–∞ –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–ї–Є –њ—А–Є –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–Є—П —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–ї–Њ–і–Њ—З–љ—Л—Е —Б–Є–ї –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞. –Т —В–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П –≤ —А–∞–є–Њ–љ–µ –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–є, –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–љ—Л—Е –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–Љ –ї–Њ–і–Ї–∞–Љ 69-–є –±—А–Є–≥–∞–і—Л, –љ–∞—И–∞ —А–∞–і–Є–Њ—А–∞–Ј–≤–µ–і–Ї–∞ –Ј–∞—Д–Є–Ї—Б–Є—А–Њ–≤–∞–ї–∞ –љ–∞–ї–Є—З–Є–µ –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–µ—А—В–Њ–ї—С—В–Њ–љ–Њ—Б—Ж–∞ ¬Ђ–Ґ–Х–Ґ–Ш–°-–С–Х–Щ¬ї —Б –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П–Љ–Є –Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є—П –Є —Г—Б–Є–ї–µ–љ–љ–Њ–µ –њ–∞—В—А—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —А–∞–є–Њ–љ–∞ —Б–Є–ї–∞–Љ–Є –±–∞–Ј–Њ–≤–Њ–є –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–ї–Њ–і–Њ—З–љ–Њ–є –∞–≤–Є–∞—Ж–Є–Є. –° –њ—А–Є–±–ї–Є–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –Ї —Б–≤–Њ–µ–є –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є –љ–∞ 50-40 –Љ–Є–ї—М, –Љ—Л –њ—А–Њ—З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є –Є—Е –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ —Б–њ–Њ–ї–љ–∞. –Ю –љ–∞—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є –≤ –љ–∞–і–≤–Њ–і–љ–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Њ –±—Л—В—М –Є —А–µ—З–Є –Є–Ј-–Ј–∞ –љ–µ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–∞–≤—И–Є—Е—Б—П —Б–Є–≥–љ–∞–ї–Њ–≤ —Б–∞–Љ–Њ–ї—С—В–љ—Л—Е –Є –Ї–Њ—А–∞–±–µ–ї—М–љ—Л—Е —А–∞–і–Є–Њ–ї–Њ–Ї–∞—В–Њ—А–Њ–≤. 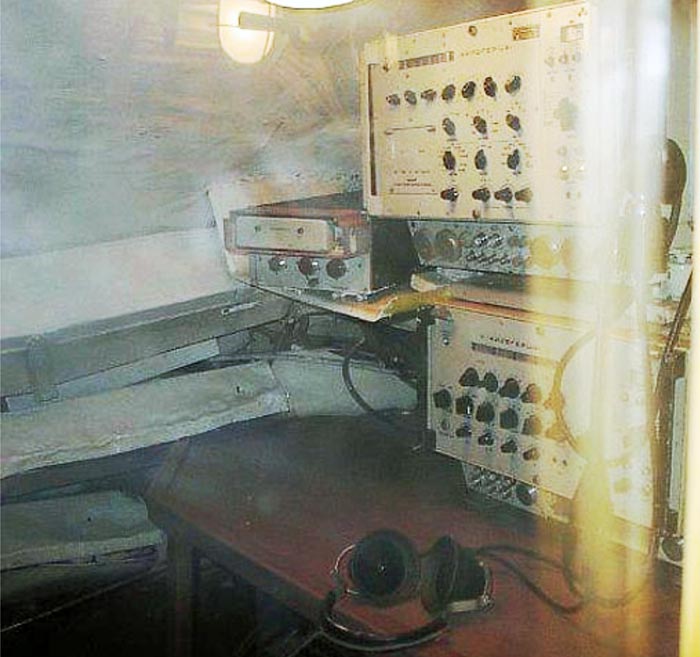 –£ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П –њ–Њ—П–≤–Є–ї–Њ—Б—М –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ, —З—В–Њ —В–∞–Ї–∞—П —Б–≤–Њ–µ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–∞—П –Ї–Њ–љ—Ж–µ–љ—В—А–∞—Ж–Є—П –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–ї–Њ–і–Њ—З–љ—Л—Е —Б–Є–ї –≤ —А–∞–є–Њ–љ–∞—Е –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–є, –љ–∞–Ј–љ–∞—З–∞–µ–Љ—Л—Е –і–ї—П –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї, –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–∞ –±–µ–Ј –љ–∞–ї–Є—З–Є—П —И–њ–Є–Њ–љ–∞ –≤ —Б–Є—Б—В–µ–Љ–µ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П —Б–Є–ї–∞–Љ–Є –Т–Ь–§ –°–°–°–†. –Ш —Е–Њ—В—П –Љ–љ–Њ–≥–Њ–µ –Њ–±—К—П—Б–љ–Є–ї–Њ—Б—М —А–∞–±–Њ—В–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л ¬Ђ–°–Ю–°–£–°¬ї, –Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є, –≤ —В–Њ–Љ –њ–Њ—Е–Њ–і–µ –Љ—Л –љ–µ –Ј–љ–∞–ї–Є, –≤—Б—С —А–∞–≤–љ–Њ —Н—В–Є –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П —А–∞–Ј–≤–µ—П–ї–Є—Б—М –љ–µ –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О. –Х—Б–ї–Є –±—Л–ї –Я–µ–љ—М–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є, —В–Њ –Љ–Њ–≥–ї–Є –±—Л—В—М –Є –і—А—Г–≥–Є–µ –µ–Љ—Г –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–µ. –Т—Б–Ї–Њ—А–µ –њ–Њ—Б–ї–µ –Ј–∞–љ—П—В–Є—П –Ј–∞–і–∞–љ–љ–Њ–є –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є –љ–∞—Б –њ–Њ–і—Б—В–µ—А–µ–≥–∞–ї–∞ –µ—Й—С –Њ–і–љ–∞ –љ–µ–њ—А–Є—П—В–љ–Њ—Б—В—М. 7-–≥–Њ –љ–Њ—П–±—А—П –њ—А–Є –њ–Њ–њ—Л—В–Ї–µ –Ј–∞–њ—Г—Б—В–Є—В—М –ї–µ–≤—Л–є –і–Є–Ј–µ–ї—М –і–ї—П —А–∞–±–Њ—В—Л –љ–∞ –≤–Є–љ—В –њ–Њ–і –†–Ф–Я, –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –≥–Є–і—А–∞–≤–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–і–∞—А–∞, –Њ–љ –±—Л–ї –≤—Л–≤–µ–і–µ–љ –Є–Ј —Б—В—А–Њ—П –Є–Ј-–Ј–∞ –њ–Њ–њ–∞–і–∞–љ–Є—П –Ј–∞–±–Њ—А—В–љ–Њ–є –≤–Њ–і—Л –≤ –µ–≥–Њ —Ж–Є–ї–Є–љ–і—А—Л. –Т –њ—А–∞–≤–Њ–Љ –і–Є–Ј–µ–ї–µ –≤–Њ –≤—Б–µ—Е —Ж–Є–ї–Є–љ–і—А–∞—Е —В–∞–Ї–ґ–µ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞—Б—М –≤–Њ–і–∞. –°–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, –і–Њ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П –≤ –њ–Њ—Е–Њ–і–љ—Л—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е —Б–ї–Њ–ґ–љ—Л—Е, —В—А—Г–і–Њ—С–Љ–Ї–Є—Е —А–∞–±–Њ—В –њ–Њ –≤—Б–Ї—А—Л—В–Є—О –Ї—А—Л—И–µ–Ї –Є –Њ—Б–Љ–Њ—В—А—Г –≤—Б–µ—Е —Ж–Є–ї–Є–љ–і—А–Њ–≤ —Б –≤—Л—П—Б–љ–µ–љ–Є–µ–Љ –њ—А–Є—З–Є–љ –њ–Њ–њ–∞–і–∞–љ–Є—П –≤–Њ–і—Л –≤ –љ–Є—Е –Є –Њ–љ –±—Л–ї –љ–µ —А–∞–±–Њ—В–Њ—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–µ–љ. –Т —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є–Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –С-36 –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї—Б—П —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б—А–µ–і–љ–Є–є –і–Є–Ј–µ–ї—М, –љ–µ –њ—А–Є—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–ї–µ–љ–љ—Л–є –Ї —А–∞–±–Њ—В–µ –њ–Њ–і –†–Ф–Я. –Ч–љ–∞—З–Є—В, –і–ї–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –њ—А–µ–±—Л–≤–∞–љ–Є–µ –С-36 –љ–∞ –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є –≥—А–Њ–Ј–Є–ї–Њ –њ–Њ–ї–љ–Њ–є —А–∞–Ј—А—П–і–Ї–Њ–є –∞–Ї–Ї—Г–Љ—Г–ї—П—В–Њ—А–љ–Њ–є –±–∞—В–∞—А–µ–Є –Є –љ–µ–Љ–Є–љ—Г–µ–Љ—Л–Љ –њ–Њ–≤—В–Њ—А–љ—Л–Љ –≤—Б–њ–ї—Л—В–Є–µ–Љ —Б—А–µ–і–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–ї–Њ–і–Њ—З–љ—Л—Е —Б–Є–ї –Т–Ь–° –°–®–Р. –Т —Н—В–Њ–є –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–µ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –њ—А–Є–љ—П–ї –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ–µ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ - –њ—А–Є—Б—В—Г–њ–Є—В—М –Ї –≤–≤–Њ–і—Г –≤ —Б—В—А–Њ–є –њ—А–∞–≤–Њ–≥–Њ –і–Є–Ј–µ–ї—П, –∞ –љ–∞ –≤—А–µ–Љ—П —А–∞–±–Њ—В –≤—Л–є—В–Є –Є–Ј —А–∞–є–Њ–љ–∞ –љ–∞ 60 –Љ–Є–ї—М, —Б –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ–Љ –≤ –љ–µ–≥–Њ —Б –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є–µ–Љ —А–∞–±–Њ—В. –° —Г–і–∞–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Є–Ј —А–∞–є–Њ–љ–∞ –љ–∞ 60 –Љ–Є–ї—М –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–ї–Є —Б—А–∞–≤–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ—Г—О –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї—Г, –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–≤—И—Г—О –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—М—Б—П –љ–Њ—З—М—О –≤ –љ–∞–і–≤–Њ–і–љ–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є –±–µ–Ј —Е–Њ–і–∞, –≤ –і—А–µ–є—Д–µ, –∞ –і–љ—С–Љ –≤ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є. –Х—Й—С –і–Њ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є—П —А–µ–≤–Є–Ј–Є–Є –њ—А–∞–≤–Њ–≥–Њ –і–Є–Ј–µ–ї—П –Љ—Л –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г –љ–∞ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ –≤ –°–∞–є–і–∞-–≥—Г–±—Г. –Т–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–ї–Њ —В–Њ–ґ–µ –≤ —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ–є –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–µ. –Я—А–Њ—В–Є–≤–Њ–ї–Њ–і–Њ—З–љ—Л–µ —Б–Є–ї—Л –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞ –Њ—В–і—Л—Е–∞–ї–Є –њ–Њ—Б–ї–µ —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є—П –Ъ–∞—А–Є–±—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї—А–Є–Ј–Є—Б–∞, –і–∞ –Є –њ–Њ–≥–Њ–і–∞ –±—Л–ї–∞ –љ–µ–±–ї–∞–≥–Њ–њ—А–Є—П—В–љ–Њ–є –і–ї—П –Є–љ—В–µ–љ—Б–Є–≤–љ—Л—Е –њ–Њ–ї—С—В–Њ–≤ –∞–≤–Є–∞—Ж–Є–Є —Б—В—А–∞–љ –Э–Р–Ґ–Ю. –Ь–Њ—А–µ –Є–Ј–Љ–∞—В—Л–≤–∞–ї–Њ –љ–∞—Б –Ї–∞—З–Ї–Њ–є, –∞ –Љ–µ–љ—П, –Ї–∞–Ї —И—В—Г—А–Љ–∞–љ–∞, –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М—О –љ–∞–і—С–ґ–љ–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є—В—М –Љ–µ—Б—В–Њ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б –љ–µ–љ–∞—Б—В–љ–Њ–є –њ–Њ–≥–Њ–і–Њ–є –±–µ–Ј —Б–Њ–ї–љ—Ж–∞ –Є –Ј–≤—С–Ј–і. –Я—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –≤–µ—Б—М –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і –±—Л–ї —Б–Њ–≤–µ—А—И—С–љ –≤ –љ–∞–і–≤–Њ–і–љ–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є. –Т –љ–∞—З–∞–ї–µ –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–∞ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –њ—А–Є–љ—П–ї —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞—В—М—Б—П –њ–Њ–і –†–Ф–Я, –љ–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ —В–Њ–≥–Њ –Ї–∞–Ї –≤–∞—Е—В–µ–љ–љ—Л–µ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Л –њ–∞—А—Г —А–∞–Ј –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є –µ–Љ—Г –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Л–µ –≤ –Ї–Њ—А–Љ–Њ–≤–Њ–Љ —Б–µ–Ї—В–Њ—А–µ –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–µ —Б—Г–і–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –∞–Ї—Г—Б—В–Є–Ї–Є –љ–µ —Б–ї—Л—И–∞–ї–Є, —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є–ї, –Є –ї–Њ–і–Ї–∞ –≤—Б–њ–ї—Л–ї–∞ –≤ –љ–∞–і–≤–Њ–і–љ–Њ–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ. –Т —И—В–Њ—А–Љ–Њ–≤–Њ–Љ –Љ–Њ—А–µ —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –≤ –љ–∞–і–≤–Њ–і–љ–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –љ–∞–і—С–ґ–љ–µ–µ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞–ї–Њ –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В—М –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П.  –Ю—Б—В–∞–ї–∞—Б—М –Њ–і–љ–∞ –Њ–±—Й–∞—П –Ј–∞–±–Њ—В–∞ –Њ —А–∞—Б—Е–Њ–і–µ —В–Њ–њ–ї–Є–≤–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –њ–Њ –≤—Б–µ–Љ —А–∞—Б—З–µ—В–∞–Љ –Љ–Њ–≥–ї–Њ –љ–µ —Е–≤–∞—В–Є—В—М –і–Њ —А–Њ–і–љ–Њ–є –±–∞–Ј—Л. –Ф–ї—П –Љ–µ–љ—П —Н—В–∞ –Ј–∞–±–Њ—В–∞ —Б—В–Њ–Є–ї–∞ —Б–∞–Љ–Њ–є –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –љ–µ–≤—П–Ј–Ї–Є –њ—А–Є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–Є –Љ–µ—Б—В–∞ –≤ –Њ–Ї–µ–∞–љ–µ –Ј–∞ –≤—Б—О –Љ–Њ—О –і–µ–≤—П—В–Є–ї–µ—В–љ—О—О —Б–ї—Г–ґ–±—Г –љ–∞ —И—В—Г—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В—П—Е. –Я–µ—А–µ–і –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Љ–µ—Б—В–∞ –љ–∞–і –Љ–Њ–µ–є –≥–Њ–ї–Њ–≤–Њ–є –і–≤–Њ–µ —Б—Г—В–Њ–Ї —Б—В–Њ—П–ї —Б –ї–Њ–≥–∞—А–Є—Д–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –ї–Є–љ–µ–є–Ї–Њ–є —Д–ї–∞–≥–Љ–∞–љ—Б–Ї–Є–є –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ї 69-–є –±—А–Є–≥–∞–і—Л –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ 2 —А–∞–љ–≥–∞ –Ы—О–±–Є–Љ–Њ–≤. –Ю–љ —Б–≤–µ—А—П–ї –Ј–∞–Љ–µ—А—П–µ–Љ—Л–є —А–∞—Б—Е–Њ–і —В–Њ–њ–ї–Є–≤–∞ –Є —Б—А–∞–≤–љ–Є–≤–∞–ї —Б –њ—А–Њ–є–і–µ–љ–љ—Л–Љ —А–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ–Љ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Њ–є –Ј–∞ –≤—А–µ–Љ—П –Ј–∞–Љ–µ—А–∞ —А–∞—Б—Е–Њ–і–∞ —В–Њ–њ–ї–Є–≤–∞. –Я–Њ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–∞–Љ –Ј–∞–Љ–µ—А–Њ–≤ –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї–Њ—Б—М —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –Њ –Ј–∞–њ—А–Њ—Б–µ –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є –≤ –≤–Є–і–µ —В–∞–љ–Ї–µ—А–∞ –і–ї—П –і–Њ–Ј–∞–њ—А–∞–≤–Ї–Є —В–Њ–њ–ї–Є–≤–∞. –°–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –Љ–Њ–µ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞–ї–∞—Б—М –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Ј–љ–∞—П –Є–Ј –Њ–њ—Л—В–∞, —З—В–Њ –≥–Є–і—А–∞–≤–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –ї–∞–≥–Є –њ—А–Є –Њ–≥–Њ–ї–µ–љ–Є–Є –љ–Њ—Б–Њ–≤–Њ–≥–Њ —И—В–µ–≤–љ—П —Е–≤–∞—В–∞—О—В –≤–Њ–Ј–і—Г—Е –і–Є–љ–∞–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —В—А—Г–±–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–і–Њ–Љ –Є –і–∞—О—В –Ј–∞–љ–Є–ґ–µ–љ–љ—Л–µ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В–Є, —П, –Є—Б–њ—Л—В—Л–≤–∞—П –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –і–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ, —Г—З–Є—В—Л–≤–∞–ї –Њ—Б—А–µ–і–љ—С–љ–љ—Г—О –ї–∞–≥–Њ–Љ —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В—М 4 —Г–Ј–ї–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –Њ–љ –њ–Њ–ї—Г—З–∞–ї —А–∞—Б–Ї–∞—З–Є–≤–∞—П—Б—М –≤ –і–Є–∞–њ–∞–Ј–Њ–љ–µ –Њ—В –љ—Г–ї—П –і–Њ –≤–Њ—Б—М–Љ–Є —Г–Ј–ї–Њ–≤. –Я—А–Є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–Є –Љ–µ—Б—В–∞ –љ–µ–≤—П–Ј–Ї–∞ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–∞ 67 –Љ–Є–ї—М —В–Њ—З–љ–Њ –≤–њ–µ—А—С–і –њ–Њ –Ї—Г—А—Б—Г, —З—В–Њ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Њ –Њ —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В–Є, —Б –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –і–≤–Є–≥–∞–ї—Б—П –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М - 5,4 —Г–Ј–ї–∞. –Э–µ –њ—А–Є–±–µ–≥–∞—П –Ї –Ї–∞–Ї–Є–Љ-–ї–Є–±–Њ —Г—Е–Є—Й—А–µ–љ–Є—П–Љ, —П –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –Ј–∞–љ—С—Б —Н—В—Г –љ–µ–≤—П–Ј–Ї—Г –≤ –љ–∞–≤–Є–≥–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є –ґ—Г—А–љ–∞–ї –Є –≤ –Њ—В—З—С—В—Л –Њ –њ–Њ—Е–Њ–і–µ, —Б—З–Є—В–∞—П –µ—С –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є. –Э–∞ –±–µ—А–µ–≥ –±—Л–ї–Њ –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Њ —А–∞–і–Є–Њ –Њ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П —В–Њ–њ–ї–Є–≤–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –љ–µ —Е–≤–∞—В–Є–ї–Њ. –Э–Њ –Ї—В–Њ-—В–Њ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї –Њ—Б—В–∞—В–Ї–Є —В–Њ–њ–ї–Є–≤–∞, —Б–Љ–µ—И–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –Ї–∞—З–Ї–Њ–є –≤ –±–∞–ї–ї–∞—Б—В–љ—Л—Е —Ж–Є—Б—В–µ—А–љ–∞—Е —Б –≤–Њ–і–Њ–є, –њ–µ—А–µ–Ї–∞—З–Є–≤–∞—В—М –≤ —А–∞—Б—Е–Њ–і–љ—Л–є —В–Њ–њ–ї–Є–≤–љ—Л–є –±–∞—З–Њ–Ї, –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —Б–ї–Є–≤–∞—В—М –Њ—В—Б—В–Њ—П–≤—И—Г—О—Б—П –≤–Њ–і—Г –Є –і–Њ–±–∞–≤–ї—П—В—М –≤ –±–∞—З–Њ–Ї –Љ–Њ—В–Њ—А–љ–Њ–µ –Љ–∞—Б–ї–Њ. –Э–∞ —Н—В–Њ–є —Б–Љ–µ—Б–Є –С-36 –≤–Њ—И–ї–∞ –≤ –С–∞—А–µ–љ—Ж–µ–≤–Њ –Љ–Њ—А–µ, –∞ –≤–Њ—В —Г–ґ–µ –≤ –Ъ–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–є –Ј–∞–ї–Є–≤ –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –≤—Е–Њ–і–Є—В—М –љ–∞ –Љ–Њ—В–Њ—А–∞—Е –Ј–∞ —Б—З—С—В –∞–Ї–Ї—Г–Љ—Г–ї—П—В–Њ—А–љ–Њ–є –±–∞—В–∞—А–µ–Є. –Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, —В–∞–љ–Ї–µ—А –≤—Б—В—А–µ—В–Є–ї –љ–∞—Б –≤ –Э–Њ—А–≤–µ–ґ—Б–Ї–Њ–Љ –Љ–Њ—А–µ, –љ–Њ –±—Г—И–µ–≤–∞–≤—И–Є–є —И—В–Њ—А–Љ –љ–µ –і–∞–ї –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–Є–љ—П—В—М –Њ—В –љ–µ–≥–Њ —В–Њ–њ–ї–Є–≤–Њ. –Я—А–Є –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є–Є –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ —Б–Њ–±—Л—В–Є–µ, –љ–∞—Е–Њ–і—П—Б—М –љ–∞ –Љ–Њ—Б—В–Є–Ї–µ, —П –љ–∞–±–ї—О–і–∞–ї –Ј–∞ –њ–Њ–њ—Л—В–Ї–Њ–є –Љ–Њ—В–Њ—А–Є—Б—В–Њ–≤ –Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М —В—А—Г–±–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–і—Л –і–Є–Ј–µ–ї–µ–є –≤ –Ї–Њ—А–Љ–Њ–≤–Њ–є –љ–∞–і—Б—В—А–Њ–є–Ї–µ –ї–Њ–і–Ї–Є. –Ь–Њ—В–Њ—А–Є—Б—В –≤—Л—И–µ–ї –љ–∞ –Њ—Б–Љ–Њ—В—А —В—А—Г–±–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–і–Њ–≤ –≤ —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є —Б—В—А–∞—Е—Г—О—Й–µ–≥–Њ –Љ–∞—В—А–Њ—Б–∞ –Є –±—Л–ї –љ–∞–і—С–ґ–љ–Њ –Њ–±–≤—П–Ј–∞–љ –±—А–Њ—Б–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –Ї–Њ–љ—Ж–Њ–Љ. –Э–Њ –Ї–∞–Ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–љ –і–Њ—И–µ–ї –і–Њ —Б–µ—А–µ–і–Є–љ—Л –Ї–Њ—А–Љ–Њ–≤–Њ–є –љ–∞–і—Б—В—А–Њ–є–Ї–Є, –≤–Њ–ї–љ–∞ —Б–Љ—Л–ї–∞ –µ–≥–Њ –Ј–∞ –±–Њ—А—В, –љ–Њ, –Ї —Б—З–∞—Б—В—М—О, —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–∞—П –≤–Њ–ї–љ–∞ –≤–µ—А–љ—Г–ї–∞ –µ–≥–Њ –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О –њ–Њ–і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—В–Њ—А–Є—Б—В—Г –±—А–Њ—Б–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–∞. –Ю–њ–µ—А–∞—Ж–Є—П –Њ—Б–Љ–Њ—В—А–∞ —В—А—Г–±–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–і–Њ–≤ –±—Л–ї–∞ –љ–µ–Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–∞, –∞ —П –Њ–±—А–∞—В–Є–ї –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –љ–∞ —Б—В–∞—А—И–µ–≥–Њ –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї–∞ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–∞ 3 —А–∞–љ–≥–∞ –Ъ–Њ–њ–µ–є–Ї–Є–љ–∞ –Р—А–Ї–∞–і–Є—П –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З–∞, —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є–≤—И–µ–≥–Њ —Н—В–Њ–є –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–µ–є –Є —Б–Њ—Е—А–∞–љ—П–≤—И–µ–≥–Њ —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є—Б—В–≤–Є–µ –љ–∞ –≤—Б–µ–Љ –µ—С –њ—А–Њ—В—П–ґ–µ–љ–Є–Є, –Ї–∞–Ї —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –≤—Б—С –≤–Њ–≤—А–µ–Љ—П –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–≤—И–Є–є –Є –Ї–Њ –≤—Б–µ–Љ—Г –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Є–≤—И–Є–є—Б—П. –Т–Њ–Њ–±—Й–µ –Њ–љ –Њ—В–ї–Є—З–∞–ї—Б—П —Е–Њ—А–Њ—И–µ–є –≤—Л–і–µ—А–ґ–Ї–Њ–є, —Г–Љ–µ–љ–Є–µ–Љ —Б–Њ—Е—А–∞–љ—П—В—М —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ—Л–є —В–Њ–љ –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П—Е —Б –њ–Њ–і—З–Є–љ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –≤ –ї—О–±—Л—Е —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є—П—Е, –љ–µ —В–µ—А—П—П —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ —О–Љ–Њ—А–∞ –Є –љ–µ —Г–њ—Г—Б–Ї–∞—П –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є —А–Њ–Ј—Л–≥—А—Л—И–∞. –ѓ —Г–ґ–µ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї —Н–њ–Є–Ј–Њ–і –≤ —В—С–Љ–љ–Њ–Љ –ґ–∞—А–Ї–Њ–Љ –Є –і—Г—И–љ–Њ–Љ –Њ—В—Б–µ–Ї–µ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ—В—З–∞—П–≤—И–µ–Љ—Г—Б—П –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Г, —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–≤—И–µ–Љ—Г –≤—Б–њ–ї—Л—В—М –Є –і–∞—В—М –±–Њ–є, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –≤ –Њ—В—Б–µ–Ї–∞—Е, –њ–Њ –µ–≥–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—О, –ї—О–і–Є –≥–Є–±–љ—Г—В, —Б—В–∞—А–њ–Њ–Љ —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї, —З—В–Њ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Б–њ–∞—Б—Г—В—Б—П, —З–µ–Љ —Г—Б–њ–Њ–Ї–Њ–Є–ї –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–∞. –Ш–Ј —А–Њ–Ј—Л–≥—А—Л—И–µ–є –≤ –њ–Њ—Е–Њ–і–µ, –Љ–љ–µ –Ј–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї–Є—Б—М –і–≤–∞.  –Я–µ—А–≤—Л–є –Ї–Њ—Б–љ—Г–ї—Б—П –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–∞ 6-–≥–Њ –Њ—В–і–µ–ї–∞, –њ—А–Є–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї –љ–∞–Љ –љ–∞ –≤—А–µ–Љ—П –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–∞ –≤ –Ї—Г–±–Є–љ—Б–Ї–Є–є –њ–Њ—А—В —Б –Њ–і–љ–Њ–є –ї–Є—И—М —Ж–µ–ї—М—О, —З—В–Њ–±—Л —Б–ї–µ–і–Є—В—М –Ј–∞ —Ж–µ–ї–Њ—Б—В–љ–Њ—Б—В—М—О —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Њ–є –њ—А–Њ–≤–Њ–ї–Њ–Ї–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –±—Л–ї –Њ–њ–µ—З–∞—В–∞–љ —В–Њ—А–њ–µ–і–љ—Л–є –∞–њ–њ–∞—А–∞—В —Б –Ј–∞–≥—А—Г–ґ–µ–љ–љ–Њ–є –≤ –љ–µ–≥–Њ —П–і–µ—А–љ–Њ–є —В–Њ—А–њ–µ–і–Њ–є, –Є –њ–ї–Њ–Љ–±—Л –љ–∞ –љ–µ–є. –Ъ–∞–њ–Є—В–∞–љ-–ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В —А–µ–≤–љ–Њ—Б—В–љ–Њ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П–ї —Н—В—Г –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М –Є —А–µ–≥—Г–ї—П—А–љ–Њ –њ—А–Њ–≤–µ—А—П–ї —Б–Њ—Е—А–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М –њ–ї–Њ–Љ–±—Л. –Ю–і–љ–∞–ґ–і—Л –њ–Њ—Б–ї–µ –љ–Њ—З–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Б–Ї–Њ–є –≤–∞—Е—В—Л –Р—А–Ї–∞–і–Є–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З –Ј–∞ –Ј–∞–≤—В—А–∞–Ї–Њ–Љ –Ї–∞–Ї –±—Л –љ–µ–≤–Ј–љ–∞—З–∞–є —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї, —З—В–Њ –љ–µ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ—В, –њ–Њ—З–µ–Љ—Г –≤—Б–µ —В–∞–Ї —В—А—П—Б—Г—В—Б—П —Б —Н—В–Њ–є —В–Њ—А–њ–µ–і–Њ–є, –Ї–∞–Ї –Љ—Л —Г–±–µ–і–Є–ї–Є—Б—М –њ—А–Њ—И–µ–і—И–µ–є –љ–Њ—З—М—О, –Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ–≤ –µ—С, –љ–Є—З–µ–≥–Њ –≤ –љ–µ–є –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–µ—В. –Ю—Д–Є—Ж–µ—А 6-–≥–Њ –Њ—В–і–µ–ї–∞ –њ–Њ–±–ї–µ–і–љ–µ–ї, –≤—Л—Б–Ї–Њ—З–Є–ї –Є–Ј-–Ј–∞ —Б—В–Њ–ї–∞ –Є –±—А–Њ—Б–Є–ї—Б—П –≤ –њ–µ—А–≤—Л–є –Њ—В—Б–µ–Ї –Ї –∞–њ–њ–∞—А–∞—В—Г —Б —В–Њ—А–њ–µ–і–Њ–є –њ—А–Њ–≤–µ—А—П—В—М –љ–∞–ї–Є—З–Є–µ –њ–ї–Њ–Љ–±—Л. –Т—В–Њ—А–Њ–є —А–Њ–Ј—Л–≥—А—Л—И –±—Л–ї –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –Ї–Њ—А—Л—Б—В–љ—Л–є, –љ–Њ –Њ–њ—А–∞–≤–і–∞–љ–љ—Л–є –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М—О. –Т —В–µ —З–∞—Б—Л, –Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–∞–і –С-36 –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї –Љ–∞–љ–µ–≤—А–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є–є —Н—Б–Љ–Є–љ–µ—Ж –Є –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞ –≤ –Њ—В—Б–µ–Ї–∞—Е –њ–Њ –Є—Е –Њ–±–Є—В–∞–µ–Љ–Њ—Б—В–Є –±—Л–ї–∞ —Н–Ї—Б—В—А–µ–Љ–∞–ї—М–љ–Њ–є, –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –Љ–µ—Б—В–Њ–Љ –љ–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ, –≥–і–µ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –Ј–∞–±—Л—В—М—Б—П –≤ –њ–Њ–ї—Г–і—А—С–Љ–µ –њ–Њ—Б–ї–µ –≤–∞—Е—В—Л –±—Л–ї–Є –Њ–Ї—А–∞—И–µ–љ–љ—Л–µ —Б—В–µ–ї–ї–∞–ґ–љ—Л–µ —В–Њ—А–њ–µ–і—Л –≤ –њ–µ—А–≤–Њ–Љ –Њ—В—Б–µ–Ї–µ. –Э–∞ –љ–Є—Е –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ –ї–µ–ґ–∞–ї–Є –ї—О–і–Є, —Б–Љ–µ–љ–Є–≤—И–Є–µ—Б—П —Б –≤–∞—Е—В—Л. –Э–Њ –љ–∞ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Ї–∞—Е –±—Л–ї–Є –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ—Л –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–Є, –љ–µ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–µ —Б –љ–µ—Б–µ–љ–Є–µ–Љ –Ї–Њ—А–∞–±–µ–ї—М–љ—Л—Е –≤–∞—Е—В –≤ —Б–Љ–µ–љ–∞—Е, –∞, —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, –Є–Љ–µ–≤—И–Є–µ –±–Њ–ї—М—И–µ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–µ–є –≤ –≤—Л–±–Њ—А–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Є –Љ–µ—Б—В–∞ –і–ї—П –Њ—В–і—Л—Е–∞. –Ъ –љ–Є–Љ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є–ї–∞—Б—М –Є –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В—М –Ј–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї—П –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П –њ–Њ –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —З–∞—Б—В–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –љ–∞ –С-36 –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ 3 —А–∞–љ–≥–∞ –°–∞–њ–∞—А–Њ–≤. –°–Љ–µ–љ–Є–≤—И–Є—Б—М —Б –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Б–Ї–Њ–є –≤–∞—Е—В—Л —Б –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–є –Ј–∞–і–µ—А–ґ–Ї–Њ–є, —Б—В–∞—А–њ–Њ–Љ –≤–Њ—И–µ–ї –≤ –њ–µ—А–≤—Л–є –Њ—В—Б–µ–Ї –Є –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–ї, —З—В–Њ –≤—Б–µ –Љ–µ—Б—В–∞ –љ–∞ —В–Њ—А–њ–µ–і–∞—Е –Ј–∞–љ—П—В—Л, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Є –Ј–∞–Љ–њ–Њ–ї–Є—В–Њ–Љ. –Ю—Ж–µ–љ–Є–≤ –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї—Г, —З—В–Њ–±—Л –љ–µ –њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞—В—М –ї—О–і–µ–є, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —З—В–Њ —Б–Љ–µ–љ–Є–≤—И–Є—Е—Б—П —Б –≤–∞—Е—В—Л –Р—А–Ї–∞–і–Є–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –°–∞–њ–∞—А–Њ–≤—Г, —З—В–Њ –µ–≥–Њ –≤—Л–Ј—Л–≤–∞–µ—В –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –≤ —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ—Л–є –њ–Њ—Б—В. –Я—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В.
21.01.201302:1421.01.2013 02:14:21
0
21.01.201302:0321.01.2013 02:03:46
–°–µ—А–≥–Њ –Љ–Њ–ї—З–∞–ї, –∞ —П –і—Г–Љ–∞–ї: ¬Ђ–°–µ–≥–Њ–і–љ—П —П —Г–≤–Є–ґ—Г –Њ—В—Ж–∞! –Ш –Љ–∞–Љ—Г —Г–≤–Є–ґ—Г, –Є –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—М!¬ї –Ю–±–ї–∞–Ї–∞ —А–∞–Ј–Њ—И–ї–Є—Б—М, –Є —П —Г–≤–Є–і–µ–ї –≥–Њ—А—Л, –њ–Њ–Ї—А—Л—В—Л–µ —Б–љ–µ–≥–Њ–Љ. –Я–Њ —Б–љ–µ–≥—Г –±–µ–ґ–∞–ї–∞ —З–µ—А–љ–∞—П —В–µ–љ—М —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В–∞. –°—В–∞–ї–Њ —Е–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ, —Г –Љ–µ–љ—П –љ–∞—З–∞–ї–Є –Љ–µ—А–Ј–љ—Г—В—М –љ–Њ–≥–Є. вАФ –•–Њ—З–µ—И—М, –Э–Є–Ї–Є—В–∞, –µ—Б—В—М? вАФ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї –°–µ—А–≥–Њ. –ѓ –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П. –Ъ–∞–Ї –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –µ—Б—В—М –±—Г—В–µ—А–±—А–Њ–і—Л, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Љ—Л –ї–µ—В–Є–Љ –≤—Л—И–µ –≥–Њ—А! –Я—А–Њ—И–ї–Њ —З–∞—Б–∞ –і–≤–∞ –Є–ї–Є —В—А–Є, –≤—Б–µ –≤–љ–Є–Ј—Г —Б—В–∞–ї–Њ —П—А–Ї–Њ-–Ј–µ–ї–µ–љ—Л–Љ. –Ч–∞ –ґ–µ–ї—В–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ—Б–Њ–є –≤–њ–µ—А–µ–і–Є –≤—Б–µ –±–ї–µ—Б—В–µ–ї–Њ, —Б–≤–µ—А–Ї–∞–ї–Њ. –С—Л–ї–Њ –±–Њ–ї—М–љ–Њ —Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М. вАФ –Ф—П–і—П –°–µ—А–≥–Њ, —Б–Љ–Њ—В—А–Є—В–µ, —З—В–Њ —Н—В–Њ? –Ю–љ –≤–Ј–≥–ї—П–љ—Г–ї: вАФ –≠—В–Њ –Љ–Њ—А–µ, –Э–Є–Ї–Є—В–∞, –І–µ—А–љ–Њ–µ –Љ–Њ—А–µ! –ѓ —А–∞–Ј–ї–Є—З–Є–ї –ґ–µ–ї—В—Л–є –±–µ—А–µ–≥, –±–µ–ї—Г—О –њ–µ–љ—Г –њ—А–Є–±–Њ—П –Є —З–µ—А–љ—Л–µ —В–Њ—З–Ї–Є –њ–Њ—Б—А–µ–і–Є –≥–Њ–ї—Г–±–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–∞: —Н—В–Њ —И–ї–Є –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є. –Ь—Л –і–Њ–ї–≥–Њ –ї–µ—В–µ–ї–Є –љ–∞–і –Љ–Њ—А–µ–Љ, –Є –±–µ—А–µ–≥ —В–Њ –Є—Б—З–µ–Ј–∞–ї, —В–Њ –≤–љ–Њ–≤—М –њ–Њ—П–≤–ї—П–ї—Б—П. –Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В —А–µ–Ј–Ї–Њ –љ–∞–Ї—А–µ–љ–Є–ї—Б—П –љ–∞ –Ї—А—Л–ї–Њ, –≤—Л—А–Њ–≤–љ—П–ї—Б—П, –Њ–њ—П—В—М –љ–∞–Ї—А–µ–љ–Є–ї—Б—П, –Є –Ї–Њ—А–Є—З–љ–µ–≤–∞—П –Ј–µ–Љ–ї—П, –±–µ–ї—Л–µ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–є–Ї–Є –љ–∞ –љ–µ–є –Є –Ї—А–∞–µ—И–µ–Ї –Љ–Њ—А—П вАФ –≤—Б–µ –њ–Њ–і–љ—П–ї–Њ—Б—М, —Б—В–∞–ї–Њ –±–Њ–Ї–Њ–Љ, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ —В–∞—А–µ–ї–Ї–∞, –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ–∞—П –љ–∞ —А–µ–±—А–Њ. вАФ –Ш—Б–њ—Г–≥–∞–ї—Б—П? вАФ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї –°–µ—А–≥–Њ. вАФ –°–∞–і–Є–Љ—Б—П. –Ь—Л –і–Њ–Љ–∞! –Ч–∞–њ—А—Л–≥–∞–≤ –њ–Њ —В–≤–µ—А–і–Њ–є –Ј–µ–Љ–ї–µ, —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В –њ–Њ–і—А—Г–ї–Є–ї –Ї –Ј–µ–Љ–ї—П–љ–Ї–µ. –°–ї–µ–≥–Ї–∞ –њ–Њ—И–∞—В—Л–≤–∞—П—Б—М, —П —Б—В–Њ—П–ї –њ–Њ–і —Б–Є–љ–Є–Љ –љ–µ–±–Њ–Љ, –Є –Љ–љ–µ –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –≤—Б–µ –Ї—А—Г–≥–Њ–Љ —Б–Є–љ–µ–µ: –≥—А—Г–і—Л –Њ–±–ї–Њ–Љ–Ї–Њ–≤, –Љ–Њ—А–µ –Є —В–µ–љ—М –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї–µ –Њ—В –Ї—А—Л–ї–∞ —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В–∞. –ѓ —Г–і–Є–≤–Є–ї—Б—П: –°–µ—А–≥–Њ –љ–µ —В–Њ—А–Њ–њ–Є—В—Б—П, –±–µ—Б–µ–і—Г—П —Б –ї–µ—В—З–Є–Ї–Њ–Љ, –Є –љ–µ —Б–µ—А–і–Є—В—Б—П, —З—В–Њ –Ј–∞ –љ–∞–Љ–Є –µ—Й–µ –љ–µ –њ—А–Є–µ—Е–∞–ї–Є.  –Э–Њ –≤–Њ—В, –њ—А—Л–≥–∞—П –њ–Њ –Ї–Њ—З–Ї–∞–Љ, –њ–Њ–і—Б–Ї–Њ—З–Є–ї–∞ —В—Г–њ–Њ–љ–Њ—Б–∞—П –Ј–µ–ї–µ–љ–∞—П . –Ь–∞—В—А–Њ—Б –≤ –ї–Є—Е–Њ –Ј–∞–ї–Њ–Љ–ї–µ–љ–љ–Њ–є –љ–∞ —Г—Е–Њ –±–µ—Б–Ї–Њ–Ј—Л—А–Ї–µ –њ—А–Є–≥–ї–∞—Б–Є–ї —Б–∞–і–Є—В—М—Б—П. –ѓ —Г–Ј–љ–∞–ї –µ–≥–Њ вАФ —Н—В–Њ –±—Л–ї —В–Њ—В —Б–∞–Љ—Л–є –Ъ–Њ—Б—В—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –љ–∞ ¬Ђ–≥–∞–Ј–Є–Ї–µ¬ї –Њ—В–≤–Њ–Ј–Є–ї –Љ–µ–љ—П –≤ –њ—А–Є–±—А–µ–ґ–љ—Г—О –і–µ—А–µ–≤–љ—О. вАФ –Ъ–Њ—Б—В—П?! вАФ –Ю, –≥–Њ—Б–њ–Њ–і–Є! –Ґ–Њ—В –Љ–∞–ї—Л—И, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —П –≤–Њ–Ј–Є–ї –≤ –њ—А–Њ—И–ї–Њ–Љ –≥–Њ–і—Г. –Р —П –±—Л —В–µ–±—П –љ–µ —Г–Ј–љ–∞–ї, —В–∞–Ї —В—Л –Ј–і–Њ—А–Њ–≤–Њ –≤—Л—А–Њ—Б. –Ш –љ–∞ —В–µ–±–µ –Љ–Њ—А—Б–Ї–∞—П —Д–Њ—А–Љ–∞! вАФ –Ю–љ –њ—А–Њ—В—П–љ—Г–ї –Љ–љ–µ —А—Г–Ї—Г. –І–µ—А–µ–Ј –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–Є–љ—Г—В –Љ—Л –Љ—З–∞–ї–Є—Б—М –њ–Њ –њ—Л–ї—М–љ–Њ–є –і–Њ—А–Њ–≥–µ. –Э–∞ —Е–Њ–ї–Љ–∞—Е –≤–∞–ї—П–ї–Є—Б—М –њ–Њ–і–Њ—А–≤–∞–љ–љ—Л–µ —В–∞–љ–Ї–Є, –Љ–∞—И–Є–љ—Л, –њ–Њ–≤–Њ–Ј–Ї–Є. –Ъ–Њ—Б—В—П, –љ–µ –Ј–∞–Љ–µ–і–ї—П—П —Е–Њ–і–∞, –њ—А–Њ–ї–µ—В–µ–ї –Љ–Є–Љ–Њ —А–∞–Ј–±–Є—В–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—Б—В–∞, —Б–≤–Є—Б–∞–≤—И–µ–≥–Њ –Њ–і–љ–Є–Љ –Ї–Њ–љ—Ж–Њ–Љ —Б –љ–∞—Б—Л–њ–Є, –Љ–Є–Љ–Њ –Њ–±–ї–Њ–Љ–Ї–Њ–≤ –≤–∞–≥–Њ–љ–Њ–≤, –Ј–∞–≥—А–Њ–Љ–Њ–Ј–і–Є–≤—И–Є—Е —Г—Й–µ–ї—М–µ, –Є –≤–ї–µ—В–µ–ї –≤ –≥–Њ—А–Њ–і. вАФ –Т —Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є–µ? вАФ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї –Њ–љ. вАФ –Э–µ—В, –≤ –≥–Њ—Б–њ–Є—В–∞–ї—М, вАФ –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї –°–µ—А–≥–Њ. –Я–Њ—З–µ–Љ—Г –≤ –≥–Њ—Б–њ–Є—В–∞–ї—М?.. –Э–∞ –≤—Б–µ–є –і–ї–Є–љ–љ–Њ–є —Г–ї–Є—Ж–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –Љ—Л –њ—А–Њ–µ—Е–∞–ї–Є –Є–Ј –Ї–Њ–љ—Ж–∞ –≤ –Ї–Њ–љ–µ—Ж, —П –љ–µ —Г–≤–Є–і–µ–ї –љ–Є –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —Г—Ж–µ–ї–µ–≤—И–µ–≥–Њ –і–Њ–Љ–∞. –°—В–Њ—П–ї–Є –ї–Є—И—М —Б—В–µ–љ—Л. –Ґ—А–∞–Љ–≤–∞–є–љ—Л–µ —Б—В–Њ–ї–±—Л –±—Л–ї–Є –Њ–њ—Г—В–∞–љ—Л –Њ–±–≤–Є—Б—И–Є–Љ–Є –њ—А–Њ–≤–Њ–і–∞–Љ–Є, –Є –Є–Ј –Љ–Њ—Б—В–Њ–≤–Њ–є —В–Њ—А—З–∞–ї–Є –Њ—Б—В—А—Л–µ –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–µ –ї–∞–њ—Л —А–µ–ї—М—Б–Њ–≤. –Ю—В–Ї—А—Л–ї—Б—П –Ї—Г—Б–Њ—З–µ–Ї –±—Г—Е—В—Л —Б –Љ–∞—З—В–∞–Љ–Є –Ј–∞—В–Њ–њ–ї–µ–љ–љ—Л—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є. –°—А–µ–і–Є —А–∞–Ј–≤–∞–ї–Є–≤—И–Є—Е—Б—П —Б—В–µ–љ, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —З–µ—А–љ–µ–ї–Є –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є: ¬Ђ–Ь–Є–љ –љ–µ—В¬ї, –Љ–Њ—А—П–Ї–Є —А–∞–Ј–≥—А–µ–±–∞–ї–Є –Љ—Г—Б–Њ—А –Є –Ї–∞–Љ–љ–Є. –Э–∞–і –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–Љ –≤–Є—Б–µ–ї–Є ¬Ђ—Б–ї–Њ–љ–Є–Ї–Є¬ї, –Є –Ј–∞ —Е–Њ–ї–Љ–∞–Љ–Є —Г—Е–∞–ї–Њ. вАФ –Я–Њ–і—А—Л–≤–∞—О—В –Љ–Є–љ—Л. –Ш—Е —В—Г—В –і–Њ —З–µ—А—В–∞: –Є –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї–µ –Є –≤ –≤–Њ–і–µ. –Ю—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–љ–µ–є —Е–Њ–і–Є –њ–Њ –≥–Њ—А–Њ–і—Г, –≤ —А–∞–Ј–≤–∞–ї–Є–љ—Л –љ–µ –Ј–∞–≥–ї—П–і—Л–≤–∞–є вАФ –љ–∞–њ–Њ—А–µ—И—М—Б—П, вАФ –њ—А–µ–і—Г–њ—А–µ–і–Є–ї –Ъ–Њ—Б—В—П. –Ь–∞—И–Є–љ–∞ –њ–Њ–і–љ—П–ї–∞—Б—М –≤ –≥–Њ—А—Г –Є –≤—К–µ—Е–∞–ї–∞ –≤ –Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–љ—Л–µ –љ–∞—Б—В–µ–ґ—М –≤–Њ—А–Њ—В–∞. –Ъ–Њ—Б—В—П –Ї—А—Г—В–Њ –Ј–∞—В–Њ—А–Љ–Њ–Ј–Є–ї –≤–Њ–Ј–ї–µ –і–≤—Г—Е—Н—В–∞–ґ–љ–Њ–≥–Њ –і–Њ–Љ–∞ —Б –ґ–µ–ї—В—Л–Љ–Є –Ј–∞–њ–ї–∞—В–∞–Љ–Є –љ–∞ –±–µ–ї–Њ–є —Б—В–µ–љ–µ. –Я–Њ–≤—Б—О–і—Г –±—Г–є–љ–Њ —Ж–≤–µ–ї–∞ —Б–Є—А–µ–љ—М. –Ч–∞ –Ї—Г—Б—В–∞–Љ–Є –≤–Є–і–љ–µ–ї–∞—Б—М –≥–Њ–ї—Г–±–∞—П –≥–ї–∞–і—М –±—Г—Е—В—Л. –Ь–∞—В—А–Њ—Б –≤ —Б–µ—А–Њ–Љ —Е–∞–ї–∞—В–µ —В–∞–Ї —А–µ—И–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Є –±—Л—Б—В—А–Њ –њ—А–Њ—И–µ–ї –љ–∞ –Ї–Њ—Б—В—Л–ї—П—Е, –±—Г–і—В–Њ –і–ї—П —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —Г–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Є—П –і–≤–Є–≥–∞–ї—Б—П –љ–∞ —Е–Њ–і—Г–ї—П—Е. –£ –Љ–∞—В—А–Њ—Б–∞ –±—Л–ї–Њ –≤–µ—Б–µ–ї–Њ–µ –Є —А–∞—Б–Ї—А–∞—Б–љ–µ–≤—И–µ–µ—Б—П –ї–Є—Ж–Њ, –љ–Њ —П —Г–≤–Є–і–µ–ї –њ—Г—Б—В—Г—О —И—В–∞–љ–Є–љ—Г, —Б–њ—Г—Й–µ–љ–љ—Г—О —В–∞–Ї –љ–Є–Ј–Ї–Њ, —З—В–Њ –µ—Б–ї–Є –љ–µ –њ—А–Є—Б–Љ–Њ—В—А–Є—И—М—Б—П вАФ –љ–µ –Ј–∞–Љ–µ—В–Є—И—М, –µ—Б—В—М –љ–Њ–≥–∞ –Є–ї–Є –љ–µ—В. –Я–Њ–і –Ї—Г—Б—В–∞–Љ–Є —Б–Є—А–µ–љ–Є —Б–Є–і–µ–ї–Є —Б –Ј–∞–±–Є–љ—В–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є –≥–Њ–ї–Њ–≤–Њ–є, —Б —А—Г–Ї–Њ–є –љ–∞ –њ–µ—А–µ–≤—П–Ј–Є; –≤–Њ–Ј–ї–µ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Б—В–Њ—П–ї–Є –Ї–Њ—Б—В—Л–ї–Є. 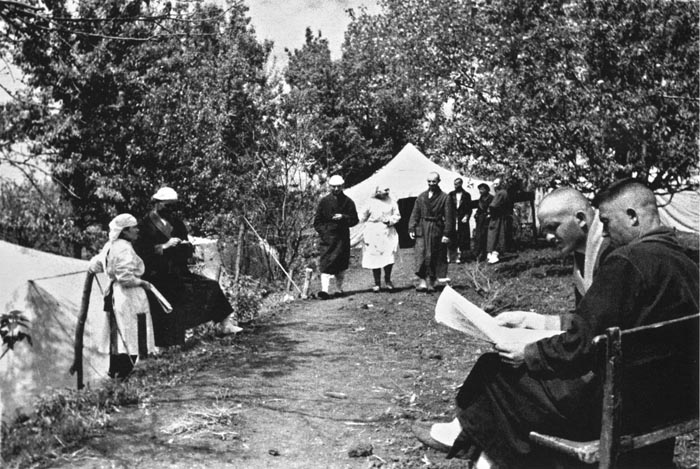 вАФ –У–µ–Њ—А–≥–Є–є! вАФ –њ–Њ–Ј–≤–∞–ї –°–µ—А–≥–Њ. вАФ –У–µ–Њ—А–≥–Є–љ, –≥–і–µ –ґ–µ —В—Л, –і–Њ—А–Њ–≥–Њ–є? –Ю–і–Є–љ –Є–Ј —А–∞–љ–µ–љ—Л—Е, –Њ–њ–Є—А–∞—П—Б—М –љ–∞ –њ–∞–ї–Ї—Г, –њ–Њ–і–љ—П–ї—Б—П –Є –њ–Њ—И–µ–ї –Ї –љ–∞–Љ, —А–∞–Ј–Љ–∞—Е–Є–≤–∞—П —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ–є —А—Г–Ї–Њ–є. вАФ –Э–Є–Ї–Є—В–∞! вАФ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Њ–љ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Л–Љ –≥–Њ–ї–Њ—Б–Њ–Љ. вАФ –Ъ–Є—В! –Э–µ—Г–ґ–µ–ї–Є –Њ—В–µ—Ж?.. –Э–Њ –Њ—В–Ї—Г–і–∞ —Б–µ–і–Є–љ–∞ –≤ –≤–Њ–ї–Њ—Б–∞—Е –Є —И–Є—А–Њ–Ї–Є–є –±–∞–≥—А–Њ–≤—Л–є —И—А–∞–Љ –љ–∞ —Й–µ–Ї–µ? –Ш —А–∞–Ј–≤–µ —Г –Њ—В—Ж–∞ —А–∞–љ—М—И–µ –±—Л–ї–Њ —В–∞–Ї–Њ–µ —Е—Г–і–Њ–µ –ї–Є—Ж–Њ, –Њ–±—В—П–љ—Г—В–Њ–µ –Ї–Њ—А–Є—З–љ–µ–≤–Њ–є –Ї–Њ–ґ–µ–є?.. вАФ –Э–µ —Г–Ј–љ–∞–ї? вАФ –Я–∞–њ–∞! вАФ –≤–Ј–≤–Є–Ј–≥–љ—Г–ї —П. вАФ –Я–∞–њ–∞!.. –ѓ –њ–Њ–і–±–µ–ґ–∞–ї –Ї –љ–µ–Љ—Г, –Њ–±—Е–≤–∞—В–Є–ї –µ–≥–Њ, —Г—В–Ї–љ—Г–ї—Б—П –ї–Є—Ж–Њ–Љ –≤ —Б–µ—А—Л–є —Е–∞–ї–∞—В –Є —А–∞–Ј—А–µ–≤–µ–ї—Б—П. вАФ –Э—Г —З—В–Њ —В—Л, –љ—Г —З—В–Њ —В—Л, —Б—Л–љ–Њ–Ї... вАФ –Ґ—Л –ґ–Є–≤–Њ–є, –ґ–Є–≤–Њ–є! вАФ –њ–Њ–≤—В–Њ—А—П–ї —П –±–µ–Ј –Ї–Њ–љ—Ж–∞. вАФ –Ґ—Л –ґ–Є–≤–Њ–є!.. –Ю—В–µ—Ж –≤–Ј—П–ї –Љ–Њ—О –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г –≤ —А—Г–Ї–Є, –љ–∞–≥–љ—Г–ї—Б—П, –њ—А–Є–љ—П–ї—Б—П –Ї—А–µ–њ–Ї–Њ –Љ–µ–љ—П —Ж–µ–ї–Њ–≤–∞—В—М вАФ –≤ —Й–µ–Ї–Є, –≤ –љ–Њ—Б, –≤ –≥—Г–±—Л. –У—Г–±—Л —Г –љ–µ–≥–Њ –±—Л–ї–Є —Б—Г—Е–Є–µ, –њ–Њ—В—А–µ—Б–Ї–∞–≤—И–Є–µ—Б—П, –љ–Њ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Њ –њ–∞—Е–ї–Є –і—Г—И–Є—Б—В—Л–Љ —В—А—Г–±–Њ—З–љ—Л–Љ —В–∞–±–∞–Ї–Њ–Љ. вАФ –Т–Њ—В –Є —Б–≤–Є–і–µ–ї–Є—Б—М, вАФ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Њ–љ —Б—А—Л–≤–∞—О—Й–Є–Љ—Б—П –≥–Њ–ї–Њ—Б–Њ–Љ. вАФ –Т–Њ—В –Є —Б–≤–Є–і–µ–ї–Є—Б—М... –≠—Е, —Б—Л–љ–Њ–Ї, —Б—Л–љ–Њ–Ї, –Є —Б–Њ—Б–Ї—Г—З–Є–ї—Б—П —П –њ–Њ —В–µ–±–µ!.. –ѓ –њ–Њ–≤–Є—Б —Г –љ–µ–≥–Њ –љ–∞ —И–µ–µ –Є, –љ–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ, —Б–і–µ–ї–∞–ї –µ–Љ—Г –±–Њ–ї—М–љ–Њ вАФ –Њ–љ –њ–Њ–Љ–Њ—А—Й–Є–ї—Б—П. вАФ –Ґ–µ–±—П —Б–Є–ї—М–љ–Њ —А–∞–љ–Є–ї–Њ? вАФ —Б–њ–Њ—Е–≤–∞—В–Є–ї—Б—П —П. вАФ –Э–µ—В. вАФ –Р –≤ –Ї–∞–Ї–Њ–Љ –±–Њ—О? вАФ –Ч–∞ –љ–∞—И –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—М, вАФ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Њ—В–µ—Ж —Б –≥–Њ—А–і–Њ—Б—В—М—О. вАФ –Э—Г –Є –Ј–∞–і–∞–ї–Є –ґ–µ –Љ—Л –Є–Љ –ґ–∞—А—Г! –Я—А–∞–≤–і–∞, –°–µ—А–≥–Њ?  вАФ –Х—Й–µ –±—Л, –і–Њ—А–Њ–≥–Њ–є, –≤–µ–Ї –љ–µ –Ј–∞–±—Г–і—Г—В! вАФ –Э—Г, –∞ —В—Л, –Э–Є–Ї–Є—В–∞? вАФ –Ю—В–µ—Ж —Б–љ–Њ–≤–∞ –њ–Њ–Љ–Њ—А—Й–Є–ї—Б—П. –ѓ –њ–Њ–љ—П–ї, —З—В–Њ —Е–Њ—В—П –Њ–љ –Є –≤—Л–Ј–і–Њ—А–∞–≤–ї–Є–≤–∞–µ—В, –љ–Њ —Г –љ–µ–≥–Њ –≤—Б–µ –µ—Й–µ –≥–і–µ-—В–Њ –Њ—З–µ–љ—М –±–Њ–ї–Є—В. вАФ –Я–Њ–Ї–∞–ґ–Є—Б—М-–Ї–∞! –Ю–љ –ї–µ–≥–Њ–љ—М–Ї–Њ –Њ—В–Њ–і–≤–Є–љ—Г–ї –Љ–µ–љ—П, –њ—А–Є–љ—П–ї—Б—П —А–∞–Ј–≥–ї—П–і—Л–≤–∞—В—М. вАФ –•–Њ—А–Њ—И, –Э–Є–Ї–Є—В–Ї–∞, —Е–Њ—А–Њ—И! –Т—Л—А–Њ—Б, –њ–Њ–Ј–і–Њ—А–Њ–≤–µ–ї. –Ш –≤—Л–њ—А–∞–≤–Ї–∞ –Њ—В–ї–Є—З–љ–∞—П, –Є —Д–Њ—А–Љ–∞ —В–µ–±–µ –Є–і–µ—В... –І—В–Њ, –°–µ—А–≥–Њ, –Њ–љ вАФ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–є –Љ–Њ—А—П–Ї? вАФ –°–∞–Љ—Л–є –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–є, вАФ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–і–Є–ї —Б —Г–ї—Л–±–Ї–Њ–є –°–µ—А–≥–Њ. вАФ –Ь–∞–Љ–∞ —Б–µ–є—З–∞—Б –њ—А–Є–і–µ—В, —В—А–Є —А–∞–Ј–∞ —Г–ґ–µ –њ—А–Є–±–µ–≥–∞–ї–∞... вАФ –Р –≤–Њ—В –Є –Љ–∞–Љ–∞! вАФ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Њ—В–µ—Ж –Є, –Њ—В–±—А–Њ—Б–Є–≤ –њ–∞–ї–Ї—Г, —Б–ї–µ–≥–Ї–∞ –њ—А–Є—Е—А–∞–Љ—Л–≤–∞—П, –њ–Њ—И–µ–ї –њ–Њ –і–Њ—А–Њ–ґ–Ї–µ. –Ь–∞–Љ–∞ —Б–њ–µ—И–Є–ї–∞ –Ї –љ–∞–Љ. –†–∞—Б—Ж–µ–ї–Њ–≤–∞–≤ –Љ–µ–љ—П, –Њ–љ–∞ –њ–Њ–Ј–і–Њ—А–Њ–≤–∞–ї–∞—Б—М —Б –°–µ—А–≥–Њ. –Ю–љ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї, —З—В–Њ –њ–Њ–є–і–µ—В –њ–Њ –і–µ–ї—Г, –Є –њ—А–Њ—Б—В–Є–ї—Б—П. –Ь—Л –Њ—Б—В–∞–ї–Є—Б—М –≤—В—А–Њ–µ–Љ –љ–∞ —Б–Ї–∞–Љ–µ–є–Ї–µ –њ–Њ–і –±–µ–ї–Њ–є —Б–Є—А–µ–љ—М—О. –Э–µ –Ј–љ–∞—О, –њ–Њ–љ—П–ї–Є –ї–Є –≤ —В–Њ—В –і–µ–љ—М –Њ—В–µ—Ж —Б –Љ–∞–Љ–Њ–є —З—В–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М –Є–Ј –Љ–Њ–Є—Е —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–Њ–≤. –Т—Б–µ –њ–µ—А–µ–Љ–µ—И–∞–ї–Њ—Б—М: —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ, –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї, –Р–љ—В–Њ–љ–Є–љ–∞, –®–∞–ї–≤–∞ –•—А–Є—Б—В–Њ—Д–Њ—А–Њ–≤–Є—З, –§—А–Њ–ї, –С—Г–љ—З–Є–Ї–Њ–≤, –°—В—Н–ї–ї–∞, –≤–µ—З–µ—А –≤ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ, –њ–Њ–µ–Ј–і–Ї–∞ –≤ –У–Њ—А–Є, —Д—Г–љ–Є–Ї—Г–ї–µ—А, –њ–Њ–ї–µ—В –≤ —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В–µ... –Ъ–Њ–≥–і–∞ —П —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї, –Ї–∞–Ї –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ —А–∞–љ–≥–∞ –њ–µ—А–µ–і–∞–ї –Љ–љ–µ –њ–Є—Б—М–Љ–Њ –Є –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–Њ –Њ—В—Ж–∞ –Ј–∞ —Б—В–Њ–ї–Њ–Љ —Б–µ–ї –і—А—Г–≥–Њ–є –Њ—Д–Є—Ж–µ—А, –Љ–∞–Љ–∞ –≤–Ј–і–Њ—Е–љ—Г–ї–∞, –Њ—В–µ—Ж –ґ–µ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї: вАФ –Р –≤–µ–і—М –±—Г—В—Л–ї–Ї–∞-—В–Њ –Ї–Њ–љ—М—П–Ї—Г –љ–∞—Б –≤—Б–µ-—В–∞–Ї–Є –і–Њ–ґ–і–∞–ї–∞—Б—М! –Ш –µ–≥–Њ –≥–ї–∞–Ј–∞ —Б—В–∞–ї–Є —В–∞–Ї–Є–Љ–Є –ґ–µ —Б–Љ–µ—И–ї–Є–≤—Л–Љ–Є, –Ї–∞–Ї –њ—А–µ–ґ–і–µ.  –Э–∞–≥–Њ–≤–Њ—А–Є–≤—И–Є—Б—М –і–Њ—Б—Л—В–∞, –Љ—Л –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–Є —Б–Є–і–µ—В—М –Љ–Њ–ї—З–∞, –≥–ї—П–і—П –љ–∞ —Б–Є–љ—О—О –±—Г—Е—В—Г. –Р–ї–µ–ї . вАФ –Э—Г, –Є–і–Є—В–µ –і–Њ–Љ–Њ–є, вАФ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї, –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –Њ—В–µ—Ж. вАФ –ѓ –њ—А–Є–і—Г –Ј–∞–≤—В—А–∞ —Г—В—А–Њ–Љ. –Т—Л–њ–Є—Б—Л–≤–∞—О—Б—М. вАФ –Э–µ —А–∞–љ–Њ –ї–Є? вАФ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї–∞ –Њ–Ј–∞–±–Њ—З–µ–љ–љ–Њ –Љ–∞–Љ–∞. вАФ –ѓ –Ј–і–Њ—А–Њ–≤. –Ь–∞–Љ–∞ –њ–Њ–љ—П–ї–∞, —З—В–Њ –Њ—В—Ж–∞ –њ–µ—А–µ—Б–њ–Њ—А–Є—В—М —В—А—Г–і–љ–Њ. –У–ї–∞–≤–∞ –≤–Њ—Б—М–Љ–∞—П. –Ъ–Ю–†–Р–С–Ы–Ш –Т–Ю–Ч–Т–†–Р–©–Р–Ѓ–Ґ–°–ѓ –Т –°–Х–Т–Р–°–Ґ–Ю–Я–Ю–Ы–ђ–Э–∞ –і—А—Г–≥–Њ–µ —Г—В—А–Њ –Њ—В–µ—Ж –њ—А–Є—И–µ–ї –≤ –±–µ–ї—Л–є –і–Њ–Љ–Є–Ї –љ–∞ –Ъ–Њ—А–∞–±–µ–ї—М–љ–Њ–є. –Ъ–Є—В–µ–ї—М –≤–Є—Б–µ–ї –љ–∞ –љ–µ–Љ, –Ї–∞–Ї –љ–∞ –≤–µ—И–∞–ї–Ї–µ, –љ–Њ –Њ–љ –≤—Б–µ –ґ–µ –±—Л–ї –ї—Г—З—И–µ —Б–µ—А–Њ–≥–Њ —Е–∞–ї–∞—В–∞. вАФ –Я–Њ–є–і–µ–Љ-–Ї–∞, –Ъ–Є—В, –≤ –≥–Њ—А–Њ–і, вАФ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї –Њ—В–µ—Ж. вАФ –Ф–Њ–ї–≥–Њ –љ–µ –њ—А–Њ–њ–∞–і–∞–є—В–µ, вАФ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞ –Љ–∞–Љ–∞. вАФ –Э–µ—В, –Љ—Л —Б–Ї–Њ—А–Њ –≤–µ—А–љ–µ–Љ—Б—П. –£–Ј–Ї–∞—П, –≤—Л–Љ–Њ—Й–µ–љ–љ–∞—П –±–µ–ї—Л–Љ –Ї–∞–Љ–љ–µ–Љ –і–Њ—А–Њ–ґ–Ї–∞ –≤–Є–ї–∞—Б—М –њ–Њ –Ї—А—Г—В–Њ–Љ—Г –±–µ—А–µ–≥—Г, –≤–і–Њ–ї—М —Б—В–µ–љ—Л, –њ—А–Њ–±–Є—В–Њ–є —Б–љ–∞—А—П–і–∞–Љ–Є. –Ш–Ј –≤–Њ–і—Л —В–Њ—А—З–∞–ї–Є –Љ–∞—З—В—Л –Є –Љ–Њ—Б—В–Є–Ї –Ј–∞—В–Њ–љ—Г–≤—И–µ–≥–Њ —Б—Г–і–љ–∞. –У–Њ—А–Њ–і –Ј–∞ –±—Г—Е—В–Њ–є –Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –Њ—В—Б—О–і–∞ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –љ–µ—А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ–љ—Л–Љ. –Ю —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –≤–Њ–є–љ–∞ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–µ—В—Б—П, –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї–Є –ї–Є—И—М ¬Ђ—Б–ї–Њ–љ–Є–Ї–Є¬ї –≤ —Б–Є–љ–µ–Љ –љ–µ–±–µ. 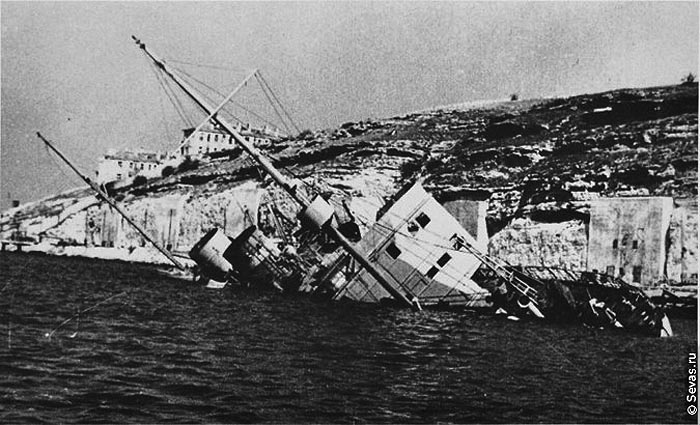 вАФ –ѓ –њ—А–Є–µ—Е–∞–ї —Б—О–і–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–∞—З–∞–ї–∞—Б—М –Њ—Б–∞–і–∞, вАФ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Њ—В–µ—Ж. вАФ –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—М –і–µ—А–ґ–∞–ї—Б—П –і–≤–µ—Б—В–Є –њ—П—В—М–і–µ—Б—П—В –і–љ–µ–є... –Ю—В–µ—Ж –њ–Њ–Љ–Њ–ї—З–∞–ї, –≥–ї—П–і—П –љ–∞ –Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ –њ—А–Є–±–ї–Є–ґ–∞–≤—И–Є–є—Б—П —П–ї–Є–Ї. вАФ –Ш —Б–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—М—Ж—Л –Ј–љ–∞–ї–Є: —З–µ–Љ –і–Њ–ї—М—И–µ –Њ–љ–Є –њ—А–Њ–і–µ—А–ґ–∞—В—Б—П, —В–µ–Љ –±–Њ–ї—М—И–µ –Њ—В—В—П–љ—Г—В —Д–∞—И–Є—Б—В—Б–Ї–Є—Е –і–Є–≤–Є–Ј–Є–є. –Т–Њ—Б–µ–Љ—М –Љ–µ—Б—П—Ж–µ–≤ –љ–µ–њ—А–µ—А—Л–≤–љ–Њ–є –Њ—Б–∞–і—Л!.. –Ґ—Л —Б–ї—Л—И–∞–ї –Њ ? –Т–Њ–љ —В–∞–Љ, –љ–∞ –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є, —Б—В–Њ—П–ї–∞ –Ј–µ–љ–Є—В–љ–∞—П –±–∞—В–∞—А–µ—П. –§–∞—И–Є—Б—В—Л –≤–њ–ї–Њ—В–љ—Г—О –Ї –љ–µ–є –њ–Њ–і–≤–µ–ї–Є —Б–≤–Њ–Є —В–∞–љ–Ї–Є. –С–∞—В–∞—А–µ—П –і–µ—А–ґ–∞–ї–∞—Б—М. –Р—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—Б—В—Л –њ—А–µ–≤—А–∞—В–Є–ї–Є –Ј–µ–љ–Є—В–Ї–Є –≤ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—В–∞–љ–Ї–Њ–≤—Л–µ –Њ—А—Г–і–Є—П вАФ –±–Є–ї–Є –њ–Њ —В–∞–љ–Ї–∞–Љ! –Ъ–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –Њ—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М –љ–Є –ї—О–і–µ–є, –љ–Є —Б–љ–∞—А—П–і–Њ–≤, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –±–∞—В–∞—А–µ–Є –Я—М—П–љ–Ј–Є–љ —А–∞–і–Є—А–Њ–≤–∞–ї: ¬Ђ–Ю–≥–Њ–љ—М —Б–Њ –≤—Б–µ—Е –±–∞—В–∞—А–µ–є вАФ –љ–∞ –Љ–µ–љ—П!¬ї –Ш –Њ–≥–Њ–љ—М —Б–Љ–µ–ї –≤–Њ—А–≤–∞–≤—И–Є—Е—Б—П –≥–Є—В–ї–µ—А–Њ–≤—Ж–µ–≤... –Я—М—П–љ–Ј–Є–љ—Ж—Л –±—Л–ї–Є –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–Љ–Є —Б–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—М—Ж–∞–Љ–Є!.. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ –Ј–∞—Й–Є—В–љ–Є–Ї–Є –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—П —Г—Е–Њ–і–Є–ї–Є –Є–Ј –≥–Њ—А—П—Й–µ–≥–Њ –≥–Њ—А–Њ–і–∞, –Ї–∞–ґ–і—Л–є –±—А–∞–ї —Б —Б–Њ–±–Њ–є... –Ґ—Л —Б–ї—Л—И–∞–ї –Њ –Ј–∞–≤–µ—В–љ–Њ–Љ —Б–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–Љ –Ї–∞–Љ–љ–µ? вАФ –Э–µ—В. –Ю—В–µ—Ж –і–Њ—Б—В–∞–ї –Є–Ј –Ї–∞—А–Љ–∞–љ–∞ –±–µ—А–µ–ґ–љ–Њ –Ј–∞–≤–µ—А–љ—Г—В—Л–є –≤ –њ–ї–∞—В–Њ–Ї –Њ—Б–Ї–Њ–ї–Њ–Ї: вАФ –Ъ–∞–ґ–і—Л–є –±—А–∞–ї —Б —Б–Њ–±–Њ–є –Ї–∞–Љ–µ–љ—М –Є –Ї–ї—П–ї—Б—П, —З—В–Њ –њ—А–Є–љ–µ—Б–µ—В —Н—В–Њ—В –Ї–∞–Љ–µ–љ—М –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ –≤ —А–Њ–і–љ–Њ–є –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—М. –Ш –Ї–Њ–≥–і–∞ —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–∞ —Г–±–Є–≤–∞–ї–Є –≤ –±–Њ—О, –і—А—Г–≥–Њ–є –±—А–∞–ї —Б–µ–±–µ –µ–≥–Њ –Ї–∞–Љ–µ–љ—М. –≠—В–Њ вАФ –Ї–∞–Љ–µ–љ—М —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–∞. –Ъ–Њ–≥–і–∞ —Г–±–Є–ї–Є –µ–≥–Њ, —П –≤–Ј—П–ї —Б–µ–±–µ –Є –њ–Њ–Ї–ї—П–ї—Б—П –њ—А–Є–љ–µ—Б—В–Є –≤ –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—М. –° –Ј–∞–≤–µ—В–љ—Л–Љ –Ї–∞–Љ–љ–µ–Љ —Е–Њ–і–Є–ї —П –љ–∞ –Ї–∞—В–µ—А–µ –≤ –Э–Њ–≤–Њ—А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї, –Ъ–µ—А—З—М, –§–µ–Њ–і–Њ—Б–Є—О –Є, –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –њ—А–Є—И–µ–ї –≤ –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—М... –Ю—В–µ—Ж –±–µ—А–µ–ґ–љ–Њ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї –Њ—Б–Ї–Њ–ї–Њ–Ї –Ї —Б—В–µ–љ–µ, –Є –Ї–∞–Љ–µ–љ—М —Б–ї–Є–ї—Б—П —Б –љ–µ–є, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П –љ–∞ —В–Њ —Б–∞–Љ–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ, –Њ—В–Ї—Г–і–∞ –±—Л–ї –≤–Ј—П—В –њ–Њ–≥–Є–±—И–Є–Љ —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–µ–Љ –Њ—В—Ж–∞ –≤ –Є—О–ї–µ —Б–Њ—А–Њ–Ї –≤—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –≥–Њ–і–∞. –Ь—Л —Б–њ—Г—Б—В–Є–ї–Є—Б—М –њ–Њ –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г —В—А–∞–њ—Г –љ–∞ –њ–Є—А—Б. –ѓ –њ–Њ–Љ–Њ–≥ –Њ—В—Ж—Г —Б–Њ–є—В–Є –≤ —П–ї–Є–Ї, –Є —Б–µ–і–Њ–є —П–ї–Є—З–љ–Є–Ї, —Б –њ—Г—З–Ї–∞–Љ–Є —Б–µ–і—Л—Е –±—А–Њ–≤–µ–є –љ–∞ –Ї—А–∞—Б–љ–Њ–Љ –ї–Є—Ж–µ, –њ–Њ–њ–ї–µ–≤–∞–ї –љ–∞ –ї–∞–і–Њ–љ–Є –Є –≤–Ј—П–ї—Б—П –Ј–∞ —В—П–ґ–µ–ї—Л–µ –≤–µ—Б–ї–∞. вАФ –Э–∞ –Ъ–Њ—А–∞–±–µ–ї—М–љ—Г—О –љ—Л–љ—З–µ –Є –њ–∞—Б—Б–∞–ґ–Є—А–Њ–≤-—В–Њ –љ–µ—В—Г, вАФ —Б–Њ–Њ–±—Й–Є–ї –Њ–љ –Њ—Б–Є–њ—И–Є–Љ –≥–Њ–ї–Њ—Б–Њ–Љ. вАФ –Т—Б–µ вАФ –≤ –≥–Њ—А–Њ–і, –і–∞ –≤ –≥–Њ—А–Њ–і. –Я–Њ–≥–ї—П–і–Є—В–µ-–Ї–∞, —Б –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є вАФ —В–Њ–ґ–µ... вАФ –Ш –Њ–љ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї –љ–∞ –њ–µ—А–µ–≥—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Л–µ –љ–∞—А–Њ–і–Њ–Љ —П–ї–Є–Ї–Є, –њ–µ—А–µ–њ–ї—Л–≤–∞–≤—И–Є–µ –±—Г—Е—В—Г. –Т–њ–µ—А–µ–і–Є, –њ–µ—А–µ–і –љ–∞–Љ–Є, –љ–∞–і –±—Г—Е—В–Њ–є –≤—Л—Б–Є–ї–∞—Б—М —Б—В—А–Њ–є–љ–∞—П –±–µ–ї–∞—П –Ї–Њ–ї–Њ–љ–љ–∞–і–∞, –Њ—В –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —Б–±–µ–≥–∞–ї–∞ –Ї –≤–Њ–і–µ —И–Є—А–Њ–Ї–∞—П –ї–µ—Б—В–љ–Є—Ж–∞. 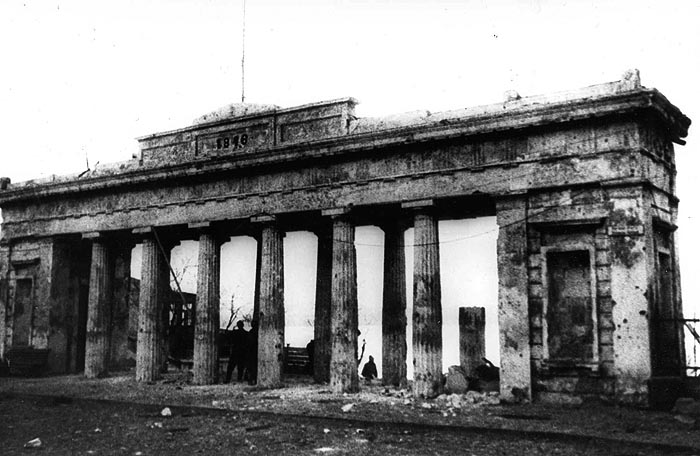 вАФ , вАФ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Њ—В–µ—Ж. –У—А–∞—Д—Б–Ї–∞—П –њ—А–Є—Б—В–∞–љ—М! –°—А–∞–Ј—Г –≤ –њ–∞–Љ—П—В–Є –Њ–ґ–Є–ї–Є ¬Ђ–°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–µ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л¬ї. –Ч–љ–∞—З–Є—В, –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–є –њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞–ї—Б—П –Ї–Њ–≥–і–∞-—В–Њ –њ–Њ —Н—В–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≥–Њ–є –ї–µ—Б—В–љ–Є—Ж–µ, –Є –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤, –Є –Ъ–Њ—И–Ї–∞, –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В—Л–є –Љ–∞—В—А–Њ—Б! вАФ –І—Г–і–Њ–Љ –Њ–љ–∞ —Г—Ж–µ–ї–µ–ї–∞, —Б–µ—А–і–µ—И–љ–∞—П, вАФ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї —П–ї–Є—З–љ–Є–Ї. вАФ –Ф–≤–µ –Њ—Б–∞–і—Л –≤—Л—Б—В–Њ—П–ї–∞ вАФ –љ–Є –Њ–≥–Њ–љ—М, –љ–Є —Б–љ–∞—А—П–і—Л –µ–µ –љ–µ —В—А–Њ–љ—Г–ї–Є... –ѓ–ї–Є—З–љ–Є–Ї –≤—Л—Б–Ї–Њ—З–Є–ї –њ–µ—А–≤—Л–Љ –Є –њ—А–Њ—В—П–љ—Г–ї —А—Г–Ї—Г –Њ—В—Ж—Г. –Ь—Л –Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ–і–љ—П–ї–Є—Б—М –њ–Њ –ї–µ—Б—В–љ–Є—Ж–µ, –Ї –Ї–Њ–ї–Њ–љ–љ–∞–і–µ, –љ–∞ –±–µ–ї–Њ–Љ —Д—А–Њ–љ—В–Њ–љ–µ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —П —Г–≤–Є–і–µ–ї —Ж–Є—Д—А—Г ¬Ђ1846¬ї, –Є –≤—Л—И–ї–Є –љ–∞ –њ–ї–Њ—Й–∞–і—М. вАФ –Ч–і–µ—Б—М –±—Л–ї–Є –Ф–Њ–Љ —Д–ї–Њ—В–∞ –Є –Љ–Њ—А—Б–Ї–∞—П –±–Є–±–ї–Є–Њ—В–µ–Ї–∞, вАФ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї –Њ—В–µ—Ж –љ–∞ –±—Г—А—Л–µ —А–∞–Ј–≤–∞–ї–Є–љ—Л. вАФ –Ш–і–µ–Љ, –Ї–∞–Ї –±—Л –љ–µ –Њ–њ–Њ–Ј–і–∞—В—М. вАФ –Ъ—Г–і–∞? вАФ –£–≤–Є–і–Є—И—М. –І—В–Њ-—В–Њ –љ–µ–Њ–±—Л—З–∞–є–љ–Њ–µ —В–≤–Њ—А–Є–ї–Њ—Б—М —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –≤ —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ–љ–Њ–Љ –≥–Њ—А–Њ–і–µ. –Т—З–µ—А–∞ –Љ—Л –µ—Е–∞–ї–Є –њ–Њ –±–µ–Ј–ї—О–і–љ—Л–Љ —Г–ї–Є—Ж–∞–Љ. –°–µ–≥–Њ–і–љ—П –Є–Ј –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ —Г–Ј–Ї–Њ–≥–Њ, –Ј–∞—Б—Л–њ–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞–Љ–љ–µ–Љ –њ—А–Њ—Г–ї–Ї–∞ –≤—Л—Е–Њ–і–Є–ї–Є –ї—О–і–Є. –®–Є—А–Њ–Ї–Є–є –ї—О–і—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ—В–Њ–Ї —Б—В—А–µ–Љ–Є–ї—Б—П –Ї –Љ–Њ—А—О. –£–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, —З—В–Њ –≤ –≥–Њ—А–Њ–і–µ, –≥–і–µ –љ–µ –Њ—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М –љ–Є –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —Ж–µ–ї–Њ–≥–Њ –і–Њ–Љ–∞, –≤–і—А—Г–≥ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М —Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –ї—О–і–µ–є! –Ш —Г –≤—Б–µ—Е –±—Л–ї–Є –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є—З–љ—Л–µ, —А–∞–і–Њ—Б—В–љ—Л–µ, —Б—З–∞—Б—В–ї–Є–≤—Л–µ –ї–Є—Ж–∞, –≤—Б–µ –Ї–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ –ґ–і–∞–ї–Є —З–µ–≥–Њ-—В–Њ. –Ш –Љ—Л –≤–ї–Є–ї–Є—Б—М –≤ —Н—В–Њ—В –њ–Њ—В–Њ–Ї –Є —И–ї–Є –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б —Б–Њ–ї–і–∞—В–∞–Љ–Є –≤ –Ї–∞—Б–Ї–∞—Е, —Б –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–∞–Љ–Є, —Б—В–∞—А–Є–Ї–∞–Љ–Є вАФ –Њ—В—Б—В–∞–≤–љ—Л–Љ–Є –Љ–∞—В—А–Њ—Б–∞–Љ–Є, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –Њ–±—А–Њ—Б—И–Є–Љ–Є —Б–µ–і—Л–Љ –Љ–Њ—Е–Њ–Љ, –≤ –Њ–±—В–µ—А—В—Л—Е –Љ–∞—В—А–Њ—Б—Б–Ї–Є—Е –±—Г—И–ї–∞—В–∞—Е, —Б –і–µ–≤—Г—И–Ї–∞–Љ–Є –≤ –Ї—А–∞—Б–љ—Л—Е –Ї–Њ—Б—Л–љ–Ї–∞—Е –Є –±–µ–ї—Л—Е –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є—З–љ—Л—Е –њ–ї–∞—В—М—П—Е. вАФ –Я—А–Є–Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–є –±—Г–ї—М–≤–∞—А, вАФ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Њ—В–µ—Ж. вАФ –У–і–µ? вАФ —Г–і–Є–≤–Є–ї—Б—П —П, –љ–µ –≤–Є–і—П –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ –љ–Є –Ї—Г—Б—В–Њ–≤, –љ–Є –і–µ—А–µ–≤—М–µ–≤. –Ы–Є—И—М –≤ –±–Њ–ї—М—И–Њ–є —З–µ—А–љ–Њ–є –≤–Њ—А–Њ–љ–Ї–µ —Б –Ї—А–∞—О —Ж–≤–µ–ї —П—А–Ї–Њ-–ґ–µ–ї—В—Л–є —Ж–≤–µ—В–Њ–Ї. –Ш –ї—О–і–Є —Б—В–∞—А–∞–ї–Є—Б—М –љ–µ –љ–∞—Б—В—Г–њ–∞—В—М –љ–∞ –љ–µ–≥–Њ –Є –±–µ—А–µ–ґ–љ–Њ –Њ–±—Е–Њ–і–Є–ї–Є. вАФ –С—Г–ї—М–≤–∞—А —Б–Њ–ґ–ґ–µ–љ, –љ–Њ –Њ–љ —Б–љ–Њ–≤–∞ –±—Г–і–µ—В, вАФ –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї –Њ—В–µ—Ж. вАФ –°–љ–Њ–≤–∞ –њ–Њ—Б–∞–і–Є–Љ —Ж–≤–µ—В—Л, –і–µ—А–µ–≤—М—П. –Ш –±—Г–і–µ–Љ –≥—Г–ї—П—В—М –Ј–і–µ—Б—М, –Ї–∞–Ї –і–Њ –≤–Њ–є–љ—Л. вАФ –С—Г–і–µ–Љ, —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ —В—А–µ—В—М–µ–≥–Њ —А–∞–љ–≥–∞, –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –±—Г–і–µ–Љ! вАФ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–і–Є–ї —И–∞–≥–∞–≤—И–Є–є —А—П–і–Њ–Љ —Б –љ–Є–Љ –Љ–∞—В—А–Њ—Б. вАФ –Ф–µ–љ—М-—В–Њ –љ—Л–љ—З–µ –Ї–∞–Ї–Њ–є! –Я–Њ–і—Г–Љ–∞—В—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ, –і–µ–љ—М-—В–Њ!  –Я—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В.  –Т–µ—А—О–ґ—Б–Ї–Є–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Т–Э–Р), –У–Њ—А–ї–Њ–≤ –Ю–ї–µ–≥ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Ю–Р–У), –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З (–Ь–Т–Т), –Ъ–°–Т. 198188. –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥, —Г–ї. –Ь–∞—А—И–∞–ї–∞ –У–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤–∞, –і–Њ–Љ 11/3, –Ї–≤. 70. –Ъ–∞—А–∞—Б–µ–≤ –°–µ—А–≥–µ–є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З, –∞—А—Е–Є–≤–∞—А–Є—Г—Б. karasevserg@yandex.ru
21.01.201302:0321.01.2013 02:03:46
0
20.01.201311:3420.01.2013 11:34:07
 –®—В—Г—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–∞—П —А—Г–±–Ї–∞ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є. –Т—Б–Ї–Њ—А–µ –љ–∞ –С-36 –њ—А–Є–±—Л–ї –љ–Њ–≤—Л–є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А —А—Г–ї–µ–≤–Њ–є –≥—А—Г–њ–њ—Л, —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Љ–ї–∞–і—И–Є–є —И—В—Г—А–Љ–∞–љ, –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В –Т—П—З–µ—Б–ї–∞–≤ –Ь–∞—Б–ї–Њ–≤. –Я–µ—А–≤–Њ–µ, —З—В–Њ –Њ–љ —Г–≤–Є–і–µ–ї –≤ —И—В—Г—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–Њ–є —А—Г–±–Ї–µ —Н—В–Њ –ї–Њ—Е–Љ–∞—В–Њ–≥–Њ –Є –≤—Б–њ–Њ—В–µ–≤—И–µ–≥–Њ –Љ–µ–љ—П, –Ј–∞–≤–∞–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ—А–Њ—Е–Њ–Љ –Ї–∞—А—В. –Т–Њ—Б–µ–Љ—М —А—Г–ї–Њ–љ–Њ–≤ –Ї–∞—А—В –±—Л–ї–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —З—В–Њ –і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ—Л –≥–Є–і—А–Њ–≥—А–∞—Д–Є–µ–є –љ–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М, –Є —П, –љ–∞–Є–≤–љ–Њ, –њ–Њ –Є—Е –љ–∞–ї–Є—З–Є—О –њ—Л—В–∞–ї—Б—П –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є—В—М - –Ї—Г–і–∞ –ґ–µ –Љ—Л –њ–Њ–є–і–µ–Љ. –Я–µ—А–µ—З–µ–љ—М –Ї–∞—А—В –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞–ї –љ–∞–Љ –њ—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Є–µ –≤ –ї—О–±—Л–µ –њ–Њ—А—В—Л, –±—Г—Е—В—Л –Є –≥–∞–≤–∞–љ–Є –Р—В–ї–∞–љ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–Ї–µ–∞–љ–∞. –Ь–µ—Б—В–Њ –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ –±–∞–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є—В—М –љ–µ —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М, —П—Б–љ–Њ —Б—В–∞–ї–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —В–Њ, —З—В–Њ 69 –±—А–Є–≥–∞–і–∞ –і–∞–ї—М—И–µ –Р—В–ї–∞–љ—В–Є–Ї–Є –љ–µ –њ–Њ–є–і—С—В. –Т –љ–Њ—З—М –љ–∞ 30 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П –≤—Б–µ —З–µ—В—Л—А–µ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–µ –ї–Њ–і–Ї–Є –њ–Њ–Њ—З–µ—А—С–і–љ–Њ, –≤ –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–µ —Б—В—А–Њ–ґ–∞–є—И–µ–є —Б–µ–Ї—А–µ—В–љ–Њ—Б—В–Є –Є —Г—Б–Є–ї–µ–љ–љ–Њ–є –Њ—Е—А–∞–љ—Л –њ—А–Є—З–∞–ї–∞, –≤ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–Є –≥—А—Г–њ–њ—Л –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤ –Є –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–Њ–≤ –њ–Њ–≥—А—Г–Ј–Є–ї–Є –≤ —В–Њ—А–њ–µ–і–љ—Л–µ –∞–њ–њ–∞—А–∞—В—Л –њ–Њ –Њ–і–љ–Њ–є —В–Њ—А–њ–µ–і–µ —Б —П–і–µ—А–љ–Њ–є –±–Њ–µ–≥–Њ–ї–Њ–≤–Ї–Њ–є –Є –≤ –њ—А–Є–і–∞—З—Г –Ї –љ–Є–Љ –њ–Њ –Њ–і–љ–Њ–Љ—Г –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Г –Є–Ј 6 –Њ—В–і–µ–ї–∞ —Д–ї–Њ—В–∞ –≤ –Ј–≤–∞–љ–Є–Є –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ-–ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В–∞ –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –љ–∞–±–ї—О–і–∞—О—Й–µ–≥–Њ. –С–ї–Є–ґ–µ –Ї –≤–µ—З–µ—А—Г –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Є 69 –±—А–Є–≥–∞–і—Л –±—Л–ї–Є –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ—Л –љ–∞ –њ—А–Є—З–∞–ї–µ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ –њ–ї–∞–≤–±–∞–Ј—Л ¬Ђ–Ф–Љ–Є—В—А–Є–є –У–∞–ї–Ї–Є–љ¬ї. –Я–µ—А–µ–і –љ–∞–Љ–Є –≤—Л—Б—В—Г–њ–Є–ї –њ–µ—А–≤—Л–є –Ј–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї—М –У–ї–∞–≤–Ї–Њ–Љ–∞ –Т–Ь–§ –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї –Т.–Р.–§–Њ–Ї–Є–љ —Б –њ–Њ–ґ–µ–ї–∞–љ–Є–µ–Љ —Б—З–∞—Б—В–ї–Є–≤–Њ–≥–Њ –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є—П –≤ –њ–Њ—А—В –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј –і—А—Г–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е —Б—В—А–∞–љ. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –њ—А–µ–і—Г–њ—А–µ–і–Є–ї, —З—В–Њ, –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –Љ–Є—А–љ—Г—О –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї—Г, –љ–∞–і–Њ –±—Л—В—М –≥–Њ—В–Њ–≤—Л–Љ–Є –Ї –ї—О–±–Њ–Љ—Г –µ—С –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—О. –°—А–∞–Ј—Г –њ–Њ—Б–ї–µ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є—П –љ–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П—Е –љ–∞—З–∞–ї–Њ—Б—М –њ—А–Є–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї –Ї –±–Њ—О –њ–Њ—Е–Њ–і—Г –Є –њ–Њ–≥—А—Г–ґ–µ–љ–Є—О. –Т –љ–Њ—З—М –љ–∞ 1-–µ –Њ–Ї—В—П–±—А—П –С-36 –Є –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–µ –ї–Њ–і–Ї–Є –±—А–Є–≥–∞–і—Л —Б –Є–љ—В–µ—А–≤–∞–ї–Њ–Љ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 30 –Љ–Є–љ—Г—В —Б—В–∞–ї–Є –Њ—В—Е–Њ–і–Є—В—М –Њ—В –њ–Є—А—Б–∞ –Є –љ–∞—З–∞–ї–Є –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і –Ї –љ–Њ–≤–Њ–Љ—Г –Љ–µ—Б—В—Г –±–∞–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П. –Я–µ—А–µ–і –≤—Л—Е–Њ–і–Њ–Љ –љ–∞ –≤—Б–µ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–µ –ї–Њ–і–Ї–Є –њ—А–Є–±—Л–ї–Њ –њ–Њ –Њ–і–љ–Њ–є –≥—А—Г–њ–њ–µ –Ю–°–Э–Р–Ч –і–ї—П –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є—П –≤–µ–і–µ–љ–Є—П —А–∞–і–Є–Њ—А–∞–Ј–≤–µ–і–Ї–Є –Є —А–∞–і–Є–Њ–њ–µ—А–µ—Е–≤–∞—В–∞ –і–Њ–љ–µ—Б–µ–љ–Є–є –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ—Л—Е –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–ї–Њ–і–Њ—З–љ—Л—Е —Б–Є–ї. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –љ–∞ –С-36 –≤ –њ–Њ—Е–Њ–і –њ–Њ—И–µ–ї —Д–ї–∞–≥–Љ–∞–љ—Б–Ї–Є–є –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ї –±—А–Є–≥–∞–і—Л –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ 2 —А–∞–љ–≥–∞ –Ы—О–±–Є–Љ–Њ–≤. –Я–Њ—Б–ї–µ –≤—Л—Е–Њ–і–∞ –Є–Ј –Ъ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–∞–ї–Є–≤–∞ —П –Њ–±—А–∞—В–Є–ї—Б—П –Ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Г —Б –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–Љ, –Ї—Г–і–∞ –њ—А–Њ–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞—В—М –Ї—Г—А—Б. –Т –Њ—В–≤–µ—В –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –і–∞–ї –Љ–љ–µ –Ї–Њ–Њ—А–і–Є–љ–∞—В—Л –љ–∞—З–∞–ї–∞ –Є –Ї–Њ–љ—Ж–∞ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ –Ї—Г—А—Б–∞ –Є —А–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ –Љ–µ–ґ–і—Г –љ–Є–Љ–Є. –Ґ–∞–Ї –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–Њ—Б—М –і–Њ –њ—А–Њ—Е–Њ–і–∞ –§–∞—А–µ—А–Њ-–Ш—Б–ї–∞–љ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А—Г–±–µ–ґ–∞ –Є –≤—Л—Е–Њ–і–∞ –≤ –Р—В–ї–∞–љ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Њ–Ї–µ–∞–љ. –° –≤—Л—Е–Њ–і–Њ–Љ –≤ –Р—В–ї–∞–љ—В–Є–Ї—Г –њ–Њ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—О –±—Л–ї–Њ –Њ–±—К—П–≤–ї–µ–љ–Њ, —З—В–Њ –Љ—Л –Є–і—С–Љ –≤ –њ–Њ—А—В –Ь–∞—А–Є—Н–ї—М –љ–∞ –Њ—Б—В—А–Њ–≤ –Ъ—Г–±–∞ –і–ї—П –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ–≥–Њ –±–∞–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є, —З—В–Њ –љ–∞ –њ–Њ–і—Е–Њ–і–µ –Ї –њ–Њ—А—В—Г –љ–∞—Б –≤—Б—В—А–µ—В–Є—В –Ї—Г–±–Є–љ—Б–Ї–Є–є —В–Њ—А–њ–µ–і–љ—Л–є –Ї–∞—В–µ—А. –Я—А–Њ—Е–Њ–і –≤ –њ–Њ—А—В –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П –њ—А–µ–і–њ–Є—Б—Л–≤–∞–ї—Б—П –љ–µ –Ї—А–∞—В—З–∞–є—И–Є–Љ –њ—Г—В—С–Љ —З–µ—А–µ–Ј –§–ї–Њ—А–Є–і—Б–Ї–Є–є –њ—А–Њ–ї–Є–≤, –∞ —З–µ—А–µ–Ј –њ—А–Њ–ї–Є–≤ –Ъ–∞–є–Ї–Њ—Б –Љ–µ–ґ–і—Г –С–∞–≥–∞–Љ—Б–Ї–Є–Љ–Є –Њ—Б—В—А–Њ–≤–∞–Љ–Є –Є –і–∞–ї—М—И–µ –њ–Њ –і–ї–Є–љ–љ–Њ–Љ—Г —Г–Ј–Ї–Њ–Љ—Г –Є –Є–Ј–≤–Є–ї–Є—Б—В–Њ–Љ—Г –°—В–∞—А–Њ–Љ—Г –С–∞–≥–∞–Љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Ї–∞–љ–∞–ї—Г. –°–Ї—А—Л—В–љ—Л–є –±–µ–Ј–∞–≤–∞—А–Є–є–љ—Л–є –њ—А–Њ—Е–Њ–і –њ–Њ —В–∞–Ї–Њ–Љ—Г –Ї–∞–љ–∞–ї—Г –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї—Б—П, –њ–Њ –Љ–µ–љ—М—И–µ–є –Љ–µ—А–µ, –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–∞—В–Є—З–љ—Л–Љ, –љ–Њ –±—Л–ї–Њ —А–µ—И–µ–љ–Њ —А–∞–Ј–Њ–±—А–∞—В—М—Б—П —Б —Н—В–Є–Љ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–Љ –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–µ. –£–ґ–µ –≤ –њ–µ—А–≤—Л–µ —З–∞—Б—Л –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–∞ —А–∞—Б—З—С—В —Б—А–µ–і–љ–µ–є —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В–Є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П –љ–∞ –њ–Њ—Е–Њ–і–µ –њ–Њ –Ј–∞–і–∞–љ–љ—Л–Љ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–Љ –Є–љ—В–µ—А–≤–∞–ї–∞–Љ –љ–µ–њ—А–Є—П—В–љ–Њ —Г–і–Є–≤–Є–ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞. –Т–Љ–µ—Б—В–Њ —Б—А–µ–і–љ–µ–є —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В–Є 5-6 —Г–Ј–ї–Њ–≤, –њ—А–Є–љ—П—В–Њ–є –љ–∞ —Д–ї–Њ—В–µ –і–ї—П —Б–Ї—А—Л—В–љ–Њ–≥–Њ –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–∞ –і–Є–Ј–µ–ї—М-—Н–ї–µ–Ї—В—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї, –і–ї—П –љ–∞—Б –Њ–љ–∞ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞—Б—М –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–љ–Њ–є 10 —Г–Ј–ї–Њ–≤. –Х—Б–ї–Є —Б–Њ–±–ї—О–і–∞—В—М —Б–Ї—А—Л—В–љ–Њ—Б—В—М –Є –Є–Љ–µ—В—М –Ј–∞–њ–∞—Б –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –і–ї—П –њ–Њ–≥—А—Г–ґ–µ–љ–Є–є –њ—А–Є —Г–Ї–ї–Њ–љ–µ–љ–Є–Є –Њ—В –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–ї–Њ–і–Њ—З–љ—Л—Е —Б–Є–ї, —В–Њ –њ—А–Є–і–µ—В—Б—П –Є–Љ–µ—В—М —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В—М –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ 12 —Г–Ј–ї–Њ–≤, —З—В–Њ –≤ —И—В–Њ—А–Љ–Њ–≤–Њ–Љ –Љ–Њ—А–µ –њ–Њ—В—А–µ–±—Г–µ—В —А–∞–±–Њ—В—Л –і–Є–Ј–µ–ї–µ–є –љ–∞ –њ–Њ–ї–љ—Л—Е —Е–Њ–і–∞—Е, —В–Њ –µ—Б—В—М –Є–Љ–µ—В—М –Њ—З–µ–љ—М –љ–∞–њ—А—П–ґ–µ–љ–љ—Л–є –Є –љ–µ–±–ї–∞–≥–Њ–њ—А–Є—П—В–љ—Л–є —А–µ–ґ–Є–Љ —А–∞–±–Њ—В—Л –≥–ї–∞–≤–љ—Л—Е –і–≤–Є–≥–∞—В–µ–ї–µ–є.  , —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–∞–≤—И–∞—П –љ–∞—Б –≤ –С–∞—А–µ–љ—Ж–µ–≤–Њ–Љ –Є –Э–Њ—А–≤–µ–ґ—Б–Ї–Њ–Љ –Љ–Њ—А—П—Е, –љ–µ –њ–Њ–Ї–Є–љ—Г–ї–∞ –љ–∞—Б –Є –≤ –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є –Р—В–ї–∞–љ—В–Є–Ї–µ. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ —Г–і–∞—А—Л –≤–Њ–ї–љ —Б—В–∞–ї–Є –Љ–Њ—Й–љ–µ–µ, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –њ—А–Є –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–є —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В–Є 12 —Г–Ј–ї–Њ–≤. –Я–Њ—П–≤–Є–ї–Є—Б—М –њ–µ—А–≤—Л–µ –њ–Њ—В–µ—А–Є: –≤–Њ–ї–љ—Л –Њ—В–Њ—А–≤–∞–ї–Є –љ–Њ—Б–Њ–≤–Њ–є –∞–≤–∞—А–Є–є–љ—Л–є –±—Г–є –Є –њ–Њ–≤—А–µ–і–Є–ї–Є –≤–µ—А—Е–љ—О—О –Ї—А—Л—И–Ї—Г —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–∞ –Т–Ш–Я–°. –Т–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Њ—З–µ—А–µ–і–љ–Њ–≥–Њ —И—В–Њ—А–Љ–∞ —Н—В–Є –ґ–µ –≤–Њ–ї–љ—Л –њ—А–Є–і–∞–≤–Є–ї–Є –Ї –Њ–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ–Є—О —А—Г–±–Ї–Є, –љ–µ —Г–≤–µ—А–љ—Г–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –Њ—В –љ–Є—Е –≤–∞—Е—В–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–∞ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ-–ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В–∞ –Ь—Г—Е—В–∞—А–Њ–≤–∞ –Є —Б–ї–Њ–Љ–∞–ї–Є –µ–Љ—Г –і–≤–∞ —А–µ–±—А–∞, ¬Ђ–Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–і–Є–≤¬ї –µ–≥–Њ –Њ—В –љ–µ—Б–µ–љ–Є—П –≤–∞—Е—В—Л –њ–Њ—З—В–Є –љ–∞ –і–≤–µ –љ–µ–і–µ–ї–Є. –Ъ–∞–Ї –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї –≤ –Њ—В—З—С—В–µ –≤ –њ–Њ–ї–Є—В–Њ—А–≥–∞–љ—Л –Ј–∞–Љ–њ–Њ–ї–Є—В –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ 3 —А–∞–љ–≥–∞ –°–∞–њ–∞—А–Њ–≤, —В—А–∞–≤–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–∞ –Ь—Г—Е—В–∞—А–Њ–≤–∞ –Ј–∞–Љ–µ–љ–Є–ї –љ–∞ –≤–∞—Е—В–µ –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є—Б—В –°–∞–њ–∞—А–Њ–≤. –Ь–µ–ґ–і—Г –њ—А–Њ—З–Є–Љ, –Є –Ь—Г—Е—В–∞—А–Њ–≤ –±—Л–ї –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є—Б—В–Њ–Љ. –Ь–љ–µ, –Ї–∞–Ї —И—В—Г—А–Љ–∞–љ—Г, –њ–Њ–≥–Њ–і–∞ –љ–µ –і–∞–≤–∞–ї–∞ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є —Г—В–Њ—З–љ–Є—В—М —Б—З–Є—Б–ї–Є–Љ–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П –њ—Г—В—С–Љ –∞—Б—В—А–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –љ–∞–±–ї—О–і–µ–љ–Є–є, –∞ –њ–Њ—Б–ї–µ –Њ—В—А—Л–≤–∞ –Њ—В –њ–Њ–±–µ—А–µ–ґ—М—П –Э–Њ—А–≤–µ–≥–Є–Є –і—А—Г–≥–Є—Е —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–Њ–≤ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –Љ–µ—Б—В–∞ —Г –љ–∞—Б –≤ –њ–Њ—Е–Њ–і–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –љ–µ –±—Л–ї–Њ. –Т —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ, –њ–Њ—Б–ї–µ –њ—А–Њ—Е–Њ–і–∞ –§–∞—А–µ—А–Њ-–Ш—Б–ї–∞–љ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–ї–Њ–і–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ —А—Г–±–µ–ґ–∞, –љ–∞ –≤—Б–µ—Е —З–µ—В—Л—А—С—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П—Е, –Ї–∞–Ї —П —Г–±–µ–і–Є–ї—Б—П –њ–Њ—Б–ї–µ –њ–Њ—Е–Њ–і–∞, –±—Л–ї–∞ –љ–µ–≤—П–Ј–Ї–∞ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 13-18 –Љ–Є–ї—М –љ–∞–Ј–∞–і –њ–Њ –Ї—Г—А—Б—Г, —З—В–Њ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Њ –Њ –љ–∞–ї–Є—З–Є–Є –°–µ–≤–µ—А–Њ-–Р—В–ї–∞–љ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В–µ—З–µ–љ–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –Љ—Л –њ—А–Њ—Б—В–Њ –љ–µ –Ј–љ–∞–ї–Є, –Ї–∞–Ї —Г—З–Є—В—Л–≤–∞—В—М, –љ–µ –Є–Љ–µ—П –љ–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П—Е –∞–±—Б–Њ–ї—О—В–љ–Њ–≥–Њ –ї–∞–≥–∞. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –≤ –Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ —П–≤–ї–µ–љ–Є–Є –µ—Б—В—М –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ—В—А–Є—Ж–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ, –љ–Њ –Є –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ, —В–∞–Ї –Є –≤ –њ–ї–Њ—Е–Њ–є –њ–Њ–≥–Њ–і–µ. –Т —Б–≤—П–Ј–Є —Б –њ–ї–Њ—Е–Њ–є –њ–Њ–≥–Њ–і–Њ–є, –љ–∞ –≤—Б–µ—Е —В—А—С—Е –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–ї–Њ–і–Њ—З–љ—Л—Е —А—Г–±–µ–ґ–∞—Е –љ–∞–Љ –љ–µ –і–Њ—Б–∞–ґ–і–∞–ї–∞ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–ї–Њ–і–Њ—З–љ–∞—П –∞–≤–Є–∞—Ж–Є—П —Б—В—А–∞–љ –Э–Р–Ґ–Ю, —З—В–Њ –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–ї–Њ –њ–Њ—З—В–Є —Б–Њ–±–ї—О–і–∞—В—М –Ј–∞–і–∞–љ–љ—Г—О —Б—А–µ–і–љ—О—О —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В—М –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–∞. –Т —Б–≤–Њ—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М, –µ—Б–ї–Є —А–∞–Ј–≤–µ–і–Ї–∞ —Б—В—А–∞–љ –Э–Р–Ґ–Ю –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–ї–∞ –≤—Л—Е–Њ–і –±—А–Є–≥–∞–і—Л –Є–Ј –Ъ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–∞–ї–Є–≤–∞, —В–Њ –Њ–љ–∞ —А–∞—Б—Б—З–Є—В—Л–≤–∞–ї–∞ –љ–∞ –љ–∞—И –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і —Б–Њ —Б—А–µ–і–љ–µ–є —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В—М—О 5-6 —Г–Ј–ї–Њ–≤ –Є –Ј–∞–њ–∞–Ј–і—Л–≤–∞–ї–∞ —Б —Г–≤–µ–ї–Є—З–µ–љ–Є–µ–Љ –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–ї–Њ–і–Њ—З–љ—Л—Е —Б–Є–ї –љ–∞ —А—Г–±–µ–ґ–∞—Е. –Т –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Р—В–ї–∞–љ—В–Є–Ї–µ —И—В–Њ—А–Љ–Њ–≤ –љ–µ –±—Л–ї–Њ, –і–∞ –Є –≤–µ—А–Њ—П—В–љ—Л–є –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї –µ—Й—С –љ–µ –њ—А–Њ—П–≤–ї—П–ї –њ–Њ–≤—Л—И–µ–љ–љ–Њ–є –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ—Б—В–Є, —З—В–Њ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї–Њ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є—В—М –∞—Б—В—А–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –Њ–±—Б–µ—А–≤–∞—Ж–Є—О –Љ–µ—Б—В–∞ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –≤–µ—З–µ—А–љ–Є–µ –Є —Г—В—А–µ–љ–љ–Є–µ —Б—Г–Љ–µ—А–Ї–Є, –љ–Њ –Є –≥—А—Г–њ–њ–Њ–≤—Л–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –Љ–µ—Б—В–∞ –њ–Њ —Б–Њ–ї–љ—Ж—Г —Б–Є–ї–∞–Љ–Є –≤–∞—Е—В–µ–љ–љ—Л—Е –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤ –Є –≥—А—Г–њ–њ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П –њ–Њ–і —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞. –Т—Б–Ї–Њ—А–µ –≤–Њ–Ј–і—Г—Е –Є –≤–Њ–і–∞ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ–Њ—В–µ–њ–ї–µ–ї–Є. –Ь—Л –≤–Њ—И–ї–Є –≤ —Б—Г–±—В—А–Њ–њ–Є–Ї–Є, –Є –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –љ–Њ—З–љ–Њ–є –≤–∞—Е—В—Л —П –≤–Њ—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї—Б—П —В—А–Њ–њ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –ї–Є–≤–љ–µ–Љ, —Б —Г–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Є–µ–Љ –њ—А–Є–љ—П–≤ –і—Г—И –љ–∞ –Љ–Њ—Б—В–Є–Ї–µ, –њ–Њ–ї—М–Ј—Г—П—Б—М –Љ—Л–ї–Њ–Љ –Є –Љ–Њ—З–∞–ї–Ї–Њ–є.  –Т —Г—В—А–µ–љ–љ–Є–µ —Б—Г–Љ–µ—А–Ї–Є 23 –Њ–Ї—В—П–±—А—П –С-36 –њ–Њ–і–Њ—И–ї–∞ –Ї –њ—А–Њ–ї–Є–≤—Г –љ–∞ —А–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 25 –Љ–Є–ї—М –Є —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ –љ–∞—З–∞–ї –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї—Г –Ї —Д–Њ—А—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—О –њ—А–Њ–ї–Є–≤–∞ –≤ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є. –Р–Ї–Ї—Г–Љ—Г–ї—П—В–Њ—А–љ–∞—П –±–∞—В–∞—А–µ—П –Ї —В–Њ–Љ—Г –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В—Г –±—Л–ї–∞ –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –Ј–∞—А—П–ґ–µ–љ–∞, –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞–і—С–ґ–љ–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є—В—М –Љ–µ—Б—В–Њ, —З—В–Њ –Є –±—Л–ї–Њ —Б–і–µ–ї–∞–љ–Њ —В—А–µ–Љ—П –љ–∞–±–ї—О–і–∞—В–µ–ї—П–Љ–Є –њ–Њ —В—А—С–Љ-—З–µ—В—Л—А—С–Љ –Ј–≤—С–Ј–і–∞–Љ. –†–∞–Ј–≤–µ–і–Ї–∞ –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Є —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞ –Њ –љ–∞–ї–Є—З–Є–Є –≤ —А–∞–є–Њ–љ–µ –њ—А–Њ–ї–Є–≤–∞ –і–≤—Г—Е –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є—Е —Н—Б–Љ–Є–љ—Ж–µ–≤, —А–∞–±–Њ—В–∞–≤—И–Є—Е —А–∞–і–Є–Њ–ї–Њ–Ї–∞—В–Њ—А–∞–Љ–Є. –Ч–∞–і–µ—А–ґ–∞–≤—И–Є—Б—М –љ–∞ –њ–µ—А–Є—Б–Ї–Њ–њ–љ–Њ–є –≥–ї—Г–±–Є–љ–µ –љ–∞ —Б–µ–∞–љ—Б —Б–≤—П–Ј–Є, –Љ—Л –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є —А–∞–і–Є–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ—Г, —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –С-36 –љ–∞–Ј–љ–∞—З–∞–ї–∞—Б—М –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—П —О–≥–Њ-–≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–µ–µ –њ—А–Њ–ї–Є–≤–∞ –Ъ–∞–є–Ї–Њ—Б, –Ї—Г–і–∞ –Љ—Л –Є –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є–ї–Є—Б—М –њ—А–Њ—З—М –Њ—В –њ—А–Њ–ї–Є–≤–∞. –Ґ–µ–Љ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–µ–Љ —В–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞ —Б—В–∞–ї–∞ —А–µ–Ј–Ї–Њ –Њ—Б–ї–Њ–ґ–љ—П—В—М—Б—П. –Р–Ї—В–Є–≤–љ–Њ—Б—В—М –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–ї–Њ–і–Њ—З–љ—Л—Е —Б–Є–ї –Т–Ь–° –°–®–Р –≤–Њ–Ј—А–Њ—Б–ї–∞ –љ–µ–≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ. –Р–≤–Є–∞—Ж–Є—П –Я–Ы–Ю —В–∞–Ї —З–∞—Б—В–Њ –і–µ–ї–∞–ї–∞ –Њ–±–ї—С—В—Л –∞–Ї–≤–∞—В–Њ—А–Є–Є, —З—В–Њ –С-36 –њ–Њ—В–µ—А—П–ї–∞ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є—В—М –њ–Њ–ї–љ–Њ—Ж–µ–љ–љ—Г—О –Ј–∞—А—П–і–Ї—Г –Р–С, –і–∞ –Є –њ–Њ–і–Ј–∞—А—П–і–Ї–∞ —Б—В–∞–ї–∞ –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–∞—В–Є—З–љ—Л–Љ –Љ–µ—А–Њ–њ—А–Є—П—В–Є–µ–Љ. –Т—Б–Ї–Њ—А–µ –љ–∞—И–Є —А–∞–і–Є–Њ—А–∞–Ј–≤–µ–і—З–Є–Ї–Є –њ–µ—А–µ—Е–≤–∞—В–Є–ї–Є —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є—П –Њ–± –Њ–±—К—П–≤–ї–µ–љ–Є–Є –њ—А–µ–Ј–Є–і–µ–љ—В–Њ–Љ –°–®–Р –Ф–ґ–Њ–љ–Њ–Љ –Ъ–µ–љ–љ–µ–і–Є –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ ¬Ђ–Ї–∞—А–∞–љ—В–Є–љ–∞¬ї –Ъ—Г–±—Л –Є –Њ –Ј–∞–њ—А–µ—В–µ –≤—Б–µ–Љ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–Љ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П–Љ –њ—А–Є–±–ї–Є–ґ–∞—В—М—Б—П –Ї –њ–Њ–±–µ—А–µ–ґ—М—О –°–®–Р –±–ї–Є–ґ–µ, —З–µ–Љ –љ–∞ 400 –Љ–Є–ї—М. –Т –і–Њ–±–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Ї –∞–≤–Є–∞—Ж–Є–Є –≤ –њ—А–µ–і–µ–ї–∞—Е –≤–Є–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є —Б—В–∞–ї–Є –њ–Њ—П–≤–ї—П—В—М—Б—П –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є–µ —Н—Б–Љ–Є–љ—Ж—Л –≤ –≤–Є–і–µ –њ–∞—А–љ—Л—Е –њ–∞—В—А—Г–ї–µ–є, –љ–µ–њ—А–µ—А—Л–≤–љ–Њ —А–∞–±–Њ—В–∞—О—Й–Є–µ —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є —А–∞–і–Є–Њ–ї–Њ–Ї–∞—В–Њ—А–∞–Љ–Є –Є –≥–Є–і—А–Њ–ї–Њ–Ї–∞—В–Њ—А–∞–Љ–Є. –Т –і–љ–µ–≤–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Ј–∞ —Б—З–µ—В –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ–є –≤–Є–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–∞ –±–Њ–ї—М—И–Њ–Љ —Г–і–∞–ї–µ–љ–Є–Є –љ–∞–±–ї—О–і–∞—В—М –Ј–∞ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П–Љ–Є —Н—Б–Љ–Є–љ—Ж–µ–≤ —Б –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –ї—О–±—Л—Е –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Є—Е —Б—Г–і–Њ–≤. –Ю–љ–Є –±—Л—Б—В—А–Њ —Б–±–ї–Є–ґ–∞–ї–Є—Б—М —Б –љ–µ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Ж–µ–Љ –Є –њ–Њ—Б–ї–µ –љ–µ–њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –Ј–∞–і–µ—А–ґ–Ї–Є –Њ–Ї–Њ–ї–Њ —Б—Г–і–љ–∞ –Њ—В—Е–Њ–і–Є–ї–Є –Њ—В –љ–µ–≥–Њ, –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞—П –њ–∞—В—А—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ. –°—Г–і–љ–Њ –ґ–µ –ї–Њ–ґ–Є–ї–Њ—Б—М –љ–∞ –Њ–±—А–∞—В–љ—Л–є –Ї—Г—А—Б –Є —Г–і–∞–ї—П–ї–Њ—Б—М –Њ—В –Ъ—Г–±—Л.  –Ф–µ–є—Б—В–≤–Є—П –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–ї–Њ–і–Њ—З–љ—Л—Е —Б–∞–Љ–Њ–ї—С—В–Њ–≤ –°–®–Р —Б—В–∞–ї–Є –±–Њ–ї–µ–µ –∞–≥—А–µ—Б—Б–Є–≤–љ—Л–Љ–Є. –Ш–Љ–µ—П –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –Њ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ–Љ –љ–∞—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є –≤ —А–∞–є–Њ–љ–µ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є —Ж–µ–ї–Є –њ–Њ –і–∞–љ–љ—Л–Љ —А–∞–і–Є–Њ–ї–Њ–Ї–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–љ—В–∞–Ї—В–∞ –Є–ї–Є –ґ–µ –њ–Њ –і–∞–љ–љ—Л–Љ –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–є –љ–∞–Љ –≤ —В–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞ —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л –≥–Є–і—А–Њ—Д–Њ–љ–Њ–≤ –°–Ю–°–£–°, –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є–µ —Б–∞–Љ–Њ–ї—С—В—Л —Б—В–∞–ї–Є —Г—В–Њ—З–љ—П—В—М –Љ–µ—Б—В–Њ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О –≥–Є–і—А–Њ–∞–Ї—Г—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –±—Г–µ–≤ —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л –Ф–Ц–£–Ы–Ш. –Т —Б–Њ—Б—В–∞–≤ —Н—В–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л –≤—Е–Њ–і–Є–ї–Є –Є –≤–Ј—А—Л–≤–љ—Л–µ —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–∞ –і–ї—П —Г—В–Њ—З–љ–µ–љ–Є—П –Љ–µ—Б—В–∞ –њ–Њ–і–ї–Њ–і–Ї–Є –±—Г—П–Љ–Є –Ј–∞ —Б—З—С—В –њ–µ–ї–µ–љ–≥–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Њ—В—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –≤–Ј—А—Л–≤–љ–Њ–є –≤–Њ–ї–љ—Л –Њ—В –µ—С –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–∞. –Ґ–∞–Ї –Ї–∞–Ї –≤–Ј—А—Л–≤—Л –±—Л–ї–Є –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –Є–љ—В–µ–љ—Б–Є–≤–љ—Л–Љ–Є, –∞ —Б —Б–Є—Б—В–µ–Љ–Њ–є –Ф–Ц–£–Ы–Ш –Љ—Л —В–Њ–ґ–µ –±—Л–ї–Є –љ–µ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Л, —В–Њ –Є—Е –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ –њ–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ –≤—Л–Ј–≤–∞–ї–Њ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –Њ–Ј–∞–±–Њ—З–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М. –Т—Б–Ї–Њ—А–µ –љ–∞—И–µ –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ–µ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –Њ–± –Є—Е –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–Є –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–і–Є–ї–Њ—Б—М –њ–µ—А–µ—Е–≤–∞—З–µ–љ–љ—Л–Љ —А–∞–і–Є–Њ–і–Њ–љ–µ—Б–µ–љ–Є–µ–Љ —Б —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В–∞ –Њ –Ї–Њ–Њ—А–і–Є–љ–∞—В–∞—Е –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є. –Ю–љ–Є –Њ—В–ї–Є—З–∞–ї–Є—Б—М –Њ—В —Б—З–Є—Б–ї–Є–Љ—Л—Е –Ї–Њ–Њ—А–і–Є–љ–∞—В –љ–∞ –і–µ—Б—П—В—М –Љ–Є–ї—М –Є –љ–∞ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б —Б—В–∞—А–њ–Њ–Љ–∞, –љ–µ –љ–∞—И–Є –ї–Є —Н—В–Њ –Ї–Њ–Њ—А–і–Є–љ–∞—В—Л, —П –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї —Г–Ї–ї–Њ–љ—З–Є–≤–Њ. –Э–Њ –њ—А–Є –Њ—З–µ—А–µ–і–љ–Њ–Љ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–Є –Љ–µ—Б—В–∞ —Г–±–µ–і–Є–ї—Б—П, —З—В–Њ —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В –њ–µ—А–µ–і–∞–≤–∞–ї —В–Њ—З–љ–µ–є—И–Є–µ –Ї–Њ–Њ—А–і–Є–љ–∞—В—Л –Љ–µ—Б—В–∞ –С-36, –љ–∞ —В–Њ—В –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В, –Є –Є—Е –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є–љ—П—В—М –і–ї—П –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–≥–Њ —Б—З–Є—Б–ї–µ–љ–Є—П –Љ–µ—Б—В–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї —В–Њ—З–љ–Њ—Б—В—М –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –Љ–µ—Б—В–∞ —Г —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В–∞ –°–®–Р –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ—А–µ–≤—Л—И–∞–ї–∞ –љ–∞—И–Є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є. –Т—Б–Ї–Њ—А–µ —Н—В–∞ –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ —Б–ї–Њ–ґ–љ–∞—П –і–ї—П –љ–∞—Б —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є—П –њ—А–µ–≤—А–∞—В–Є–ї–∞—Б—М –≤ —Н–Ї—Б—В—А–µ–Љ–∞–ї—М–љ—Г—О. –Я—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ —З–µ—А–µ–Ј —Б—Г—В–Ї–Є, –≤ –љ–∞—Б—В—Г–њ–Є–≤—И–µ–є —В–µ–Љ–љ–Њ—В–µ, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –њ—А–Є–љ—П–ї —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–і–Ј–∞—А—П–і–Є—В—М –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –љ–Њ—З–Є –њ–Њ—А—П–і–Ї–Њ–Љ —А–∞–Ј—А—П–ґ–µ–љ–љ—Г—О –Ј–∞ –і–µ–љ—М –∞–Ї–Ї—Г–Љ—Г–ї—П—В–Њ—А–љ—Г—О –±–∞—В–∞—А–µ—О –љ–∞ –њ–µ—А–Є—Б–Ї–Њ–њ–љ–Њ–є –≥–ї—Г–±–Є–љ–µ –њ—А–Є —А–∞–±–Њ—В–µ –і–Є–Ј–µ–ї–µ–є –≤ —А–µ–ґ–Є–Љ–µ –†–Ф–Я. –Ь—Л –≤—Б—В–∞–ї–Є –њ–Њ–і –†–Ф–Я –Є –ї–µ–≥–ї–Є –љ–∞ –Ї—Г—А—Б –≤ –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–Љ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є. –°–њ—Г—Б—В—П –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П, —П –≤–і—А—Г–≥ –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї, —З—В–Њ –њ–µ—А–µ–і –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Њ–є –њ–Њ–і –†–Ф–Я, –≤ –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–Љ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –љ–∞–±–ї—О–і–∞–ї–∞—Б—М —Б–ї–∞–±–∞—П —А–∞–±–Њ—В–∞ –і–≤—Г—Е –Ї–Њ—А–∞–±–µ–ї—М–љ—Л—Е —А–∞–і–Є–Њ–ї–Њ–Ї–∞—В–Њ—А–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ–Њ—Б–ї–µ –љ–∞—И–µ–≥–Њ –њ–Њ–≤–Њ—А–Њ—В–∞ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є—Б—М –≤ –Ї–Њ—А–Љ–Њ–≤–Њ–Љ —Б–µ–Ї—В–Њ—А–µ, –Ј–∞—В–µ–љ—С–љ–љ–Њ–Љ –і–ї—П –љ–∞–±–ї—О–і–µ–љ–Є—П –≤ –њ–µ—А–Є—Б–Ї–Њ–њ —И–∞—Е—В–Њ–є –†–Ф–Я. –У–Є–і—А–Њ–∞–Ї—Г—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –љ–∞–±–ї—О–і–µ–љ–Є–µ –≤ —Н—В–Њ–Љ —Б–µ–Ї—В–Њ—А–µ —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –Ї–∞–Ї –Є–Ј-–Ј–∞ –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Є–≤–љ—Л—Е –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–µ–є, —В–∞–Ї –Є –Є–Ј-–Ј–∞ –≥—А–Њ—Е–Њ—В–∞ —А–∞–±–Њ—В–∞—О—Й–Є—Е –і–Є–Ј–µ–ї–µ–є. –£—З–Є—В—Л–≤–∞—П –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є—П –≤ –Ј–∞—В–µ–љ—С–љ–љ–Њ–Љ —Б–µ–Ї—В–Њ—А–µ –њ—А–Є–±–ї–Є–ґ–∞–≤—И–Є—Е—Б—П –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є –Є –љ–∞—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ –С-36 –≤ —Ж–µ–љ—В—А–µ –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є, —П –і–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Г –Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –њ–Њ–≤–Њ—А–Њ—В–∞ –≤–ї–µ–≤–Њ –љ–∞ 90 –≥—А–∞–і—Г—Б–Њ–≤ –њ–Њ –Ї–Њ–Љ–њ–∞—Б—Г. –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–ї—Б—П —Б–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є: ¬Ђ–Я—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ, –љ–µ—З–µ–≥–Њ –љ–∞–Љ –Є–і—В–Є –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є –®—Г–Љ–Ї–Њ–≤–∞, –љ–∞ –С-130 —Б—В–∞—А—Л–µ –∞–Ї–Ї—Г–Љ—Г–ї—П—В–Њ—А—Л, –љ–µ–ї—М–Ј—П –µ–≥–Њ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–Є—В—М –Є –њ—А–Є–≤–ї–µ–Ї–∞—В—М –Ј–∞ —Б–Њ–±–Њ–є –Ї –љ–µ–Љ—Г –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–ї–Њ–і–Њ—З–љ—Л–µ —Б–Є–ї—Л –°–®–Р¬ї. –° –љ–∞—З–∞–ї–Њ–Љ —Ж–Є—А–Ї—Г–ї—П—Ж–Є–Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї —В—А–µ–≤–Њ–ґ–љ—Л–є –і–Њ–Ї–ї–∞–і –∞–Ї—Г—Б—В–Є–Ї–Њ–≤ –Њ –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є–Є —Б–Є–ї—М–љ—Л—Е –Є –±—Л—Б—В—А–Њ –љ–∞—А–∞—Б—В–∞–≤—И–Є—Е —И—Г–Љ–Њ–≤ –≤–Є–љ—В–Њ–≤ –і–≤—Г—Е —Н—Б–Љ–Є–љ—Ж–µ–≤. –Э–∞ –С-36 –љ–µ–Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–Є–ї–Є –Љ–∞–љ–µ–≤—А —Б—А–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–≥—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П, –љ–Њ, –µ—Й—С –і–Њ –њ—А–Є—Е–Њ–і–∞ –љ–∞ –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ—Г—О –Њ—В —В–∞—А–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —Г–і–∞—А–∞ –≥–ї—Г–±–Є–љ—Г, –≤–Њ –≤—Б–µ—Е –Њ—В—Б–µ–Ї–∞—Е –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Є —Г—Б–ї—Л—И–∞–ї–Є –љ–∞–і –≥–Њ–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є —Б–Є–ї—М–љ—Л–є —Б–≤–Є—Б—В—П—Й–Є–є —И—Г–Љ —А–∞–±–Њ—В–∞–≤—И–Є—Е –≤–Є–љ—В–Њ–≤ —Н—Б–Љ–Є–љ—Ж–µ–≤. –Ч–∞—В–µ–Љ —Н—Б–Љ–Є–љ—Ж—Л –љ–∞—З–∞–ї–Є —Е–Њ–і–Є—В—М –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ –С-36 –њ–Њ –Ї—А—Г–≥—Г —Б —А–∞–і–Є—Г—Б–Њ–Љ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 15-20 –Ї–∞–±–µ–ї—М—В–Њ–≤ —Б–Њ —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В—М—О –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 20 —Г–Ј–ї–Њ–≤, —А–∞–±–Њ—В–∞—П –≥–Є–і—А–Њ–ї–Њ–Ї–∞—В–Њ—А–∞–Љ–Є –љ–∞ —Б–≤–Њ–Є—Е –Ї—Г—А—Б–Њ–≤—Л—Е —Г–≥–ї–∞—Е 90 –≥—А–∞–і—Г—Б–Њ–≤ –ї–µ–≤–Њ–≥–Њ –±–Њ—А—В–∞, –і–≤–Є–≥–∞—П—Б—М –њ—А–Њ—В–Є–≤ —З–∞—Б–Њ–≤–Њ–є —Б—В—А–µ–ї–Ї–Є –Є —Б–Љ–µ—Й–∞—П –Њ–Ї—А—Г–ґ–љ–Њ—Б—В—М, –Ї–∞–Ї –±—Л –љ–∞–±—А–∞—Б—Л–≤–∞—П –њ–µ—В–ї–Є –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г —Б–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є –Є–Ј —Ж–µ–љ—В—А–∞ —Н—В–Њ–≥–Њ –Ї—А—Г–≥–∞. –Ъ–Њ–љ—В–∞–Ї—В –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–ї—Б—П –љ–∞–і—С–ґ–љ–Њ –Є –љ–µ –Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї –љ–∞–Љ –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е —И–∞–љ—Б–Њ–≤ –Њ—В–Њ—А–≤–∞—В—М—Б—П –Њ—В —Б–ї–µ–ґ–µ–љ–Є—П —Б –љ–∞—И–µ–є —А–∞–Ј—А—П–ґ–µ–љ–љ–Њ–є –±–∞—В–∞—А–µ–µ–є. –Ь—Л –Љ–∞–љ–µ–≤—А–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є –љ–∞ 3-4 —Г–Ј–ї–∞—Е, –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П—П –∞–њ–µ—А–Є–Њ–і–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –Ї—Г—А—Б–∞, —Б–ї–∞–±–Њ –љ–∞–і–µ—П—Б—М –љ–∞ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ–µ –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Є –Є–ї–Є –њ–Њ–≥–Њ–і—Л. –Ю –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–Є —Н—Б–Љ–Є–љ—Ж–µ–≤ –≤—Б—С —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Ј–љ–∞–ї –≤–µ—Б—М —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ, –њ—А–Њ—Б–ї—Г—И–Є–≤–∞—П –њ–Њ—Б—Л–ї–Ї–Є –≥–Є–і—А–Њ–ї–Њ–Ї–∞—В–Њ—А–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Ј–≤—Г—З–љ–Њ –±–Є–ї–Є –њ–Њ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б—Г –ї–Њ–і–Ї–Є –Є –ї—О–і—Б–Ї–Є–Љ –љ–µ—А–≤–∞–Љ, –Љ–µ—И–∞—П –Њ—В–і—Л—Е–∞—В—М.  –Я—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ —З–µ—А–µ–Ј —Б—Г—В–Ї–Є –љ–∞—Б –Њ—Б—В–∞–ї—Б—П –Ї–∞—А–∞—Г–ї–Є—В—М –њ—А–Є –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї–µ –∞–≤–Є–∞—Ж–Є–Є –Я–Ы–Ю —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Н—Б–Љ–Є–љ–µ—Ж —А–∞–і–Є–Њ–ї–Њ–Ї–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –і–Њ–Ј–Њ—А–∞ ¬Ђ–І–∞—А–ї—М–Ј –Я.–°–µ—Б–Є–ї¬ї, –њ—А–Њ—И–µ–і—И–Є–є –њ–µ—А–µ–Њ–±–Њ—А—Г–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Є –Љ–Њ–і–µ—А–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—О –Є–Ј —Н—Б–Љ–Є–љ—Ж–∞ —В–Є–њ–∞ –У–Є—А–Є–љ–≥, –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Т—В–Њ—А–Њ–є –Ь–Є—А–Њ–≤–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л. –Я—А–Є–љ—П–ї–Є —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –Њ—В–Њ—А–≤–∞—В—М—Б—П –Њ—В —Б–ї–µ–ґ–µ–љ–Є—П. –Ъ–Њ–≥–і–∞ —Н—Б–Љ–Є–љ–µ—Ж, –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞—П –Њ–њ–Є—Б—Л–≤–∞—В—М –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ –С-36 –Ї—А—Г–≥–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤ —З–∞—Б–Њ–≤–Њ–є —Б—В—А–µ–ї–Ї–Є, –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–ї —В—А–∞–≤–µ—А–Ј –ї–Њ–і–Ї–Є –њ–Њ –њ—А–∞–≤–Њ–Љ—Г –±–Њ—А—В—Г, –С-36, —Г–≤–µ–ї–Є—З–Є–≤ —Е–Њ–і –і–Њ 9 —Г–Ј–ї–Њ–≤ –њ–Њ–≤–µ—А–љ—Г–ї–∞ –µ–Љ—Г –Ј–∞ –Ї–Њ—А–Љ—Г, –∞ —Н—Б–Љ–Є–љ–µ—Ж, –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞—П —Ж–Є—А–Ї—Г–ї—П—Ж–Є—О –≤–ї–µ–≤–Њ —Г–і–∞–ї—П–ї—Б—П –Њ—В –ї–Њ–і–Ї–Є. –Я–Њ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є–Є —Ж–Є—А–Ї—Г–ї—П—Ж–Є–Є, –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–≤, —З—В–Њ –С-36 –≤—Л—И–ї–∞ –Є–Ј –Ї—А—Г–≥–∞, —Н—Б–Љ–Є–љ–µ—Ж –±—А–Њ—Б–Є–ї—Б—П –Ј–∞ –љ–µ–є –≤ –њ–Њ–≥–Њ–љ—О, –љ–µ–Љ–Є–љ—Г–µ–Љ–Њ —Б–Њ–Ї—А–∞—Й–∞—П —В—А–∞–≤–µ—А–Ј–љ–Њ–µ —А–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ. –Я—А–Є–≤–µ–і—П –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Г—О –ї–Њ–і–Ї—Г –љ–∞ —В—А–∞–≤–µ—А–Ј —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –ї–µ–≤–Њ–≥–Њ –±–Њ—А—В–∞, —Н—Б–Љ–Є–љ–µ—Ж –Њ–њ—П—В—М –љ–∞—З–∞–ї —Ж–Є—А–Ї—Г–ї—П—Ж–Є—О –≤–ї–µ–≤–Њ, –∞ –С-36 —Б–љ–Њ–≤–∞ –њ–Њ–≤–µ—А–љ—Г–ї–∞ –љ–∞ 90 –≥—А–∞–і—Г—Б–Њ–≤ –≤–њ—А–∞–≤–Њ –Ј–∞ –Ї–Њ—А–Љ—Г —Н—Б–Љ–Є–љ—Ж–∞, –≤—Л–є–і—П –Ј–∞ –њ—А–µ–і–µ–ї—Л –Њ–Ї—А—Г–ґ–љ–Њ—Б—В–Є, –Є —Б—В–∞–ї–∞ –±—Л—Б—В—А–Њ —Г–і–∞–ї—П—В—М—Б—П –Њ—В —Н—Б–Љ–Є–љ—Ж–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є, –≤ —Б–≤–Њ—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М, –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞—П —Ж–Є—А–Ї—Г–ї—П—Ж–Є—О, —В–Њ–ґ–µ –Њ—В—Е–Њ–і–Є–ї –Њ—В –ї–Њ–і–Ї–Є –Ї–∞–Ї –Љ–Є–љ–Є–Љ—Г–Љ –љ–∞ –і–Є–∞–Љ–µ—В—А —Б–≤–Њ–µ–є —Ж–Є—А–Ї—Г–ї—П—Ж–Є–Є. –Ъ —Н—В–Њ–Љ—Г –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В—Г –∞–Ї—Г—Б—В–Є–Ї–Є –і–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї–Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Г –С-36, —З—В–Њ —Н—Б–Љ–Є–љ–µ—Ж –њ–Њ—В–µ—А—П–ї –Ї–Њ–љ—В–∞–Ї—В —Б –ї–Њ–і–Ї–Њ–є –Є –њ–µ—А–µ—И–µ–ї –љ–∞ –Ї—А—Г–≥–Њ–≤–Њ–є –њ–Њ–Є—Б–Ї. –Ъ —Б–Њ–ґ–∞–ї–µ–љ–Є—О, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А —В—Г—В –ґ–µ –≤–Њ—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї—Б—П —Б–Њ–≤–µ—В–Њ–Љ –≥—А–∞–Љ–Њ—В–љ–µ–є—И–µ–≥–Њ –∞–Ї—Г—Б—В–Є–Ї–∞, –Є–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Њ—А–∞ 69 –±—А–Є–≥–∞–і—Л –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї –Љ–Є—З–Љ–∞–љ–∞ –Я–∞–љ–Ї–Њ–≤–∞. –Ю–љ –і–∞–ї –≥—А–∞–Љ–Њ—В–љ—Л–є —Б–Њ–≤–µ—В, —Б –∞–Ї—Г—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П, –њ–Њ–≤–µ—А–љ—Г—В—М –љ–Њ—Б–Њ–Љ –љ–∞ —Н—Б–Љ–Є–љ–µ—Ж –і–ї—П —Г–Љ–µ–љ—М—И–µ–љ–Є—П –Њ—В—А–∞–ґ–∞—О—Й–µ–є –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В–Є –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–∞ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є, –љ–Њ –љ–µ —Г—З–Є—В—Л–≤–∞—О—Й–Є–є —В–Њ—В —Д–∞–Ї—В–Њ—А, —З—В–Њ, –њ–Њ–≤–µ—А–љ—Г–≤ –љ–∞ —Н—Б–Љ–Є–љ–µ—Ж, –С-36 –њ—А–µ–Ї—А–∞—В–Є—В –Њ—В—А—Л–≤ –Є —Б–±–ї–Є–Ј–Є—В—Б—П —Б —Н—Б–Љ–Є–љ—Ж–µ–Љ, –Њ–±–ї–µ–≥—З–Є–≤ –µ–Љ—Г –Ј–∞–і–∞—З—Г –њ–Њ–Є—Б–Ї–∞. –І—В–Њ –Є –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Њ. –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А, –і–Њ–≤–µ—А–Є–≤—И–Є—Б—М –∞–≤—В–Њ—А–Є—В–µ—В—Г –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞, –≤–Њ–Ј—А–∞–ґ–µ–љ–Є–є –њ—А–Њ—В–Є–≤ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–∞–љ–µ–≤—А–∞ –љ–µ –њ–Њ—Б–ї—Г—И–∞–ї, –Є —Н—Б–Љ–Є–љ–µ—Ж –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї –∞–Ї—Г—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Ї–Њ–љ—В–∞–Ї—В —Б –С-36. –≠—В–∞ –њ–Њ–њ—Л—В–Ї–∞ –±—Л–ї–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М—О –Њ—В–Њ—А–≤–∞—В—М—Б—П –Њ—В —Б–ї–µ–ґ–µ–љ–Є—П, —В–µ–њ–µ—А—М –љ–∞—И–∞ –∞–Ї–Ї—Г–Љ—Г–ї—П—В–Њ—А–љ–∞—П –±–∞—В–∞—А–µ—П –±–Њ–ї—М—И–µ —В—А—С—Е —Г–Ј–ї–Њ–≤ –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–∞ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є—В—М. –Ю—Б—В–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М –љ–∞–і–µ—П—В—М—Б—П —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞ —З—Г–і–Њ. –Э–Њ —В—А–Њ–њ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —З—Г–і–µ—Б –≤ –≤–Є–і–µ —И—В–Њ—А–Љ–Њ–≤ –Є —Г—А–∞–≥–∞–љ–Њ–≤ –љ–µ –њ–Њ—П–≤–ї—П–ї–Њ—Б—М, –њ–Њ–≥–Њ–і–∞ –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–∞—Б—М –Ї—Г—А–Њ—А—В–љ–Њ–є, –∞ –±–∞—В–∞—А–µ—П –љ–µ–Љ–Є–љ—Г–µ–Љ–Њ —А–∞–Ј—А—П–ґ–∞–ї–∞—Б—М.  –І—В–Њ–±—Л –Њ—В—В—П–љ—Г—В—М –њ—А–Є–±–ї–Є–ґ–∞–≤—И—Г—О—Б—П –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М –≤—Б–њ–ї—Л—В–Є—П –љ–∞ –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В—М, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –њ—А–Є–љ—П–ї —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –Љ–∞–Ї—Б–Є–Љ–∞–ї—М–љ–Њ —Б–Њ–Ї—А–∞—В–Є—В—М —А–∞—Б—Е–Њ–і —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ—Н–љ–µ—А–≥–Є–Є –≤–њ–ї–Њ—В—М –і–Њ –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Є –≥—А–µ–±–љ—Л—Е —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ–і–≤–Є–≥–∞—В–µ–ї–µ–є –Є —Г–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є—П –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ–є –≥–ї—Г–±–Є–љ—Л —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О –Њ—В–Ї–∞—З–Ї–Є –Є –њ—А–Є—С–Љ–∞ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л—Е –њ–Њ—А—Ж–Є–є –≤–Њ–і—Л –≤ —Г—А–∞–≤–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Г—О —Ж–Є—Б—В–µ—А–љ—Г —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –Њ—Б—Г—И–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—Б–Њ—Б–∞. –Ш –≤–Њ—В, –≤ –љ–∞—Б—В—Г–њ–Є–≤—И–µ–є –њ–Њ–ї—Г—В—М–Љ–µ –С-36 –Ј–∞–≤–Є—Б–ї–∞ –љ–∞ –≥–ї—Г–±–Є–љ–µ 70 –Љ–µ—В—А–Њ–≤ –±–µ–Ј —Е–Њ–і–∞. –Э–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ –≤ —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –њ–Њ—Б—В—Г –Њ—В–Ї—А—Л–ї–∞—Б—М –Ї–Њ—А–Љ–Њ–≤–∞—П –њ–µ—А–µ–±–Њ—А–Њ—З–љ–∞—П –і–≤–µ—А—М, –Є —З–µ—А–µ–Ј –љ–µ—С –±—Г–Ї–≤–∞–ї—М–љ–Њ –≤–≤–∞–ї–Є–ї—Б—П –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—Л–є –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–є –Љ—Г–ґ—З–Є–љ–∞ –≤ —А–≤–∞–љ—Л—Е —В—А—Г—Б–∞—Е –Є –≤ –њ–Њ—В—Г –≤ —З–Є–љ–µ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ-–ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В–∞ –≤ –њ–Њ–ї—Г–Њ–±–Љ–Њ—А–Њ—З–љ–Њ–Љ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є. ¬Ђ–У–і–µ? –У–і–µ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А?¬ї - —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї –њ—А–Є–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є –Ї –љ–∞–Љ –љ–∞ –њ–Њ—Е–Њ–і –Њ—Д–Є—Ж–µ—А. ¬Ђ–Р —З—В–Њ —Б–ї—Г—З–Є–ї–Њ—Б—М ...?¬ї —В—А–µ–≤–Њ–ґ–љ–Њ —Б—А–µ–∞–≥–Є—А–Њ–≤–∞–ї –љ–∞ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б, –≤—Л–є–і—П –Є–Ј –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ –њ–Њ–ї—Г–Њ–±–Љ–Њ—А–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—П, —Б—В–∞—А–њ–Њ–Љ, –љ–∞—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є–є—Б—П –љ–∞ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Б–Ї–Њ–є –≤–∞—Е—В–µ. –Я–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—П —А—Г–Ї–Њ–є –≤ –Ї–Њ—А–Љ—Г, –≤–Њ—И–µ–і—И–Є–є —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї: ¬Ђ–Ґ–∞–Љ, —В–∞–Љ –ї—О–і–Є –≥–Є–±–љ—Г—В, –љ—Г–ґ–љ–Њ –≤—Б–њ–ї—Л—В—М –Є –і–∞—В—М –±–Њ–є!¬ї - ¬Ђ–Э–Є—З–µ–≥–Њ, –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Б–њ–∞—Б—Г—В—Б—П¬ї - —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї —Г—Б–њ–Њ–Ї–Њ–Є–≤—И–Є–є—Б—П –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ 3 —А–∞–љ–≥–∞ –Р—А–Ї–∞–і–Є–є –Ъ–Њ–њ–µ–є–Ї–Є–љ. - ¬Ђ–Ф–∞?¬ї, - —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї –њ–Њ—Б–µ—В–Є—В–µ–ї—М. - ¬Ђ–Ф–∞!¬ї, - –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї —Б—В–∞—А–њ–Њ–Љ, –Є –Њ—Д–Є—Ж–µ—А —Г–і–∞–ї–Є–ї—Б—П –≤ –Ї–Њ—А–Љ—Г. –І–µ—А–µ–Ј –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Є–Ј –Ї–Њ—А–Љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ 7 –Њ—В—Б–µ–Ї–∞ –≤ —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ—Л–є –њ–Њ—Б—В –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї–∞ –њ—А–Њ—Б—М–±–∞ –њ—А–Є—Б–ї–∞—В—М –і–Њ–Ї—В–Њ—А–∞. –Ю–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А, –і–Њ–±—А–∞–≤—И–Є—Б—М –і–Њ 7 –Њ—В—Б–µ–Ї–∞, –≤–Ј—П–ї —Б –њ–Њ–і–і–Њ–љ–∞ –њ–Њ–і –Љ–∞—И–Є–љ–Ї–Њ–є –Ї–ї–∞–њ–∞–љ–∞ –≤–µ–љ—В–Є–ї—П—Ж–Є–Є –±–∞–ї–ї–∞—Б—В–љ–Њ–є —Ж–Є—Б—В–µ—А–љ—Л –Ї—А—Г–ґ–Ї—Г —Б –љ–∞–Ї–∞–њ–∞–≤—И–µ–є –≤ –љ–µ—С –≥–Є–і—А–∞–≤–ї–Є–Ї–Њ–є, –њ—А–Є–љ—П–≤ –µ—С –Ј–∞ –≤–Њ–і—Г, –Є –≤—Л–њ–Є–ї. –Ы—О–і–Є –≤ –Њ—В—Б–µ–Ї–µ –∞—Е–љ—Г–ї–Є –Є –Є—Б–њ—Г–≥–∞–ї–Є—Б—М –Ј–∞ –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—М–µ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–∞, –∞ –Њ–љ –Є—Б–њ—Г–≥–∞–ї—Б—П –µ—Й—С –±–Њ–ї—М—И–µ. –Я–µ—А–≤—Л–µ —Б–ї–Њ–≤–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Г—Б–ї—Л—И–∞–ї –Њ—В –љ–µ–≥–Њ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ –Т–Є–Ї—В–Њ—А –С—Г–є–љ–µ–≤–Є—З: ¬Ђ–Ф–Њ–Ї—В–Њ—А —П —Г–Љ—А—Г?¬ї –С—Г–є–љ–µ–≤–Є—З —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї, —З—В–Њ –Њ–љ –љ–µ —Г–Љ—А—С—В, –∞ –≤ –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ –Њ—В –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л—Е –±—Г–і–µ—В –Є–Љ–µ—В—М –Љ–µ–љ—М—И–µ –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ —Б –Ј–∞–њ–Њ—А–Њ–Љ. –Э—Г–ґ–љ–Њ –Њ—В–Љ–µ—В–Є—В—М, —З—В–Њ –Ї —В–Њ–Љ—Г –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –≤–µ—Б—М —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ —Г–ґ–µ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б—Г—В–Њ–Ї –љ–µ –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї—Б—П –≥–∞–ї—М—О–љ–Њ–Љ (—В—Г–∞–ї–µ—В–Њ–Љ). –Т—Б—П –ґ–Є–і–Ї–Њ—Б—В—М —Г—Е–Њ–і–Є–ї–∞ –Є–Ј –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Љ–Њ–≤ —З–µ—А–µ–Ј –њ–Њ—А—Л –Ї–Њ–ґ–Є —Б –њ–Њ—В–Њ–Љ, –∞ –њ–Є—Й–∞ –≤ –ґ–∞—А—Г –њ—А–Њ—Б—В–Њ –љ–µ –ї–µ–Ј–ї–∞ –≤ –≥–Њ—А–ї–Њ, –µ—С –±—Г–Ї–≤–∞–ї—М–љ–Њ –Ј–∞—В–∞–ї–Ї–Є–≤–∞–ї–Є –≤ —А–Њ—В –≤ –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Є—Е –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–∞—Е —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О —Б—Г—Е–Њ–≥–Њ –≤–Є–љ–∞, –≤—Л–і–∞–≤–∞–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ—Г –њ–Њ –љ–Њ—А–Љ–µ 50 –≥—А–∞–Љ–Љ–Њ–≤ –≤ –і–µ–љ—М. –Ґ–∞–Ї —З—В–Њ –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –≤ –Њ—В—Б–µ–Ї–∞—Е –ї—О–і–Є –≥–Є–±–љ—Г—В, –±—Л–ї–Њ –љ–µ —В–∞–Ї —Г–ґ –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –Њ—В –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є.  : "–Я—А–Њ–≥—Г–ї–Є–≤–∞—П—Б—М" –њ–Њ –њ–Њ–і–ї–Њ–і–Ї–µ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ –і—Г–Љ–∞–ї –Њ —В–Њ–Љ, –Ї–∞–Ї —В—Г—В –ґ–Є–ї–Є –Љ–Њ—А—П–Ї–Є. –Ц—Г—В–Ї–Њ –Ї–∞–Ї-—В–Њ –љ–∞ –і—Г—И–µ. –Ь–Є–Ї—А–Њ–Ї–ї–Є–Љ–∞—В –≤ –Њ—В—Б–µ–Ї–∞—Е –±—Л–ї –±–ї–Є–Ј–Њ–Ї –Ї –њ—А–µ–і–µ–ї—Г –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –Њ–±–Є—В–∞–љ–Є—П. –Ґ–µ–Љ–њ–µ—А–∞—В—Г—А–∞ –≤ –Њ—В—Б–µ–Ї–∞—Е –і–µ—А–ґ–∞–ї–∞—Б—М –≤ –њ—А–µ–і–µ–ї–∞—Е –Њ—В 40 –і–Њ 65 –≥—А–∞–і—Г—Б–Њ–≤ –њ–Њ –¶–µ–ї—М—Б–Є—О –њ—А–Є –≤—Л—Б–Њ—З–∞–є—И–µ–є –≤–ї–∞–ґ–љ–Њ—Б—В–Є, –њ–Њ–≤—Л—И–µ–љ–љ–Њ–Љ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–Є —Г–≥–ї–µ–Ї–Є—Б–ї–Њ–≥–Њ –≥–∞–Ј–∞ –Є –≤—А–µ–і–љ—Л—Е –Є—Б–њ–∞—А–µ–љ–Є–є –Њ—В —В–Њ–њ–ї–Є–≤–∞, –Љ–∞—Б–ї–∞, —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ–ї–Є—В–∞ –≤ –≤–Њ–Ј–і—Г—Е–µ –і–∞–≤–љ–Њ –љ–µ –≤–µ–љ—В–Є–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –Њ—В—Б–µ–Ї–Њ–≤. –Я–Њ–Ї—А—Л—В—Л–µ –њ–Њ—В–Њ–Љ –ї—О–і–Є –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ –љ–Њ—Б–Є–ї–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —В–∞–њ–Ї–Є —Б –Њ–±—А–µ–Ј–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –Ј–∞–і–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –Є —А–∞–Ј–Њ—А–≤–∞–љ–љ—Л–µ –љ–∞ –ї–µ–њ–µ—Б—В–Ї–Є —А–∞–Ј–Њ–≤—Л–µ —В—А—Г—Б—Л, –Ї–∞–Ї –љ–∞–±–µ–і—А–µ–љ–љ—Л–µ –њ–Њ–≤—П–Ј–Ї–Є –Є–Ј –њ–∞–ї—М–Љ–Њ–≤—Л—Е –ї–Є—Б—В—М–µ–≤ —Г –і–Є–Ї–∞—А–µ–є. –Я—А–Є—З—С–Љ –њ–Њ–≤—П–Ј–Ї–∞ –Є–Ј —В—А—Г—Б–Њ–≤ –±—Л–ї–∞ –њ—А–Є–≤–Є–ї–µ–≥–Є–µ–є –і–ї—П –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤ –Є —Б–≤–µ—А—Е—Б—А–Њ—З–љ–Њ—Б–ї—Г–ґ–∞—Й–Є—Е, –Љ–∞—В—А–Њ—Б—Л –Є —Б—В–∞—А—И–Є–љ—Л —Б—А–Њ—З–љ–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±—Л –Є–Ј–≥–Њ—В–∞–≤–ї–Є–≤–∞–ї–Є –њ–Њ–≤—П–Ј–Ї–Є –Є–Ј —А–∞–Ј–Њ–≤—Л—Е –Ї–∞–ї—М—Б–Њ–љ, –≤—Л–і–∞–љ–љ—Л—Е –і–ї—П –љ–Є—Е –±–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ–є –±–∞–Ј–Њ–є –≤–Љ–µ—Б—В–Њ —В—А—Г—Б–Њ–≤. –≠—В–Њ –љ–µ –±—Л–ї–Њ –Љ–Њ–і–Њ–є, –њ—А–Њ—Б—В–Њ –Ї–∞–ґ–і—Л–є –ї–µ–њ–µ—Б—В–Њ–Ї –Њ–і–µ–ґ–і—Л –љ–∞ —В–µ–ї–µ —Б–Њ–Ј–і–∞–≤–∞–ї –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є–µ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ–Њ–є –≥—А–µ–ї–Ї–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М –Є–Љ–µ—В—М –њ–Њ–Љ–µ–љ—М—И–µ. –Т —Н—В–Њ–є –∞—В–Љ–Њ—Б—Д–µ—А–µ, –њ–Њ–і –≤–Њ–Ј–і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ–Љ –њ–Њ—В–∞, —Б–Є–љ–Є–µ —А–∞–Ј–Њ–≤—Л–µ —В—А—Г—Б—Л –Є –Ї–∞–ї—М—Б–Њ–љ—Л —Б—В–∞–ї–Є –ї–Є–љ—П—В—М –Є —А–∞—Б–Ї—А–∞—Б–Є–ї–Є —В–µ–ї–∞ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Б–Є–љ–Є–Љ–Є —А–∞–Ј–≤–Њ–і–∞–Љ–Є. –Т ¬Ђ–±–Њ–µ–≤—Г—О¬ї —А–∞—Б–Ї—А–∞—Б–Ї—Г —Б–≤–Њ—О –ї–µ–њ—В—Г –≤–љ–µ—Б–ї–∞ –њ–Њ—В–љ–Є—Ж–∞, –њ–Њ–Ї—А–∞—Б–Є–≤—И–∞—П —В–µ–ї–∞ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ –≤ –Ї—А–∞—Б–љ—Г—О –Ї—А–∞–њ–Є–љ–Ї—Г.  . –Я—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В.
20.01.201311:3420.01.2013 11:34:07
0
20.01.201311:1120.01.2013 11:11:47
–Ш –≤–і—А—Г–≥ —Б –Ї—А–Є–Ї–Њ–Љ: ¬Ђ–Я–∞–њ–∞ –≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П!¬ї –Њ–љ–∞, –Ј–∞–і–µ–≤ –Љ–µ–љ—П –њ–ї–∞—В—М–µ–Љ, –≤—Л–±–µ–ґ–∞–ї–∞ –љ–∞ –ї–µ—Б—В–љ–Є—Ж—Г. вАФ –І—В–Њ —В—Л —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –µ–є, –Э–Є–Ї–Є—В–∞? вАФ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї, –њ—А–Є–њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞—П—Б—М —Б –Ї—А–µ—Б–ї–∞. вАФ –Ґ—Л –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї... –Ю—В–Ї—Г–і–∞ –Њ–љ–∞ –≤–Ј—П–ї–∞? ¬Ђ–Ґ—Л –њ—А–Є—И–µ–ї –љ–µ –Њ–і–Є–љ, —Н—В–Њ –њ–∞–њ–∞ –≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П...¬ї –Э–µ—В, –љ–µ—Г–ґ–µ–ї–Є? –Э–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М! вАФ –њ–Њ–≤—В–Њ—А—П–ї –Њ–љ –≤—Б–µ –≥—А–Њ–Љ—З–µ. вАФ –®–∞–ї–≤–∞ –•—А–Є—Б—В–Њ—Д–Њ—А–Њ–≤–Є—З, —Н—В–Њ –њ—А–∞–≤–і–∞! –Ф—П–і—П –°–µ—А–≥–Њ –≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П! –Ю–љ –њ—А–Є—И–µ–ї –Ї –љ–∞–Љ –≤ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ –Є... –ѓ –Љ–Њ–≥ –љ–µ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞—В—М, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ —Б–Њ –і–≤–Њ—А–∞ —Г–ґ–µ —Б–ї—Л—И–∞–ї–Њ—Б—М: ¬Ђ–Я–∞–њ–Њ—З–Ї–∞!.. –Я–∞–њ–∞, –њ–∞–њ–∞!..¬ї –Ю–љ–Є –њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞–ї–Є—Б—М –њ–Њ . –°–µ—А–≥–Њ –њ–Њ–≤—В–Њ—А—П–ї:  вАФ –Р–љ—В–Њ–љ–Є–љ–∞, –Љ–Њ—П –і–Њ—А–Њ–≥–∞—П, –љ—Г –њ–Њ–ї–љ–Њ! –Р –Р–љ—В–Њ–љ–Є–љ–∞ —В–≤–µ—А–і–Є–ї–∞: вАФ –ѓ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –Ј–љ–∞–ї–∞, —З—В–Њ —В—Л –≤–µ—А–љ–µ—И—М—Б—П! –Ш –≤–Њ—В –°–µ—А–≥–Њ –≤–Њ—И–µ–ї –≤ –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В—Г, –∞ –Ј–∞ –љ–Є–Љ вАФ –Р–љ—В–Њ–љ–Є–љ–∞, —В–∞–Ї–∞—П —Б—З–∞—Б—В–ї–Є–≤–∞—П... вАФ –≠—В–Њ —В—Л? вАФ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї –®–∞–ї–≤–∞ –•—А–Є—Б—В–Њ—Д–Њ—А–Њ–≤–Є—З. вАФ –ѓ, –Њ—В–µ—Ж, вАФ –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ-–ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В. –Ю–љ –њ–Њ–і–Њ—И–µ–ї –Ї –®–∞–ї–≤–µ –•—А–Є—Б—В–Њ—Д–Њ—А–Њ–≤–Є—З—Г, –Њ–њ—Г—Б—В–Є–ї—Б—П –њ–µ—А–µ–і –љ–Є–Љ –љ–∞ –Ї–Њ–ї–µ–љ–Є –Є –њ—А–Є–ґ–∞–ї—Б—П –≥—Г–±–∞–Љ–Є –Ї —А—Г–Ї–µ —Б—В–∞—А–Є–Ї–∞ вАФ –Т–Њ—В –Љ—Л –Є —Б–љ–Њ–≤–∞ –≤—Б–µ –≤–Љ–µ—Б—В–µ! вАФ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –°–µ—А–≥–Њ. вАФ –ѓ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї, —З—В–Њ –≤–µ—А–љ—Г—Б—М, вАФ –Є –≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П... –У–ї–∞–≤–∞ —Б–µ–і—М–Љ–∞—П. –У–Ф–Х –Ю–Э–Ш –Я–†–Ю–Я–Р–Ф–Р–Ы–Ш–°—В–∞—А—Л–є —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї, –Ј–∞–Ї—А—Л–≤ –≥–ї–∞–Ј–∞, –Ј–∞—Б—В—Л–ї –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ –Ї—А–µ—Б–ї–µ. –Ь—Л —Б –Р–љ—В–Њ–љ–Є–љ–Њ–є –Ј–∞–±—А–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞ —В–∞—Е—В—Г. –Ґ–∞–Љ–∞—А–∞ —В–Њ –Є –і–µ–ї–Њ –≤—Л—В–Є—А–∞–ї–∞ –Ї–Њ–љ—Ж–Њ–Љ –њ–µ—А–µ–і–љ–Є–Ї–∞ —Б–ї–µ–Ј—Л. –°–µ—А–≥–Њ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї: вАФ ...–Ъ–Њ–≥–і–∞ –Љ–Њ–є –Ї–∞—В–µ—А –њ–Њ—И–µ–ї –љ–∞ –і–љ–Њ, —П –њ–Њ–њ–ї—Л–ї –Ј–∞ –У–µ–Њ—А–≥–Є–µ–Љ... –Ю—В—Ж–∞ —А–∞–љ–Є–ї–Њ –≤ —А—Г–Ї—Г, –Є –Њ–љ –њ–ї—Л–ї —Б —В—А—Г–і–Њ–Љ. –°–µ—А–≥–Њ –њ–Њ–Љ–Њ–≥ –µ–Љ—Г –≤—Л–±—А–∞—В—М—Б—П –њ–∞ –±–µ—А–µ–≥. –Я–Њ –Љ–Њ–Ї—А—Л–Љ –Ї–∞–Љ–љ—П–Љ —И–∞—А–Є–ї –њ—А–Њ–ґ–µ–Ї—В–Њ—А. вАФ ...–Э–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —А–∞–Ј –ї—Г—З —Б–Ї–Њ–ї—М–Ј–љ—Г–ї –њ–Њ –љ–∞—Б, –љ–Њ –Љ—Л –±—Л–ї–Є –љ–µ–њ–Њ–і–≤–Є–ґ–љ—Л, –Ї–∞–Ї –Ї–∞–Љ–љ–Є...  –†—Г—Б—М–µ–≤ –љ–µ —Е–Њ—В–µ–ї —Г—Е–Њ–і–Є—В—М –±–µ–Ј –і—А—Г–Ј–µ–є. –Э–Њ –ї—Г—З–Є –њ—А–Њ–ґ–µ–Ї—В–Њ—А–Њ–≤ —Б–Ї–Њ–ї—М–Ј–Є–ї–Є –Є –њ–Њ –Љ–Њ—А—О –Є –љ–∞–Ї—А—Л–ї–Є, –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –њ—А—Л–≥–∞–≤—И–Є–є –љ–∞ –≤–Њ–ї–љ–µ . вАФ ¬Ђ–£—Е–Њ–і–Є, —Г—Е–Њ–і–Є, –Т–Є—В–∞–ї–Є–є!¬ї вАФ –Ї—А–Є—З–∞–ї —П –µ–Љ—Г, –Ї–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ –Њ–љ –Љ–Њ–≥ –≤ —Н—В–Њ–Љ –≤–Њ–µ –Љ–µ–љ—П —Г—Б–ї—Л—И–∞—В—М. –Ъ–∞—В–µ—А —А–≤–∞–љ—Г–ї—Б—П –Є –Є—Б—З–µ–Ј –≤ —В–µ–Љ–љ–Њ—В–µ. –Ґ—А–∞—Б—Б–Є—А—Г—О—Й–Є–µ –њ—Г–ї–Є –њ—А–µ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–Є –µ–≥–Њ –њ–Њ –њ—П—В–∞–Љ... –°–µ—А–≥–Њ —А–∞–Ј–Њ—А–≤–∞–ї –љ–∞ —Б–µ–±–µ —А—Г–±–∞—Е—Г –Є –њ–µ—А–µ–≤—П–Ј–∞–ї –Њ—В—Ж—Г —А—Г–Ї—Г. ¬Ђ–Э–∞–і–Њ —Г–љ–Њ—Б–Є—В—М –љ–Њ–≥–Є, —Б–Ї–Њ—А–Њ —А–∞—Б—Б–≤–µ—В–µ—В¬ї. –°–Ї–∞–ї—Л –±—Л–ї–Є –Њ—В–≤–µ—Б–љ—Л–µ, —Б–Ї–Њ–ї—М–Ј–Ї–Є–µ, –∞ –Њ—В–µ—Ж –Љ–Њ–≥ —Ж–µ–њ–ї—П—В—М—Б—П –Ј–∞ –љ–Є—Е –ї–Є—И—М –Њ–і–љ–Њ–є —А—Г–Ї–Њ–є. –Ю–љ–Є –≤—Л–±–Є–ї–Є—Б—М –Є–Ј —Б–Є–ї, –њ–Њ–Ї–∞ –Њ—З—Г—В–Є–ї–Є—Б—М –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ –љ–∞–і –Љ–Њ—А–µ–Љ, –≤ –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–Љ —В–µ–Љ–љ–Њ–Љ –≥—А–Њ—В–µ, –≥–і–µ —И—Г–Љ–µ–ї –≤–Њ–і–Њ–њ–∞–і. –Ю—В—Ж—Г —Б—В–∞–ї–Њ –њ–ї–Њ—Е–Њ: –Њ–љ –њ–Њ—В–µ—А—П–ї –Љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї—А–Њ–≤–Є. –°–µ—А–≥–Њ –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї –≤–љ–Є–Ј –Є —Г–≤–Є–і–µ–ї –њ–µ—А–µ–і–≤–Є–≥–∞–≤—И–Є–µ—Б—П —Б–≤–µ—В–ї—Л–µ —В–Њ—З–Ї–Є. –У–Є—В–ї–µ—А–Њ–≤—Ж—Л –Њ–±—И–∞—А–Є–≤–∞–ї–Є –±–µ—А–µ–≥! –°–µ—А–≥–Њ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –Њ–љ —Б–ї—Л—И–Є—В —Б–Њ–±–∞—З–Є–є –ї–∞–є. –Э–Њ —Б–≤–µ—В–ї—Л–µ —В–Њ—З–Ї–Є –≤—Б–Ї–Њ—А–µ –њ–Њ–≥–∞—Б–ї–Є. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –љ–∞—Б—В—Г–њ–Є–ї —А–∞—Б—Б–≤–µ—В, –њ–µ—А–µ–і –°–µ—А–≥–Њ –Њ—В–Ї—А—Л–ї–Њ—Б—М –њ—Г—Б—В—Л–љ–љ–Њ–µ –Љ–Њ—А–µ. –С–µ—А–µ–≥ –Ї–Є—И–µ–ї —Б–Њ–ї–і–∞—В–∞–Љ–Є. вАФ ...–У–µ–Њ—А–≥–Є–є –±—А–µ–і–Є–ї —В–∞–Ї –≥—А–Њ–Љ–Ї–Њ, —З—В–Њ —П –Њ–њ–∞—Б–∞–ї—Б—П, –Ї–∞–Ї –±—Л –љ–µ —Г—Б–ї—Л—И–∞–ї–Є –≥–Є—В–ї–µ—А–Њ–≤—Ж—Л. –Ю—З–љ—Г–ї—Б—П –Њ–љ –≤ –њ–Њ–ї–і–µ–љ—М. ¬Ђ–£—Е–Њ–і–Є! вАФ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –У–µ–Њ—А–≥–Є–є. вАФ –Ю—Б—В–∞–≤—М –Љ–µ–љ—П, —Г—Е–Њ–і–Є!¬ї –ѓ –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї: ¬Ђ–Э–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є –≥–ї—Г–њ–Њ—Б—В–µ–є¬ї. –Ґ–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ –Љ–љ–µ —Б—В–∞–ї –њ—А–Є–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М. –ѓ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї, —З—В–Њ –Њ–љ –Љ–Њ–ґ–µ—В –Љ–µ–љ—П —А–∞—Б—Б—В—А–µ–ї—П—В—М, –љ–Њ —Н—В–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ —П —Б—З–Є—В–∞—О –љ–µ–Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ—Л–Љ. –Ґ—Г—В –У–µ–Њ—А–≥–Є–є –Њ–њ—П—В—М –≤–њ–∞–ї –≤ –±–µ—Б–њ–∞–Љ—П—В—Б—В–≤–Њ –Є –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і, –ґ–µ–љ—Г –Є —В–µ–±—П, –Э–Є–Ї–Є—В–∞. –ѓ –≤—Б–µ –њ—А–Є—Б–ї—Г—И–Є–≤–∞–ї—Б—П, –љ–µ –Є–і–µ—В –ї–Є –Ї—В–Њ. –Э–Њ –љ–Є–Ї—В–Њ –љ–µ —И–µ–ї, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —И—Г–Љ–µ–ї–Њ –Љ–Њ—А–µ... –°–µ—А–≥–Њ –љ–µ –Љ–Њ–≥ —А–∞–Ј–≤–µ—Б—В–Є –Њ–≥–љ—П: –љ–µ –±—Л–ї–Њ —Б–њ–Є—З–µ–Ї, –і–∞ –Є –і—Л–Љ –Њ—В –Ї–Њ—Б—В—А–∞ –≤—Л–і–∞–ї –±—Л –Є—Е. –Ш –°–µ—А–≥–Њ —Ж–µ–ї—Л–є –і–µ–љ—М —Б–Є–і–µ–ї —А—П–і–Њ–Љ —Б –Њ—В—Ж–Њ–Љ. –Р –≤ —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –†—Г—Б—М–µ–≤ –і–Њ–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–ї –Њ–±–Њ –≤—Б–µ–Љ, —З—В–Њ —Б–ї—Г—З–Є–ї–Њ—Б—М, –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ—Г –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ —А–∞–љ–≥–∞. –Ъ–∞–њ–Є—В–∞–љ –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ —А–∞–љ–≥–∞ —А–∞–Ј—А–µ—И–Є–ї –†—Г—Б—М–µ–≤—Г –≤–µ—А–љ—Г—В—М—Б—П. –Ш –Ї–∞—В–µ—А –†—Г—Б—М–µ–≤–∞ —Б–љ–Њ–≤–∞ –њ–Њ–љ–µ—Б—Б—П –Ї —В–µ–Љ –±–µ—А–µ–≥–∞–Љ, –≥–і–µ –Њ—Б—В–∞–ї–Є—Б—М –≤ –±–µ–і–µ —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–Є. вАФ ...–Э–Њ—З—М —В—П–љ—Г–ї–∞—Б—М —В–Њ–Љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ. –У–µ–Њ—А–≥–Є–є —Б–њ–∞–ї, –∞ —П —Б–Є–і–µ–ї —Г –≤—Е–Њ–і–∞ –≤ –≥—А–Њ—В, –≤–≥–ї—П–і—Л–≤–∞—П—Б—М –≤ —В–µ–Љ–љ–Њ—В—Г. –Т–і—А—Г–≥ –≤ –Љ–Њ—А–µ –Ј–∞–Љ–µ–ї—М–Ї–∞–ї –Њ–≥–Њ–љ–µ–Ї. –Ь–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –Љ–љ–µ —Н—В–Њ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М?.. –Э–µ—В, —Н—В–Њ –±—Л–ї —Б–Є–≥–љ–∞–ї: –Ї—В–Њ-—В–Њ —Б –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ—Л–Љ–Є –њ—А–Њ–Љ–µ–ґ—Г—В–Ї–∞–Љ–Є –Ј–∞–ґ–Є–≥–∞–ї –Ї–∞—А–Љ–∞–љ–љ—Л–є —Д–Њ–љ–∞—А–Є–Ї. –Ґ–Њ—З–Ї–∞ вАФ —В–Є—А–µ, —В–Њ—З–Ї–∞ вАФ —В–Њ—З–Ї–∞ вАФ —В–Є—А–µ... –ѓ –њ—А–Њ—З–µ–ї: ¬Ђ–У–і–µ –≤—Л? –У–і–µ –≤—Л? –ѓ вАФ –†—Г—Б—М–µ–≤, —П –њ—А–Є—И–µ–ї, –Њ—В–≤–µ—З–∞–є—В–µ¬ї. –Т–Є—В–∞–ї–Є–є –њ—А–Є—И–µ–ї –љ–∞ –≤—Л—А—Г—З–Ї—Г! ¬Ђ–У–µ–Њ—А–≥–Є–є! –°–Ї–Њ—А–µ–є, —Б–Ї–Њ—А–µ–µ –≤—Б—В–∞–≤–∞–є!¬ї вАФ ¬Ђ–Р? –І—В–Њ?¬ї вАФ ¬Ђ–Т–Є—В–∞–ї–Є–є –њ—А–Є—И–µ–ї –Ј–∞ –љ–∞–Љ–Є¬ї. вАФ ¬Ђ–У–і–µ?¬ї вАФ ¬Ђ–£ –љ–∞—Б –љ–µ—В —Д–Њ–љ–∞—А—П. –Ь–љ–µ –љ–µ—З–µ–Љ –Њ—В–≤–µ—В–Є—В—М. –Ю–љ —Г–є–і–µ—В, –і—Г–Љ–∞—П, —З—В–Њ –љ–∞—Б –љ–µ—В –≤ –ґ–Є–≤—Л—Е¬ї. –У–µ–Њ—А–≥–Є–є —Б —В—А—Г–і–Њ–Љ –≤—Б—В–∞–ї. –Ъ–∞–Ї –Њ–љ —Б–њ—Г—Б—В–Є—В—Б—П –≤–љ–Є–Ј –њ–Њ –Њ—Б—В—А—Л–Љ –Є —Б–Ї–Њ–ї—М–Ј–Ї–Є–Љ —Б–Ї–∞–ї–∞–Љ?.. ¬Ђ–°–Ї–Њ—А–µ–є, —Б–Ї–Њ—А–µ–є, –У–µ–Њ—А–≥–Є–є! –°–Љ–Њ–ґ–µ—И—М —В—Л –њ–ї—Л—В—М?¬ї вАФ ¬Ђ–Я–Њ–њ—Л—В–∞—О—Б—М...¬ї –Ф—Г–ї —А–µ–Ј–Ї–Є–є –≤–µ—В–µ—А. –Ґ–Њ –Є –і–µ–ї–Њ —Г –љ–Є—Е –Є–Ј-–њ–Њ–і –љ–Њ–≥ –≤—Л—А—Л–≤–∞–ї—Б—П –Ї–∞–Љ–µ–љ—М –Є —Б –≥—А–Њ—Е–Њ—В–Њ–Љ —Б–Ї–∞–Ї–∞–ї –≤–љ–Є–Ј. –Ґ–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ–Є –Ј–∞–Љ–Є—А–∞–ї–Є. –Т–Њ–Ї—А—Г–≥ –≤—Б–µ –Љ–Њ–ї—З–∞–ї–Њ... –Ю–љ–Є –њ–Њ–њ–ї—Л–≤—Г—В —В—Г–і–∞, –≥–і–µ –°–µ—А–≥–Њ –≤–Є–і–µ–ї —Б–Є–≥–љ–∞–ї—Л. –Э–Њ —Б–Љ–Њ–ґ–µ—В –ї–Є –Њ—В–µ—Ж –њ–ї—Л—В—М? –Ф–∞–ї–µ–Ї–Њ –ї–Є –Њ—В –±–µ—А–µ–≥–∞ –Ї–∞—В–µ—А? –Ш –Ї–∞–Ї –Њ–љ–Є –і–∞–і—Г—В –Ј–љ–∞—В—М –Њ —Б–µ–±–µ –†—Г—Б—М–µ–≤—Г?.. –Ъ—А–Є—З–∞—В—М? –Э–µ —Г—Б–ї—Л—И–∞—В –ї–Є –Ї—А–Є–Ї –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥—Г –≥–Є—В–ї–µ—А–Њ–≤—Ж—Л?.. –Ю—В–µ—Ж –Є –°–µ—А–≥–Њ —Б–њ—Г—Б–Ї–∞–ї–Є—Б—М –≤—Б–µ –љ–Є–ґ–µ, –Є –Љ–Њ—А–µ —И—Г–Љ–µ–ї–Њ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –њ–Њ–і –љ–Њ–≥–∞–Љ–Є.  вАФ ...–ѓ —Б–љ–Њ–≤–∞ —Г–≤–Є–і–µ–ї –Љ–µ–ї—М–Ї–∞—О—Й–Є–є –Њ–≥–Њ–љ–µ–Ї. ¬Ђ–°–Љ–Њ—В—А–Є, –У–µ–Њ—А–≥–Є–є! –Ґ—Л –≤–Є–і–Є—И—М?¬ї вАФ ¬Ђ–Т–Є–ґ—Г¬ї. вАФ ¬Ђ–≠—В–Њ –Т–Є—В–∞–ї–Є–є¬ї. ¬Ђ–У–і–µ –≤—Л? –У–і–µ –≤—Л? –ѓ –њ—А–Є—И–µ–ї. –Ю—В–≤–µ—З–∞–є—В–µ¬ї, вАФ —Б–Є–≥–љ–∞–ї–Є–ї –Т–Є—В–∞–ї–Є–є. ¬Ђ–°–Ї–Њ—А–µ–є, –У–µ–Њ—А–≥–Є–є, —Б–Ї–Њ—А–µ–є!¬ї –Э–Њ —В—Г—В –≤—Б–µ –Є –≤—Б–µ –Њ—Б–≤–µ—В–Є–ї–Њ—Б—М: –±–µ—А–µ–≥, –Љ–Њ—А–µ –Є –Ї–∞—В–µ—А. –Ь—Л —Г–њ–∞–ї–Є –Є –Њ—Б—В–∞–ї–Є—Б—М –ї–µ–ґ–∞—В—М, –∞ –њ—А–Њ–ґ–µ–Ї—В–Њ—А–∞ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–Є –Њ–±—И–∞—А–Є–≤–∞—В—М –±–µ—А–µ–≥... –Ґ–∞–Ї –Є –љ–µ —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –Є–Љ –≤ —В—Г –љ–Њ—З—М –і–Њ–±—А–∞—В—М—Б—П –і–Њ –Ї–∞—В–µ—А–∞. –†—Г—Б—М–µ–≤ —Г—И–µ–ї. –Ю–љ –љ–µ –Ј–љ–∞–ї, —З—В–Њ –µ–≥–Њ –і—А—Г–Ј—М—П –±—Л–ї–Є –±–ї–Є–Ј–Ї–Њ, –њ–Њ—З—В–Є –≤ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е –Љ–µ—В—А–∞—Е! –Р —В–µ–њ–µ—А—М –Њ–љ–Є —Б–љ–Њ–≤–∞ –Ї–∞—А–∞–±–Ї–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞–≤–µ—А—Е, –≤ –≥—А–Њ—В, –Њ–±–і–Є—А–∞—П —А—Г–Ї–Є –Є –њ—А–Є–ґ–Є–Љ–∞—П—Б—М –Ї —Б–Ї–∞–ї–µ –≤—Б—П–Ї–Є–є —А–∞–Ј, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Є—Е –љ–∞—Й—Г–њ—Л–≤–∞–ї –ї—Г—З –њ—А–Њ–ґ–µ–Ї—В–Њ—А–∞. вАФ ...–ѓ –њ–Њ–љ—П–ї, —З—В–Њ –Љ–Њ—А–µ–Љ –љ–∞–Љ –љ–µ —Г–є—В–Є. –£ –љ–∞—Б –љ–µ—В —Д–Њ–љ–∞—А—П –Є, –Љ—Л –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ–Љ –Њ—В–≤–µ—В–Є—В—М –†—Г—Б—М–µ–≤—Г, –µ—Б–ї–Є –Њ–љ —Б–љ–Њ–≤–∞ –њ—А–Є–і–µ—В –Ј–∞ –љ–∞–Љ–Є. –§–∞—И–Є—Б—В—Л –љ–∞—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–µ –Є –Ї–∞—В–µ—А –Ї –±–µ—А–µ–≥—Г –љ–µ –њ–Њ–і–њ—Г—Б—В—П—В. –Ю–љ–Є –Ј–∞–њ–Њ–і–Њ–Ј—А—П—В, —З—В–Њ –Ї—В–Њ-—В–Њ –њ—А—П—З–µ—В—Б—П –≤ —Б–Ї–∞–ї–∞—Е. –Э–∞–і–Њ —Г—Е–Њ–і–Є—В—М, –Є –Ї–∞–Ї –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б–Ї–Њ—А–µ–µ. –Ъ—Г–і–∞? –Т –≥–Њ—А—Л. –Ґ–∞–Љ –Љ—Л –љ–∞–є–і–µ–Љ –њ–∞—А—В–Є–Ј–∞–љ, –Є –Њ–љ–Є –њ–Њ–Љ–Њ–≥—Г—В –љ–∞–Љ –≤—Л–є—В–Є –Ї –Љ–Њ—А—О... –С—Л–ї–Њ —Е–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ. –Я–Њ—И–µ–ї —Б–љ–µ–≥. –Ю–љ–Є –±—Л–ї–Є –≥–Њ–ї–Њ–і–љ—Л. –Ю–љ–Є –µ–ї–Є –Ї–Њ—А–µ—И–Ї–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї –°–µ—А–≥–Њ. –Ю–љ–Є —И–ї–Є –і–µ–љ—М, –і—А—Г–≥–Њ–є, —В—А–µ—В–Є–є... –°–µ—А–≥–Њ –њ–Њ–≤—В–Њ—А—П–ї: ¬Ђ–Ь—Л, –У–µ–Њ—А–≥–Є–є, –µ—Й–µ –њ–Њ–≤–Њ—О–µ–Љ!¬ї –Ы–µ—Б —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї—Б—П –≤—Б–µ –≥—Г—Й–µ, —Б–љ–µ–≥ –≤—Б–µ —Б—Л–њ–∞–ї –Є —Б—Л–њ–∞–ї, –Є –≤–і—А—Г–≥ –Є–Ј-–Ј–∞ –і–µ—А–µ–≤–∞ –≤—Л—И–ї–∞ –і–µ–≤—Г—И–Ї–∞ –≤ –њ–Њ–ї—Г—И—Г–±–Ї–µ. –Ґ–∞–Ї –њ–Њ–њ–∞–ї–Є –Њ–љ–Є –≤ –Њ—В—А—П–і –њ–∞—А—В–Є–Ј–∞–љ–∞-—Б–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—М—Ж–∞ ¬Ђ–і—П–і–Є –Ъ–Њ—Б—В–Є¬ї. вАФ ...–Ф—П–і—П –Ъ–Њ—Б—В—П –±—Л–ї —В–Њ–ґ–µ –Љ–Њ—А—П–Ї. –Ш–Ј –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—П –Њ–љ —Г—И–µ–ї –Њ–і–љ–Є–Љ –Є–Ј –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є—Е, –≤–Ј–Њ—А–≤–∞–≤ —Б–≤–Њ—О –±–∞—В–∞—А–µ—О. –Ґ–∞ –і–µ–≤—Г—И–Ї–∞, —З—В–Њ –љ–∞—Б –њ–Њ–≤—Б—В—А–µ—З–∞–ї–∞, –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞—Б—М –≤—А–∞—З–Њ–Љ –Є –њ—А–Є–љ—П–ї–∞—Б—М –ї–µ—З–Є—В—М –У–µ–Њ—А–≥–Є—О —А—Г–Ї—Г. –Ъ–Њ–≥–і–∞ —П —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї, —З—В–Њ –Љ—Л —Е–Њ—В–Є–Љ –≤—Л–є—В–Є –Ї –Љ–Њ—А—О –Є –і–Њ–±—А–∞—В—М—Б—П –і–Њ —Б–≤–Њ–Є—Е –Ї–∞—В–µ—А–Њ–≤, –і—П–і—П –Ъ–Њ—Б—В—П –њ–Њ–Ї–∞—З–∞–ї –≥–Њ–ї–Њ–≤–Њ–є: ¬Ђ–Я—А–Њ–≤–µ—Б—В–Є-—В–Њ –≤–∞—Б –Ї –Љ–Њ—А—О –Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –∞ —В–Њ–ї–Ї—Г —З—В–Њ? –§–∞—И–Є—Б—В—Л –Ї–Є—И–Љ—П –Ї–Є—И–∞—В –њ–Њ –≤—Б–µ–Љ—Г –њ–Њ–±–µ—А–µ–ґ—М—О. –Я—А–Њ–њ–∞–і–µ—В–µ –љ–Є –Ј–∞ –њ–Њ–љ—О—Е —В–∞–±–∞–Ї—Г... –Я–Њ–і–ї–µ—З–Є—В–µ—Б—М, –Є —В—Г—В –і–ї—П –≤–∞—Б –љ–∞–є–і–µ—В—Б—П —А–∞–±–Њ—В–∞...¬ї –Ю —В–Њ–Љ, –Ї–∞–Ї–∞—П —Н—В–Њ –±—Л–ї–∞ —А–∞–±–Њ—В–∞, –°–µ—А–≥–Њ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Њ—З–µ–љ—М —Б–Ї—Г–њ–Њ. –Э–Њ, –љ–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –±—Л –љ–∞–њ–Є—Б–∞—В—М —В–Њ–ї—Б—В—Г—О –Ї–љ–Є–≥—Г. –Т –Ъ–µ—А—З–Є –±—Л–ї–Є –≥–Є—В–ї–µ—А–Њ–≤—Ж—Л, –∞ –љ–∞ –і—А—Г–≥–Њ–Љ –±–µ—А–µ–≥—Г –њ—А–Њ–ї–Є–≤–∞, –љ–∞ –І—Г—И–Ї–µ, вАФ –љ–∞—И–Є. –§–∞—И–Є—Б—В—Л –Ї–∞–ґ–і—Л–є –і–µ–љ—М —Б—В—А–µ–ї—П–ї–Є —З–µ—А–µ–Ј –њ—А–Њ–ї–Є–≤, –∞ –њ–Њ–µ–Ј–і–∞ –њ–Њ–і–≤–Њ–Ј–Є–ї–Є –Є–Љ –≤ –Ъ–µ—А—З—М —Б–љ–∞—А—П–і—Л. –Ш –≤–Њ—В —З–µ—В—Л—А–µ–Љ –њ–∞—А—В–Є–Ј–∞–љ–∞–Љ (—Б—А–µ–і–Є –љ–Є—Е –±—Л–ї –Њ—В–µ—Ж –Є –°–µ—А–≥–Њ) –њ–Њ—А—Г—З–Є–ї–Є –≤–Ј–Њ—А–≤–∞—В—М —В–∞–Ї–Њ–є –њ–Њ–µ–Ј–і. –Ю–љ–Є –≤—Л—И–ї–Є –Є–Ј –ї–µ—Б–∞. –®–ї–Є –Њ—В–Ї—А—Л—В–Њ–є —Б—В–µ–њ—М—О. –Ф–Њ—И–ї–Є –і–Њ –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–і–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Њ—В–љ–∞. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –≤–і–∞–ї–Є –Ј–∞–і—Л–Љ–Є–ї –њ–∞—А–Њ–≤–Њ–Ј, –Њ–љ–Є –Ј–∞–ї–Њ–ґ–Є–ї–Є –њ–Њ–і —А–µ–ї—М—Б –≤–Ј—А—Л–≤—З–∞—В–Ї—Г. –Х–і–≤–∞ –Њ–љ–Є –Њ—В–њ–Њ–ї–Ј–ї–Є, –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–µ–ї –≤–Ј—А—Л–≤, –Є –Њ–љ–Є —Г–≤–Є–і–µ–ї–Є, –Ї–∞–Ї —Б–≤–∞–ї–Є–ї—Б—П –њ–Њ–і –Њ—В–Ї–Њ—Б –њ–∞—А–Њ–≤–Њ–Ј –Є –Ї–∞–Ї –њ–Њ–ї–µ–Ј–ї–Є –і—А—Г–≥ –љ–∞ –і—А—Г–≥–∞ –≤–∞–≥–Њ–љ—Л. –Э–∞—З–∞–ї—Б—П –њ–Њ–ґ–∞—А, —Б—В–∞–ї–Є —А–≤–∞—В—М—Б—П —Б–љ–∞—А—П–і—Л –Є –±–Њ–Љ–±—Л. –Ґ–µ–њ–µ—А—М –љ–∞–і–Њ –±—Л–ї–Њ –њ–Њ—Б–Ї–Њ—А–µ–µ –і–Њ–±—А–∞—В—М—Б—П –і–Њ –ї–µ—Б–∞. –Ю–љ–Є –±–µ–ґ–∞–ї–Є –Є–Ј–Њ –≤—Б–µ—Е —Б–Є–ї. –Ъ–Њ–≥–і–∞ —А–∞—Б—Б–≤–µ–ї–Њ, –Њ–љ–Є –Ј–∞—А—Л–ї–Є—Б—М –≤ –Ј–∞–±—Л—В—Л–є —Б—В–Њ–≥ —Б–µ–љ–∞. –У–Є—В–ї–µ—А–Њ–≤—Ж—Л, –і–≤–Є–≥–∞—П—Б—М —Ж–µ–њ—М—О, –Њ–±—Л—Б–Ї–Є–≤–∞–ї–Є —Б—В–µ–њ—М. –≠—В–Њ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Њ—Б—М ¬Ђ–њ—А–Њ—З–µ—Б–Њ–Љ¬ї. –Ъ—В–Њ-—В–Њ –њ–Њ–і–∞–ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г вАФ –Є –≤ —Б—В–Њ–≥ –≤–Њ–љ–Ј–Є–ї–Є—Б—М —И—В—Л–Ї–Є. –Ю—В—Ж—Г –њ—А–Њ–Ї–Њ–ї–Њ–ї–Є –њ–ї–µ—З–Њ, –∞ –°–µ—А–≥–Њ вАФ –љ–Њ–≥—Г. –Ч–∞—Б—В–Њ–љ–Є –Њ–љ–Є вАФ –Є –Њ–љ–Є –±—Л –њ—А–Њ–њ–∞–ї–Є. –Э–Њ –Њ–љ–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ј–∞–Ї—Г—Б–Є–ї–Є –≥—Г–±—Л –і–Њ –Ї—А–Њ–≤–Є. –Ш –≥–Є—В–ї–µ—А–Њ–≤—Ж—Л –њ–Њ—И–ї–Є –і–∞–ї—М—И–µ. –Ф–Њ –≤–µ—З–µ—А–∞ –њ–∞—А—В–Є–Ј–∞–љ—Л —Б–Є–і–µ–ї–Є –≤ —Б–µ–љ–µ, –∞ –≤–µ—З–µ—А–Њ–Љ –і–Њ–±—А–∞–ї–Є—Б—М –і–Њ –ї–µ—Б–∞.  –Ю–і–Є–љ —А–∞–Ј –Њ—В—Ж—Г –њ–Њ—А—Г—З–Є–ї–Є —Б–≤—П–Ј–∞—В—М—Б—П —Б –њ–Њ–і–њ–Њ–ї—М—Й–Є–Ї–∞–Љ–Є –≤ –≥–Њ—А–Њ–і–µ, –Є –Њ–љ, –њ–µ—А–µ–Њ–і–µ–≤—И–Є—Б—М –≤ –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї—Г—О —Д–Њ—А–Љ—Г, –µ–Ј–і–Є–ї –≤ –°–Є–Љ—Д–µ—А–Њ–њ–Њ–ї—М, –Ј–∞–љ—П—В—Л–є —Д–∞—И–Є—Б—В–∞–Љ–Є. –Ъ–∞–ґ–і—Л–є —И–∞–≥ –Љ–Њ–≥ –µ–Љ—Г —Б—В–Њ–Є—В—М –ґ–Є–Ј–љ–Є. –Р –Њ–і–љ–∞–ґ–і—Л –Њ–љ–Є —Б –°–µ—А–≥–Њ –і–∞–ґ–µ –≤—Л–Ї—А–∞–ї–Є –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–µ–љ–і–∞–љ—В–∞!.. –Т–Њ—В –Ї–∞–Ї–∞—П —Г –љ–Є—Е –±—Л–ї–∞ —А–∞–±–Њ—В–∞! –≠—В–Њ –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј —В–Њ–≥–і–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ —П –ґ–Є–ї –љ–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ, –Є –†—Г—Б—М–µ–≤ —Е–Њ–і–Є–ї –Ј–∞ –љ–Є–Љ–Є, –Є —Д–∞—И–Є—Б—В—Л –≤—Б—В—А–µ—З–∞–ї–Є –µ–≥–Њ —В–∞–Ї–Є–Љ –Њ–≥–љ–µ–Љ, —З—В–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –њ–Њ–і—Г–Љ–∞—В—М вАФ –Њ–љ–Є –ґ–і–∞–ї–Є —Н—Б–Ї–∞–і—А—Г. –†—Г—Б—М–µ–≤ —А–µ—И–Є–ї, —З—В–Њ –Њ—В—Ж–∞ –Є –°–µ—А–≥–Њ –љ–µ—В –≤ –ґ–Є–≤—Л—Е, –Є –і–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ—Г –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ —А–∞–љ–≥–∞. –Ш —В–Њ–≥–і–∞ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ —А–∞–љ–≥–∞ –Њ—В–і–∞–ї –Љ–љ–µ –њ–Є—Б—М–Љ–Њ, –∞ —Б—В–∞—А—И–Є–є –Њ—Д–Є—Ж–µ—А —А–∞–Ј—А–µ—И–Є–ї –і—А—Г–≥–Є–Љ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–∞–Љ –Ј–∞–љ—П—В—М –Ј–∞ —Б—В–Њ–ї–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–∞ –Њ—В—Ж–∞ –Є –°–µ—А–≥–Њ –У—Г—А–∞–Љ–Є—И–≤–Є–ї–Є. –Ґ–Њ–≤–∞—А–Є—Й–Є —Б—З–Є—В–∞–ї–Є –Є—Е –њ–Њ–≥–Є–±—И–Є–Љ–Є. –Э–Њ –Њ–љ–Є –±—Л–ї–Є –ґ–Є–≤—Л! –Ю–љ–Є –Є—Б—В—А–µ–±–ї—П–ї–Є –≤—А–∞–≥–∞. –Э–µ–і–∞—А–Њ–Љ –Њ–љ–Є, —Г—Е–Њ–і—П, –њ–Њ–Ї–ї—П–ї–Є—Б—М: ¬Ђ–Я–Њ–Ї–∞ —Б–µ—А–і—Ж–µ –±—М–µ—В—Б—П –≤ –≥—А—Г–і–Є –Є –≤ –ґ–Є–ї–∞—Е —В–µ—З–µ—В –Ї—А–Њ–≤—М, –Љ—Л –±—Г–і–µ–Љ –±–µ—Б–њ–Њ—Й–∞–і–љ–Њ —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–∞—В—М —Д–∞—И–Є—Б—В–Њ–≤¬ї. –Ф—П–і—П –Ъ–Њ—Б—В—П –±—Л–ї –Є–Љ–Є –і–Њ–≤–Њ–ї–µ–љ. –Э–Њ –Њ–љ–Є —В–Њ—Б–Ї–Њ–≤–∞–ї–Є –њ–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ –Ї–∞—В–µ—А–∞–Љ. –Ф—П–і—П –Ъ–Њ—Б—В—П —Г—Б–њ–Њ–Ї–∞–Є–≤–∞–ї –Є—Е: ¬Ђ–°–Ї–Њ—А–Њ, —Б–Ї–Њ—А–Њ –≤–µ—А–љ–µ–Љ—Б—П –Љ—Л –≤ –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—М!¬ї –Я–∞—А—В–Є–Ј–∞–љ –≤ –ї–µ—Б—Г —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Њ—Б—М –≤—Б–µ –±–Њ–ї—М—И–µ. –Ґ–µ–њ–µ—А—М –Њ–љ–Є —Б–Љ–µ–ї–Њ –≤—Л—Е–Њ–і–Є–ї–Є –Є–Ј –ї–µ—Б–∞, –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞–ї–Є –Є —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–∞–ї–Є —Д–∞—И–Є—Б—В—Б–Ї–Є–µ –≥–∞—А–љ–Є–Ј–Њ–љ—Л. –Ь–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј –≥–Є—В–ї–µ—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–µ —А–∞–і–Є–Њ —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–ї–Њ, —З—В–Њ –ї–µ—Б ¬Ђ–њ—А–Њ—З–µ—Б–∞–љ¬ї –Є –њ–∞—А—В–Є–Ј–∞–љ –≤ –Ъ—А—Л–Љ—Г –±–Њ–ї—М—И–µ –љ–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В. –Р –љ–∞ –і—А—Г–≥–Њ–є –ґ–µ –і–µ–љ—М –≤–Ј–ї–µ—В–∞–ї –љ–∞ –≤–Њ–Ј–і—Г—Е –љ–Њ–≤—Л–є , –Є–ї–Є –≤–Ј—А—Л–≤–∞–ї—Б—П –љ–Њ–≤—Л–є –Љ–Њ—Б—В –њ–Њ–і —И—В–∞–±–љ–Њ–є –Љ–∞—И–Є–љ–Њ–є, –Є–ї–Є –њ–∞—А—В–Є–Ј–∞–љ—Л –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞–ї–Є –і–µ—А–µ–≤–љ—О, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —Б—В–Њ—П–ї –≤—А–∞–ґ–µ—Б–Ї–Є–є –≥–∞—А–љ–Є–Ј–Њ–љ.  вАФ ...–Э–Њ –≤–Њ—В, вАФ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї –°–µ—А–≥–Њ, вАФ –њ—А–Є—И–µ–ї —В–Њ—В —Б—З–∞—Б—В–ї–Є–≤—Л–є –і–µ–љ—М, –Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–∞—И–Є –Њ—А—Г–і–Є—П –Ј–∞–≥—А–µ–Љ–µ–ї–Є –љ–∞ –њ–µ—А–µ—И–µ–є–Ї–µ, –∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є –њ–Њ–і–Њ—И–ї–Є –Ї –Ї—А—Л–Љ—Б–Ї–Є–Љ –±–µ—А–µ–≥–∞–Љ. ¬Ђ–Ф–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М!¬ї вАФ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї –њ–∞—А—В–Є–Ј–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–є–Њ–љ–∞. ¬Ђ–Х—Б—В—М –і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М!¬ї вАФ –њ–Њ–≤—В–Њ—А–Є–ї –њ—А–Є–Ї–∞–Ј . –Ь—Л –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л–ї–Є –≤—Л–є—В–Є –Ї –Љ–Њ—А—О –Є –Њ—В–±–Є—В—М —Г —Д–∞—И–Є—Б—В–Њ–≤ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є—Е –ї—О–і–µ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Њ–љ–Є —Г–≤–Њ–і–Є–ї–Є... –Ф–∞, –≥–Є—В–ї–µ—А–Њ–≤—Ж—Л –њ—А–Є–≥–љ–∞–ї–Є –≤ –Ъ—А—Л–Љ –Љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є—Е –ї—О–і–µ–є —Б –Ъ—Г–±–∞–љ–Є –Є —В–µ–њ–µ—А—М –≥–љ–∞–ї–Є –Є—Е –Ї –Љ–Њ—А—О. –Ъ—Г–і–∞, –Ј–∞—З–µ–Љ? –Э–∞–і–Њ –±—Л–ї–Њ —Б–њ–µ—И–Є—В—М!.. –Ъ—Г–і–∞ –±—Л, –≤ –Ї–∞–Ї–Њ–µ —Б–µ–ї–Њ –љ–Є –≤—Е–Њ–і–Є–ї –Њ—В—А—П–і, –µ–≥–Њ –≤—Б—В—А–µ—З–∞–ї–Є –њ—Г—Б—В—Л–µ –і–Њ–Љ–∞ –Є –≤–Є—Б–µ–ї–Є—Ж—Л. –Ш –≤–µ–Ј–і–µ –±—Л–ї–Є —А–∞—Б–Ї–ї–µ–µ–љ—Л –ї–Є—Б—В–Њ–≤–Ї–Є: ¬Ђ–Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є–є –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є–Љ–Є –≤–Њ–є—Б–Ї–∞–Љ–Є –≤ –Ъ—А—Л–Љ—Г —Б–Ї–Њ—А–µ–µ –њ–Њ–≤–µ—Б–Є—В —Б—В–Њ —В—Л—Б—П—З —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е, —З–µ–Љ –і–∞—Б—В –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–і–Є—В—М –Є—Е¬ї. –І—В–Њ–±—Л –і–Њ–±—А–∞—В—М—Б—П –і–Њ –Љ–Њ—А—П, –Њ—В—А—П–і—Г –љ–∞–і–Њ –±—Л–ї–Њ –њ—А–Њ–є—В–Є —З–µ—А–µ–Ј –≥–Њ—А—Л. –°–љ–µ–≥ —Б–ї–µ–њ–Є–ї –≥–ї–∞–Ј–∞. –Я–Њ–≤—Б—О–і—Г –і–Њ–≥–Њ—А–∞–ї–Є –і–Њ–Љ–∞, —Б—В–Њ—А–Њ–ґ–Ї–Є, –ї–µ–ґ–∞–ї–Є –Љ–µ—А—В–≤—Л–µ –ї—О–і–Є. –Ч–і–µ—Б—М –њ—А–Њ—И–ї–Є –≥–Є—В–ї–µ—А–Њ–≤—Ж—Л –Ї –Љ–Њ—А—О... –Ъ–∞–Ї –±—Л–ї–Њ —Б—В—А–∞—И–љ–Њ —В–Њ, —З—В–Њ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї –°–µ—А–≥–Њ! –Ю–љ –љ–∞—В–Ї–љ—Г–ї—Б—П –љ–∞ —Б—В–∞—А–Њ–≥–Њ –і–µ–і–∞, –ї–µ–ґ–∞–≤—И–µ–≥–Њ –≤ —Б–љ–µ–≥—Г –љ–∞ –њ–Њ–≤–Њ—А–Њ—В–µ –і–Њ—А–Њ–≥–Є. ¬Ђ–І—В–Њ —Б —В–Њ–±–Њ–є, –і–µ–і?¬ї вАФ ¬Ђ–£–Љ–Є—А–∞—О. –Ґ–Њ—А–Њ–њ–Є—В–µ—Б—М, —Б—Л–љ–Ї–Є! –Я–Њ–≤–µ–ї–Є –≤—Б–µ—Е –Ї –Љ–Њ—А—О¬ї. вАФ ¬Ђ–Э–µ —Г–є–і—Г—В –Њ—В –љ–∞—Б, –і–Є–і—Г, –і–∞–µ–Љ —В–µ–±–µ —З–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї—Г—О –Ї–ї—П—В–≤—Г!¬ї вАФ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –і—П–і—П –Ъ–Њ—Б—В—П. –Ф–Њ—А–Њ–≥–∞ –Ї—А—Г—В–Њ —И–ї–∞ –≤–љ–Є–Ј. –Ы–µ—Б —А–µ–і–µ–ї. –Э–µ—Б–ї–Њ —Е–Њ–ї–Њ–і–Њ–Љ –Є–Ј —Г—Й–µ–ї–Є–є. –Ш–Ј-–Ј–∞ —В—Г—З –≤—Л–≥–ї—П–љ—Г–ї–Њ —Б–Њ–ї–љ—Ж–µ. –Т–і—А—Г–≥ —Б–Ї–∞–ї—Л —А–∞–Ј–і–≤–Є–љ—Г–ї–Є—Б—М вАФ –Є –њ–∞—А—В–Є–Ј–∞–љ—Л —Г–≤–Є–і–µ–ї–Є –Љ–Њ—А–µ. вАФ ...–Ґ—А–Є –±—Г–Ї—Б–Є—А–∞ –і—Л–Љ–Є–ї–Є —Г –њ–Є—А—Б–Њ–≤. –Р–≤—В–Њ–Љ–∞—В—З–Є–Ї–Є –Ј–∞–≥–Њ–љ—П–ї–Є –љ–∞ –±–∞—А–ґ–Є –ґ–µ–љ—Й–Є–љ –Є —А–µ–±—П—В–Є—И–µ–Ї, –Њ—В–±–Є—А–∞—П —Г –љ–Є—Е –Љ–µ—И–Ї–Є, —Г–Ј–µ–ї–Ї–Є –Є –Ї–Њ—И–µ–ї–Ї–Є –Є —Б–±—А–∞—Б—Л–≤–∞—П –≤—Б–µ –≤ –Ї—Г—З—Г. ¬Ђ–Э–∞–њ—А—П–Љ–Є–Ї!¬ї вАФ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї –і—П–і—П –Ъ–Њ—Б—В—П –Є —Б–њ—А—Л–≥–љ—Г–ї —Б –Њ–±—А—Л–≤–∞ –≤ –Ї–Њ–ї—О—З–Є–є –Ї—Г—Б—В–∞—А–љ–Є–Ї. –Ь—Л —Б–≤–∞–ї–Є–ї–Є—Б—М –Є–Љ –љ–∞ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Л, –Ї–∞–Ї –ї–∞–≤–Є–љ–∞ —Б –≥–Њ—А. –У–Є—В–ї–µ—А–Њ–≤—Ж—Л –Њ—В—Б—В—Г–њ–Є–ї–Є –њ–Њ–і –њ—А–Є–Ї—А—Л—В–Є–µ –±–∞—А–ґ, —А–∞—Б—Б—З–Є—В–∞–≤, —З—В–Њ –Љ—Л, –Њ–њ–∞—Б–∞—П—Б—М –Ј–∞–і–µ—В—М –і–µ—В–µ–є –Є –ґ–µ–љ—Й–Є–љ, —Б—В—А–µ–ї—П—В—М –љ–µ —Б—В–∞–љ–µ–Љ... –Ю–љ–Є –Њ—З—Г—В–Є–ї–Є—Б—М –њ–Њ –њ–Њ—П—Б –≤ –≤–Њ–і–µ. ¬Ђ–Ц–Є–≤—М–µ–Љ –±–µ—А–Є –≥–∞–і–Њ–≤!¬ї вАФ –Ј–∞–Ї—А–Є—З–∞–ї –і—П–і—П –Ъ–Њ—Б—В—П. –Ю–љ –њ–Њ–і–љ—П–ї—Б—П –≤–Њ –≤–µ—Б—М —А–Њ—Б—В, –Ј–∞ –љ–Є–Љ вАФ –і—А—Г–≥–Є–µ... –Ш —В–Њ–≥–і–∞ –Њ–і–Є–љ —Д–∞—И–Є—Б—В –і–∞–ї –Њ—З–µ—А–µ–і—М –њ–Њ –±–∞—А–ґ–µ. –Ґ–∞–Љ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л, –і–µ—В–Є... –£–Љ–Є—А–∞—В—М –±—Г–і—Г, —Н—В–Њ–≥–Њ –љ–µ –Ј–∞–±—Г–і—Г. –°—В—А–µ–ї—П—В—М –≤ –±–µ–Ј–Ј–∞—Й–Є—В–љ—Л—Е! –Я—Г–ї–Є –ґ—Г–ґ–ґ–∞–ї–Є –≤–Њ–Ї—А—Г–≥, –Ї–∞–Ї —И–Љ–µ–ї–Є, –љ–Њ –љ–Є –Њ–і–љ–∞ –љ–µ –Ј–∞–і–µ–ї–∞ –і—П–і—О –Ъ–Њ—Б—В—О. –Ю–љ —Б—Е–≤–∞—В–Є–ї —Б—В—А–µ–ї—П–≤—И–µ–≥–Њ –≤ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ –≥–Є—В–ї–µ—А–Њ–≤—Ж–∞, –≤–і–∞–≤–Є–ї –µ–≥–Њ –≤ –≤–Њ–і—Г, –≤—Л–≤–Њ–ї–Њ–Ї –љ–∞ –њ–µ—Б–Њ–Ї... –Я–∞—А—В–Є–Ј–∞–љ—Л –≤—А—Г–Ї–Њ–њ–∞—И–љ—Г—О –±–Є–ї–Є —Д–∞—И–Є—Б—В–Њ–≤. –Ю–љ–Є –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є —Б—В—А–µ–ї—П—В—М, –∞ –≥–Є—В–ї–µ—А–Њ–≤—Ж—Л —Б—В—А–µ–ї—П–ї–Є –Є–Ј –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В–Њ–≤! –Я–Њ –±–∞—А–ґ–µ —Б—В–∞–ї–Є —Б—В—А–µ–ї—П—В—М —Д–∞—И–Є—Б—В—Б–Ї–Є–µ –±—Г–Ї—Б–Є—А—Л. ¬Ђ–°—Е–Њ–і–Є —Б –±–∞—А–ґ–Є!¬ї вАФ —Б–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–ї –і—П–і—П –Ъ–Њ—Б—В—П. –Ы—О–і–Є –њ—А—Л–≥–∞–ї–Є –≤ –≤–Њ–і—Г. вАФ ¬Ђ–Э–∞—И–Є!¬ї вАФ –≤–і—А—Г–≥ –Ј–∞–Ї—А–Є—З–∞–ї –і—П–і—П –Ъ–Њ—Б—В—П. ¬Ђ–Э–∞—И–Є? –У–і–µ –љ–∞—И–Є? –Ю—В–Ї—Г–і–∞?..¬ї –Т –±—Г—Е—В—Г –≤–ї–µ—В–µ–ї —Б–µ—А—Л–є –Ї–∞—В–µ—А. –Ґ–Њ—А–њ–µ–і–љ—Л–є –Ї–∞—В–µ—А, –љ–∞—И, –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ—В–µ? ¬Ђ–£—А–∞ —З–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Ж–∞–Љ!¬ї –Ю—В–Ї—А—Л–ї –њ—Г–ї–µ–Љ–µ—В–љ—Л–є –Њ–≥–Њ–љ—М! –ѓ –Ї–Є–љ—Г–ї—Б—П –љ–∞ –њ–Є—А—Б. ¬Ђ–Ч–і—А–∞–≤—Б—В–≤—Г–є, —З–µ—А—В—Г—И–Ї–∞ –†—Г—Б—М–µ–≤!¬ї вАФ –£—Б—Л–љ–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М? вАФ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї —П –±—Л—Б—В—А–Њ. вАФ –Я–Њ—З–µ–Љ—Г ¬Ђ—Г—Б—Л–љ–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М¬ї? вАФ –Ф–∞ –≤–µ–і—М –Њ–љ —Г—Б—Л–љ–Њ–≤–Є–ї –§—А–Њ–ї–∞.  вАФ –Э—Г –і–∞, –Т–Є—В–∞–ї–Є–є, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ!.. ¬Ђ–Ъ—Г–і–∞ –і–µ—А–ґ–Є—И—М –Ї—Г—А—Б?¬ї вАФ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї–Є –µ–≥–Њ –Љ—Л —Б –У–µ–Њ—А–≥–Є–µ–Љ. ¬Ђ–Э–∞ –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—М!¬ї вАФ –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї –Т–Є—В–∞–ї–Є–є. ¬Ђ–С–µ—А–Є –љ–∞—Б —Б —Б–Њ–±–Њ–є!¬ї –Ю–љ –і–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –љ–∞—Б –≤ –±–∞–Ј—Г, –Љ—Л –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є –Ї–∞—В–µ—А–∞ –Є –њ–Њ—И–ї–Є –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–∞—В—М –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—М... * * * –ѓ —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї —Б–µ–±—П —Б–∞–Љ—Л–Љ —Б—З–∞—Б—В–ї–Є–≤—Л–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–Љ –љ–∞ —Б–≤–µ—В–µ, –љ–Њ –Ї–Њ–≥–і–∞ –њ—А–Є—И–µ–ї –≤ –Ї—Г–±—А–Є–Ї, —Б—В–∞—А–∞–ї—Б—П –љ–µ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–≤–∞—В—М –њ–µ—А–µ–і –≤—Б–µ–Љ–Є —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —Б—З–∞—Б—В—М—П. –ѓ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–ї, —З—В–Њ, –µ—Б–ї–Є –±—Г–і—Г —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ –њ—А–Њ—П–≤–ї—П—В—М —Б–≤–Њ—О —А–∞–і–Њ—Б—В—М, —Н—В–Њ –±—Г–і–µ—В –±–Њ–ї—М–љ–Њ –§—А–Њ–ї—Г, –Т–Њ–≤–µ, –Ш–≤–∞–љ—Г –Ч–∞–±–µ–≥–∞–ї–Њ–≤—Г вАФ –≤–µ–і—М –Є—Е –Њ—В—Ж—Л –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –љ–∞–є–і—Г—В—Б—П! вАФ –Ґ—Л –њ–Њ–ї–µ—В–Є—И—М –љ–∞ —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В–µ? вАФ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї –Ѓ—А–∞. вАФ –°—З–∞—Б—В–ї–Є–≤–µ—Ж! –Р –§—А–Њ–ї —Б–љ–∞—З–∞–ї–∞ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї, —З—В–Њ —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В—Л —З–∞—Б—В–Њ —А–∞–Ј–±–Є–≤–∞—О—В—Б—П –Є –Њ–љ –њ—А–µ–і–њ–Њ—З–Є—В–∞–µ—В —Е–Њ–і–Є—В—М –љ–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ –Є–ї–Є –љ–∞ –Ї–∞—В–µ—А–µ, –љ–Њ —В–Њ—В—З–∞—Б –і–Њ–±–∞–≤–Є–ї, —З—В–Њ —Е–Њ—В–µ–ї –Љ–µ–љ—П –њ–Њ–њ—Г–≥–∞—В—М: –Њ–љ –љ–µ –≤–Є–і–µ–ї –љ–Є –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —Г–≥—А–Њ–±–Є–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В–∞, –Ї—А–Њ–Љ–µ —В–µ—Е —Д–∞—И–Є—Б—В—Б–Ї–Є—Е, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –њ–Њ–і–±–Є–ї–Є –љ–∞—И–Є, –Є —Б–∞–Љ –±—Л —Б —Г–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Є–µ–Љ –њ–Њ–ї–µ—В–µ–ї —Б–Њ –Љ–љ–Њ–є –њ–Њ–≤–Є–і–∞—В—М –†—Г—Б—М–µ–≤–∞. вАФ –Ґ—Л –µ–Љ—Г —А–∞—Б—Б–Ї–∞–ґ–Є –љ–∞ —Б–ї–Њ–≤–∞—Е, —З—В–Њ –Ц–Є–≤—Ж–Њ–≤ –Є–і–µ—В –µ—Й–µ –љ–µ –љ–∞ —Б–∞–Љ—Л–є –њ–Њ–ї–љ—Л–є, –љ–Њ –і–≤–Њ–µ–Ї —Г–ґ–µ –і–∞–≤–љ–Њ –љ–µ —Е–≤–∞—В–∞–µ—В, вАФ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Њ–љ –≥–Њ—А–і–Њ. –Т –њ–Є—Б—М–Љ–µ –§—А–Њ–ї–∞ –†—Г—Б—М–µ–≤—Г –љ–µ –±—Л–ї–Њ –љ–Є –Њ–і–љ–Њ–є –Њ—И–Є–±–Ї–Є. * * * –°–∞–Љ–Њ–ї–µ—В –±—Л–ї –±–Њ–ї—М—И–Њ–є, –Ј–µ–ї–µ–љ—Л–є, —Б –Ї—А–∞—Б–љ–Њ–є –Ј–≤–µ–Ј–і–Њ–є –љ–∞ —Е–≤–Њ—Б—В–µ –Є —Б–Њ –Ј–≤–µ–Ј–і–∞–Љ–Є –љ–∞ –Ї—А—Л–ї—М—П—Е. –Я–Њ —Г–Ј–µ–љ—М–Ї–Њ–Љ—Г –Њ—В–≤–µ—Б–љ–Њ–Љ—Г —В—А–∞–њ—Г –Љ—Л –њ–Њ–і–љ—П–ї–Є—Б—М –≤ –њ—А–Њ—Б—В–Њ—А–љ—Г—О –Ї–∞–±–Є–љ—Г. –Х–і–≤–∞ –Љ—Л —Б–µ–ї–Є, –њ—А–Њ—И–µ–ї –Љ–Є–Љ–Њ –ї–µ—В—З–Є–Ї; –Њ–љ –Ј–∞—Е–ї–Њ–њ–љ—Г–ї –Ј–∞ —Б–Њ–±–Њ–є –і–≤–µ—А—Ж—Г. –І—В–Њ-—В–Њ –Ј–∞–≥—Г–і–µ–ї–Њ, –Є —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В –Ј–∞–і—А–Њ–ґ–∞–ї. –°–µ—А–≥–Њ –≤—Л—В—П–љ—Г–ї –љ–Њ–≥–Є, –Њ—В–Ї–Є–љ—Г–ї –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г –Є —Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї –≤ –њ–Њ—В–Њ–ї–Њ–Ї, –љ–Є—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б—Г—П—Б—М —В–µ–Љ, —З—В–Њ –Љ—Л —Б–µ–є—З–∞—Б –Њ—В–Њ—А–≤–µ–Љ—Б—П –Њ—В –Ј–µ–Љ–ї–Є. –Ю–љ —Б–Є–і–µ–ї —В–∞–Ї, –Ї–∞–Ї —Б–Є–і—П—В –≤ –њ–Њ–µ–Ј–і–µ –Є–ї–Є –≤ —В—А–∞–Љ–≤–∞–µ. вАФ –Ф—П–і—П –°–µ—А–≥–Њ, –∞ –Ї–Њ–≥–і–∞ –Љ—Л –њ–Њ–ї–µ—В–Є–Љ?  вАФ –Р –Љ—Л . вАФ –Ы–µ—В–Є–Љ?.. –ѓ —Г–≤–Є–і–µ–ї –≤ –Њ–Ї–љ–Њ —Г–±–µ–≥–∞–≤—И–Є–є –Ї—Г–і–∞-—В–Њ –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г —Б–µ—А—Л–є –≤–Њ–Ї–Ј–∞–ї, –Ї—А–Њ—Е–Њ—В–љ—Л–µ –∞–≤—В–Њ–±—Г—Б—Л –Є —А–∞—Б–њ–ї–∞—Б—В–∞–≤—И–Є–µ—Б—П –љ–∞ –≤—Л–≥–Њ—А–µ–≤—И–µ–є —В—А–∞–≤–µ —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В—Л. –Ю–±–ї–∞–Ї–∞ —Б–і–≤–Є–љ—Г–ї–Є—Б—М –Є –Ј–∞—В—П–љ—Г–ї–Є –≤—Б—О –Ј–µ–Љ–ї—О, –Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є–Ј—А–µ–і–Ї–∞ –±—Л–ї–Њ –≤–Є–і–љ–Њ —З—В–Њ-—В–Њ –њ–Њ—Е–Њ–ґ–µ–µ –љ–∞ –і–Њ–Љ–Є–Ї–Є –Є –љ–∞ —В—А–∞–≤—Г. –Я—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В.  –Т–µ—А—О–ґ—Б–Ї–Є–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Т–Э–Р), –У–Њ—А–ї–Њ–≤ –Ю–ї–µ–≥ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Ю–Р–У), –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З (–Ь–Т–Т), –Ъ–°–Т. 198188. –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥, —Г–ї. –Ь–∞—А—И–∞–ї–∞ –У–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤–∞, –і–Њ–Љ 11/3, –Ї–≤. 70. –Ъ–∞—А–∞—Б–µ–≤ –°–µ—А–≥–µ–є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З, –∞—А—Е–Є–≤–∞—А–Є—Г—Б. karasevserg@yandex.ru
20.01.201311:1120.01.2013 11:11:47
0
19.01.201312:2219.01.2013 12:22:28
–С–Њ–ї–µ–µ 15 —А–∞–Ј –њ–µ—А–µ–і–∞–≤–∞–ї–Є —А–∞–і–Є–Њ –Њ –љ–∞—И–µ–Љ –≤—Б–њ–ї—Л—В–Є–Є, –∞ –Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–∞–Љ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–і–Є–ї–Є –µ–≥–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–Є–µ, –ї–µ–≥—З–µ –љ–µ —Б—В–∞–ї–Њ вАУ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–є –Є–ї–Є —Б–Њ–≤–µ—В–Њ–≤ –Љ—Л –љ–µ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є –љ–Є –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ. –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –њ—А–Є–љ—П–ї —А–µ—И–µ–љ–Є–µ вАУ –Њ—В—А—Л–≤–∞—В—М—Б—П —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ. –Ш –≤–Њ—В 1 –љ–Њ—П–±—А—П –≤ –њ–Њ–ї–і–µ–љ—М –њ–Њ –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–Љ—Г –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –њ—А–Є —П—А–Ї–Њ —Б–≤–µ—В—П—Й–µ–Љ —Б–Њ–ї–љ—Ж–µ —Н—Б–Љ–Є–љ–µ—Ж –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є—В —А—П–і–Њ–Љ —Б –љ–∞–Љ–Є. –Т–Є–і–Є–Љ, –љ–∞ –Љ–Њ—Б—В–Є–Ї–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤–∞—Е—В–µ–љ–љ—Л–є –Њ—Д–Є—Ж–µ—А –Є –љ–µ–≥—А—Л-—Б–Є–≥–љ–∞–ї—М—Й–Є–Ї–Є, –≤—Б–µ –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–µ, –њ–Њ-–≤–Є–і–Є–Љ–Њ–Љ—Г, –Њ–±–µ–і–∞—О—В. –Э–∞—И –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –Њ–±—К—П–≤–Є–ї –±–Њ–µ–≤—Г—О —В—А–µ–≤–Њ–≥—Г, –њ–µ—А–Є—Б–Ї–Њ–њ—Л, –њ–Њ–і–љ—П—В—Л–µ –љ–∞ –њ—А–Њ—Б—Г—И–Ї—Г, –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї –љ–µ –Њ–њ—Г—Б–Ї–∞—В—М, —Е–Њ–і–Њ–≤–Њ–є —Д–ї–∞–≥ –Є —И—В—Л—А–µ–≤—Г—О –∞–љ—В–µ–љ–љ—Г –љ–µ —Г–±–Є—А–∞—В—М, —З—В–Њ–±—Л –љ–µ –љ–∞—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–Є—В—М –љ–∞—И–µ —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ. –Ъ–Њ–≥–і–∞ —Н—Б–Љ–Є–љ–µ—Ж –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В–Њ—И–µ–ї –Є —Б—В–∞–ї —А–∞–Ј–≤–Њ—А–∞—З–Є–≤–∞—В—М—Б—П –љ–∞ –Њ–±—А–∞—В–љ—Л–є –Ї—Г—А—Б, –±—Л–ї–Њ —Б—Л–≥—А–∞–љ–Њ —Б—А–Њ—З–љ–Њ–µ –њ–Њ–≥—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ. –Т –њ–Њ–і–љ—П—В—Л–є –њ–µ—А–Є—Б–Ї–Њ–њ, —П —Г—Б–њ–µ–ї —Г–≤–Є–і–µ—В—М —А–∞—Б—В–µ—А—П–љ–љ—Л–µ —Д–Є–Ј–Є–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Є –љ–µ–≥—А–Њ–≤-—Б–Є–≥–љ–∞–ї—М—Й–Є–Ї–Њ–≤ –Є –±—Л—Б—В—А–Њ –Њ–њ—Г—Б—В–Є–ї –≤—Б–µ –≤—Л–і–≤–Є–ґ–љ—Л–µ —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–∞, —В.–Ї. –ї–Њ–і–Ї–∞ –љ–∞–±–Є—А–∞–ї–∞ –њ–Њ–ї–љ—Л–є —Е–Њ–і, –њ–Њ–і–љ—Л—А–Є–≤–∞—П –њ–Њ–і —А–∞–Ј–≤–Њ—А–∞—З–Є–≤–∞–≤—И–Є–є—Б—П —Н—Б–Љ–Є–љ–µ—Ж. –Т —Г–њ–Њ–Љ—П–љ—Г—В—Л—Е –≤—Л—И–µ –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П—Е –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Є–і—А–Њ–∞–Ї—Г—Б—В–Є–Ї–∞ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –њ—А–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ —Н—Б–Љ–Є–љ—Ж–∞ –†–Њ—Г–Ј–µ—А–∞, —Г–≤–Є–і–µ–≤—И–µ–≥–Њ –≤—Б–њ–ї—Л–≤—И—Г—О —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї—Г—О –Я–Ы: ¬Ђ–ѓ –і—Г–Љ–∞—О, –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –њ–Њ–Ј–∞–±—Г–і—Г –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –ї–Є—Ж–∞ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞. –Ю–љ –њ—А–Њ—Б—В–Њ —Б–Є—П–ї. –≠—В–Њ –±—Л–ї –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В —В—А–Є—Г–Љ—Д–∞ –і–ї—П –†–Њ—Г–Ј–µ—А–∞¬ї. –Ю —В–Њ–Љ, –Ї–∞–Ї–Њ–µ –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –ї–Є—Ж–∞ –±—Л–ї–Њ —Г –љ–µ–≥–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ –љ–∞—И–µ–≥–Њ –Њ—В—А—Л–≤–∞ –Њ—В —Н—Б–Љ–Є–љ—Ж–∞, –Њ–љ –≤ —Б–≤–Њ–Є—Е –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П—Е –љ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В. –Э–Њ –Љ—Л –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ–Љ –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –ї–Є—Ж–∞ –љ–∞—И–µ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ - –і–Є–Ї–∞—П —Г—Б—В–∞–ї–Њ—Б—В—М –Є –Њ—З–µ—А–µ–і–љ–∞—П —Б–µ–і–Є–љ–∞ –љ–∞ –≥–Њ–ї–Њ–≤–µ. –Э–∞—И —Г—Е–Њ–і –Њ—В –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Ж–µ–≤, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ, –љ–µ –њ–Њ–Љ–µ—И–∞–ї –њ—А–µ–Ј–Є–і–µ–љ—В—Г –°–®–Р –љ–∞–≥—А–∞–і–Є—В—М –Є –†–Њ—Г–Ј–µ—А–∞, –Є –≤–µ—Б—М —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ —Н—Б–Љ–Є–љ—Ж–∞ –Ј–∞ –Є—Е —А–∞–±–Њ—В—Г, –∞ –љ–∞—И –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –љ–µ —Г—Б–ї—Л—И–∞–ї –і–∞–ґ–µ –і–Њ–±—А–Њ–≥–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞ –Њ—В —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П.  –Я–Њ–ї—Г—З–Є–≤ –і–Њ–Ї–ї–∞–і –Њ–± –Њ—В—А—Л–≤–µ, —Б –¶–Ъ–Я –Т–Ь–§ –љ–∞–Љ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–Є–ї–Є –љ–Њ–≤—Л–є —А–∞–є–Њ–љ, –≥–і–µ –љ–∞—Б –њ–Њ–і–ґ–Є–і–∞–ї –Њ—З–µ—А–µ–і–љ–Њ–є –∞–≤–Є–∞–љ–Њ—Б–µ—Ж —Б –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П–Љ–Є —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П. –Я—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Г –љ–Њ–≤—Г—О —В–Њ—З–Ї—Г –њ–µ—А–µ–љ–µ—Б—В–Є —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤ –і—А—Г–≥–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ. –Р –Љ–µ–ґ–і—Г –і–µ–ї–Њ–Љ —Б—В–∞–ї–Є —Г–ґ–µ –і—Г–Љ–∞—В—М –Њ –≤—Б—В—А–µ—З–µ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–∞ вАУ –Њ—З–µ—А–µ–і–љ–Њ–є –≥–Њ–і–Њ–≤—Й–Є–љ—Л –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Ю–Ї—В—П–±—А—М—Б–Ї–Њ–є —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є. –Ь—Л —Б –і–Њ–Ї—В–Њ—А–Њ–Љ, –Т–Є—В–µ–є –С—Г–є–љ–µ–≤–Є—З–µ–Љ, —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є –Љ–µ–љ—О, –њ–Њ–ї—Г—З–Є–≤ —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є–µ —Б—Г–њ –Є –Ї–Њ–Љ–њ–Њ—В –њ—А–Є–≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В—М –љ–∞ –њ—А–µ—Б–љ–Њ–є –≤–Њ–і–µ. –Ъ–Њ–Ї–Є –Њ–±–µ—Й–∞–ї–Є —Б–і–µ–ї–∞—В—М –љ–µ–Њ–±—Л–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –≤—В–Њ—А–Њ–µ –Є–Ј –њ–Њ–ї—Г–≥–љ–Є–ї–Њ–є –Ї–∞—А—В–Њ—И–Ї–Є –Є —П–Ј—Л–Ї–∞, –Є—Б–њ–µ—З—М –і–ї—П –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ –Њ—В—Б–µ–Ї–∞ –њ–Њ —В–Њ—А—В—Г. –Я—А–Є —Б–Љ–µ–љ–µ –≤–∞—Е—В—Л —Г—В—А–Њ–Љ 7 –љ–Њ—П–±—А—П (–≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ –±—Л–ї —Г–ґ–µ –≤–µ—З–µ—А) –Њ–±—К—П–≤–Є–ї–Є –њ—А–Є–Ї–∞–Ј –Њ –њ–Њ–Њ—Й—А–µ–љ–Є–µ –ї–Є—З–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤, –≥–і–µ –±—Л–ї–Є –Њ—В–Љ–µ—З–µ–љ—Л –Є –љ–∞—И–Є –Љ–љ–Њ–≥–Њ—Б—В—А–∞–і–∞–ї—М–љ—Л–µ –Є –≥–µ—А–Њ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Ї–Њ–Ї–Є вАУ –њ–Њ 10 —Б—Г—В–Њ–Ї –Њ—В–њ—Г—Б–Ї–∞ –љ–∞ —А–Њ–і–Є–љ—Г. –Т—Б–µ —Г–ї–µ–≥–ї–Є—Б—М –Њ—В–і—Л—Е–∞—В—М –і–Њ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є—З–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±–µ–і–∞. –°—В–Њ—О –љ–∞ –≤–∞—Е—В–µ. –Я–Њ–і—Е–Њ–і–Є—В –Ј–∞–Љ–њ–Њ–ї–Є—В –Є —Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞–µ—В, –њ–Њ—З–µ–Љ—Г –Ї–Њ–Ї–Є –љ–µ –≥–Њ—В–Њ–≤—П—В –Њ–±–µ–і? –Т—Л–Ј–≤–∞–ї –і–Њ–Ї—В–Њ—А–∞, –њ–Њ–њ—А–Њ—Б–Є–ї —Г—В–Њ—З–љ–Є—В—М, —З—В–Њ –і–µ–ї–∞—О—В –Ї–Њ–Ї–Є. –Ъ–Њ–Ї–Є –Є—Б—З–µ–Ј–ї–Є. –°—В–∞–ї–Є –Є—Б–Ї–∞—В—М –Є—Е –≤ –Њ—В—Б–µ–Ї–∞—Е, –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–ї–Є –≤ —Б–µ–і—М–Љ–Њ–Љ. –І–µ—А–µ–Ј –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –і–Њ–Ї—В–Њ—А –і–Њ–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–µ—В, —З—В–Њ –Њ–±–∞ –Ї–Њ–Ї–∞ –љ–µ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ—Л —З—В–Њ-–ї–Є–±–Њ –і–µ–ї–∞—В—М, —В.–Ї. –њ—М—П–љ—Л. –≠—В–Њ –±—Л–ї–∞ –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ —А–∞–љ–µ–µ –Ј–∞ –љ–Є–Љ–Є —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –љ–µ –Њ—В–Љ–µ—З–∞–ї–Њ—Б—М. –°—В–∞—А–њ–Њ–Љ –Р.–Ъ–Њ–њ–µ–є–Ї–Є–љ —Б–љ—П–ї –Љ–µ–љ—П —Б –≤–∞—Е—В—Л —Б–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є вАУ –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—И—М –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞—В—М, –≥–Њ—В–Њ–≤—М —Б–∞–Љ. –Ь—Л —Б –і–Њ–Ї—В–Њ—А–Њ–Љ —Б—В–∞–ї–Є –Њ—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—В—М –Ї–∞–Љ–±—Г–Ј, –і—Г–Љ–∞—П, —З—В–Њ –ґ–µ –і–µ–ї–∞—В—М –і–∞–ї—М—И–µ. –Ш –љ–∞—И–ї–Є –±–∞–Ї —Б –±—А–∞–≥–Њ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є, –њ—А–Є –љ–∞—И–µ–є —В–µ–Љ–њ–µ—А–∞—В—Г—А–µ –≤ –ї–Њ–і–Ї–µ, —Е–≤–∞—В–Є–ї–Њ –±—Л —Б–≤–∞–ї–Є—В—М —Б –љ–Њ–≥ —Ж–µ–ї—Г—О –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г. –Я—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –≤—В–∞–є–љ–µ –Њ—В –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–∞ –≤—Л–ї–Є—В—М –µ–≥–Њ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є–Љ–Њ–µ. –Ч–∞—И–ї–Є –Ї —Б–Ї—Г—З–∞—О—Й–Є–Љ –≤ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є –Љ–Њ—В–Њ—А–Є—Б—В–∞–Љ, —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї–Є, –Ї—В–Њ —Г–Љ–µ–µ—В –≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В—М? –Т—Л–Ј–≤–∞–ї—Б—П –Њ–і–Є–љ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В –њ–Њ –Љ–∞–љ–љ–Њ–є –Ї–∞—И–µ, –Њ–љ –≤–∞—А–Є–ї –µ–µ —Б–≤–Њ–µ–є –Љ–ї–∞–і—И–µ–є —Б–µ—Б—В—А–µ–љ–Ї–µ. –†–∞–Ј–≤–µ–ї–Є —Б—Г—Е–Њ–µ –Љ–Њ–ї–Њ–Ї–Њ, –Ј–∞—Б—Л–њ–∞–ї–Є –Ї—А—Г–њ—Г –њ–Њ–≥—Г—Й–µ, –Є —П, –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ—Л–є, —Г—И–µ–ї –≤ —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ—Л–є –њ–Њ—Б—В. –І–µ—А–µ–Ј –Ї–∞–Ї–Њ–µ-—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В –і–Њ–Ї—В–Њ—А –Є –і–Њ–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–µ—В, —З—В–Њ –Ї–∞—И–∞ —Б–≤–∞—А–Є–ї–∞—Б—М, –љ–Њ –µ–µ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —А–µ–Ј–∞—В—М, —В–∞–Ї–∞—П –Њ–љ–∞ –≥—Г—Б—В–∞—П, –њ–µ—А–µ–±–Њ—А—Й–Є–ї–Є —Б –Ї—А—Г–њ–Њ–є. –Я—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –Є–і—В–Є —Б –њ–Њ–≤–Є–љ–љ–Њ–є –≥–Њ–ї–Њ–≤–Њ–є –Ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Г –Є –Њ–±—К—П–≤–Є—В—М, —З—В–Њ –љ–∞ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є—З–љ—Л–є –Њ–±–µ–і –±—Г–і—Г—В –≤—Л–і–∞–≤–∞—В—М—Б—П –ї—О–±—Л–µ –њ—А–Њ–і—Г–Ї—В—Л –Є–Ј –њ—А–Њ–≤–Є–Ј–Є–Њ–љ–Ї–Є –њ–Њ –ґ–µ–ї–∞–љ–Є—О. –Ъ –≤–µ—З–µ—А–љ–µ–Љ—Г —З–∞—О –Ї–Њ–Ї–Є –≤—Б–µ –ґ–µ —Б–і–µ–ї–∞–ї–Є –љ–∞–Љ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є—З–љ—Л–µ —В–Њ—А—В—Л. –Э–Є —Г –Ї–Њ–≥–Њ –љ–µ –њ–Њ–і–љ—П–ї–∞—Б—М —А—Г–Ї–∞ –Є—Е –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞—В—М –Є–ї–Є —Г–њ—А–µ–Ї–љ—Г—В—М, –Ј–∞—В–Њ —И—Г—В–Њ–Ї –Є –њ–Њ–і–љ–∞—З–µ–Ї –±—Л–ї–Њ –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –≤ –Љ–Њ–є –∞–і—А–µ—Б –Є ¬Ђ—Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–∞¬ї –њ–Њ –Ї–∞—И–µ. –Ъ —Б–Њ–ґ–∞–ї–µ–љ–Є—О, –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї –±—Л–ї –Њ—В–Љ–µ—З–µ–љ –Є –љ–µ–њ—А–Є—П—В–љ—Л–Љ —Б—О—А–њ—А–Є–Ј–Њ–Љ, –≤—Л—И–ї–Є –Є–Ј —Б—В—А–Њ—П –і–≤–∞ –±–Њ—А—В–Њ–≤—Л—Е –і–Є–Ј–µ–ї—П. –Т—Б–Ї–Њ—А–µ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В—М –≤ –°–∞–є–і–∞-–≥—Г–±—Г. –®—В–Њ—А–Љ–Є–ї–Њ, —Е–Њ—В—П –Є –Љ–µ–љ—М—И–µ, —З–µ–Љ –њ–Њ –њ—Г—В–Є –љ–∞ –Ъ—Г–±—Г. –Э–Њ —В–Њ—В —И—В–Њ—А–Љ –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Г–±–µ–і–Є–ї–Є—Б—М, —З—В–Њ —В–Њ–њ–ї–Є–≤–∞ –љ–∞ –Њ–±—А–∞—В–љ—Л–є –њ—Г—В—М –Љ–Њ–ґ–µ—В –љ–µ —Е–≤–∞—В–Є—В—М, —А–∞—Б—В—А–∞—В–Є–ї–Є –≤ —В–µ—Е —И—В–Њ—А–Љ–Њ–≤—Л—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е. –Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –њ—А–Њ—И–ї–Є —И–Є—А–Њ—В—Г –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–∞, —Ж–≤–µ—В –љ–µ–±–∞, –Њ–±–ї–∞–Ї–Њ–≤ –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є–ї—Б—П –љ–∞ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Л–є –Є —А–Њ–і–љ–Њ–є. –Э–∞–і –≥–Њ–ї–Њ–≤–Њ–є –њ—А–Њ—И–ї–Є 2 —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В–∞-—А–∞–Ј–≤–µ–і—З–Є–Ї–∞ —Б –Ї—А–∞—Б–љ—Л–Љ–Є –Ј–≤–µ–Ј–і–∞–Љ–Є, –Љ—Л –Є–Љ –њ–Њ–Ј–∞–≤–Є–і–Њ–≤–∞–ї–Є, —З–µ—А–µ–Ј –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —З–∞—Б–Њ–≤ –Њ–љ–Є —Г–≤–Є–і—П—В —Б–≤–Њ–є –і–Њ–Љ –Є –±–ї–Є–Ј–Ї–Є—Е. –Р –љ–∞–Љ –µ—Й–µ...  –І–∞—Б—В–Њ –Ј–∞—Е–Њ–ґ—Г –≤ 5-–є –Њ—В—Б–µ–Ї, —З—В–Њ–±—Л –Ї–∞–Ї-—В–Њ –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–∞—В—М –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ї–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤–Њ—А–Њ—З–∞—О—В –≤ —И—В–Њ—А–Љ–Њ–≤—Г—О –њ–Њ–≥–Њ–і—Г –≥—А–Њ–Љ–∞–і–љ—Л–µ —В—П–ґ–µ—Б—В–Є, —Б—В–∞—А–∞—П—Б—М –Є–Ј 2-—Е –і–Є–Ј–µ–ї–µ–є —Б–Њ–±—А–∞—В—М –Є –Ј–∞–њ—Г—Б—В–Є—В—М –Њ–і–Є–љ. –Ґ–∞–љ–Ї–µ—А –≤—Б—В—А–µ—В–Є–ї –љ–∞—Б –љ–µ–і–∞–ї–µ–Ї–Њ –Њ—В –Э–Њ—А–і–Ї–∞–њ–∞, –љ–Њ –њ–Њ–і–Њ–є—В–Є –Є –њ—А–Є–љ—П—В—М —В–Њ–њ–ї–Є–≤–Њ –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ–Љ –Є–Ј-–Ј–∞ —И—В–Њ—А–Љ–∞. –Ь–µ—Е–∞–љ–Є–Ї–Є –і–Њ–±–∞–≤–Є–ї–Є –≤ —В–Њ–њ–ї–Є–≤–Њ –≤—Б–µ –Є–Љ–µ–µ–Љ—Л–µ –љ–∞ –ї–Њ–і–Ї–µ –Љ–∞—Б–ї–∞, –і—Л–Љ–Є–Љ –љ–∞ –≤–µ—Б—М –≥–Њ—А–Є–Ј–Њ–љ—В, –њ—А–Є–≤–ї–µ–Ї–∞—П –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –њ–∞—В—А—Г–ї—М–љ–Њ–є –∞–≤–Є–∞—Ж–Є–Є –Э–Њ—А–≤–µ–≥–Є–Є –Є –њ—А–Њ—Е–Њ–і—П—Й–Є—Е —Б—Г–і–Њ–≤. –•–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ —Б—В–∞–ї–Њ, –∞ —В–µ–њ–ї–Њ–є –Њ–і–µ–ґ–і—Л –љ–µ—В –і–∞–ґ–µ –і–ї—П –≤–∞—Е—В—Л вАФ –≤—Б–µ —Б–≥–љ–Є–ї–Њ. –Т–Њ—В, –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –Є –Њ–≥–љ–Є –¶—Л–њ-–Э–∞–≤–Њ–ї–Њ–Ї–∞ –Є –°–µ—В—М-–Э–∞–≤–Њ–ї–Њ–Ї–∞. –Э–∞ –Љ–Њ—В–Њ—А–∞—Е –і–Њ—В—П–љ—Г–ї–Є –і–Њ –њ—А–Є—З–∞–ї–∞, –≥–і–µ –≤ —В–µ–Љ–љ–Њ—В–µ –љ–∞—Б –≤—Б—В—А–µ—З–∞–ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї —И—В–∞–±–∞ –±—А–Є–≥–∞–і—Л –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ 2 —А–∞–љ–≥–∞ –Т.–Р—А—Е–Є–њ–Њ–≤. –Т—Л–≥—А—Г–Ј–Є–ї–Є —В–Њ—А–њ–µ–і—Г —Б–Њ —Б–њ–µ—Ж–Ј–∞—А—П–і–Њ–Љ, —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї–Є –љ–∞ –њ–ї–∞–≤–±–∞–Ј—Г –њ–Њ–Љ—Л—В—М—Б—П. –Э–µ –њ–µ—А–µ–і–∞—В—М –≤–Њ—Б—В–Њ—А–≥ –Є –Њ—Б–Њ–±—Л–µ —З—Г–≤—Б—В–≤–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–∞ —В–µ–±—П –ї—М–µ—В—Б—П –≥–Њ—А—П—З–∞—П –њ—А–µ—Б–љ–∞—П –≤–Њ–і–∞, —Б–Љ—Л–≤–∞—П –≥—А—П–Ј—М, –љ–∞–Ї–Њ–њ–ї–µ–љ–љ—Г—О –њ–Њ—З—В–Є –Ј–∞ 3 –Љ–µ—Б—П—Ж–∞. –Ю—Д–Є—Ж–µ—А–∞–Љ —А–∞–Ј—А–µ—И–Є–ї–Є —Б—Е–Њ–і–Є—В—М –љ–∞ –Ї–∞—В–µ—А–µ –≤ –Я–Њ–ї—П—А–љ—Л–є –Ї —Б–µ–Љ—М—П–Љ, –∞ —П –Њ—Б—В–∞–ї—Б—П –і–µ–ґ—Г—А–Є—В—М –њ–Њ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—О. –Т–Њ—В –Ї–Њ–≥–і–∞ –њ—А–Є–≥–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –њ–Є—Б—М–Љ–Њ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ —П –њ–Є—Б–∞–ї —Б–≤–Њ–µ–є –ґ–µ–љ–µ –≤–µ—Б—М –њ–Њ—Е–Њ–і. –Я–µ—А–µ–і–∞–ї –µ–≥–Њ –ґ–µ–љ–µ —З–µ—А–µ–Ј –Т–ї–∞–і–Є–Ї–∞ –Э–∞—Г–Љ–Њ–≤–∞, –Ј–∞—Б—В–∞–≤–Є–≤ –µ–µ –њ—А–Њ–њ–ї–∞–Ї–∞—В—М –≤—Б—О –љ–Њ—З—М. –Ю—В–њ—Г—Б—В–Є–ї–Є –Љ–µ–љ—П –і–Њ–Љ–Њ–є –љ–∞ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–є –і–µ–љ—М. –Ч–∞—И–µ–ї –≤ –Љ–∞–≥–∞–Ј–Є–љ –Ї—Г–њ–Є—В—М —И–Њ–Ї–Њ–ї–∞–і–Ї–Є –і–ї—П —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞, –≤–µ–і—М –љ–∞—И —И–Њ–Ї–Њ–ї–∞–і –љ–∞ –ї–Њ–і–Ї–µ —Б—В–∞–ї –љ–µ —Б—К–µ–і–Њ–±–µ–љ. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ –≤—Б—В—А–µ—З–Є —П –њ–Њ–љ—П–ї, —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –њ–µ—А–µ–ґ–Є—В—М –љ–∞—И–Є–Љ –ґ–µ–љ–∞–Љ, —Б–њ–∞—Б–Є–±–Њ –Є–Љ –≤—Б–µ–Љ. –Ч–∞—И–µ–ї –≤ –Ї–∞–Ј–∞—А–Љ—Г –Є —Б —Г–і–Є–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ —Г–Ј–љ–∞–ї, —З—В–Њ –≤—Б–µ –љ–∞—И–µ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ, –≤–њ–ї–Њ—В—М –і–Њ —И—Г–±, –ї—Л–ґ –Є –Ї–Њ–љ—М–Ї–Њ–≤ –±—Л–ї–Њ –њ–Њ–≥—А—Г–ґ–µ–љ–Њ –≤ –Ї–Њ–љ—В–µ–є–љ–µ—А—Л –Є –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Њ –љ–∞ –Ъ—Г–±—Г. –Р —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ –≤–µ—Б—М —А–∞–Ј–і–µ—В, –љ–µ—В –љ–Є —А–∞–±–Њ—З–µ–є, –љ–Є –≤—Л—Е–Њ–і–љ–Њ–є –Њ–і–µ–ґ–і—Л. –Э–∞ –≤—Б–µ—Е —Б–Ї–ї–∞–і–∞—Е –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞ —Б—В–∞–ї–Є —Б–Њ–±–Є—А–∞—В—М –Њ–±–Љ—Г–љ–і–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ, –±—Л–≤—И–µ–µ –≤ —Г–њ–Њ—В—А–µ–±–ї–µ–љ–Є–Є. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –Њ–і–µ–ї–Є —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ, –Њ–љ —Б—В–∞–ї –њ–Њ—Е–Њ–і–Є—В—М –љ–∞ —И—В—А–∞—Д–љ—Г—О —А–Њ—В—Г. –Р –њ–Њ—В–Њ–Љ —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ, –њ–Њ-–≤–Є–і–Є–Љ–Њ–Љ—Г, –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞, —Б—В–∞–ї —Б–Њ–±–Є—А–∞—В—М—Б—П –≤ —Б–∞–љ–∞—В–Њ—А–Є–є –≤ –Х–≤–њ–∞—В–Њ—А–Є—О. –Т–Љ–µ—Б—В–Њ —Д–Њ—А–Љ—Л –≤—Б–µ–Љ –≤—Л–і–∞–ї–Є —Б–њ–Њ—А—В–Є–≤–љ—Л–µ —И–µ—А—Б—В—П–љ—Л–µ –Ї–Њ—Б—В—О–Љ—Л –Є –Ї—Г—А—В–Њ—З–Ї–Є, –≤ –љ–Є—Е –Є –Њ—В–±—Л–ї–Є. –ѓ –Њ—Б—В–∞–ї—Б—П —Б —З–∞—Б—В—М—О —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–∞, –њ–Њ–ї—Г—З–Є–≤—И–µ–≥–Њ –Њ—В–њ—Г—Б–Ї–∞ —Б –≤—Л–µ–Ј–і–Њ–Љ –љ–∞ —А–Њ–і–Є–љ—Г, –љ–µ—Б—В–Є –і–µ–ґ—Г—А—Б—В–≤–Њ –њ–Њ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—О –Є —А–∞–Ј–±–Є—А–∞—В—М—Б—П —Б —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–Њ–Љ. –Я—А–Њ–і—Г–Ї—В–Њ–≤ –Њ—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М –Њ—З–µ–љ—М –Љ–љ–Њ–≥–Њ, –љ–Њ –Њ–љ–Є –≤—Б–µ, –≤–њ–ї–Њ—В—М –і–Њ –Ї–Њ–љ—Б–µ—А–≤–Њ–≤ –Є —И–Њ–Ї–Њ–ї–∞–і–∞, –±—Л–ї–Є –љ–µ –њ—А–Є–≥–Њ–і–љ—Л –і–ї—П –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –≤ –њ–Є—Й—Г. –Т—Б–µ –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М —Б–њ–Є—Б—Л–≤–∞—В—М, —Б —В—А—Г–і–Њ–Љ –њ–Њ–ї—Г—З–∞—П –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—П –ї–∞–±–Њ—А–∞—В–Њ—А–Є–є —Д–ї–Њ—В–∞. –Т —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ —П–љ–≤–∞—А—П –љ–∞ –њ–Є—А—Б–µ –њ–Њ—П–≤–Є–ї–Є—Б—М –і–Њ–ї–≥–Њ–ґ–і–∞–љ–љ—Л–µ –Ї–Њ–љ—В–µ–є–љ–µ—А—Л —Б –љ–∞—И–Є–Љ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–Љ. –Т –Љ–Њ—А–Њ–Ј–љ—Л–µ –і–љ–Є –Љ—Л –Є—Е –≤—Б–Ї—А—Л–ї–Є, –Є –њ–µ—А–µ–і –≤–Ј–Њ—А–Њ–Љ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–ї–Є –Ї–∞–Ї–∞—П-—В–Њ —Б–њ—А–µ—Б—Б–Њ–≤–∞–љ–љ–∞—П –Љ–∞—Б—Б–∞. –Ъ–Њ–љ—В–µ–є–љ–µ—А—Л –њ—А–Њ—Б—В–Њ—П–ї–Є –љ–∞ –њ—А–Є—З–∞–ї–µ –љ–∞ –Ъ—Г–±–µ –≤ —В—А–Њ–њ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е –Љ–љ–Њ–≥–Њ –і–љ–µ–є. –Т –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–Є –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤ —В—Л–ї–∞ –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞ –Љ—Л —В–Њ–њ–Њ—А–∞–Љ–Є –≤—Л—А—Г–±–∞–ї–Є –Ї—Г—Б–Ї–Є –Є–Ј —Н—В–Њ–є –Љ–∞—Б—Б—Л –Є –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї—П–ї–Є –љ–∞ —Б–≤–∞–ї–Ї—Г. –Ъ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В—Г –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є—П —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–∞, —П –њ–Њ–µ—Е–∞–ї –≤ –Њ—В–њ—Г—Б–Ї.  –Ф–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Л –Є –Є—Е —Б–µ–Љ—М–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ—А–Њ—И–ї–Є —Н—В–Є –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є—П, –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞—О—В –і—А—Г–ґ–µ—Б–Ї–Є–µ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П. –Ґ—А—Г–і–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ—А–Њ–і–љ–Є–ї–Є –љ–∞—Б. –° –Њ—Б–Њ–±–Њ–є —В–µ–њ–ї–Њ—В–Њ–є –Љ—Л –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ–Љ –њ–Њ–і–≤–Є–≥, –Є–љ–∞—З–µ —В—А—Г–і–љ–Њ –љ–∞–Ј–≤–∞—В—М, –љ–∞—И–µ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–∞ 2 —А–∞–љ–≥–∞ –Ф—Г–±–Є–≤–Ї–Њ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ—П –§–µ–і–Њ—Б–µ–µ–≤–Є—З–∞, –њ—А–Њ—П–≤–Є–≤—И–µ–≥–Њ –Љ—Г–ґ–µ—Б—В–≤–Њ –Є –≤—Л–і–µ—А–ґ–Ї—Г –≤ —Н–Ї—Б—В—А–µ–Љ–∞–ї—М–љ–Њ–є —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є–Є, –Є –љ–∞—И–Є—Е —Б—В–∞—А—И–Є–љ –Є –Љ–∞—В—А–Њ—Б–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є —Б–µ–±—П –Є—Б—В–Є–љ–љ—Л–Љ–Є –њ–∞—В—А–Є–Њ—В–∞–Љ–Є —Б–≤–Њ–µ–є –†–Њ–і–Є–љ—Л. –Ц–∞–ї—М, —З—В–Њ –Њ–њ—Л—В –њ–Њ—Е–Њ–і–∞ –±—Л–ї –љ–∞—Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ј–∞—Б–µ–Ї—А–µ—З–µ–љ, —З—В–Њ –љ–µ —Б—В–∞–ї –і–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ–Љ –і–∞–ґ–µ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ 4-–є —Н—Б–Ї–∞–і—А—Л, –љ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А—П —Г–ґ–µ –Њ–±–Њ –≤—Б—С–Љ –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ –§–ї–Њ—В–µ. –Я–Њ—З—В–Є –љ–∞ 2 –≥–Њ–і–∞ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Л, –Њ—Б—В–∞–≤—И–Є–µ—Б—П —Б–ї—Г–ґ–Є—В—М –љ–∞ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Ї–∞—Е 4-–є —Н—Б–Ї–∞–і—А—Л, –±—Л–ї–Є –Ј–∞–і–µ—А–ґ–∞–љ—Л –≤ –Ј–≤–∞–љ–Є—П—Е –Є –≤ –њ—А–Њ–і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–Є –њ–Њ —Б–ї—Г–ґ–±–µ. –Э–Њ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Л –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є –С-36 –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–Є —З–µ—Б—В–љ–Њ —Б–ї—Г–ґ–Є—В—М –Є –њ–µ—А–µ–і–∞–≤–∞—В—М —Б–≤–Њ–є –Њ–њ—Л—В –њ–Њ–і—З–Є–љ—С–љ–љ—Л–Љ –Є –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞–≤—И–Є–Љ –Є—Е –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–∞–Љ, –њ—А–Њ—Е–Њ–і—П —Б–ї—Г–ґ–±—Г –≤ —З–∞—Б—В—П—Е –Т–Ь–§. –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ 2 —А–∞–љ–≥–∞ –Ф—Г–±–Є–≤–Ї–Њ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–є –§–µ–і–Њ—Б–µ–µ–≤–Є—З –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–ї —А–∞–Ї–µ—В–љ—Л–Љ–Є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–Љ–Є –ї–Њ–і–Ї–∞–Љ–Є, –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–ї –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Ї—Г—А—Б—Л, —Б–ї—Г–ґ–Є–ї –≤ –Њ–њ–µ—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–Љ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –У–® –Т–Ь–§, –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞–≤–ї—П–ї —Б–Љ–µ–љ—Г –±–Њ–µ–≤–Њ–≥–Њ —А–∞—Б—З—С—В–∞ –Т–Њ–Ј–і—Г—И–љ–Њ–≥–Њ –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–љ–Њ–≥–Њ –Я—Г–љ–Ї—В–∞ –У–Ъ –Т–Ь–§. –°—В–∞—А—И–Є–є –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ 1 —А–∞–љ–≥–∞ –Ъ–Њ–њ–µ–є–Ї–Є–љ –Р—А–Ї–∞–і–Є–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–ї –∞—В–Њ–Љ–љ–Њ–є –Я–Ы —Б –Ї—А—Л–ї–∞—В—Л–Љ–Є —А–∞–Ї–µ—В–∞–Љ–Є. –Ч–∞–Љ. –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –њ–Њ –њ–Њ–ї–Є—В—З–∞—Б—В–Є –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ 1 —А–∞–љ–≥–∞ –°–∞–њ–∞—А–Њ–≤ –Т–Є–Ї—В–Њ—А –У—А–Є–≥–Њ—А—М–µ–≤–Є—З —А–∞–±–Њ—В–∞–ї –≤ –њ–Њ–ї–Є—В–Њ—В–і–µ–ї–µ —Г—З–µ–±–љ–Њ–≥–Њ —Ж–µ–љ—В—А–∞ –≤ –Ю–±–љ–Є–љ—Б–Ї–µ. –Я–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ 1 —А–∞–љ–≥–∞ –Р–љ–і—А–µ–µ–≤ –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–ї –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–Љ–Є –ї–Њ–і–Ї–∞–Љ–Є –љ–∞ 4 —Н—Б–Ї–∞–і—А–µ –Я–Ы, —Б–ї—Г–ґ–Є–ї –≤ —И—В–∞–±–µ –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞ –љ–∞ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–љ–Њ–Љ –њ—Г–љ–Ї—В–µ, –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞–≤–ї—П–ї –Њ—В–і–µ–ї –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–Є –Љ–∞—В—А–Њ—Б–Њ–≤ –Є —Б—В–∞—А—И–Є–љ –≤ –Ы–µ–љ–Т–Ь–С. –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –С–І-1 –Ї–Њ–љ—В—А-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї –Э–∞—Г–Љ–Њ–≤ –Т–ї–∞–і–ї–µ–љ –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–ї —Б–∞–Љ—Л–Љ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–Љ —А–∞–Ї–µ—В–Њ–љ–Њ—Б—Ж–µ–Љ, —Б–ї—Г–ґ–Є–ї –≤ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –Ј–∞–Љ. –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ –Т–Т–Ь–£–Я–Я –Є–Љ–µ–љ–Є –Ы–µ–љ–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ъ–Њ–Љ—Б–Њ–Љ–Њ–ї–∞, –њ–Њ—Б–ї–µ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є—П –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Є - –≤ –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –њ—А–Є—С–Љ–Ї–µ –Т–Ь–§ –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞–≤–ї—П–ї –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–Є, –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—П –љ–Њ–≤—Л–µ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є –Њ—В –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є. –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А —А—Г–ї–µ–≤–Њ–є –≥—А—Г–њ–њ—Л –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ 2 —А–∞–љ–≥–∞ –Ь–∞—Б–ї–Њ–≤ –Т—П—З–µ—Б–ї–∞–≤ –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–Є—З –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–ї –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–Љ–Є –ї–Њ–і–Ї–∞–Љ–Є. –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –С–І-3 –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ 1 —А–∞–љ–≥–∞ –Ь—Г—Е—В–∞—А–Њ–≤ –Р—Б–ї–∞–љ –Р–Ј–Є–Ј–Њ–≤–Є—З –±—Л–ї —Д–ї–∞–≥–Љ–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–Њ–Љ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї.  –Т—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Є–Ї–Є –Љ–Є–љ–љ–Њ-—В–Њ—А–њ–µ–і–љ–Њ–≥–Њ —Д–∞–Ї—Г–ї—М—В–µ—В–∞ –†–Т–Т–Ь–£–Я–Я –Є –Э–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї —А–∞–і–Є–Њ—В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±—Л –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ 1 —А–∞–љ–≥–∞ –Ц—Г–Ї–Њ–≤ –Ѓ—А–Є–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–ї —Б–ї—Г–ґ–±—Г –≤ 5 —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –У–® –Т–Ь–§. –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –С–І-5 –Я–Њ—В–∞–њ–Њ–≤ –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –У—А–Є–≥–Њ—А—М–µ–≤–Є—З –Њ–±—Г—З–∞–ї –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤ –≤ —Г—З–µ–±–љ–Њ–Љ —Ж–µ–љ—В—А–µ –Т–Ь–§. –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –Љ–Њ—В–Њ—А–љ–Њ–є –≥—А—Г–њ–њ—Л –С–І-5 –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ 1 —А–∞–љ–≥–∞ –Ъ–Њ–±—П–Ї–Њ–≤ –У–µ—А–Љ–∞–љ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З –і–ї–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П —Б–ї—Г–ґ–Є–ї –љ–∞ —А–Њ–і–љ–Њ–є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–µ, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є–ї –Ї–∞—Д–µ–і—А–Њ–є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–Є –Т—Л—Б—И–µ–≥–Њ –Љ–Њ—А–µ—Е–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞. –Э–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї –Љ–µ–і.—Б–ї—Г–ґ–±—Л –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї –Љ/—Б –С—Г–є–љ–µ–≤–Є—З –Т–Є–Ї—В–Њ—А –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞–≤–ї—П–ї —Д–Є–ї–Є–∞–ї —Б–∞–љ–∞—В–Њ—А–Є—П –°–§ ¬Ђ–Р–≤—А–Њ—А–∞¬ї –≤ –≥. –•–Њ—Б—В–∞. –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –≥—А—Г–њ–њ—Л –Ю–°–Э–Р–Ч –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ 1 —А–∞–љ–≥–∞ –Р–љ–Є–Ї–Є–љ –†–∞–і–Њ–Љ–Є—А –°–µ—А–∞—Д–Є–Љ–Њ–≤–Є—З —Б–ї—Г–ґ–Є–ї –≤ —Г—З–µ–±–љ–Њ–Љ —Ж–µ–љ—В—А–µ –Т–Ь–§ –≤ –≥. –Ю–±–љ–Є–љ—Б–Ї. –°–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В –њ–Њ –∞—В–Њ–Љ–љ–Њ–Љ—Г –Њ—А—Г–ґ–Є—О –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ 1 —А–∞–љ–≥–∞ –Я–Њ–Љ–Є–≥—Г–µ–≤ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–Є—З –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї —Б–ї—Г–ґ–Є—В—М –≤ —Б–њ–µ—Ж.—З–∞—Б—В—П—Е –Т–Ь–§. –Ц–Є–Ј–љ–µ–љ–љ—Л–є –Њ–њ—Л—В, –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–љ—Л–є –≤ –њ–Њ—Е–Њ–і–µ –Њ—В—А–∞–Ј–Є–ї—Б—П –Є –≤ –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є –Љ–∞—В—А–Њ—Б–Њ–≤ –Є —Б—В–∞—А—И–Є–љ, —Б–і–µ–ї–∞–≤ –Є—Е –ї—О–і—М–Љ–Є, –њ—А–µ–і–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–∞–Љ —Б–≤–Њ–µ–є –†–Њ–і–Є–љ—Л.  –Т–µ—В–µ—А–∞–љ—Л –С-36 —Б –ґ–µ–љ–∞–Љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –љ–∞—Б –ґ–і–∞–ї–Є –Є–Ј –њ–Њ—Е–Њ–і–∞. –Т–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П –±—Л–≤—И–µ–≥–Њ —И—В—Г—А–Љ–∞–љ–∞ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є ¬Ђ–С-36¬ї –Ї–Њ–љ—В—А-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–∞ –≤ –Њ—В—Б—В–∞–≤–Ї–µ –Э–∞—Г–Љ–Њ–≤–∞ –Т–ї–∞–і–ї–µ–љ–∞ –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З–∞ –Њ–± —Г—З–∞—Б—В–Є–Є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П –≤ –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–Є ¬Ђ–Ъ–∞–Љ–∞¬ї. –Т –Љ–∞—А—В–µ 1962 –≥–Њ–і–∞ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї 641 –њ—А–Њ–µ–Ї—В–∞ –Є–Ј 211 –±—А–Є–≥–∞–і—Л 4-–є —Н—Б–Ї–∞–і—А—Л –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞ –≤ –≥–Њ—А–Њ–і–µ –Я–Њ–ї—П—А–љ–Њ–Љ –љ–∞—З–∞–ї–Є –Ј–∞–±–ї–∞–≥–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В—М—Б—П –Ї –љ–µ–њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ–Љ—Г –і–ї—П –≤—Б–µ—Е –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ –њ–Њ—Е–Њ–і—Г –љ–µ–≤–µ–і–Њ–Љ–Њ –Ї—Г–і–∞. –С-36, –њ–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ, –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б –Ј–∞–і–µ—А–ґ–Ї–Њ–є —А–µ—И–µ–љ–Є—П –њ–Њ –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є—О –њ—А–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ –µ–≥–Њ –љ–µ—Б—В–∞–љ–і–∞—А—В–љ–Њ–≥–Њ –≤—Б–Ї—А—Л—В–Є—П, –љ–Є–Ї—Г–і–∞ –љ–µ –≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї–∞—Б—М. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ, –њ–Њ—Б–ї–µ —В—А–∞–≥–µ–і–Є–Є 11 —П–љ–≤–∞—А—П 1962 –≥–Њ–і–∞ –≤ –Х–Ї–∞—В–µ—А–Є–љ–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –≥–∞–≤–∞–љ–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ—В –≤–Ј—А—Л–≤–∞ —В–Њ—А–њ–µ–і –≤ –њ–µ—А–≤–Њ–Љ –Њ—В—Б–µ–Ї–µ –њ–Њ—В–µ—А–њ–µ–ї–∞ –Ї–∞—В–∞—Б—В—А–Њ—Д—Г –С-37 –Є –њ–Њ—Б–ї–µ —Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–≤–µ—А—И–µ–љ–Є—П –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є–є –њ—А–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–∞ –љ–∞ –С-36, –Њ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–∞ –≤ –њ–Њ—Е–Њ–і –≤–Љ–µ—Б—В–Њ –С-37. –Ъ —Н—В–Њ–Љ—Г –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М –њ—А–Њ—И–µ–ї –і–Њ–Ї–Њ–≤—Л–є —А–µ–Љ–Њ–љ—В –Є –≤ —П–љ–≤–∞—А–µ-–∞–њ—А–µ–ї–µ –Њ—В—А–∞–±–Њ—В–∞–ї –њ–Њ–ї–љ—Л–є –Ї—Г—А—Б –Ј–∞–і–∞—З. –Ъ –љ–∞—З–∞–ї—Г —Б–µ–љ—В—П–±—А—П –≤—Б–µ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Л, –Ї—А–Њ–Љ–µ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –С–І-5 –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ-–ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В–∞ –Ъ–Њ—А–∞–±–ї–µ–≤–∞, –Њ—В–≥—Г–ї—П–ї–Є –Њ—З–µ—А–µ–і–љ–Њ–є –Њ—В–њ—Г—Б–Ї. –Т –Є—О–љ–µ –С-36 –≤–Ї–ї—О—З–Є–ї–Є –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤ 69-–є –±—А–Є–≥–∞–і—Л, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О —В–∞–Ї–ґ–µ –≤—Е–Њ–і–Є–ї–Є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–µ –ї–Њ–і–Ї–Є –С-4, –С-59 –Є –С-130 –Є–Ј —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞ 211-–є –±—А–Є–≥–∞–і—Л –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї. –Э–∞—З–∞–ї–∞—Б—М —Н–Ї—Б—В—А–µ–љ–љ–∞—П –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–∞ –Ї –њ–Њ—Е–Њ–і—Г –љ–∞ –Ј–∞–њ–∞–і. –Э–Њ –Ї—Г–і–∞ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ, –≤ –Ї–∞–Ї–Є–µ —Б—В—А–∞–љ—Л –Є –Љ–Њ—А—П, –≥–і–µ –њ–ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Њ—Б—М –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–µ –±–∞–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї - –≤—Б—С —Н—В–Њ –і–µ—А–ґ–∞–ї–Њ—Б—М –≤ —Б—В—А–Њ–ґ–∞–є—И–µ–є —В–∞–є–љ–µ. –•–Њ–і–Є–ї–Є —Б–Љ—Г—В–љ—Л–µ —Б–ї—Г—Е–Є –Њ –У–∞–љ–µ –Є –У–≤–Є–љ–µ–µ, –љ–Њ —В–Њ–ї–Ї–Њ–Љ –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–є —П—Б–љ–Њ—Б—В–Є –љ–µ –±—Л–ї–Њ. –Ґ–µ–Љ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–µ–Љ, –љ–∞ –Њ—Б—В–∞–≤–∞–≤—И–Є–µ—Б—П –≤ –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–Љ –°–Њ—О–Ј–µ —Б–µ–Љ—М–Є –±—Л–ї–Є –≤—Л–њ–Є—Б–∞–љ—Л –і–µ–љ–µ–ґ–љ—Л–µ –∞—В—В–µ—Б—В–∞—В—Л, –∞ –≤—Б–µ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–µ –ї–Њ–і–Ї–Є –±—А–Є–≥–∞–і—Л –њ–µ—А–µ–±–∞–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –≤ –≥—Г–±—Г –°–∞–є–і–∞. –С-36 —Б—В–∞–ї–∞ –і–Њ–≥–Њ–љ—П—В—М –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–µ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є –±—А–Є–≥–∞–і—Л –≤ –њ–Њ–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–Є –Ч–Ш–Я–∞ –Є —А–∞—Б—Е–Њ–і–љ—Л—Е –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Њ–≤. –•—Г–ґ–µ –љ–µ—В –Ј–∞–љ—П—В–Є—П, —З–µ–Љ –ґ–і–∞—В—М –Є –і–Њ–≥–Њ–љ—П—В—М. –Э–µ –Љ–Њ–≥—Г —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞—В—М, —З—В–Њ –±—Л–ї–Є —В—А—Г–і–љ–Њ—Б—В–Є —Б –њ–Њ–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ–Љ –Ч–Ш–Я–∞ –≤ –і—А—Г–≥–Є—Е –±–Њ–µ–≤—Л—Е —З–∞—Б—В—П—Е, –љ–Њ –љ–∞ –Љ–Њ—О –Ј–∞—П–≤–Ї—Г –Љ–љ–µ –≤ –≥–Є–і—А–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї–Є, —З—В–Њ –≤—Б—С —Г–ґ–µ –і–∞–≤–љ–Њ –≤—Л–і–∞–љ–Њ –љ–∞ –і—А—Г–≥–Є–µ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є –Є –љ–Є—З–µ–≥–Њ –Є–Ј –Љ–љ–Њ—О –Ј–∞—В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞ —Б–Ї–ї–∞–і–∞—Е –љ–µ—В. –†–∞–љ–µ–µ –љ–∞ –ї–Њ–і–Ї–Є 69-–є –±—А–Є–≥–∞–і—Л —Б—А–µ–і–Є –±—Л—В–Њ–≤–Њ–≥–Њ —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±–Њ—А—Г–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞–ї–Є—Б—М –Ї –≤—Л–і–∞—З–µ –і–∞–ґ–µ –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ —Е–Њ–ї–Њ–і–Є–ї—М–љ–Є–Ї–Є, –Њ—В –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞—В—М—Б—П, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ —Е–Њ–ї–Њ–і–Є–ї—М–љ–Є–Ї–Є –Љ–∞—А–Ї–Є –Ч–Ш–Ы –љ–µ –њ—А–Њ–ї–µ–Ј–∞–ї–Є –≤ –њ—А–Њ—З–љ—Л–є –Ї–Њ—А–њ—Г—Б –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є –і–∞–ґ–µ —З–µ—А–µ–Ј —Б—К—С–Љ–љ—Л–µ –ї–Є—Б—В—Л –і–ї—П –њ–Њ–≥—А—Г–Ј–Ї–Є –∞–Ї–Ї—Г–Љ—Г–ї—П—В–Њ—А–Њ–≤. –Р –љ–∞ ¬Ђ–і–Њ–≥–Њ–љ—П—О—Й—Г—О¬ї –С-36 –љ–µ —Е–≤–∞—В–Є–ї–Њ –і–∞–ґ–µ –љ–∞—Б—В–Њ–ї—М–љ—Л—Е —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ–≤–µ–љ—В–Є–ї—П—В–Њ—А–Њ–≤, —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ—Л—Е ¬Ђ ¬ї.  –Т —В–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞ –љ–∞ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Ї–∞—Е 641 –њ—А–Њ–µ–Ї—В–∞ –Ї–Њ–љ–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–µ—А–Њ–≤ –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –љ–µ –±—Л–ї–Њ. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Љ–љ–µ –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –≤ –њ–Њ—Е–Њ–і–µ, —Б–њ–∞—Б–∞—П—Б—М –Њ—В –ґ–∞—А—Л –Є –і—Г—Е–Њ—В—Л, –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –Ј–∞–њ–∞—Б–љ—Л—Е —Б–µ–ї—М—Б–Є–љ–Њ–≤ –Ї –≥–Є—А–Њ–Ї–Њ–Љ–њ–∞—Б—Г, –њ—А–Є–Ї—А–µ–њ–Є—В—М –Ї –љ–µ–Љ—Г –≤—Л—А–µ–Ј–∞–љ–љ—Л–є –Є–Ј –Ї–Њ–љ—Б–µ—А–≤–љ–Њ–є –±–∞–љ–Ї–Є –њ—А–Њ–њ–µ–ї–ї–µ—А –Є –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є—В—М –Њ–±–і—Г–≤ –≤ —И—В—Г—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–Њ–є —А—Г–±–Ї–µ. –•—Г–ґ–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –і–ї—П –љ–∞–≤–Є–≥–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є—П —П–≤–Є–ї–Њ—Б—М —В–Њ, —З—В–Њ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М –љ–µ –Є–Љ–µ–ї –љ–∞ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–Є –Є–Љ–њ—Г–ї—М—Б–љ–Њ-—Д–∞–Ј–Њ–≤—Л—Е –њ—А–Є–±–Њ—А–Њ–≤ –Ъ–Я–Ш –Є –Ъ–Я–§, —Г–ґ–µ –њ–Њ—П–≤–Є–≤—И–Є—Е—Б—П –≤ –Т–Ь–§, –і–ї—П –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –Љ–µ—Б—В–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є –њ–Њ —Б–Є—Б—В–µ–Љ–µ –Ь–Р–†–®–†–£–Ґ. –Ю–љ–Є –і–∞–≤–∞–ї–Є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –≤ —Н—В–Є—Е –ґ–µ —Ж–µ–ї—П—Е –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ–Є —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞–Љ–Є –Ы–Ю–†–Р–Э, –љ–∞–і–µ–ґ–љ–Њ —А–∞–±–Њ—В–∞–≤—И–Є–Љ–Є –≤ –Р—В–ї–∞–љ—В–Є–Ї–µ –Є –≤ –Љ–µ—Б—В–∞—Е –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –±–∞–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П 69-–є –±—А–Є–≥–∞–і—Л –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї. –Х–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л–Љ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–Њ–Љ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –Љ–µ—Б—В–∞ –≤ –Њ–Ї–µ–∞–љ–µ, –Ї–∞–Ї –Є —Г –Ъ–Њ–ї—Г–Љ–±–∞, –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є—Б—М –∞—Б—В—А–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Њ–±—Б–µ—А–≤–∞—Ж–Є–Є –њ–Њ –Ј–≤–µ–Ј–і–∞–Љ –Є —Б–Њ–ї–љ—Ж—Г. –Э–∞–ї–Є—З–Є–µ –љ–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е —В—А–µ—Е –љ–∞–±–ї—О–і–∞—В–µ–ї–µ–є (2 —И—В—Г—А–Љ–∞–љ–∞ –Є –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞), –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–≤—И–Є—Е –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–µ –Ј–∞–Љ–µ—А—Л, –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–ї–Є –Є–Љ–µ—В—М –Њ—Б—А–µ–і–љ–µ–љ–љ–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ —Б –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–є —В–Њ—З–љ–Њ—Б—В—М—О. –Ф–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї–µ–Љ —Б–ї—Г–ґ–Є–ї–Њ —Е–Њ—В—М –Є –Љ–µ–љ–µ–µ —В–Њ—З–љ–Њ–µ, –љ–Њ –≤—Б—С —А–∞–≤–љ–Њ –њ–Њ–ї–µ–Ј–љ–Њ–µ –Њ—Б—А–µ–і–љ–µ–љ–љ–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ, –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–љ–Њ–µ –≤—Б–µ–Љ–Є –≤–∞—Е—В–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–∞–Љ–Є –Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П –њ—Г—В—С–Љ –Њ–±—Б–µ—А–≤–∞—Ж–Є–Є –њ–Њ —Б–Њ–ї–љ—Ж—Г. –Ъ —Б–Њ–ґ–∞–ї–µ–љ–Є—О, –≤—Б–µ –∞—Б—В—А–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Њ–±—Б–µ—А–≤–∞—Ж–Є–Є –±—Л–ї–Є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –љ–∞–і–≤–Њ–і–љ–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–ї–∞ —В–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞. –° —Г–≤–µ–ї–Є—З–µ–љ–Є–µ–Љ –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–ї–Њ–і–Њ—З–љ—Л—Е —Б–Є–ї –Т–Ь–° –°–®–Р –∞—Б—В—А–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Њ–±—Б–µ—А–≤–∞—Ж–Є–Є –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –Ї—А–∞–є–љ–µ —А–µ–і–Ї–Њ –Є —Б –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ —А–Є—Б–Ї–Њ–Љ –±—Л—В—М –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –Є–Ј-–Ј–∞ –њ–Њ–љ–Є–ґ–µ–љ–Є—П —Б–Ї—А—Л—В–љ–Њ—Б—В–Є. –Ґ–µ–Љ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ, –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –њ–Њ—Е–Њ–і–∞ —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є—В—М –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Г—О —В–Њ—З–љ–Њ—Б—В—М –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є—П. 69-–є –±—А–Є–≥–∞–і–Њ–є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–ї –Ї–Њ–љ—В—А-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї –Х–≤—Б–µ–µ–≤. –Т—Л—Б—В—Г–њ–∞—П –њ–µ—А–µ–і –±—А–Є–≥–∞–і–Њ–є, –Њ–љ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї, —З—В–Њ –≤—Б–µ–Љ—Г –ї–Є—З–љ–Њ–Љ—Г —Б–Њ—Б—В–∞–≤—Г –±—А–Є–≥–∞–і—Л –њ—А–µ–і—Б—В–Њ–Є—В –≥–Њ—А–і–Є—В—М—Б—П —Б–ї—Г–ґ–±–Њ–є –≤ 69-–є –±—А–Є–≥–∞–і–µ –њ–Њ–і –µ–≥–Њ –Ј–љ–∞–Љ—С–љ–∞–Љ–Є, –љ–Њ –њ–µ—А–µ–і —Б–∞–Љ—Л–Љ –≤—Л—Е–Њ–і–Њ–Љ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –Ј–і–Њ—А–Њ–≤ –Є –≤–Љ–µ—Б—В–Њ –љ–µ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–±—А–Є–≥–Њ–Љ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–Є–ї–Є –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–∞ 1 —А–∞–љ–≥–∞ –Т.–Э.–Р–≥–∞—Д–Њ–љ–Њ–≤–∞. –Ш–Ј –°–∞–є–і–∞-–≥—Г–±—Л –≤—Б–µ –ї–Њ–і–Ї–Є –±—А–Є–≥–∞–і—Л –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–Є–ї–Є –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–і–љ–Њ–і–љ–µ–≤–љ—Л—Е –≤—Л—Е–Њ–і–Њ–≤ –і–ї—П –њ—А–Њ–≤–µ—А–Ї–Є –≥–Њ—В–Њ–≤–љ–Њ—Б—В–Є –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є –Ї –њ–Њ—Е–Њ–і—Г –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–∞–Љ–Є —И—В–∞–±–∞. –Ш–Ј—А–µ–і–Ї–∞ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤ –Њ—В–њ—Г—Б–Ї–∞–ї–Є –Ї —Б–µ–Љ—М—П–Љ –≤ –Я–Њ–ї—П—А–љ—Л–є, –∞ –≤ –Є–љ–Њ–µ —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П, –µ—Б–ї–Є –Њ–љ–Њ –њ–Њ—П–≤–ї—П–ї–Њ—Б—М, –Љ—Л —Е–Њ–і–Є–ї–Є –њ–Њ —Б–Њ–њ–Ї–∞–Љ –Є –µ–ї–Є —З–µ—А–љ–Є–Ї—Г.  –®—В—Г—А–Љ–∞–љ –Я–Ы –С-36 –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ-–ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В –Т–ї–∞–і–ї–µ–љ –Э–∞—Г–Љ–Њ–≤. –°–∞–є–і–∞-–≥—Г–±–∞. 1962 –≥. (–µ–Љ —З–µ—А–љ–Є–Ї—Г —Б –Ї—Г—Б—В–∞) –Э–∞ –С-36 –Њ—З–µ–љ—М –ґ–і–∞–ї–Є –Є–Ј –Њ—В–њ—Г—Б–Ї–∞ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –С–І-5 –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–∞ –Ъ–Њ—А–∞–±–ї—С–≤–∞. –Ю—В–µ—Ж –љ–∞—И–µ–≥–Њ –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ї–∞ –≤ –Њ—В–≤–µ—В –љ–∞ —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ—Г –Ї–Њ–Љ–±—А–Є–≥–∞ —Б –≤—Л–Ј–Њ–≤–Њ–Љ –љ–∞ —Б–ї—Г–ґ–±—Г –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї, —З—В–Њ –Т–Њ–ї–Њ–і—П –Њ—В–і—Л—Е–∞–µ—В –≤ —Б–∞–љ–∞—В–Њ—А–Є–Є –Є —Б –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ–Љ –і–Њ–Љ–Њ–є –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –±—Г–і–µ—В –Є–Ј–≤–µ—Й–µ–љ –Њ –≤—Л–Ј–Њ–≤–µ. –Ъ–Њ—А–∞–±–ї–µ–≤, –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –Њ—В—Ж–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Ј–∞–±–Њ—В–µ, –Ї –≤—Л—Е–Њ–і—Г —В–∞–Ї –Є –љ–µ –њ—А–Є–±—Л–ї, –Є –≤–Љ–µ—Б—В–Њ –љ–µ–≥–Њ –≤ –Љ–Њ—А–µ –њ–Њ—И–µ–ї –њ—А–Є–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ-–ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –Я–Њ—В–∞–њ–Њ–≤, –Њ—З–µ–љ—М –Њ–њ—Л—В–љ—Л–є –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А-–Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ї. –Ф–Њ –њ–Њ—Е–Њ–і–∞ –Њ–љ –±—Л–ї –Ј–∞ —И—В–∞—В–Њ–Љ –њ–Њ—Б–ї–µ –∞–≤–∞—А–Є–є–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—И–µ—Б—В–≤–Є—П –љ–∞ –С-139. –Э–µ–Ј–∞–і–Њ–ї–≥–Њ –і–Њ —Н—В–Є—Е —Б–Њ–±—Л—В–Є–є, –Я–Њ—В–∞–њ–Њ–≤ –≤ –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–љ–Њ–µ –і–µ–ґ—Г—А—Б—В–≤–Њ –њ–Њ –ґ–Є–≤—Г—З–µ—Б—В–Є –≤ 211 –±—А–Є–≥–∞–і–µ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є–ї —В—Г—И–µ–љ–Є–µ–Љ –њ–Њ–ґ–∞—А–∞, –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї—И–µ–≥–Њ –≤ –њ–µ—А–≤–Њ–Љ –Њ—В—Б–µ–Ї–µ –љ–∞ –µ–≥–Њ –Я–Ы –С-139. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –ї–Њ–і–Ї–∞ –Њ—В–Њ—И–ї–∞ –Њ—В –њ–Є—А—Б–∞ –љ–∞ —Б–µ—А–µ–і–Є–љ—Г –Х–Ї–∞—В–µ—А–Є–љ–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –≥–∞–≤–∞–љ–Є, —Б —В–Њ—А–њ–µ–і–љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞—В–µ—А–∞ –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–Њ–Љ, –і–ї—П –њ—А–µ–і–Њ—В–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є—П –≤–Ј—А—Л–≤–∞ —В–Њ—А–њ–µ–і, –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї–∞ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–∞ –Ј–∞—В–Њ–њ–Є—В—М –Њ—В—Б–µ–Ї, —З—В–Њ –Я–Њ—В–∞–њ–Њ–≤ –Є –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–Є–ї. –Т —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ, –Є–Ј–Њ–ї—П—Ж–Є—П —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ–Њ–±–Њ—А—Г–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Њ—В—Б–µ–Ї–∞ —Г–њ–∞–ї–∞ –і–Њ –љ—Г–ї—П, –Є —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї—Б—П –±–Њ–ї—М—И–Њ–є —А–µ–Љ–Њ–љ—В. –Ґ–∞–Ї –Ї–∞–Ї –≤—Л—П—Б–љ–Є—В—М, –Ї—В–Њ –Њ—В–і–∞–ї –њ—А–Є–Ї–∞–Ј –Њ –Ј–∞—В–Њ–њ–ї–µ–љ–Є–Є –Њ—В—Б–µ–Ї–∞ –љ–µ —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М, –Я–Њ—В–∞–њ–Њ–≤–∞ –Њ—В—Б—В—А–∞–љ–Є–ї–Є –Њ—В –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–Є, –∞ –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї—И–µ–є –Њ—Б—В—А–Њ–є –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М—О –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Є, –љ–Њ —Г–ґ–µ –љ–∞ –С-36. –Я–Њ—П–≤–Є–ї–Є—Б—М –љ–Њ–≤—Л–µ –ї—О–і–Є –Є –≤ –Љ–Њ–µ–є –±–Њ–µ–≤–Њ–є —З–∞—Б—В–Є. –Ч–∞ –љ–µ–і–µ–ї—О –і–Њ –≤—Л—Е–Њ–і–∞, –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б —В—А–∞–≥–Є–Ї–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –њ—А–Њ–Є—Б—И–µ—Б—В–≤–Є–µ–Љ, –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –Љ–µ–љ—П—В—М —Б—В–∞—А—И–Є–љ—Г –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Л —А—Г–ї–µ–≤—Л—Е-—Б–Є–≥–љ–∞–ї—М—Й–Є–Ї–Њ–≤. –Ъ–Њ–≥–і–∞ —Б—В–∞—А—И–Є–љ–∞ 1-–є —Б—В–∞—В—М–Є –Р–љ–Є—Й–µ–љ–Ї–Њ —Б –≥—А—Г–њ–њ–Њ–є –Љ–∞—В—А–Њ—Б–Њ–≤ –µ—Е–∞–ї –≤ –Њ—В–Ї—А—Л—В–Њ–є –Љ–∞—И–Є–љ–µ –њ–Њ –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –≤ —Б–Њ–њ–Ї–Є, –Њ–љ –≤–і—А—Г–≥ –њ–Њ–±–ї–µ–і–љ–µ–ї –Є –њ–Њ–≤–∞–ї–Є–ї—Б—П –љ–∞ –±–Њ–Ї, –∞ –Є–Ј —П–≥–Њ–і–Є—Ж—Л –њ–Њ—И–ї–∞ –Ї—А–Њ–≤—М. –Ю–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –≤–±–ї–Є–Ј–Є –і–Њ—А–Њ–≥–Є –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤ —Б —А–∞–Ї–µ—В–љ—Л—Е –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї 629 –њ—А–Њ–µ–Ї—В–∞ —Б–Њ–±—А–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞ –њ–Є–Ї–љ–Є–Ї, –≤ —Е–Њ–і–µ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В—П–Ј–∞–ї–Є—Б—М –≤ –Љ–µ—В–Ї–Њ—Б—В–Є —Б—В—А–µ–ї—М–±—Л –њ–Њ –Ї–Њ–љ—Б–µ—А–≤–љ–Њ–є –±–∞–љ–Ї–µ –Є–Ј –Љ–∞–ї–Њ–Ї–∞–ї–Є–±–µ—А–љ–Њ–є –≤–Є–љ—В–Њ–≤–Ї–Є. –Т —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –Р–љ–Є—Й–µ–љ–Ї–Њ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –≤ –≥–Њ—Б–њ–Є—В–∞–ї–µ, –∞ –љ–∞ –С-36 - –і—А—Г–≥–Њ–є –±–Њ—Ж–Љ–∞–љ. –Я—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В.
19.01.201312:2219.01.2013 12:22:28
–°—В—А–∞–љ–Є—Ж—Л:
–Я—А–µ–і.
|
1
|
...
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
...
|
13
|
–°–ї–µ–і.
|