–ë–Α–Ϋ–Ϋ–Β―Ä

–Γ–Η―¹―²–Β–Φ–Α –Κ–Ψ–Φ–Ω–Β–Ϋ―¹–Α―Ü–Η–Η –Κ―Ä–Β–Ϋ–Α –Η ―É―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Β–Ϋ–Η―è –Κ–Α―΅–Κ–Η "–≠–Κ–≤–Η–Μ–Η–±―Ä–Η―É–Φ-–ë–Α–Μ–Α–Ϋ―¹"
|
–£―¹–Κ–Ψ―Ä–Φ–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹ –Κ–Ψ–Ω―¨―è - –Γ–Ψ–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Α 11.09.2013
0
11.09.201311:3511.09.2013 11:35:11
 09 ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä―è ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ―¹―¨ ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Φ –Λ–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –£.–£.–ß–Η―Ä–Κ–Ψ–≤ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η–Μ –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –Ζ–Α–Ω–Α―¹–Α –ê.–ë.–Γ―É―Ä–Ψ–≤–Α, –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α.  –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Ι –ë–Ψ―Ä–Η―¹–Ψ–≤–Η―΅ ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è 13 ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä―è 1959 –≥–Ψ–¥–Α –≤ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Ϋ–Β, –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–Β –ù–£–€–Θ –≤ 1976 –≥–Ψ–¥―É, –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Β –≤―΄―¹―à–Β–Β –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Η–Φ. –ü.–Γ.–ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤–Α –≤ 1981 –≥–Ψ–¥―É, –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ―É―é –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η―é –Η–Φ. –€–Α―Ä―à–Α–Μ–Α –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –ê.–ê.–™―Ä–Β―΅–Κ–Ψ –≤ 1989 –≥–Ψ–¥―É, –ê–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η―é –™–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―à―²–Α–±–Α –£–Γ –†–Λ –≤ 2007 –≥–Ψ–¥―É.  –½–Α –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Ϋ–Α –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Β –Ω―Ä–Ψ―à–Β–Μ ―¹–Μ―É–Ε–Β–±–Ϋ―΄–Ι –Ω―É―²―¨ –Ψ―² –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ–Ψ-–Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η―¹―²―¹–Κ–Ψ–Ι –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –¥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι, –Α –≤ 2005 –≥–Ψ–¥―É –±―΄–Μ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ –Ϋ–Α –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α ―à―²–Α–±–Α βÄ™ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –ù–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –£–€–ë. –£ –Ζ–Α–Ω–Α―¹–Β ―¹ 2010 –≥–Ψ–¥–Α.  –‰–Φ–Β–Β―² –Ω–Ψ―΅–Β―²–Ϋ–Ψ–Β –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β ¬Ϊ–½–Α―¹–Μ―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―² –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –Λ–Β–¥–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η¬Μ, –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Ψ–Φ ¬Ϊ–½–Α –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α―¹–Μ―É–≥–Η¬Μ.  –Δ–Α–Κ–Ε–Β –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –£.–£.–ß–Η―Ä–Κ–Ψ–≤ –Ζ–Α―΅–Η―²–Α–Μ –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Η―¹―¨–Φ–Ψ –≤ –Α–¥―Ä–Β―¹ –Ω―Ä–Β–¥―΄–¥―É―â–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –Ζ–Α–Ω–Α―¹–Α –ù.–ù.–ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Β–≤–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ ―¹–Ψ–≤–Β―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –£–€–Λ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η.  –£ ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η–Η –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ–Η ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―à―²–Α–±–Α –£–€–Λ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η, –≤ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–Φ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Η –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―΄ –Ζ–Α–Ω–Α―¹–Α –ù.–ù.–€–Α–Μ–Ψ–≤ –Η –ê.–ù.–ë―É–Κ–Η–Ϋ, –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ―΄ –Η ―¹–Ψ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Η–Κ–Η ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α. 
11.09.201311:3511.09.2013 11:35:11
0
11.09.201311:3111.09.2013 11:31:22
–Γ–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è ―¹ ―É―²―Ä–Α, ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Η–Β –Γ–€–‰ –≤ –Ψ–¥–Η–Ϋ –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹ –Ζ–Α–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η –Ψ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Η–Ϋ–Η―Ü–Η–Α―²–Η–≤–Β –†–Ψ―¹―¹–Η–Η, ―è–Κ–Ψ–±―΄, –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Η–¥–Β―Ä–Α–Φ–Η –Γ–®–ê. –Γ–Ϋ–Ψ–≤–Α –¥–Β–Μ–Β–≥–Α―Ü–Η―è –Ϋ–Α―à–Β–Ι –î―É–Φ―΄ –Ζ–Α―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤ –ê–Φ–Β―Ä–Η–Κ―É, ―Ö–Ψ―²―è –Μ–Η―à―¨ –Ϋ–Β–¥–Β–Μ―é –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥ –Β–Ι –±―΄–Μ–Ψ –Ψ―²–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ψ –≤ –Ω―Ä–Η–Β–Φ–Β. –ù–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –¥–Β–Μ–Β –≤―¹―ë –Ϋ–Β ―²–Α–Κ ―Ä–Α–¥―É–Ε–Ϋ–Ψ –Η –¥–Α–Ε–Β –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―²―Ä–Β–≤–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ. –ù–Ψ –Ϋ–Α―΅–Ϋ–Β–Φ ―¹ ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α. –î–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä –¦–Α–≤―Ä–Ψ–≤ –≤―΄―¹―²―É–Ω–Η–Μ ―¹ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Η–Ϋ–Η―Ü–Η–Α―²–Η–≤–Ψ–Ι –†–Ψ―¹―¹–Η–Η, –≤ ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Η–Η ―¹ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Γ–Η―Ä–Η―è, –≤–Ψ –Η–Ζ–±–Β–Ε–Α–Ϋ–Η–Β –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É–¥–Α―Ä–Α, –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–Β―² –≤―¹–Β ―¹–≤–Ψ–Η –Α―Ä―¹–Β–Ϋ–Α–Μ―΄ ―Ö–Η–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―Ä―É–Ε–Η―è –Ω–Ψ–¥ –Φ–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ―¨ ―¹ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–Ι –Η―Ö ―É―²–Η–Μ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Β–Ι. –ü–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É ―ç―²–Α –Η–Ϋ–Η―Ü–Η–Α―²–Η–≤–Α, –Ω–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Β, –±―΄–Μ–Α ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Ψ–≤–Α–Ϋ–Α ―¹ ―¹–Η―Ä–Η–Ι―Ü–Α–Φ–Η, ―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Η ―²―É―² –Ε–Β –Ϋ–Α ―ç―²―É –Η–Ϋ–Η―Ü–Η–Α―²–Η–≤―É ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η–Μ–Η―¹―¨. –ê–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Ω―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Β–Ϋ―² ―²–Ψ–Ε–Β ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ: ¬Ϊ–≠―²–Ψ –Φ–Β–Ϋ―è–Β―² –¥–Β–Μ–Ψ!¬Μ βÄî –Ϋ–Ψ, ―¹―É–¥―è –Ω―Ä–Ψ –≤―¹–Β–Φ―É, –Ω–Ψ–Φ–Β–Ϋ―è―²―¨ –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Η –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Α―Ö–Ψ―²–Β–Μ. –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ω–Ψ―Ä–Α –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¨ –Ψ –Λ―Ä–Α–Ϋ―Ü–Η–Η. –ü–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η―è ―³―Ä–Α–Ϋ―Ü―É–Ζ–Ψ–≤ –Ω–Ψ –Γ–Η―Ä–Η–Η –≤–Β―¹―¨–Φ–Α –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ–Α. –ï―¹–Μ–Η ―¹―Ä–Α–Ζ―É –û–Μ–Μ–Α–Ϋ–¥ –≤―΄―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –≤ –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Κ―É –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Φ–Β―à–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α, ―²–Ψ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ζ–Α―¹–Β–¥–Α–Ϋ–Η―è ¬Ϊ–¥–≤–Α–¥―Ü–Α―²–Κ–Η¬Μ –≤ –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Β, –Ζ–Α―è–≤–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –Λ―Ä–Α–Ϋ―Ü–Η―è –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Η―²―¹―è –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –≤ –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹–Β. –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Α―è –Η–Ϋ–Η―Ü–Η–Α―²–Η–≤–Α –±―΄–Μ–Α –Ψ–Ζ–≤―É―΅–Β–Ϋ–Α, –Λ―Ä–Α–Ϋ―Ü–Η―è –Ζ–Α―è–≤–Η–Μ–Α, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η ―¹―²–Α―²―¨–Η 7 –Θ―¹―²–Α–≤–Α –û–û–ù, –Ψ–Ϋ–Α –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β―² –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ―É ―Ä–Β–Ζ–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Η –Γ–Ψ–≤–±–Β–Ζ–Α –û–û–ù. –ü―è―²―¨ –Ω―É–Ϋ–Κ―²–Ψ–≤ ―ç―²–Ψ–Ι ―Ä–Β–Ζ–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Η ―²―Ä–Β–±―É―é―², ―΅―²–Ψ–±―΄ –Γ–Η―Ä–Η―è ¬Ϊ–≤―΄―²–Α―â–Η–Μ–Α –Ϋ–Α ―¹–≤–Β―²¬Μ –≤―¹–Β ―¹–≤–Ψ–Η –Ζ–Α–Ω–Α―¹―΄ ―Ö–Η–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―Ä―É–Ε–Η―è –Η –Ζ–Α―²–Β–Φ ―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Η–Μ–Α –Η―Ö –Ω–Ψ–¥ –Φ–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ–Β–Φ. –Λ―Ä–Α–Ϋ―Ü―É–Ζ―¹–Κ–Α―è –¥–Η–Ω–Μ–Ψ–Φ–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è ―É–Μ–Ψ–≤–Κ–Α –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Α–Β―²―¹―è –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Η–Β ―ç―²–Ψ–Ι ―Ä–Β–Ζ–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Η –±―É–¥–Β―² –Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α―²―¨ ―¹–Α–Ϋ–Κ―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Γ–Ψ–≤–±–Β–Ζ–Ψ–Φ –Μ―é–±–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Φ–Β―à–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α, –Β―¹–Μ–Η –Κ―²–Ψ-―²–Ψ –Ω–Ψ―¹―΅–Η―²–Α–Β―², ―΅―²–Ψ –Γ–Η―Ä–Η―è ―Ä–Β―à–Η–Μ–Α –Ϋ–Β ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ ―΅–Β―¹―²–Ϋ–Ψ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²―¨ –≤–Ψ–Μ―é –≤―¹–Β–≥–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹―²–≤–Α. –ü–Α–Ϋ –™–Η –€―É–Ϋ –≤ –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Φ –≤―΄―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Γ–Η―Ä–Η―è –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Η–Μ–Α―¹―¨ –Κ –Φ–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ―É –¥–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―É, –Ζ–Α–Ω―Ä–Β―â–Α―é―â–Β–Φ―É –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β ―Ö–Η–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―Ä―É–Ε–Η―è. –ü–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Η–Φ, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η―² –≤ –ê–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Β. –· –Μ―é–±–Μ―é, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―è –¥–Β–Μ–Α–Β―² –Κ―Ä―É–≥–Η –Η, –Κ–Α–Κ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, ―Ö–Ψ―΅–Β―² –Ϋ–Α―É―΅–Η―²―¨ –Ϋ–Α―¹ ―Ö–Ψ―²―¨ ―΅–Β–Φ―É-―²–Ψ. –ö–Ψ–≥–¥–Α-―²–Ψ –Ε–Η–Μ –≤ –Γ–®–ê ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ζ–≤–Α–Μ–Η –·―à–Α –®–Η―³―³. –Γ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –Ψ–Ϋ –≤ –ê–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ –†–Ψ―²―à–Η–Μ―¨–¥–Ψ–≤, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Β–±―è. –ß–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Ϋ–Β–±–Β–¥–Ϋ―΄–Ι. –û–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –Ω–Β―Ä–≤―΄–Φ –Ϋ–Β―è–Ω–Ψ–Ϋ―Ü–Β–Φ, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–≤―à–Η–Φ –Η–Ζ ―Ä―É–Κ ―è–Ω–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä–Α –≤―΄―¹―à―É―é –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥―É –Η ―É–¥–Ψ―¹―²–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Α―É–¥–Η–Β–Ϋ―Ü–Η–Η ―É ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Η–Κ–Α–¥–Ψ. –Δ–Α–Κ–Α―è –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥–Α ―¹–≤–Α–Μ–Η–Μ–Α―¹―¨ –≤ –Β–≥–Ψ –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Β ―Ä―É–Κ–Η –Ζ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–¥–Α―Ä–Η–Μ –·–Ω–Ψ–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ―¨–Κ–Η–Ι –Α―Ä–≥–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ–ΗβÄΠ. –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä. –Γ –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η–Β–Φ βÄî ―΅―²–Ψ–±―΄ –·–Ω–Ψ–Ϋ–Η―è –≤―΄―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Α –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η. –ë―΄–Μ–Ψ ―ç―²–Ψ –≤ 1905 –≥–Ψ–¥―É. –Γ–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Β–≥–Ψ –≤–Ϋ―É–Κ, ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η―¹―² –ü–Η―²–Β―Ä –®–Η―³―³, –Η–Ϋ―²–Β–Μ–Μ–Β–Κ―²―É–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Η―² –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Α–¥–Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä–Α―Ü–Η–Η –Η –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ –≥–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥–Η–Ϋ―É –û–±–Α–Φ–Β. –£ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ϋ–Β–¥–Α–≤–Ϋ–Β–Ι –Κ–Ϋ–Η–≥–Β –Ψ–Ϋ –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è―à–Ϋ–Η–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―² 222 ―²―Ä–Η–Μ–Μ–Η–Ψ–Ϋ–Α –¥–Ψ–Μ–Μ–Α―Ä–Ψ–≤. –£–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹: –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Μ–Η ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ–Ψ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η―²―¨―¹―è –Κ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β –Η –Β–Β –Ω―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Β–Ϋ―²―É, –Β―¹–Μ–Η –Ψ–Ϋ–Η –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ε–Η–≤―É―² –≤ –¥–Ψ–Μ–≥? –£ ―΅–Β–Φ-―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β –Ω–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Β―² –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –±―Ä–Α―΅–Ϋ―΄―Ö –Α―³–Β―Ä–Η―¹―²–Ψ–≤.  –· –Ω―Ä–Η–≤–Β–Μ ―ç―²―É ―Ü–Η―³―Ä―É –¥–Μ―è ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, –Κ–Α–Κ–Η–Β ¬Ϊ–Κ―Ä–Ψ–≤–Α–≤―΄–Β –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η–Κ–Η¬Μ ―¹―²–Ψ―è―² –≤ –≥–Μ–Α–Ζ–Α―Ö –û–±–Α–Φ―΄, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ ―¹–Ψ–≤–Β―²―É–Β―²―¹―è ―¹ –Ε–Β–Ϋ–Ψ–Ι –€–Η―à–Β–Μ―¨, –±–Ψ–Φ–±–Η―²―¨ –Β–Φ―É ―ç―²–Η―Ö ―¹–Η―Ä–Η–Ι―Ü–Β–≤ –Η–Μ–Η –Ϋ–Β –±–Ψ–Φ–±–Η―²―¨. –ï―¹–Μ–Η –Ϋ–Β –±–Ψ–Φ–±–Η―²―¨, ―²–Ψ –Ψ―¹–Φ–Β–Μ–Β–≤―à–Β–Β –≤–¥―Ä―É–≥ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α―²―¨ ―É –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―Ü–Β–≤ –≤–Β―Ä–Ϋ―É―²―¨ –≤―¹–Β –¥–Ψ–Μ–≥–Η, –Α –Κ–Α–Κ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –≤–Β―Ä–Ϋ―É―²―¨ ―²–Ψ, ―΅–Β–≥–Ψ ―É–Ε–Β –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β―²? –ï―¹–Μ–Η –±–Ψ–Φ–±–Η―²―¨, ―²–Ψ –±–Β–Ζ –Ϋ–Α–Ζ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η –≤―¹―ë ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–±–Β–¥―΄ –Ϋ–Β –±―É–¥–Β―². –ê ―²―É―² –Β―â–Β ―¹–Β–Ϋ–Α―² –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―², ―΅―²–Ψ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ ―É–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨―¹―è –Ζ–Α 60 –¥–Ϋ–Β–ΙβÄΠ –Δ–Α–Κ –≤–Ψ―², –Β―¹–Μ–Η –±–Ψ–Φ–±–Η―²―¨, ―²–Ψ –Μ―é–±–Ψ–Ι –Μ–Η–¥–Β―Ä –Μ―é–±–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄ –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Μ–Β–≥–Κ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η–Κ–Β –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –Φ–Β―¹―²–Β –ê―¹–Α–¥–Α –Ϋ–Β ―²–Α–Κ ―É–Ε ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –Η –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ–Ι–¥–Β―² ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Κ–Ψ–Ϋ―¹–Ψ–Μ–Η–¥–Α―Ü–Η―è ―¹–Η–Μ –Ϋ–Α –Α–Ϋ―²–Η–Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Μ–Α―²―³–Ψ―Ä–Φ–Β. –ü–Ψ–Ϋ―è―²–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Φ–Η―Ä, –Κ–Α–Κ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Η –Ω―Ä–Η―¹–Κ–Ψ―Ä–±–Ϋ–Ψ, –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ζ–Α–±―΄―²―¨ –Ψ–± –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –¥–Ψ–Μ–≥–Α―Ö, –Ϋ–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Β –Ϋ–Α–¥–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Φ–Α―Ö–Η–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Α–¥ –Β–≥–Ψ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –¥―É–±–Η–Ϋ–Ψ–Ι. –£ –Γ–Η―Ä–Η–Η –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Α –Η–¥–Β―² ―É–Ε–Β –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –¥–≤―É―Ö –Μ–Β―². –ï―¹–Μ–Η –Ϋ–Α –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ –≥–Ψ–¥–Α ―΅–Η―¹–Μ–Ψ –Ε–Β―Ä―²–≤ –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Ψ –≥–¥–Β-―²–Ψ 60 ―²―΄―¹―è―΅ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, ―²–Ψ ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Η―Ö, –Κ–Α–Κ –Φ–Η–Ϋ–Η–Φ―É–Φ, –≤ –¥–≤–Α ―Ä–Α–Ζ–Α –±–Ψ–Μ―¨―à–Β. –ù–Η–Κ―²–Ψ –Ϋ–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² –Ψ ―²–Ψ–Φ, –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―΅―¨ ―¹–Η―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Η–Φ –¥–Β―²―è–Φ, –Κ–Α–Κ ―¹–Ψ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Ψ –≥―É–Φ–Α–Ϋ–Η―²–Α―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Α―²–Α―¹―²―Ä–Ψ―³―΄, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―¹–Η―Ä–Η–Ι―Ü―΄ –Ϋ–Β ―É–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Μ–Η –Β–Ε–Β–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ–Ψ –¥–Β―¹―è―²–Κ–Η ―²―Ä―É–Ω–Ψ–≤ –≤ –±―Ä–Α―²―¹–Κ–Η–Β –Φ–Ψ–≥–Η–Μ―΄. –£–Φ–Β―¹―²–Ψ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ζ–≤―É―΅–Η―² –Κ–Α–Κ–Α―è-―²–Ψ –Ψ―²–Κ―Ä–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –±–Β–Μ–Η–±–Β―Ä–¥–Α. –· ―É–Ε–Β –Ω–Η―¹–Α–Μ –Ψ ¬Ϊ–≥―Ä–Ψ―²–Β―¹–Κ–Ϋ―΄―Ö¬Μ –Η ¬Ϊ―ç–Ζ–Ψ―²–Β―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö¬Μ ―¹–Φ–Β―Ä―²―è―Ö. –£―΅–Β―Ä–Α –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ –û–±–Α–Φ―΄ –Ω–Ψ –Ϋ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –†–Α–Ι―¹ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β –Ζ–Α–≥–Α–¥–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Β βÄî –ê―¹–Α–¥ ¬Ϊ–Ω–Ψ–Ϋ–Η–Ε–Α–Β―² –Ω–Ψ―Ä–Ψ–≥ –Η –Ω–Ψ–≤―΄―à–Α–Β―² –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²―¨¬Μ. –ü―Ä–Β―¹–Μ–Ψ–≤―É―²―É―é ¬Ϊ–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―É―é –Μ–Η–Ϋ–Η―é¬Μ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –Ω–Β―Ä–Β―à–Α–≥–Ϋ―É–Μ (–≤–Ψ―²-–≤–Ψ―² –Ω–Β―Ä–Β―à–Α–≥–Ϋ–Β―²) –ê―¹–Α–¥, –≤–Ζ―è–Μ–Η –Ϋ–Α –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Μ–Η–¥–Β―Ä―΄. –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―¹ ―Ö–Η–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ –Ψ―Ä―É–Ε–Η–Β–Φ –≤―¹–Β ―è―¹–Ϋ–Ψ, βÄî ―¹–Η―Ä–Η–Ι―Ü―΄ ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Ϋ―΄ ―¹–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α―²―¨ –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥ –Φ–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ―¨, –Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ ―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Η―²―¨, βÄî –Ζ–Α–Ζ–≤―É―΅–Α–Μ–Α –Ϋ–Ψ–≤–Α―è –Ω–Β―¹–Ϋ―¨: –ê―¹–Α–¥–Α –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è –Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –±–Β–Ζ –Ϋ–Α–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―è. –€–Α–¥–Α–Φ –†–Α–Ι―¹ –Ω–Α―³–Ψ―¹–Ϋ–Ψ ―²–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―², ―΅―²–Ψ, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ –Ε–Β, –ê―¹–Α–¥ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ ―Ö–Η–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β –Ψ―Ä―É–Ε–Η–Β, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ¬Ϊ―΅―²–Ψ ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ ―É–Ε–Β –Ζ–Α–Κ–Α–Ϋ―΅–Η–≤–Α―é―²―¹―è –Ψ–±―΄―΅–Ϋ―΄–Β –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è¬Μ. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –ê―¹–Α–¥ –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―΄―²―¨ –Ϋ–Α–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ. –ê –¥–Μ―è ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–Ζ–±–Ψ–Φ–±–Η―²―¨ ―²―Ä–Β―²―¨ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄. –£–Ψ –≤―΅–Β―Ä–Α―à–Ϋ–Β–Φ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–≤―¨―é –Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η CBS –ê―¹–Α–¥ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Ψ―²–≤–Β―Ä–≥ –Ϋ–Α–Μ–Η―΅–Η–Β –Κ–Α–Κ–Η―Ö –±―΄ ―²–Ψ –Ϋ–Η –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Ψ–≤ ―¹ –Β–≥–Ψ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Ψ –Ω―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η ―Ö–Η–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―Ä―É–Ε–Η―è. –Δ–Ψ–≥–¥–Α ―¹―²–Α–Μ–Η –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ ―²–Α–Κ–Α―è –Α―²–Α–Κ–Α –Φ–Ψ–≥–Μ–Α –±―΄―²―¨ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Α –Η –±–Β–Ζ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Β–Ϋ―²–Α. –£―Ä―è–¥ –Μ–Η, βÄî –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―² –±–Ψ–Μ–Β–Β ―¹–≤–Β–¥―É―â–Η–Β –Μ―é–¥–Η, βÄî –≤–Β–¥―¨ –Α―Ä―¹–Β–Ϋ–Α–Μ―΄ ―Ö–Η–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―Ä―É–Ε–Η―è –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―è―é―²―¹―è ¬Ϊ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Β―²―¨―é, –≤ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Β –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è –ë–Α―à–Α―Ä –ê―¹–Α–¥¬Μ (―ç―²–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤–Α –≥–Ψ―¹―¹–Β–Κ―Ä–Β―²–Α―Ä―è –ö–Β―Ä―Ä–Η). –£―΄―¹―²―É–Ω–Α―è –≤―΅–Β―Ä–Α –≤ ―³–Ψ–Ϋ–¥–Β ¬Ϊ–ù–Ψ–≤–Α―è –ê–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α¬Μ, –Γ―¨―é–Ζ–Α–Ϋ –†–Α–Ι―¹ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–Β: ¬Ϊ–ê–¥–Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä–Α―Ü–Η―è –Ω―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Β–Ϋ―²–Α –ë–Α―Ä–Α–Κ–Α –û–±–Α–Φ―΄ ―¹–Ψ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Η―΅–Α–Β―² ―¹ –û–±―ä–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –ù–Α―Ü–Η―è–Φ–Η –Η –Ϋ–Α―à–Η–Φ–Η ―¹–Ψ―é–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Η–Ζ–Ψ–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ ―Ä–Β–Ε–Η–Φ –ê―¹–Α–¥–Α, –Μ–Η―à–Η―²―¨ –Β–≥–Ψ ―Ä–Β―¹―É―Ä―¹–Ψ–≤, ―É―¹–Η–Μ–Η―²―¨ –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ―É―é –Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Ψ–Ω–Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η―é –Η –Ζ–Α―Ä―É―΅–Η―²―¨―¹―è –¥–Η–Ω–Μ–Ψ–Φ–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η–Β–Φ –¥―Ä―É–≥–Η―Ö, –Κ–Μ―é―΅–Β–≤―΄―Ö ―¹―²―Ä–Α–ΫβÄΠ –€―΄ –Φ–Ψ–Ε–Β–Φ –Η –±―É–¥–Β–Φ –Ζ–Α―â–Η―â–Α―²―¨ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ―Ü–Η–Ω―΄ –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –Ψ―¹–Β–≤–Ψ–Φ ―Ä–Β–≥–Η–Ψ–Ϋ–ΒβÄΠ –ù–Α–Φ –Ϋ―É–Ε–Β–Ϋ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –ë–Μ–Η–Ε–Ϋ–Η–Ι –£–Ψ―¹―²–Ψ–Κ, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ–Β –±―É–¥―É―² –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è –≤―¹–Β–Ψ–±―â–Η–Φ–Η –Ω―Ä–Α–≤–Α–Φ–Η, –Ε–Η―²―¨ –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ–Ι, ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η –Ω―Ä–Ψ―Ü–≤–Β―²–Α―é―â–Β–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨―é, –≤―΄–±–Η―Ä–Α―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Μ–Η–¥–Β―Ä–Ψ–≤ –Η ―Ä–Β―à–Α―²―¨ ―¹–≤–Ψ―ë ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –±―É–¥―É―â–Β–Β, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Ϋ–Β –±―É–¥–Β―² ―¹―²―Ä–Α―Ö–Α, –Ϋ–Α―¹–Η–Μ–Η―è –Η ―É―¹―²―Ä–Α―à–Β–Ϋ–Η―è¬Μ. βÄî –· ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–≤–Β–Μ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Φ–Α–¥–Α–Φ ―¹–Ψ–≤–Β―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤―΄ –Η–Φ–Β–Μ–Η –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ ―²–Ψ–Φ ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ–±–Μ―É–¥–Η–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –Ω–Β―¹―²―Ä―è―² ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ―΄–Β –Γ–€–‰, –Ω―΄―²–Α―é―â–Η–Β―¹―è –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―²―¨ –Κ–Α–Κ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Η–Ϋ―²–Β―Ä–≤―¨―é –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Ζ–Α–≤―²―Ä–Α―à–Ϋ–Η–Φ –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –≤ –Κ–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹–Β. –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Β―â–Β –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Η―¹―²–Η–Ϋ –Η–Ζ ―É―¹―² –Φ–Α–¥–Α–Φ ―¹–Ψ–≤–Β―²–Ϋ–Η–Κ–Α. –û–Ϋ–Α ―¹―΅–Η―²–Α–Β―², ―΅―²–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η―è βÄî ―ç―²–Ψ ¬Ϊ–Ϋ–Β –Η―²–Ψ–≥ –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η–Κ–Η –≤ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Η –Γ–Η―Ä–Η–Η¬ΜβÄΠ –ù–Α―à–Β–Ι ―¹–≤–Β―Ä―Ö–Α―Ä―Ö–Η–≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ–Ι (!!!!) ―Ü–Β–Μ―¨―é ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Β ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―³–Μ–Η–Κ―²–Α –Ω―É―²–Β–Φ –Ω–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Α, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –ê―¹–Α–¥ –Ψ―¹―²–Α–≤–Η―² –≤–Μ–Α―¹―²―¨βÄΠ.¬Μ –ù–Ψ –¥–Μ―è ―ç―²–Ψ–≥–Ψ, –Ω–Ψ –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é ―ç―²–Ψ–Ι –Μ―é–±–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Η―Ü―΄ –Η–Ζ―è―â–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤―Ü–Α, ¬Ϊ–Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤―¹–Β –Ω–Α―Ä―²–Η–Η –Ε–Β–Μ–Α–Μ–Η –Ω–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤ –≤–Ψ –Η–Ζ–±–Β–Ε–Α–Ϋ–Η–Β –±–Ψ–Μ–Β–Β –Ω―Ä―è–Φ–Ψ–≥–Ψ –≤–Φ–Β―à–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α –≤ ―Ä–Β–≥–Η–Ψ–Ϋ¬Μ. –†–Β―à–Η–≤, ―΅―²–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Ϋ–Β–Ι ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –¥―Ä–Β–Φ―É―΅–Α―è –Α―É–¥–Η―²–Ψ―Ä–Η―è, –Φ–Α–¥–Α–Φ ―¹–Ψ–≤–Β―²–Ϋ–Η–Κ –Ω–Ψ–¥ –Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –≤―΄―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è ―Ä–Β―à–Η–Μ–Α –Β―â–Β ―Ä–Α–Ζ –≤―¹–Β―Ö –Η―¹–Ω―É–≥–Α―²―¨ –ê―¹–Α–¥–Ψ–Φ –Η ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α, ―΅―²–Ψ ―¹–Η―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Β ―Ö–Η–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β –Ψ―Ä―É–Ε–Η–Β –Ϋ–Β―¹–Β―² –≤ ―¹–Β–±–Β ―É–≥―Ä–Ψ–Ζ―É –≤―¹–Β–Φ ―¹–Ψ―¹–Β–¥–Ϋ–Η–Φ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Α–Φ (–¥–Α–Μ―¨―à–Β –Η–¥–Β―² –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ω–Η―¹–Ψ–Κ –Ω–Ψ ―É―΅–Β–±–Ϋ–Η–Κ―É –≥–Β–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Η), –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ―É –≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ―É ―¹–Ψ―é–Ζ–Ϋ–Η–Κ―É –Γ–®–ê, –‰–Ζ―Ä–Α–Η–Μ―é. –ù–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–Β –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β, ―Ö–Η–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β –Ψ―Ä―É–Ε–Η–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ω–Ψ–Ω–Α―¹―²―¨ –≤ ―Ä―É–Κ–Η ―¹–Ψ―é–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Α –ê―¹–Α–¥–Α βÄî –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η ¬Ϊ–Ξ–Β―¹–±–Ψ–Μ–Μ–Α¬Μ –Η –≥―Ä―É–Ω–Ω ¬Ϊ–ê–Μ―¨–Κ–Α–Β–¥―΄¬Μ. –≠―²–Η ―¹–Μ–Ψ–≤–Α –Φ–Α–¥–Α–Φ –Ϋ–Β–≤–Ϋ–Η–Φ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Α―É–¥–Η―²–Ψ―Ä–Η―è –Φ–Ψ–Ε–Β―² –≤–Ψ―¹–Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²―¨ ―²–Α–Κ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β –ê―¹–Α–¥–Α ―¹―Ä–Α–Ε–Α–Β―²―¹―è –Η ¬Ϊ–ê–Μ―¨–Κ–Α–Β–¥–Α¬Μ, –Ϋ–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Β–Β –Ψ―²―Ä―è–¥―΄ ―ç–Κ―¹–Ω–Β―Ä―²―΄ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é―² ―¹–Α–Φ―΄–Φ–Η –±–Ψ–Β―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ―΄–Φ–Η –Ψ―²―Ä―è–¥–Α–Φ–Η –Ψ–Ω–Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Η. –ù–Β –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É –Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥―è―² –Ψ–±―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β –≤ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Μ–Α–≥–Β―Ä―è―Ö, –≥–¥–Β –Η―Ö ―²―Ä–Β–Ϋ–Η―Ä―É―é―² –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ –Ω―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ–Φ –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―²–Ψ―Ä―΄ –Π–†–Θ? –· ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –¥–Β–Μ–Α―é –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η―è, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Ζ–≤―É―΅–Η―² –Ζ–Α–≤―²―Ä–Α –Η–Ζ ―É―¹―² ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Η–Κ–Α –≤ –Φ–Η―Ä–Β, –Η–Φ―è –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ―É βÄî –ë–Α―Ä–Α–Κ –û–±–Α–Φ–Α. –Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ψ–Ε–¥–Β–Φ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β –±―É–¥–Β―² ―É–Ε–Β ―É―²―Ä–Ψ –Ω―è―²–Ϋ–Η―Ü―΄. –‰–≤–Α–Ϋ –•–Α―Ä–Ψ–≤ 10 ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä―è 2013 –≥.
11.09.201311:3111.09.2013 11:31:22
0
11.09.201311:2711.09.2013 11:27:35
–Θ–≤–Α–Ε–Α–Β–Φ―΄–Β –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ―΄, –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü―΄ –Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η! –ü―Ä–Η–≥–Μ–Α―à–Α–Β–Φ –£–Α―¹ –Ψ―³–Ψ―Ä–Φ–Η―²―¨ –Ω―Ä–Β–¥–≤–Α―Ä–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ζ–Α–Κ–Α–Ζ –Ϋ–Α –Κ–Ϋ–Η–≥―É ¬Ϊ–™–Β―Ä–Ψ–Η –Ω–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ―΄―Ö –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ¬Μ, –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ϋ―É―é –™–Β―Ä–Ψ–Β–Φ –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –£.–ï.–Γ–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≤―΄–Φ. –ü―Ä–Β–Ζ–Β–Ϋ―²–Α―Ü–Η―è –Κ–Ϋ–Η–≥–Η ―¹–Ψ―¹―²–Ψ–Η―²―¹―è 19-20 –Ψ–Κ―²―è–±―Ä―è 2013 –≥–Ψ–¥–Α –≤ –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Β –Ϋ–Α ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η―è―Ö, –Ω–Ψ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö 70-–Μ–Β―²–Η―é –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö ―É―΅–Η–Μ–Η―â. –½–Α –≥–Ψ–¥―΄ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Ψ―² ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Α –¥–Η–Ζ–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι "–Φ–Α–Μ―é―²–Κ–Η" –¥–Ψ –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Α–≤―²–Ψ―Ä –≤―ë–Μ –¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ–Η–Κ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Μ–Β–≥–Μ–Η –≤ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤―É –¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ϋ–Η–≥–Η. –£ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è―Ö –™–Β―Ä–Ψ–Ι –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –£.–ï.–Γ–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≤ –Ψ―²–¥–Α―ë―² –¥–Α–Ϋ―¨ –Ω–Α–Φ―è―²–Η –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Α–Φ-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ, –Ϋ–Β –≤–Β―Ä–Ϋ―É–≤―à–Η–Φ―¹―è –Η–Ζ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤. –ö–Ϋ–Η–≥–Α ―Ä–Α―¹―¹―΅–Η―²–Α–Ϋ–Α –Ϋ–Α –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ–Ψ–≤ –£–€–Λ, –¥–Β–Ι―¹―²–≤―É―é―â–Η–Ι –Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –£–€–Λ, –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²–Ψ–≤ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Ι. –ö–Ϋ–Η–≥–Α –±―É–¥–Β―² –Ω–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Α –Η –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Α–Φ, –Η ―é–Ϋ–Ψ―à–Α–Φ, –≤―΄–±―Ä–Α–≤―à–Η–Φ –Φ―É–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η―é –½–Α―â–Η―²–Ϋ–Η–Κ–Α –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Α. –û–±―ä―ë–Φ –Κ–Ϋ–Η–≥–Η –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ 400 ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü ―¹ –±–Ψ–Μ–Β–Β, ―΅–Β–Φ 300 ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Ι. –½–Α―è–≤–Κ–Η –Ϋ–Α –Κ–Ϋ–Η–≥―É –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ψ―³–Ψ―Ä–Φ–Η―²―¨ –Ω–Ψ ―²–Β–Μ–Β―³–Ψ–Ϋ―É +38-098-376-60-28 –Η–Μ–Η –Ω–Ψ ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ―΅―²–Β booksokolov@gmail.com  –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ –Γ–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≤, –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤–Β―Ü, –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ, –û–¥–Β―¹―¹–Α.
11.09.201311:2711.09.2013 11:27:35
0
11.09.201311:2511.09.2013 11:25:00
–Γ–Ω–Α―¹–Η–±–Ψ, –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥–Η, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α –½–Β–Φ–Μ–Β ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è ―è, –î―Ä―É–≥–Ψ–Ι –Ω–Μ–Α–Ϋ–Β―²―΄ –Ϋ–Β ―Ö–Ψ―΅―É, –Ϋ–Β –Ϋ–Α–¥–Ψ. –½–¥–Β―¹―¨ –≤―¹―ë ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Β –Φ–Ϋ–Β, –Ζ–¥–Β―¹―¨ –≤―¹–Β –Φ–Ψ–Η –¥―Ä―É–Ζ―¨―è; –î–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨ –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥–Α. –ù―É –≤–Ψ―² ―¹ –û–Κ–Β–Α–Ϋ–Α –Ϋ–Α–±–Β–Ε–Α–Μ–Α –≤–Ψ–Μ–Ϋ–Α, –Γ ―²–Η―Ö–Η–Φ –Ω–Μ―ë―¹–Κ–Ψ–Φ –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥ –Ψ―²–Κ–Α―²–Η–Μ–Α―¹―¨, –î–Β–Ϋ―¨ –Ω–Ψ–≥–Α―¹ –Κ–Α–Κ ―¹–≤–Β―΅–Α, –Η –Ω―Ä–Η―à–Μ–Α ―²–Η―à–Η–Ϋ–Α, –ê –Ζ–Α –Ϋ–Β―é –Η –Ϋ–Ψ―΅―¨ –Ψ–Ω―É―¹―²–Η–Μ–Α―¹―¨. –™–¥–Β ―É―¹–Μ―΄―à–Η―à―¨ –Β―â―ë ―ç―²–Ψ―² –Μ–Α―¹–Κ–Ψ–≤―΄–Ι –Ω–Μ–Β―¹–Κ, –≠―²–Ψ―² ―à–Β–Μ–Β―¹―² –≤–Ψ–Μ–Ϋ―΄, –≥–¥–Β ―É―¹–Μ―΄―à–Η―à―¨? –î―Ä–Α–≥–Ψ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Κ–Α–Φ–Ϋ–Β–Ι –Ψ–Ε–Β―Ä–Β–Μ―¨–Β –Η–Ζ –Ζ–≤―ë–Ζ–¥ –Γ–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ –≤ ―¹–Κ–Α–Ζ–Κ–Β –≤–Ψ–Μ―à–Β–±–Ϋ–Ψ–Ι ―É–≤–Η–¥–Η―à―¨. –‰ –≥–¥–Β –Β―â―ë –Ω―΄–Μ–Α–Β―² ―²–Α–Κ –Ζ–Α―Ä―è, –Γ–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Β –Ψ–±–Ε–Η–≥–Α―è, –Ϋ–Β–Ε–Ϋ–Ψ –≥―Ä–Β–Β―²; –‰ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –Η –Ω―²–Η―Ü–Α ―²–Α–Κ –Ω–Β―²―¨ ―É–Φ–Β–Β―², –Δ–≤–Ψ–Ι –¥–Α―Ä, –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥―¨, –¥―Ä―É–≥–Η–Φ –¥–Α―Ä―è. –‰ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –Η ―²–Η–≥―Ä, –Η –Μ–Α–Ϋ―¨ –½–¥–Β―¹―¨ ―²–Α–Κ –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄ –Η ―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Ϋ―΄; –£–Ζ–Ψ–Ι–¥–Η –Ϋ–Α –≥–Ψ―Ä―É, –Ϋ–Α–¥ ―É―â–Β–Μ―¨–Β–Φ –≤―¹―²–Α–Ϋ―¨, –£–Β–Κ –Ϋ–Β –Ζ–Α–±―É–¥–Β―à―¨ –≤–Η–¥–Α ―¹ –≤―΄―à–Η–Ϋ―΄. –ü―Ä–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Α―¹, –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥–Η, –Ζ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Κ―Ä–Ψ–≤―¨ –Δ–Α–Κ ―΅–Α―¹―²–Ψ –Η–Ζ ―²–≤–Ψ–Η―Ö ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Ι –Μ―¨―ë―²―¹―è, –½–Α―²–Ψ, –Κ–Α–Κ–Α―è –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Μ―é–±–Ψ–≤―¨! –û –Ϋ–Β–Ι –Ζ–¥–Β―¹―¨ –±–Ψ–Μ–Β–Β, ―΅–Β–Φ –Ψ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ, –Ω–Ψ―ë―²―¹―è. –‰ ―΅–Α―¹―²–Ψ ―²–Ψ―², –Κ―²–Ψ –Κ―Ä–Ψ–≤―¨ ―΅―É–Ε―É―é –Μ―¨―ë―², –Γ–Ψ–±–Ψ–Ι ―É–±–Η―²―΄―Ö –Ϋ–Β ―¹―΅–Η―²–Α–Β―², –Γ–≤–Ψ―é –±–Β―¹―²―Ä–Β–Ω–Β―²–Ϋ–Ψ –Ζ–Α –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Η―Ö –Ψ―²–¥–Α―ë―², –½–Α –±―Ä–Α―²―¨–Β–≤, –Ϋ–Β ―²–Ψ―Ä–≥―É―è―¹―¨, ―É–Φ–Η―Ä–Α–Β―². –Δ–Α–Κ –≤–Β–Μ–Η–Κ –Ω―Ä–Β–¥ ―²–Ψ–±–Ψ–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –≥―Ä–Β―Ö, –ù–Β ―É―¹―²―É–Ω–Η–Φ –Μ―é–±–Ψ–Φ―É –Φ―΄ –Ζ–≤–Β―Ä―é. –Δ―΄ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Α―¹, –û―²–Β―Ü, –Ψ–±–Β―â–Α―é –Ζ–Α –≤―¹–Β―Ö, –€―΄ –Η―¹–Ω―Ä–Α–≤–Η–Φ―¹―è, –≤ ―ç―²–Ψ ―è –≤–Β―Ä―é. 
11.09.201311:2511.09.2013 11:25:00
0
11.09.201311:1111.09.2013 11:11:05
–î–Β―¹―è―²―¨ –Μ–Β―² –±–Β―¹―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ―΄–Β –Φ–Ψ―Ä–Β–Ω–Μ–Α–≤–Α―²–Β–Μ–Η –Η ―É―΅–Β–Ϋ―΄–Β ―à–Μ–Η –Κ –Ϋ–Α–Φ–Β―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―Ü–Β–Μ―è–Φ. –‰–Φ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω―Ä–Β–Ψ–¥–Ψ–Μ–Β–≤–Α―²―¨ –Μ―¨–¥―΄, –Α –≤ –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Φ–Β―¹―²–Α―Ö ―²–Α–Ι–≥―É –Η ―²―É–Ϋ–¥―Ä―É. –€–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö –Ϋ–Β –¥–Ψ–Ε–Η–Μ–Η –¥–Ψ –Ζ–Α–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Η―è ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η, –Ψ―²–¥–Α–≤ –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –≤ –±–Ψ―Ä―¨–±–Β ―¹ ―¹―É―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–¥–Ψ–Ι. –ù–Ψ –Η―Ö ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Η –¥–Ψ–≤–Β–Μ–Η –¥–Β–Μ–Ψ –¥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Α. –û–Ϋ–Η –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β–Μ–Η ―¹―ä–Β–Φ–Κ―É –Η –Ϋ–Α–Ϋ–Β―¹–Μ–Η –Ϋ–Α –Κ–Α―Ä―²―É ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―É―é –Η ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ψ-–≤–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ―΄–Β ―΅–Α―¹―²–Η –ê–Ζ–Η–Α―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Κ–Α, –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Η–Μ–Η –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –·–Ω–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Ψ–≤, –Ψ―²–Κ―Ä―΄–Μ–Η ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ψ-–Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ―΄–Β –±–Β―Ä–Β–≥–Α –ê–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Η –Η –≤―΄―è―¹–Ϋ–Η–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –ê–Ζ–Η–Α―²―¹–Κ–Η–Ι –Η –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι –ê–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Κ–Η ―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ–Β–Ϋ―΄ –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤–Ψ–Φ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –≤ ―΅–Β―¹―²―¨ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―è ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η –±―΄–Μ –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ –ë–Β―Ä–Η–Ϋ–≥–Ψ–≤―΄–Φ. –£―¹–Β ―ç―²–Η –¥–Ψ―¹―²–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η―Ö –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤ –Ω–Ψ –Ω―Ä–Α–≤―É –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹―è―²―¹―è –Κ ―΅–Η―¹–Μ―É –≤–Β–Μ–Η–Κ–Η―Ö –≥–Β–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Η–Ι. –û–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Ι –≤–Κ–Μ–Α–¥ –≤ –Η–Ζ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄―Ö –Φ–Ψ―Ä–Β–Ι –≤–Ϋ–Β―¹ –≤–Β–Μ–Η–Κ–Η–Ι ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–Ι ―É―΅–Β–Ϋ―΄–Ι –€.–£.–¦–Ψ–Φ–Ψ–Ϋ–Ψ―¹–Ψ–≤. –£ 50-–Β –≥–Ψ–¥―΄ XVIII –≤–Β–Κ–Α –¦–Ψ–Φ–Ψ–Ϋ–Ψ―¹–Ψ–≤, –Ψ–±–Ψ–±―â–Η–≤ –Ψ–Ω―΄―² –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η―Ö –≤ –ê―²–Μ–Α–Ϋ―²–Η–Κ–Β, –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –≤ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ –Ψ–±–Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Μ –Η –¥–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α –Η–Ζ –ê―²–Μ–Α–Ϋ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Α –≤ –Δ–Η―Ö–Η–Ι. –£ –Ω–Η―¹―¨–Φ–Β (1755 –≥.) –Ψ–Ϋ –Η–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –Φ―΄―¹–Μ–Η –Ψ–± –Ψ―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Η–Η –ê―Ä–Κ―²–Η–Κ–Η. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ ―¹―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Β–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Η –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Β –≤ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β. –ù–Α―¹―²–Α–Η–≤–Α―è –Ϋ–Α ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Ψ–Φ –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―É―²–Η, ―¹―΅–Η―²–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Ψ―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Η–Β –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Η–≤–Β–¥–Β―² –Κ ―É―¹–Η–Μ–Β–Ϋ–Η―é –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι, –Ϋ–Ψ –Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Ψ―â–Η –†–Ψ―¹―¹–Η–Η –Ϋ–Α –Δ–Η―Ö–Ψ–Φ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Β.  –£ 1853 –≥–Ψ–¥―É –≤ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Β –Ψ–±–Ψ―¹―²―Ä–Β–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ―Ä–Β―΅–Η–Ι –Φ–Β–Ε–¥―É –†–Ψ―¹―¹–Η–Β–Ι –Η –Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Ψ–Β–≤―Ä–Ψ–Ω–Β–Ι―¹–Κ–Η–Φ–Η ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Α–Φ–Η –Ϋ–Α –ë–Μ–Η–Ε–Ϋ–Β–Φ –£–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Β –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Μ–Α –ö―Ä―΄–Φ―¹–Κ–Α―è –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Α, –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–≤―à–Α―è―¹―è –¥–Ψ 1856 –≥–Ψ–¥–Α. –£ ―ç―²–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η –≤―΄―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Α –Δ―É―Ä―Ü–Η―è, –ê–Ϋ–≥–Μ–Η―è, –Λ―Ä–Α–Ϋ―Ü–Η―è –Η –Γ–Α―Ä–¥–Η–Ϋ–Η―è. –™–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Φ ―²–Β–Α―²―Ä–Ψ–Φ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι –±―΄–Μ–Ψ –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä–Β. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Ε–Β–Μ–Α–Β–Φ–Ψ–≥–Ψ ―É―¹–Ω–Β―Ö–Α –≤―Ä–Α–≥–Η –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Η. –¦–Β―²–Ψ–Φ 1854 –≥–Ψ–¥–Α –≤ –ë–Β–Μ–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä–Β –≤–Ψ―à–Μ–Α –Α–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Α―è ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä–Α, –Ϋ–Α–Φ–Β―Ä–Β–≤–Α–≤―à–Α―è―¹―è ―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Η―²―¨ –ê―Ä―Ö–Α–Ϋ–≥–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Ψ―Ä―². –ö–Ψ–≥–¥–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –Ω–Ψ–¥–Ψ―à–Μ–Η –Κ ―É―¹―²―¨―é –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –î–≤–Η–Ϋ―΄ –Η –Ω―Ä–Η―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Η –Κ –Ω―Ä–Ψ–Φ–Β―Ä―É –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ, ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–Β –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤―΄–Β –±–Α―²–Α―Ä–Β–Η –Η –Κ–Α–Ϋ–Ψ–Ϋ–Β―Ä―¹–Κ–Η–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, ―¹–Ψ―¹―Ä–Β–¥–Ψ―²–Ψ―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≤ ―É―¹―²―¨–Β ―Ä–Β–Κ–Η, –Ψ―²–Κ―Ä―΄–Μ–Η –Ω–Ψ –Ϋ–Η–Φ –Η–Ϋ―²–Β–Ϋ―¹–Η–≤–Ϋ―΄–Ι –Ψ–≥–Ψ–Ϋ―¨. –ê–Ϋ–≥–Μ–Η―΅–Α–Ϋ–Α–Φ –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ―²–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨―¹―è –Ψ―² ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Ζ–Α–Φ―΄―¹–Μ–Α. –ß–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Α–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Η–Β –Η ―³―Ä–Α–Ϋ―Ü―É–Ζ―¹–Κ–Η–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –Ω―Ä–Β–¥–Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ–Η –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α–±–Β–≥–Ψ–≤ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε–Ϋ―΄–Β, –±–Β–Ζ–Ζ–Α―â–Η―²–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Β ―¹–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è, ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Α –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨–Β –ë–Β–Μ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è. –ù–Ψ –Η –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Η–Φ –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –Ϋ–Β –≤―¹–Β–≥–¥–Α ―¹–Ψ–Ω―É―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Α ―É–¥–Α―΅–Α. –Δ–Α–Κ, –Ω―Ä–Η –Ω–Ψ–Ω―΄―²–Κ–Β –Α―²–Α–Κ–Ψ–≤–Α―²―¨ –Γ–Ψ–Μ–Ψ–≤–Β―Ü–Κ–Η–Ι –Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä―¨ –¥–≤–Α –Α–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Α―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α, –Ω–Ψ–Ω–Α–≤ –Ω–Ψ–¥ –Ψ–±―¹―²―Ä–Β–Μ ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–Ι –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ–Ι –±–Α―²–Α―Ä–Β–Η, –Ω–Ψ―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ –Ψ―²―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Η.  –†–Α–Ζ–¥―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Β―É–¥–Α―΅–Α–Φ–Η –≤ –ë–Β–Μ–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β, –Α–Ϋ–≥–Μ–Η―΅–Α–Ϋ–Β ―Ä–Β―à–Η–Μ–Η ―Ä–Α―¹–Ω―Ä–Α–≤–Η―²―¨―¹―è ―¹ –Φ–Η―Ä–Ϋ―΄–Φ–Η –Ε–Η―²–Β–Μ―è–Φ–Η –ö–Ψ–Μ―΄. –Π–Β–Μ―΄–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –Ψ–±―¹―²―Ä–Β–Μ–Η–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Β–Ζ–Α―â–Η―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Φ–Η―Ä–Ϋ―΄–Ι –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥, ―Ä–Α–Ζ―Ä―É―à–Η–Μ–Η –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ ―¹―²–Α –¥–Ψ–Φ–Ψ–≤. –ù–Β ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α―è –Ϋ–Α –Γ–Β–≤–Β―Ä–Β –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ–Η, ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–Β –Ϋ–Β ―¹–Φ–Ψ–≥–Μ–Η –¥–Α―²―¨ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄–Ι –Ψ―²–Ω–Ψ―Ä –Α–Ϋ–≥–Μ–Ψ-―³―Ä–Α–Ϋ―Ü―É–Ζ―¹–Κ–Η–Φ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–≤–Β–Ϋ―²–Α–Φ. –ù–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Β–≥–Ψ ―É–Κ―Ä–Β–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨―è –ë–Β–Μ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è –Η –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¦–Β–¥–Ψ–≤–Η―²–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Α –Η ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α –Γ–Β–≤–Β―Ä–Β ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ –≤―¹–Β –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Β–Β. –Γ―Ä–Β–¥–Η ―É―΅–Β–Ϋ―΄―Ö, –Η–Ζ―É―΅–Α–≤―à–Η―Ö –ê―Ä–Κ―²–Η–Κ―É, –±―΄–Μ –î.–‰.–€–Β–Ϋ–¥–Β–Μ–Β–Β–≤. –ü–Ψ ―Ö–Ψ–¥–Α―²–Α–Ι―¹―²–≤―É –€–Β–Ϋ–¥–Β–Μ–Β–Β–≤–Α ―Ü–Α―Ä―¹–Κ–Ψ–Β –Ω―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ –Ψ―²–Ω―É―¹―²–Η–Μ–Ψ ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α –Ϋ–Α –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ―É –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Α. –£ 1898 –≥–Ψ–¥―É –≤ –ê–Ϋ–≥–Μ–Η–Η –Ω―Ä–Η –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Φ ―É―΅–Α―¹―²–Η–Η –Γ.–û.–€–Α–Κ–Α―Ä–Ψ–≤–Α –±―΄–Μ –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –≤ –Φ–Η―Ä–Β –Φ–Ψ―â–Ϋ―΄–Ι –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ, –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤ ―΅–Β―¹―²―¨ –Ω–Ψ–Κ–Ψ―Ä–Η―²–Β–Μ―è –Γ–Η–±–Η―Ä–Η ¬Ϊ–ï―Ä–Φ–Α–Κ–Ψ–Φ¬Μ. –ü–Β―Ä–≤―΄–Ι –Ω―Ä–Ψ–±–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Η–Μ –Μ–Β―²–Ψ–Φ 1899 –≥–Ψ–¥–Α. –¦–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ –¥–Ψ―¹―²–Η–≥ –®–Ω–Η―Ü–±–Β―Ä–≥–Β–Ϋ–Α, –≥–¥–Β –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ –Φ–Ψ―â–Ϋ―΄–Β –Μ–Β–¥–Ψ–≤―΄–Β –Ω–Ψ–Μ―è. –Γ–¥–Β–Μ–Α–Μ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ–Ω―΄―²–Ψ–Κ –Ω―Ä–Ψ–±–Η―²―¨―¹―è ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Μ–Β―²–Ϋ–Η–Ι ―²–Ψ―Ä–Ψ―¹–Η―¹―²―΄–Ι –Μ–Β–¥, –Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –Ω―Ä–Ψ–±–Ψ–Η–Ϋ―É –≤ –Ϋ–Ψ―¹–Ψ–≤–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –Η –≤―΄–Ϋ―É–Ε–¥–Β–Ϋ –±―΄–Μ –Η–¥―²–Η –≤ –ê–Ϋ–≥–Μ–Η―é –Ϋ–Α ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―². –ü–Ψ―¹–Μ–Β ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Α ¬Ϊ–ï―Ä–Φ–Α–Κ¬Μ –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ―¹―è –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―² –Η –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ζ–Η–Φ―΄ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ ―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–≤―΄–Β ―¹―É–¥–Α ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Ζ–Α–Μ–Η–≤. –£ 1901 –≥–Ψ–¥―É –€–Α–Κ–Α―Ä–Ψ–≤ –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¹―è –≤ –ê―Ä–Κ―²–Η–Κ―É. –ù–Α –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Α―Ö –Κ –ù–Ψ–≤–Ψ–Ι –½–Β–Φ–Μ–Β, ¬Ϊ–ï―Ä–Φ–Α–Κ¬Μ –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ –≤–Ψ―à–Β–Μ –≤ ―¹–Ω–Μ–Ψ―à–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Β–¥ –Η –Ω―Ä–Ψ–¥–≤–Η–≥–Α–Μ―¹―è –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²―¨ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ―É―é –Η ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―΅–Β―¹–Κ―É―é ―¹―ä–Β–Φ–Κ―É –Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ―΄―Ö –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤ –ù–Ψ–≤–Ψ–Ι –½–Β–Φ–Μ–Η. –½–Α―²–Β–Φ –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ –¥–≤–Α–Ε–¥―΄ ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –Κ –½–Β–Φ–Μ–Β –Λ―Ä–Α–Ϋ―Ü–Α-–‰–Ψ―¹–Η―³–Α. –£–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è ―ç―²–Η―Ö –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Ι ¬Ϊ–ï―Ä–Φ–Α–Κ¬Μ –¥–Ψ―¹―²–Η–≥ ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι ―à–Η―Ä–Ψ―²―΄, –Κ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ϋ–Β–Β –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–±–Μ–Η–Ε–Α–Μ―¹―è.  –£ ―Ö–Ψ–¥–Β –Ω–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ–Ψ–Ι ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–Β ―É―΅–Β–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ–¥ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ –Γ.–û.–€–Α–Κ–Α―Ä–Ψ–≤–Α ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Μ–Η –Ψ–±―à–Η―Ä–Ϋ―΄–Β ―¹–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ –Μ–Β–¥–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―é, –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–Μ–Η –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Η –Φ–Α–≥–Ϋ–Η―²–Ϋ―΄–Β –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Η ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Η –Κ–Α―Ä―²―É –ù–Ψ–≤–Ψ–Ι –½–Β–Φ–Μ–Η. –ù–Ψ ¬Ϊ–ï―Ä–Φ–Α–Κ¬Μ –Ϋ–Β ―¹–Φ–Ψ–≥ –Ω―Ä–Ψ–±–Η―²―¨―¹―è ―¹–Κ–≤–Ψ–Ζ―¨ –Φ–Ψ―â–Ϋ―΄–Β –Μ―¨–¥―΄ –Κ ―¹–Β–≤–Β―Ä―É –Ψ―² –ù–Ψ–≤–Ψ–Ι –½–Β–Φ–Μ–Η –≤ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―É―é ―΅–Α―¹―²―¨ –ê―Ä–Κ―²–Η–Κ–Η. –î–≤–Β ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η–Η –Ψ―² –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²–Β―Ä―¹―²–≤–Α, ―Ä–Β―à–Η–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–≥–Ψ–¥–Β–Ϋ ―²–Α–Κ–Η―Ö –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Ι –Η –Β–≥–Ψ ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨ –¥–Μ―è –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Κ–Η –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö ―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–≤―΄―Ö ―¹―É–¥–Ψ–≤ –≤ –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β. –î.–‰.–€–Β–Ϋ–¥–Β–Μ–Β–Β–≤, –≤–Ϋ–Η–Φ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–Μ–Β–¥–Η–≤―à–Η–Ι –Ζ–Α –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α–Φ–Η ¬Ϊ–ï―Ä–Φ–Α–Κ–Α¬Μ –≤ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –¦–Β–¥–Ψ–≤–Η―²–Ψ–Φ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Β, –Ϋ–Β ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η–Μ―¹―è ―¹ –≤―΄–≤–Ψ–¥–Α–Φ–Η ―Ü–Α―Ä―¹–Κ–Η―Ö ―¹–Α–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤. –Γ―΅–Η―²–Α―è –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–≥–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ –¥–Μ―è –Α―Ä–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Ι, –Ψ–Ϋ –Ψ–±―Ä–Α―²–Η–Μ―¹―è –Κ –Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä―É ―³–Η–Ϋ–Α–Ϋ―¹–Ψ–≤ ―¹ –Ω―Ä–Ψ―¹―¨–±–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Η―²―¨ –Β–Φ―É –Ω―Ä–Β–¥–Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²―¨ –Ϋ–Ψ–≤―É―é ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η―é –≤ –ê―Ä–Κ―²–Η–Κ―É –Ϋ–Α ¬Ϊ–ï―Ä–Φ–Α–Κ–Β¬Μ. ¬Ϊ–£–Β–¥―¨ –Φ–Ϋ–Ψ―é ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―², - –Ω–Η―¹–Α–Μ –€–Β–Ϋ–¥–Β–Μ–Β–Β–≤, - –Μ–Η―à―¨ –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–¥–Α –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Β―â–Β –Ϋ–Α ―¹–Μ–Α–≤―É –Ϋ–Α―É–Κ–Η –Η –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É –†–Ψ―¹―¹–Η–Η –≤ ―²–Α–Κ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Β–¥–Ω―Ä–Η―è―²–Η–Η, –≥–¥–Β –Ω―Ä–Η–Ψ–±―Ä–Β―²–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ψ–Ω―΄―² –≤ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Η –≤ –Ϋ–Α―É–Κ–Β –Ϋ–Α–Ι–¥–Β―² –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β¬Μ.  –ö–Α–Κ –Ϋ–Η –Ω―΄―²–Α–Μ–Η―¹―¨ ―΅–Η–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ–Η –Ψ–Ω–Ψ―Ä–Ψ―΅–Η―²―¨ –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é –Η–¥–Β―é –Γ.–û.–€–Α–Κ–Α―Ä–Ψ–≤–Α –Ψ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –¥–Ψ―¹―²–Η–≥–Ϋ―É―²―¨ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–Μ―é―¹ –Ϋ–Α –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β, ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ ―ç―²–Ψ –Η–Φ –Ϋ–Β ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨. –€–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–Β ―É―΅–Β–Ϋ―΄–Β –Η –Φ–Ψ―Ä–Β–Ω–Μ–Α–≤–Α―²–Β–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ–Η ―à―²―É―Ä–Φ–Ψ–≤–Α―²―¨ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–Μ―é―¹. –û―¹–Ψ–±–Ψ–Ι ―¹–Α–Φ–Ψ–Ψ―²–≤–Β―Ä–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é ―¹―Ä–Β–¥–Η –Ϋ–Η―Ö –Ψ―²–Μ–Η―΅–Α–Μ―¹―è –™.–·.–Γ–Β–¥–Ψ–≤. –ù–Α –Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Β ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α –Η –Ϋ–Α –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η, ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–Φ–Η –Ω–Α―²―Ä–Η–Ψ―²–Α–Φ–Η, –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Η–Ψ–±―Ä–Β–Μ –Ζ–≤–Β―Ä–Ψ–±–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ–Β ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ ¬Ϊ–Γ–≤. –Λ–Ψ–Κ–Α¬Μ, –Ϋ–Α–±―Ä–Α–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É –Η–Ζ ―¹–Φ–Β–Μ―¨―΅–Α–Κ–Ψ–≤ –Η –≤ ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä–Β 1912 –≥–Ψ–¥–Α ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η―è –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ –Η–Ζ –ê―Ä―Ö–Α–Ϋ–≥–Β–Μ―¨―¹–Κ–Α –≤ –ê―Ä–Κ―²–Η–Κ―É. –ü–Μ–Α–Ϋ –Γ–Β–¥–Ψ–≤–Α –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Α–Μ―¹―è –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ–±―΄, –¥–Ψ―¹―²–Η–≥–Ϋ―É–≤ –½–Β–Φ–Μ–Η –Λ―Ä–Α–Ϋ―Ü–Α-–‰–Ψ―¹–Η―³–Α, –Ψ–±–Ψ―Ä―É–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Ι –±–Α–Ζ―É, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ –Ω―Ä–Η―¹―²―É–Ω–Η―²―¨ –Κ ―à―²―É―Ä–Φ―É –Ω–Ψ–Μ―é―¹–Α. –ü―Ä–Β–Ψ–¥–Ψ–Μ–Β–≤ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Β ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–≤―à–Η–Β―¹―è –≤ –Ω―É―²–Η, ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η―è ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –≥–Ψ–¥ –¥–Ψ―¹―²–Η–≥–Μ–Α –½–Β–Φ–Μ–Η –Λ―Ä–Α–Ϋ―Ü–Α-–‰–Ψ―¹–Η―³–Α. –û–±–Ψ―Ä―É–¥–Ψ–≤–Α–≤ –Ϋ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Η–Ζ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Ψ–≤ –±–Α–Ζ―É, –Γ–Β–¥–Ψ–≤ ―¹ –¥–≤―É–Φ―è –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Α–Φ–Η –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¹―è –Ω–Ψ –Μ―¨–¥―É –Κ –Ω–Ψ–Μ―é―¹―É. –ù–Ψ ―Ü–Η–Ϋ–≥–Α –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ψ―Ä–≤–Α–Μ–Α –Β–≥–Ψ ―¹–Η–Μ―΄, –Η 5 –Φ–Α―Ä―²–Α 1914 –≥–Ψ–¥–Α –Ψ―²–≤–Α–Ε–Ϋ―΄–Ι –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨ ―¹–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α ―Ä―É–Κ–Α―Ö ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Β–Ι. –Γ –Ω–Ψ–Η―¹–Κ–Ψ–Φ ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η –Γ–Β–¥–Ψ–≤–Α ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ψ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Β –Ω―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Η. –ù–Α –±–Ψ―Ä―² –Ω–Α―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α ¬Ϊ–™–Β―Ä―²–Α¬Μ –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –ù–Ψ–≤–Ψ–Ι –½–Β–Φ–Μ–Η –±―΄–Μ –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―² ¬Ϊ–Λ–Α―Ä–Φ–Α–Ϋ¬Μ, ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ –Η–Ζ –Μ–Β―²―΅–Η–Κ–Α –·.–ù–Α–≥―É―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ–Α –·.–ö―É–Ζ–Ϋ–Β―Ü–Ψ–≤–Α. –Δ–Α–Φ ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―² –±―΄–Μ ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ –Η ―¹–Ω―É―â–Β–Ϋ –Ϋ–Α –≤–Ψ–¥―É. –£ –Α–≤–≥―É―¹―²–Β 1914 –≥–Ψ–¥–Α –±–Β―¹―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ―΄–Β –Α–≤–Η–Α―²–Ψ―Ä―΄ –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ–Η―¹―¨ –≤ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö. –‰–Φ –Ϋ–Β ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Α–Ι―²–Η ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ ¬Ϊ–Γ–≤. –Λ–Ψ–Κ–Α¬Μ –Η –±–Α–Ζ―É ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η. –ù–Ψ ―ç―²–Η –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –≤ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η –Ω–Ψ–Μ–Β―²―΄ –Ϋ–Α–¥ –ê―Ä–Κ―²–Η–Κ–Ψ–Ι –Η–Φ–Β–Μ–Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Β –Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Β –¥–Μ―è –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η –≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–Φ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―à–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Η –Μ–Β–¥–Ψ–≤―΄―Ö –Ω–Ψ–Μ–Β–Ι.  –û–¥–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹ –Ω–Ψ–Ω―΄―²–Κ–Α–Φ–Η –Ω―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Κ–Ϋ―É―²―¨ –Κ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ–Μ―é―¹―É –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Φ–Β―Ä―΄ –Κ –Η–Ζ―É―΅–Β–Ϋ–Η―é –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η―è –≤ –½–Α–Ω–Ψ–Μ―è―Ä―¨–Β –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –±–Α–Ζ―΄ –Η ―¹–Κ–≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è ―¹―É–¥–Ψ–≤ –Ω–Ψ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ―É –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Ω―É―²–Η. –Γ ―ç―²–Ψ–Ι ―Ü–Β–Μ―¨―é –Β―â–Β –≤ 1894 –≥–Ψ–¥―É –Ϋ–Α –Γ–Β–≤–Β―Ä –≤―΄–Β–Ζ–Ε–Α–Μ–Α ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Ω―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η―è, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Μ–Α –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄–Φ –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²―¨ –≤ –ö–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Φ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Β –Ω–Ψ―Ä―². –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ω–Ψ–Ζ–Ε–Β –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η―è ―¹–Ψ―΅–Μ–Α –Ϋ–Β―Ü–Β–Μ–Β―¹–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Φ ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²―¨ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ―Ä―² –Ϋ–Α –Γ–Β–≤–Β―Ä–Β. –ö –Η–Ζ―É―΅–Β–Ϋ–Η―é ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Α –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Η―¹―¨ –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ –Μ–Η―à―¨ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –·–Ω–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Β―â–Β ―Ä–Α–Ζ –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–¥–Η–Μ–Α –≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –¥–Μ―è –†–Ψ―¹―¹–Η–Η –Ψ―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Η―è –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―É―²–Η. –£ 1905 –≥–Ψ–¥―É –±―΄–Μ–Α –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Α ―¹―ä–Β–Φ–Κ–Α –Φ―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨―è –Ψ―² –Δ–Β―Ä–Η–±–Β―Ä–Κ–Η –¥–Ψ –Ϋ–Ψ―Ä–≤–Β–Ε―¹–Κ–Ψ–Ι –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü―΄. –£ ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä–Β 1906 –≥–Ψ–¥–Α –Ψ―²―Ä―è–¥ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Β ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –±―Ä–Ψ–Ϋ–Β–Ϋ–Ψ―¹―Ü–Β–≤ ¬Ϊ–Γ–Μ–Α–≤–Α¬Μ, ¬Ϊ–Π–Β―¹–Α―Ä–Β–≤–Η―΅¬Μ –Η –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä ¬Ϊ–ë–Ψ–≥–Α―²―΄―Ä―¨¬Μ –Ω–Ψ–¥ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –‰.–Λ.–ë–Ψ―¹―²―Ä–Β–Φ–Α ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Η–Μ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Η–Ζ –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥ –Γ–Κ–Α–Ϋ–¥–Η–Ϋ–Α–≤–Η–Η –Ϋ–Α –Γ–Β–≤–Β―Ä. –£–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α, –Ω―Ä–Β–¥–Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Ψ–≥–Ψ ―¹ ―Ü–Β–Μ―¨―é –Η–Ζ―É―΅–Β–Ϋ–Η―è –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―²–Β–Α―²―Ä–Α –Η –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η―è –Ζ–¥–Β―¹―¨ –±–Α–Ζ―΄ –¥–Μ―è ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α, –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –Ω–Ψ―¹–Β―²–Η–Μ–Η –ï–Κ–Α―²–Β―Ä–Η–Ϋ–Η–Ϋ―¹–Κ―É―é –≥–Α–≤–Α–Ϋ―¨, –ü–Β―΅–Β―Ä―¹–Κ―É―é –±―É―Ö―²―É –Η –Δ–Β―Ä–Η–±–Β―Ä–Κ―É. –¦–Β―²–Ψ–Φ 1907 –≥–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α –Γ–Β–≤–Β―Ä ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Η–Μ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥ –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä ¬Ϊ–ê–Μ–Φ–Α–Ζ¬Μ –Ω–Ψ–¥ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ê.–™.–ë―É―²–Α–Κ–Ψ–≤–Α. –ù–Α –±–Ψ―Ä―²―É –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Α –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η―è, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Α –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Η―²―¨ –Ϋ–Α–Η–±–Ψ–Μ–Β–Β –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥―è―â–Β–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ –¥–Μ―è ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –±–Α–Ζ―΄. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Η –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ―² ―Ä–Α–Ζ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ –Ψ ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Β –¥–Μ―è ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α –±–Α–Ζ―΄ –Ϋ–Α –Γ–Β–≤–Β―Ä–Β –Ϋ–Β –±―΄–Μ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ. –ù–Β –Μ―É―΅―à–Β –±―΄–Μ–Ψ –Η –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹ –Ψ―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―É―²–Η. –û–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ –Ω–Ψ –Η–Ϋ–Η―Ü–Η–Α―²–Η–≤–Β ―΅–Α―¹―²–Ϋ―΄―Ö –Μ–Η―Ü.  –ü–Β―Ä–≤―É―é –Ω–Ψ–Ω―΄―²–Κ―É ―¹–Κ–≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ―É –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Ω―É―²–Η ―¹ –½–Α–Ω–Α–¥–Α –Ϋ–Α –£–Ψ―¹―²–Ψ–Κ –Ω―Ä–Β–¥–Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –™.–¦.–ë―Ä―É―¹–Η–Μ–Ψ–≤ –Ϋ–Α –Ω–Α―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι ―à―Ö―É–Ϋ–Β ¬Ϊ–Γ–≤. –ê–Ϋ–Ϋ–Α¬Μ. –£ –Α–≤–≥―É―¹―²–Β 1912 –≥–Ψ–¥–Α ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ, –≤―΄―à–Β–¥―à–Β–Β –Η–Ζ –ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Α, –Ψ–±–Ψ–≥–Ϋ―É–Μ–Ψ –Γ–Κ–Α–Ϋ–¥–Η–Ϋ–Α–≤―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Ψ–Μ―É–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤ –Η –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ –≤ –ö–Α―Ä―¹–Κ–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä–Β. –Γ–Μ–Β–¥―É―è –≤–¥–Ψ–Μ―¨ –Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨―è –Ω–Ψ–Μ―É–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –·–Φ–Α–Μ, ―à―Ö―É–Ϋ–Α –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ–Α –≤ ―¹–Ω–Μ–Ψ―à–Ϋ–Ψ–Β –Μ–Β–¥–Ψ–≤–Ψ–Β –Ω–Ψ–Μ–Β. –ï–Β –Ζ–Α―²–Β―Ä–Μ–Ψ –Μ―¨–¥–Α–Φ–Η –Η –¥―Ä–Β–Ι―³–Ψ–Φ –≤―΄–Ϋ–Β―¹–Μ–Ψ –≤ –Ω–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ―΄–Ι –±–Α―¹―¹–Β–Ι–Ϋ. –Δ―è–Ε–Β–Μ―΄–Ι –Μ–Β–¥―è–Ϋ–Ψ–Ι –¥―Ä–Β–Ι―³ ¬Ϊ–Γ–≤. –ê–Ϋ–Ϋ―΄¬Μ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ―¹―è –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ –¥–≤―É―Ö –Μ–Β―². –£ –Α–Ω―Ä–Β–Μ–Β 1914 –≥–Ψ–¥–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≤ 160 –Κ–Η–Μ–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Α―Ö –Κ ―¹–Β–≤–Β―Ä―É –Ψ―² –½–Β–Φ–Μ–Η –Λ―Ä–Α–Ϋ―Ü–Α-–‰–Ψ―¹–Η―³–Α, ―΅–Α―¹―²―¨ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Β 11-―²–Η ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –≤–Ψ –≥–Μ–Α–≤–Β ―¹–Ψ ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Ψ–Φ –£.–‰.–ê–Μ―¨–±–Α–Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ ―¹ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η –Ω–Ψ–Κ–Η–Ϋ―É–Μ–Η ―à―Ö―É–Ϋ―É –Η –Ω–Ψ –¥―Ä–Β–Ι―³―É―é―â–Η–Φ –Μ―¨–¥–Α–Φ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Κ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α–Φ. –ù–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–≤―É–Φ –Η―Ö –Ϋ–Η―Ö, ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―É –Η –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹―É –ö–Ψ–Ϋ―Ä–Α–¥―É, ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –¥–Ψ–±―Ä–Α―²―¨―¹―è –¥–Ψ –±–Β―Ä–Β–≥–Α. –û―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ–≥–Η–±–Μ–Η, –Κ–Α–Κ –Η –Ψ―¹―²–Α–≤―à–Η–Β―¹―è –Ϋ–Α ―à―Ö―É–Ϋ–Β. –Δ–Α–Κ ―²―Ä–Α–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ–Α―¹―¨ ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η―è –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α –™.–¦.–ë―Ä―É―¹–Η–Μ–Ψ–≤–Α. –£―²–Ψ―Ä―É―é –Ω–Ψ–Ω―΄―²–Κ―É –Ω―Ä–Ψ–Ι―²–Η –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Φ –Ω―É―²–Β–Φ –Ϋ–Α –£–Ψ―¹―²–Ψ–Κ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ –≤ 1912 –≥–Ψ–¥―É –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ―΄–Ι –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨ –≥–Β–Ψ–Μ–Ψ–≥ –£.–ê.–†―É―¹–Α–Ϋ–Ψ–≤ –Ϋ–Α –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Φ –Ζ–≤–Β―Ä–Ψ–±–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ–Φ ―¹―É–¥–Ϋ–Β ¬Ϊ–™–Β―Ä–Κ―É–Μ–Β―¹¬Μ –≤–Ψ–¥–Ψ–Η–Ζ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η–Β–Φ 65 ―²–Ψ–Ϋ–Ϋ. –≠―²–Α ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η―è ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ–Α―¹―¨ ―²―Ä–Α–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η. –£–Ψ –≥–Μ–Α–≤–Β ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α, ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è―â–Β–≥–Ψ –Η–Ζ –Ψ–¥–Η–Ϋ–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²–Η ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –†―É―¹–Α–Ϋ–Ψ–≤ –≤―΄―à–Β–Μ ―¹ –ù–Ψ–≤–Ψ–Ι –½–Β–Φ–Μ–Η –≤ –ö–Α―Ä―¹–Κ–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä–Β. –Δ–Α–Φ ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ –Η –≤―¹–Β ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Η ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η –Ω―Ä–Ψ–Ω–Α–Μ–Η –±–Β–Ζ –≤–Β―¹―²–Η. –û–±–Ψ―¹―²―Ä–Β–Ϋ–Η–Β –Φ–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Ι –Ω–Β―Ä–Β–¥ –ü–Β―Ä–≤–Ψ–Ι –Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ–Ι –Ζ–Α―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Ψ ―Ü–Α―Ä―¹–Κ–Ψ–Β –Ω―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ –Ψ–±―Ä–Α―²–Η―²―¨ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α –Η–Ζ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―É―²–Η. –î–Μ―è ―ç―²–Ψ–Ι ―Ü–Β–Μ–Η –≤ –ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Β –±―΄–Μ–Η –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ―΄ –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―¹―É–¥–Α ¬Ϊ–Δ–Α–Ι–Φ―΄―Ä¬Μ –Η ¬Ϊ–£–Α–Ι–≥–Α―΅¬Μ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Β―â–Β –≤ 1909 –≥–Ψ–¥―É ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Η–Μ–Η –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥ –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥ –ï–≤―Ä–Ψ–Ω―΄ –Η –ê–Ζ–Η–Η –≤–Ψ –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ. –ù–Α ―ç―²–Η―Ö ―¹―É–¥–Α―Ö –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≥–Η–¥―Ä–Ψ–≥―Ä–Α―³―΄ –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Η ―΅–Β―²―΄―Ä–Β―Ö –Μ–Β―² ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Η–Μ–Η –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ―΄―Ö –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Ι –≤ –≤–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ―É―é ―΅–Α―¹―²―¨ –ê―Ä–Κ―²–Η–Κ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ζ–Α–≤–Β―Ä―à–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Η–Β–Φ –≤ 1913 –≥–Ψ–¥―É –Α―Ä―Ö–Η–Ω–Β–Μ–Α–≥–Α –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Α―è –½–Β–Φ–Μ―è.  –£ 1914 –≥–Ψ–¥―É –Ω–Ψ –Η–Ϋ–Η―Ü–Η–Α―²–Η–≤–Β –≥–Η–¥―Ä–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―¹―É–¥–Α ¬Ϊ–Δ–Α–Ι–Φ―΄―Ä¬Μ –Η ¬Ϊ–£–Α–Ι–≥–Α―΅¬Μ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Η –Ζ–Α–¥–Α–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ–Ι―²–Η –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Φ –Ω―É―²–Β–Φ –≤ –ê―Ä―Ö–Α–Ϋ–≥–Β–Μ―¨―¹–Κ. –†―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Φ ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η –±―΄–Μ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄–Ι –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨ –ê―Ä–Κ―²–Η–Κ–Η –ë.–ê.–£–Η–Μ―¨–Κ–Η―Ü–Κ–Η–Ι. 24 –Η―é–Ϋ―è 1914 –≥–Ψ–¥–Α –Ψ–Ϋ–Η –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Η –Γ–Α–Ϋ–≥–Α―Ä―¹–Κ–Η–Φ –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤–Ψ–Φ –≤ –Δ–Η―Ö–Η–Ι –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ, –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω–Ψ–Μ―É―΅–Ϋ–Ψ –Φ–Η–Ϋ–Ψ–≤–Α–Μ–Η –ë–Β―Ä–Η–Ϋ–≥–Ψ–≤ –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤ –Η –≤―΄―à–Μ–Η –≤ –ß―É–Κ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä–Β. –ù–Α –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥―É –Κ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤―É –£―Ä–Α–Ϋ–≥–Β–Μ―è ―¹―É–¥–Α –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ–Η―¹―¨ ―¹ ―²―è–Ε–Β–Μ―΄–Φ–Η –Μ―¨–¥–Α–Φ–Η, –Ϋ–Ψ ―¹―É–Φ–Β–Μ–Η –Ψ–±–Ψ–Ι―²–Η –Η―Ö –Η –£–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ-–Γ–Η–±–Η―Ä―¹–Κ–Η–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β–Φ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –¥–Α–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Α –½–Α–Ω–Α–¥. –£ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä―è 1914 –≥–Ψ–¥–Α ¬Ϊ–Δ–Α–Ι–Φ―΄―Ä¬Μ –Η ¬Ϊ–£–Α–Ι–≥–Α―΅¬Μ –Ω–Ψ–¥–Ψ―à–Μ–Η –Κ –Ω–Ψ–Μ―É–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤―É –Δ–Α–Ι–Φ―΄―Ä. –ù–Β–¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –Ψ―² –Φ―΄―¹–Α –ß–Β–Μ―é―¹–Κ–Η–Ϋ–Α –Η―Ö –Ζ–Α―²–Β―Ä–Μ–Ψ –Μ―¨–¥–Α–Φ–Η –Η –Ψ–Ϋ–Η –±―΄–Μ–Η –≤―΄–Ϋ―É–Ε–¥–Β–Ϋ―΄ –Ψ―¹―²–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –Ζ–Η–Φ–Ψ–≤–Κ―É –≤ –ê―Ä–Κ―²–Η–Κ–Β. –£ –Η―é–Μ–Β 1915 –≥–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Μ―¨–¥–Α. –Γ―É–¥–Α –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Η –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Β –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α –½–Α–Ω–Α–¥. 3-–≥–Ψ ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä―è 1915 –≥–Ψ–¥–Α –Ψ–Ϋ–Η –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ–Η –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω–Ψ–Μ―É―΅–Ϋ–Ψ –≤ –ê―Ä―Ö–Α–Ϋ–≥–Β–Μ―¨―¹–Κ. –Γ–Κ–≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Β–Ι―¹ –±―΄–Μ –Ζ–Α–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ. ¬Ϊ–Δ–Α–Ι–Φ―΄―Ä¬Μ –Η ¬Ϊ–£–Α–Ι–≥–Α―΅¬Μ –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –≤ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η –Φ–Ψ―Ä–Β–Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Η –Ζ–Α –¥–≤–Β –Ϋ–Α–≤–Η–≥–Α―Ü–Η–Η, ―¹ –Ζ–Η–Φ–Ψ–≤–Κ–Ψ–Ι –≤ –ê―Ä–Κ―²–Η–Κ–Β, –≤–Β―¹―¨ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω―É―²―¨ ―¹ –£–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Α –Ϋ–Α –½–Α–Ω–Α–¥. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ –≤―΄–¥–Α―é―â–Η–Ι―¹―è –Ω–Ψ–¥–≤–Η–≥ ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η―Ö –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤. –û–Ϋ–Η –≤–Ϋ–Β―¹–Μ–Η ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤–Κ–Μ–Α–¥ –≤ –Ψ―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Η–Β –ê―Ä–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –±–Α―¹―¹–Β–Ι–Ϋ–Α –Η –Ψ―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω―É―²–Η. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ ―ç―²–Ψ ―è–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Μ–Η―à―¨ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ–Φ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–≥–Ψ –¥–Β–Μ–Α, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–≤―à–Β–≥–Ψ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Β–Β ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η–Β ―É–Ε–Β –≤ ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è. –Δ–Α–Κ–Η–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–Β –Μ―é–¥–Η –±–Ψ–Μ–Β–Β ―²―΄―¹―è―΅–Β–Μ–Β―²–Η―è, –±–Β―¹―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ–Ψ –Η –Ϋ–Β―É―¹―²–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ω―Ä–Β–Ψ–¥–Ψ–Μ–Β–≤–Α―è –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Β ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, ―à–Α–≥ –Ζ–Α ―à–Α–≥–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ–¥–≤–Η–≥–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Γ–Β–≤–Β―Ä, –Ψ―²–≤–Ψ–Β–≤―΄–≤–Α―è ―É ―¹―É―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–¥―΄ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β –Η –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β –Ζ–Β–Φ–Μ–Η –Ϋ–Α –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨–Β –ë–Β–Μ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è –Η –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¦–Β–¥–Ψ–≤–Η―²–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Α. –ù–Η―΅―²–Ψ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Ψ –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¨ ―ç―²–Η―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―Ä–Α–¥–Η –Ϋ–Α―É–Κ–Η –Η –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ψ–≤ –†–Ψ–¥–Η–Ϋ―΄ –≥–Ψ―²–Ψ–≤―΄ –±―΄–Μ–Η –Ω–Ψ–Ι―²–Η –Ϋ–Α –Μ―é–±―΄–Β –Ε–Β―Ä―²–≤―΄. –€–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö –Ω–Ψ–≥–Η–±–Μ–Η, –Ϋ–Ψ –Η―Ö ―²―Ä―É–¥ –Η –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–Ω–Α–Μ–Η –¥–Α―Ä–Ψ–Φ. –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Β –Μ―é–¥–Η ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Η–Μ–Η –Η –Ζ–Α–≤–Β―Ä―à–Η–Μ–Η ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β –¥–Β–Μ–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Ψ―Ä–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –ê―Ä–Κ―²–Η–Κ–Η, –≤–Ψ–¥―Ä―É–Ζ–Η–≤ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―³–Μ–Α–≥ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄ –Γ–Ψ–≤–Β―²–Ψ–≤ –Ϋ–Α –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ―é―¹–Β, –Ω―Ä–Β–≤―Ä–Α―²–Η–≤ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω―É―²―¨ –≤ –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ –¥–Β–Ι―¹―²–≤―É―é―â―É―é –Φ–Α–≥–Η―¹―²―Ä–Α–Μ―¨.  –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―².
11.09.201311:1111.09.2013 11:11:05
0
11.09.201311:0011.09.2013 11:00:51
 –Γ–Ϋ–Β–Ε–Ϋ―΄–Β ―Ö–Μ–Ψ–Ω―¨―è –Ψ―¹–Β–¥–Α–Μ–Η –Ϋ–Α ―²–Β–Φ–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ–Κ–Ϋ–Β. –ù–Α ―¹―²–Β–Ϋ–Β –≤ ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ–Ι ―Ä–Α–Φ–Β –≤–Η―¹–Η―² –Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ–Α: ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ ―¹ –Ω–Ψ―¹–Ψ―Ö–Ψ–Φ –Η–¥–Β―² –Ω–Ψ ―¹–Ϋ–Β–≥―É –Ω–Ψ–¥ –Ζ–Η–Φ–Ϋ–Η–Φ –±–Α–≥―Ä–Ψ–≤―΄–Φ ―¹–Ψ–Μ–Ϋ―Ü–Β–Φ; ―΅―É–≤―¹―²–≤―É–Β―²―¹―è, ―²―Ä–Β―â–Η―² –Φ–Ψ―Ä–Ψ–Ζ. –Δ–Ψ–Ε–Β –Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ–Α –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–≥–Ψ ―Ö―É–¥–Ψ–Ε–Ϋ–Η–Κ–Α, –Η –Ϋ–Α –≤–Β―¹―¨ –≥–Ψ―¹―²–Η–Ϋ–Η―΅–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä βÄî –Ψ–¥–Ϋ–Α, –Α –Ϋ–Β –¥–Β―¹―è―²–Κ–Η, –Κ–Α–Κ ―É ¬Ϊ–Ω–Ψ–Μ―¹―²–Α―Ä―É―à–Κ–Η¬Μ, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Μ –Β–Β ―Ä―΄–Ε–Β―É―¹―΄–Ι. –Ξ–Ψ―Ä–Ψ―à –±―΄ ―è –±―΄–Μ, –Β―¹–Μ–Η –±―΄ ―É–≤–Β―à–Α–Μ ―¹–≤–Ψ―é –Κ–Ψ–Φ–Ϋ–Α―²―É –≤ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Β –≤–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ–Α–Φ–Η! –ê–Μ―è –≤–±–Β–Ε–Α–Μ–Α, –Ζ–Α–Ω―΄―Ö–Α–≤―à–Α―è―¹―è, –Ζ–Α–Ω–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è ―¹–Ϋ–Β–≥–Ψ–Φ, ―¹―²―Ä―è―Ö–Ϋ―É–Μ–Α ―¹–Ϋ–Β–≥ ―¹ ―à―É–±–Κ–Η, ―¹–Ϋ―è–Μ–Α –±–Ψ―²–Η–Κ–Η: βÄî –€–Η–Μ―΄–Ι! –· ―É–Ε–Α―¹–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ―¹–Κ―É―΅–Η–Μ–Α―¹―¨! –û–Ϋ–Α βÄî –Β–≥–Ψ –ê–Μ―è, ―¹ –Ϋ–Β–Ι –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―² ―Ä–Α―¹―¹―²–Α―²―¨―¹―è! –ü–Ψ―Ü–Β–Μ–Ψ–≤–Α–≤, –Ψ–Ϋ–Α –Ψ―²–Ψ–¥–≤–Η–Ϋ―É–Μ–Α―¹―¨ –Η –Η―¹–Ω―΄―²―É―é―â–Β –Ζ–Α–≥–Μ―è–Ϋ―É–Μ–Α –Β–Φ―É –≤ –≥–Μ–Α–Ζ–Α: βÄî –£―¹–Β –Ε–Β ―΅―²–Ψ-―²–Ψ ―¹ ―²–Ψ–±–Ψ–Ι ―¹–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Η–Μ–Η ―è ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α―é ―²–Β–±―è. –†–Ψ―¹―²–Η―¹–Μ–Α–≤ –≤–Ζ―è–Μ –Β–Β –Ζ–Α–Φ–Β―Ä–Ζ―à–Η–Β ―Ä―É–Κ–Η –Η –Ζ–Α–¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ –≤ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö, –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―²–Β–Ω–Μ―΄―Ö: βÄî –Γ–Κ–Α–Ε–Η, –ê–Μ―è, –Ψ―²–Κ―É–¥–Α ―É –≤–Α―¹ –≤―¹–Β –Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ―΄, –≤–Α–Ζ―΄, –Κ–Ϋ–Η–≥–Η, ―Ö―Ä―É―¹―²–Α–Μ―¨? βÄî –ö–Α–Κ –Ψ―²–Κ―É–¥–Α? –ö–Α―Ä―²–Η–Ϋ―΄ –Ψ―²–Β―Ü ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–Μ, –Ψ–Ϋ, –Φ–Α–Φ–Α –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―², ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ζ–Α―Ä–Α–±–Α―²―΄–≤–Α–Μ –¥–Ψ –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄, ―¹–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ –Κ–Ψ–Ω–Η–Η. –ê –Κ–Ψ–Β-―΅―²–Ψ –Φ–Α–Φ–Β –Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Η –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –±–Μ–Ψ–Κ–Α–¥―΄ ―²–Β –Μ―é–¥–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –Ψ–Ϋ–Α –Ω–Ψ –Φ–Β―Ä–Β ―¹–Η–Μ –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α–Μ–Α. βÄî –ß–Β–Φ –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α–Μ–Α? βÄî –ö–Α–Κ ―΅–Β–Φ? βÄî ―É–¥–Η–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ –ê–Μ―è. –£–Ζ–≥–Μ―è–¥ –Β–Β –±―΄–Μ ―΅–Η―¹―² –Η ―è―¹–Β–Ϋ. βÄî –€–Α–Φ–Α ―É―Ö–Α–Ε–Η–≤–Α–Μ–Α –Ζ–Α –Ϋ–Η–Φ–Η, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η ―É–Ε–Β –≤―¹―²–Α―²―¨, –Ω―Ä–Η–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Α –Η–Φ ―Ö–Μ–Β–±, –≤–Ψ–¥―É... ―²―΄ –Ζ–Ϋ–Α–Β―à―¨, –Κ–Α–Κ ―²–Ψ–≥–¥–Α –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Α―²―¨ –±―΄–Μ–Ψ –≤–Ψ–¥―É... –≤ –Ω―Ä–Ψ―Ä―É–±–Η; –Η –Ψ–Ϋ–Η –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Α–≥–Α–Μ–Η: –≤–Ψ–Ζ―¨–Φ–Η―²–Β, –€–Α―Ä–Η―è –Λ–Η―Ä―¹–Ψ–≤–Ϋ–Α, ―΅―²–Ψ ―Ö–Ψ―²–Η―²–Β –Ϋ–Α –Ω–Α–Φ―è―²―¨, –Ϋ–Α–Φ –≤―¹–Β ―ç―²–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Β –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ. 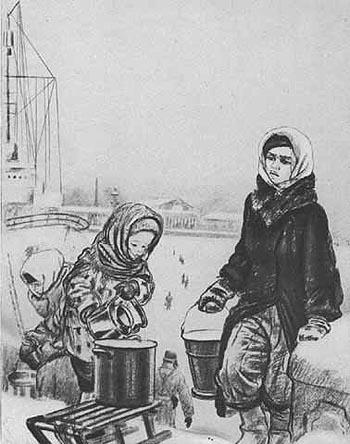 βÄî –ê ―²―΄ –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –¥―Ä―É–≥–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Μ―΄―à–Α–Μ–Α? –ï–Β ―â–Β–Κ–Η –≤―¹–Ω―΄―Ö–Ϋ―É–Μ–Η: βÄî –ù–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Α ―è –Ω–Ψ–≤–Β―Ä–Η―²―¨? βÄî –ê –Β―¹–Μ–Η –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –±―΄–Μ–Α –¥–Ψ–Μ―è –Ω―Ä–Α–≤–¥―΄? βÄî –· –±―΄ ―É–Φ–Β―Ä–Μ–Α –Ψ―² –≥–Ψ―Ä―è, βÄî ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α –Ψ–Ϋ–Α ―²–Α–Κ ―²–Η―Ö–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Β–Μ–Β (―Ä–Α―¹―¹–Μ―΄―à–Α–Μ. –ü–Ψ―²–Ψ–Φ –≤―¹–Κ–Η–Ϋ―É–Μ–Α –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―É: βÄî –½–Ϋ–Α―΅–Η―², ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è ―²―΄ ―É―¹–Μ―΄―à–Α–Μ –Κ–Α–Κ―É―é-―²–Ψ –Κ–Μ–Β–≤–Β―²―É –Η –Ω–Ψ–≤–Β―Ä–Η–Μ –Η –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É –Ϋ–Β –Ζ–Α―à–Β–Μ –Κ –Ϋ–Α–Φ, –Γ–Μ–Α–≤–Α? βÄî –Δ―΄ –Ζ–Ϋ–Α–Β―à―¨, –ê–Μ―è, βÄî –Ψ–Ϋ –Κ―Ä–Β–Ω–Κ–Ψ –¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ –Β–Β ―¹–Ψ–≥―Ä–Β–≤―à–Η–Β―¹―è ―Ä―É–Κ–Η, –Ψ–Ϋ–Α –≤―΄―Ä―΄–≤–Α–Μ–Α –Η―Ö. βÄî –· –¥―É–Φ–Α―é, ―¹―²–Α―Ä―΄–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η–Ι –Ϋ–Β –Κ–Μ–Β–≤–Β―²–Α–Μ. –ù–Β―É–Ε–Β–Μ–Η ―²―΄ –≤–Β―Ä–Η―à―¨, ―΅―²–Ψ ―²–≤–Ψ–Ι –Ψ―²–Β―Ü –Φ–Ψ–≥ –Ω–Ψ–Κ―É–Ω–Α―²―¨ –Φ―É–Ζ–Β–Ι–Ϋ―΄–Β –Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ―΄? –£–Β–¥―¨ –Ψ–Ϋ–Η ―¹―²–Ψ―è―² ―²―΄―¹―è―΅–Η... βÄî –Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ –Ε–Β –™–Α–≤―Ä―é―à–Η–Ϋ ―²–Β–±–Β ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ? βÄî ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ ―É–Ω–Α–≤―à–Η–Φ –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹–Ψ–Φ ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Α –Ψ–Ϋ–Α. –†–Ψ―¹―²–Η―¹–Μ–Α–≤ –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–Μ –Κ–Α–Κ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Ψ―΅–Β ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ ―É―¹–Μ―΄―à–Α–Μ –Ψ―² –Β–Β ―¹–Ψ―¹–Β–¥–Α. –£―¹―è ―¹–Ψ–¥―Ä–Ψ–≥–Α―è―¹―¨, –ê–Μ―è ―É–Ω–Α–Μ–Α –Μ–Η―Ü–Ψ–Φ –Κ –Ϋ–Β–Φ―É –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η. –•–Α–Μ–Β―è –Β–Β, –Ψ–Ϋ –≥–Μ–Α–¥–Η–Μ –≤–Ψ–Μ–Ψ―¹―΄, –Κ–Ψ―¹–Ϋ―É–Μ―¹―è –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Η―Ö ―É―à–Β–Κ, –Η –Ψ–Ϋ–Α –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α―¹―¨ .–Β–Φ―É ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –±–Β–Ζ–Ζ–Α―â–Η―²–Ϋ–Ψ–Ι... βÄî ...–· ...―è –Ψ ―΅–Β–Φ-―²–Ψ –¥–Ψ–≥–Α–¥―΄–≤–Α–Μ–Α―¹―¨, βÄî –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ–Α –Ψ–Ϋ–Α –Ζ–Α–Ω–Μ–Α–Κ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Μ–Η―Ü–Ψ, βÄî ―è –Ψ ―΅–Β–Φ-―²–Ψ –¥–Ψ–≥–Α–¥―΄–≤–Α–Μ–Α―¹―¨, –Ϋ–Ψ –≤–Β–¥―¨ –Ψ–Ϋ–Α βÄî –Φ–Ψ―è –Φ–Α―²―¨... –Ω–Ψ–Ι–Φ–Η, –Φ–Ψ―è –Φ–Α―²―¨... –Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ –Ε–Β –Φ–Ϋ–Β –¥–Β–Μ–Α―²―¨, –Γ–Μ–Α–≤–Α? βÄî ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Α –ê–Μ―è ―¹ –Ψ―²―΅–Α―è–Ϋ–Η–Β–Φ. βÄî –ï―¹–Μ–Η –≤―¹–Β ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Α–≤–¥–Α, ―è –Ζ–Ϋ–Α―é, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Α ―¹–Κ–Α–Ε–Β―²: –Ϋ–Α –≤―¹–Β ―à–Μ–Α ―Ä–Α–¥–Η –Φ–Β–Ϋ―è, –Φ–Β–Ϋ―è ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Α ―¹–Ω–Α―¹―²–Η! –ê –≤–Β–¥―¨ –Μ―É―΅―à–Β –±―΄ ―è –Ϋ–Β –≤―΄–Ε–Η–Μ–Α... ―²–Ψ–≥–¥–Α, –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –±–Μ–Ψ–Κ–Α–¥―΄... –Η–Μ–Η –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β... –Ω–Ψ―¹–Μ–Β... –Κ–Ψ–≥–¥–Α... –Ϋ―É, –Ζ–Α―΅–Β–Φ ―²―΄ ―¹–Ω–Α―¹–Α–Μ –Φ–Β–Ϋ―è? –Θ –Φ–Β–Ϋ―è –≤―¹–Β –≤–Ϋ―É―²―Ä–Η –Ϋ–Α–¥–Μ–Ψ–Φ–Η–Μ–Ψ―¹―¨... –Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ –Ε–Β –Φ–Ϋ–Β –¥–Β–Μ–Α―²―¨, –Γ–Μ–Α–≤–Α? –ß―²–Ψ? βÄî –Θ–Β–¥–Β–Φ –≤ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ. –Γ ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –≤–Ψ–Ζ―¨–Φ–Β–Φ. βÄî –· –≤―¹–Β –Ε–Β ―¹–Ω―Ä–Ψ―à―É –Β–Β... βÄî –≤―¹–Κ–Η–Ϋ―É–Μ–Α –ê–Μ―è –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―É. βÄî –£―¹–Β –Ε–Β ―¹–Ω―Ä–Ψ―à―É. –ü―É―¹―²―¨ –Ψ–Ϋ–Α ―¹–Κ–Α–Ε–Β―². βÄî –Δ―è–Ε–Β–Μ―΄–Ι ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä, –ê–Μ―è. –Γ―²–Ψ–Η―² –Μ–Η? βÄî –€–Α–Φ–Α –Ϋ–Α –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Φ ―à–Α–≥―É –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²: ¬Ϊ–€―΄, –Μ–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―Ü―΄, –Ϋ–Β ―²–Α–Κ–Η–Β, –Κ–Α–Κ –≤―¹–Β¬Μ. –½–Ϋ–Α―΅–Η―², –Μ―É―΅―à–Β? –ê –Β―¹–Μ–Η –Ψ–Ϋ–Α βÄî ―Ö―É–Ε–Β –≤―¹–Β―Ö? –ü―É―¹―²―¨ –Ψ―²–≤–Β―²–Η―²...  –û–Ϋ–Η –≤ ―²–Ψ―² –≤–Β―΅–Β―Ä –Ϋ–Η–Κ―É–¥–Α –Ϋ–Β –Ω–Ψ―à–Μ–Η. –û–Ϋ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –ê–Μ―è –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Ψ ―¹―²―Ä–Α–¥–Α–Β―². –û–Ϋ–Α ―É–Β―Ö–Α–Μ–Α ―Ä–Α–Ϋ–Ψ, –Ζ–Α–Ω―Ä–Β―²–Η–≤ ―¹–Β–±―è –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–Α―²―¨. –£–Β―΅–Β―Ä –±―΄–Μ –≤–Ψ–≤―¹–Β –Η―¹–Ω–Ψ―Ä―΅–Β–Ϋ. –ù–Α –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –†–Ψ―¹―²–Η―¹–Μ–Α–≤ –Ε–¥–Α–Μ –Ζ–≤–Ψ–Ϋ–Κ–Α. –î–Ψ–Μ–≥–Ψ. –î–Α–Ε–Β –Β–Μ –≤ –Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä–Β, –±–Ψ―è–Μ―¹―è ―É–Ι―²–Η, ―Ö–Ψ―²―è –≤ –Ψ–Κ–Ϋ–Ψ ―è―Ä–Κ–Ψ ―¹–≤–Β―²–Η–Μ–Ψ ―¹–Ψ–Μ–Ϋ―Ü–Β. –û–Ϋ–Α –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Ϋ–Η–Μ–Α ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄. –™–Ψ–Μ–Ψ―¹ ―É –Ϋ–Β–Β –±―΄–Μ –Ϋ–Β–Μ–Α―¹–Κ–Ψ–≤―΄–Ι: βÄî –€–Α–Φ–Α ―É–≤–Β―Ä―è–Β―², ―΅―²–Ψ –≤―¹–Β ―ç―²–Ψ –≥–Ϋ―É―¹–Ϋ–Α―è –Κ–Μ–Β–≤–Β―²–Α –Η –Ψ–Ϋ–Α –Ϋ–Β –Ψ–Ε–Η–¥–Α–Μ–Α, ―΅―²–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ―¹―΅–Η–Κ–Ψ–Φ –Κ–Μ–Β–≤–Β―²―΄ –±―É–¥–Β―à―¨ ―²―΄. –û–Ϋ–Α ―Ö–Ψ―΅–Β―², ―΅―²–Ψ–±―΄ ―è ―¹ ―²–Ψ–±–Ψ–Ι –Ϋ–Β –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Μ–Α―¹―¨. –ù–Ψ ―è –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥―É... –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥―É, –Γ–Μ–Α–≤–Α... βÄî –û–Ϋ–Α –Ζ–Α―à–Β–Ω―²–Α–Μ–Α –≤ ―²―Ä―É–±–Κ―É: βÄî –·, –Ω―Ä–Α–≤–Ψ, –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α―é... –î–Α–Ι –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α―²―¨... –ù–Β―², –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–¥―É. –Θ–Β–Ζ–Ε–Α–Β―à―¨? –Θ–Φ–Ψ–Μ―è―é ―²–Β–±―è, –¥–Α–Ι –Φ–Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α―²―¨... ―è –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Α ―Ä–Β―à–Η―²―¨, ―è ―²–Α–Κ –Φ―É―΅–Α―é―¹―¨... –£ ―²–Ψ―² –Ε–Β –≤–Β―΅–Β―Ä –†–Ψ―¹―²–Η―¹–Μ–Α–≤ –Ω–Ψ–Β―Ö–Α–Μ –Κ –ï–Μ–Α–≥–Η–Ϋ―É –Φ–Ψ―¹―²―É. –ï―¹–Μ–Η –™–Α–≤―Ä―é―à–Η–Ϋ –Η ―¹–±―Ä–Β―Ö–Ϋ―É–Μ ―΅―²–Ψ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨, ―²–Ψ –¥―Ä―É–≥–Η–Β... –™–Α–≤―Ä―é―à–Η–Ϋ ―É–Ω–Ψ–Φ―è–Ϋ―É–Μ –¥–≤–Α–¥―Ü–Α―²―¨ –Ω–Β―Ä–≤―É―é –Κ–≤–Α―Ä―²–Η―Ä―É. ¬Ϊ–½–Α–Ι–¥―ɬΜ,βÄî ―Ä–Β―à–Η–Μ –Ψ–Ϋ. –†–Ψ―¹―²–Η―¹–Μ–Α–≤ –≤–Ψ―à–Β–Μ –≤ –Ω–Ψ–Μ―É―²–Β–Φ–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–¥―ä–Β–Ζ–¥, –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ –±–Ψ―è―¹―¨ –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η―²―¨ –ê–Μ―é –Η–Μ–Η –Β–Β –Φ–Α―²―¨. –ë–Β–≥–Ψ–Φ –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ―¹―è –Ϋ–Α ―΅–Β―²–≤–Β―Ä―²―΄–Ι ―ç―²–Α–Ε. –ü–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Ϋ–Η–Μ. –î–≤–Β―Ä―¨ –Ψ―²–Κ―Ä―΄–Μ–Α –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Α―è –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α –≤ –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Φ –¥–Ε–Β–Φ–Ω–Β―Ä–Β –Η –≤ –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Μ–Α―²–Ψ―΅–Κ–Β. –ù–Β ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–≤, –Κ –Κ–Ψ–Φ―É –Ψ–Ϋ, –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α: ¬Ϊ–£―Ö–Ψ–¥–Η―²–Β¬Μ. –û–Ϋ –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ: –≤–Β―¹―¨ –¥–Ψ–Φ ―É–Ε–Β –Ζ–Ϋ–Α–Β―², –Κ―²–Ψ –Ψ–Ϋ.  ―¹–Ψ―¹―²–Ψ–Η―² –Η–Ζ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Α –Η –Ϋ–Α–±–Η–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Α–Μ–Ψ―΅–Κ–Η, –≤―΄―²–Α–Μ–Κ–Η–≤–Α―é―â–Β–Ι ―²–Α–±–Α–Κ –Η–Ζ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Α –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Κ–Η –≤ –≥–Η–Μ―¨–Ζ―É. –‰–Ζ–Φ–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹―²–Α―Ä–Η–Κ –≤ ―¹―²–Α―Ä–Ψ–Φ–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Η–¥–Ε–Α–Κ–Β –Ϋ–Α–±–Η–≤–Α–Μ –Ζ–Α –Ψ–±–Β–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–Φ –Ω–Α–Ω–Η―Ä–Ψ―¹―΄. –û–Ϋ –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ―¹―è, ―É–≤–Η–¥–Β–≤ –†–Ψ―¹―²–Η―¹–Μ–Α–≤–Α, –Ω―Ä–Ψ―²―è–Ϋ―É–Μ ―Ä―É–Κ―É ―¹ –¥–Μ–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ε–Β–Μ―²―΄–Φ–Η –Ω–Α–Μ―¨―Ü–Α–Φ–Η. βÄî –®–Α–±–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η–Ι. –ê –Ψ–Ϋ–Α βÄî –Φ–Ψ―è –¥–Ψ―΅―¨, –ê–Ϋ–Ϋ–Α. –€–Ψ–Μ–Ψ–¥–Α―è –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α –Ω―Ä–Η–≤–Β―²–Μ–Η–≤–Ψ ―É–Μ―΄–±–Ϋ―É–Μ–Α―¹―¨. βÄî –ß–Β–Φ –Φ–Ψ–≥―É ―¹–Μ―É–Ε–Η―²―¨? βÄî ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ ―Ü–Β―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ –®–Α–±–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η–Ι, –Ω–Ψ–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è―è ―¹―²–Α―Ä–Ψ–Φ–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –≥–Α–Μ―¹―²―É–Κ.βÄî –Δ–Α–Κ ―è –Η –Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Μ,βÄî ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ψ–Ϋ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –†–Ψ―¹―²–Η―¹–Μ–Α–≤, –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Μ–Ϋ―É―è―¹―¨, –Η–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ ―Ü–Β–Μ―¨ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Α.βÄî –ù–Β―², –€–Α―²–≤–Β–Η―΅ –≤–Α–Φ –Ϋ–Β ―¹–Ψ–Μ–≥–Α–Μ. –€–Α―Ä–Η―è –Λ–Η―Ä―¹–Ψ–≤–Ϋ–Α –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―Ö–Η―â–Ϋ–Η―Ü–Α. –£–Ψ―² –≤―¹–Β, ―΅―²–Ψ –≤―΄ –≤–Η–¥–Η―²–Β,βÄî –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ψ–Ϋ –Ϋ–Α –Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ―΄ –Ϋ–Α ―¹―²–Β–Ϋ–Α―Ö,βÄî –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Φ―΄ ―¹ –ê–Ϋ–Β–Ι –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Η―¹―¨ –Η–Ζ ―ç–≤–Α–Κ―É–Α―Ü–Η–Η, –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –≤ –Β–Β –Κ–≤–Α―Ä―²–Η―Ä–Β, –Η –≤ –Κ–≤–Α―Ä―²–Η―Ä―É –Κ ―¹–Β–±–Β –Ψ–Ϋ–Α –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ω―É―¹–Κ–Α–Μ–Α, –¥–Α –Ϋ–Β –Ω―É―¹–Κ–Α–Β―² –Η –¥–Ψ ―¹–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä. –û–Ϋ–Α –≤ ―²–Β –¥–Ϋ–Η –±―΄–Μ–Α –≤ ―¹–Β–±–Β ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Α, ―è –Ψ –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Α―Ö –¥–Ψ–≥–Α–¥―΄–≤–Α―é―¹―¨, –Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É ―ç―²–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Ψ–≥–Α–¥–Κ–Η, –Ϋ–Β –Ϋ–Α―Ö–Ψ–Ε―É –Ϋ―É–Ε–Ϋ―΄–Φ –Η―Ö –Η–Ζ–Μ–Α–≥–Α―²―¨. –ù–Ψ ―è –¥―Ä―É–Ε–Η–Μ ―¹ –Β–Β –Φ―É–Ε–Β–Φ, –Ϋ–Β―¹―΅–Α―¹―²–Ϋ―΄–Φ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Φ, –Ω―Ä–Ψ–Ω–Η–≤―à–Η–Φ ―²–Α–Μ–Α–Ϋ―², –Η –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ϋ–Β ―²–Ψ –Ω―Ä–Η–≥―Ä–Ψ–Ζ–Η–Μ, –Ϋ–Β ―²–Ψ –≤–Ψ–Ζ–Ζ–≤–Α–Μ –Κ –Β–Β ―¹–Ψ–≤–Β―¹―²–Η, ―Ö–Ψ―²―è ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–≤–Α―é―¹―¨, ―΅―²–Ψ ―É –Ϋ–Β–Β –Β―¹―²―¨ ―ç―²–Α ―¹–Α–Φ–Α―è ―¹–Ψ–≤–Β―¹―²―¨. –£–Ψ –≤―¹―è–Κ–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β, –Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ–Η –¥–Β–Μ–Ψ –Φ–Η―Ä–Ψ–Φ: –≤–Β―â–Η –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Φ–Β―¹―²–Ψ, –≤―¹–Β ―à–Η―²–Ψ-–Κ―Ä―΄―²–Ψ, –Φ–Ψ–Μ―΅–Ψ–Κ. –ù–Α―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―è –Ζ–Ϋ–Α―é, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Β―â–Β –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Β―Ü –Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ ―¹–≤–Ψ–Η –≤–Β―â–Η. –û―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β... –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η ―É–Ε–Β ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α―²―¨...βÄî –û–Ϋ –Ϋ–Α–±–Η–Μ –Ω–Α–Ω–Η―Ä–Ψ―¹―É, –Ζ–Α–Κ―É―Ä–Η–Μ ―¹ –Ε–Α–¥–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Ζ–Α―è–¥–Μ–Ψ–≥–Ψ –Κ―É―Ä–Η–Μ―¨―â–Η–Κ–Α. βÄî –· –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α―é, –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É –≤―΄ –Ω―Ä–Η―à–Μ–Η, ―è ―É–≤–Α–Ε–Α―é –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β–Ε―¨, ―É –≤–Α―¹ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ψ ―΅–Β―¹―²–Η, –Φ–Ψ―Ä–Α–Μ–Η. –£―΄, ―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Β–Β―²―¹―è, ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η―²–Β, –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É ―è –Φ–Ψ–Μ―΅–Α–Μ, –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É ―è –Ϋ–Β –≤―΄–≤–Β–Μ ―Ö–Η―â–Ϋ–Η―Ü―É –Ϋ–Α ―΅–Η―¹―²―É―é –≤–Ψ–¥―É? –· βÄî ―¹―²–Α―Ä―΄–Ι –Η–Ϋ―²–Β–Μ–Μ–Η–≥–Β–Ϋ―², –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –Η ―ç―²–Η–Φ –≤―¹–Β ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ψ. –€―è–≥–Κ–Ψ―²–Β–Μ. –ö–Ψ–≥–¥–Α ―è –Β–Ι –Ω―Ä–Η–≥―Ä–Ψ–Ζ–Η–Μ, –Ψ–Ϋ–Α ―É–Φ–Ψ–Μ―è–Μ–Α –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨ –¥–Β–Μ–Α ―Ä–Α–¥–Η –¥–Ψ―΅–Β―Ä–Η. –‰ ―ç―²–Η–Φ –Ψ–±–Β–Ζ–Ψ―Ä―É–Ε–Η–Μ–Α –Φ–Β–Ϋ―è. –ê–Μ―è ―΅–Η―¹―²–Α―è, ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ–Α―è –¥–Β–≤–Ψ―΅–Κ–Α, –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, –Ϋ–Β ―²–Α–Κ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α –Φ–Α―²–Β―Ä―¨―é, –Κ–Α–Κ –≤―΄, ―¹–Κ–Α–Ε–Β–Φ, –Η–Μ–Η –≤–Α―à–Η ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Η, –Η ―è ―É–±–Β–Ε–¥–Β–Ϋ, ―΅―²–Ψ –Φ–Α―²―¨ –≤―¹―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Β–Ι –≤―²–Η―Ä–Α–Β―² –Ψ―΅–Κ–Η, ―É–±–Β–Ε–¥–Α–Β―² –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Β–Β –Ψ―²–Β―Ü ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–Κ―Ü–Η―é... –ù–Β ―²–Α–Κ –Μ–Η? βÄî –Δ–Α–Κ,βÄî ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η–Μ―¹―è –†–Ψ―¹―²–Η―¹–Μ–Α–≤.  βÄî –ï–Β –Ψ―²–Β―Ü –±―΄–Μ –Ζ–Α–±–Η―²―΄–Ι –Η –Ϋ–Η―â–Η–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ. –£―¹–Β, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Ζ–Α―Ä–Α–±–Α―²―΄–≤–Α–Μ, –Ω―Ä–Ψ–Ω–Η–≤–Α–Μ. –Θ –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Μ–Η―à–Ϋ–Β–≥–Ψ –Κ–Ψ―¹―²―é–Φ–Α. –ê –≤–Β–¥―¨ –Φ–Ψ–≥ –±―΄―²―¨ –Ω―Ä–Β–Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Φ ―Ö―É–¥–Ψ–Ε–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ. –£–Ψ―², –≤–Ζ–≥–Μ―è–Ϋ–Η―²–Β, –Ψ–Ϋ –Κ–Ψ–≥–¥–Α-―²–Ψ –Φ–Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–Α―Ä–Η–Μ. –≠―²–Ψ βÄî ―¹ –Ϋ–Α―²―É―Ä―΄, –Ϋ–Β –Κ–Ψ–Ω–Η―è... –ù–Α ―¹―²–Β–Ϋ–Β –≤–Η―¹–Β–Μ –Ω–Ψ―Ä―²―Ä–Β―² –ê–Μ–Η, –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Ψ–Ι –ê–Μ–Η, ―¹–Η–¥―è―â–Β–Ι –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–Ψ–Κ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Β, –Ψ―¹–≤–Β―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Ψ–Μ–Ϋ―Ü–Β–Φ, ―¹ ―¹–Ψ―΅–Ϋ―΄–Φ –Κ―É―¹–Κ–Ψ–Φ –Α―Ä–±―É–Ζ–Α –≤ ―Ä―É–Κ–Β,βÄî ―΅―É–¥–Β―¹–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ―Ä―²―Ä–Β―²... βÄî –ü―Ä–Ψ―¹―²–Η―²–Β –Ζ–Α –Ϋ–Β―¹–Κ―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Ι –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹: –≤―΄ –Β–Β –Μ―é–±–Η―²–Β? βÄî –Ω–Β―Ä–Β―Ö–≤–Α―²–Η–Μ –®–Α–±–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η–Ι –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥ –†–Ψ―¹―²–Η―¹–Μ–Α–≤–Α. βÄî –ï―¹–Μ–Η –±―΄ –Ϋ–Β –Μ―é–±–Η–Μ, –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―à–Β–Μ –±―΄ –Κ –≤–Α–Φ. –€–Ψ–Β–Ι –Ϋ–Ψ–≥–Η –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –±―΄ ―É –ï–Μ–Α–≥–Η–Ϋ–Α –Φ–Ψ―¹―²–Α. βÄî –Δ–Ψ–≥–¥–Α –≤–Α–Φ –Ϋ–Α–¥–Ψ –≤―΄―Ä–≤–Α―²―¨ –Β–Β –Η–Ζ –Ζ–Α―²―Ö–Μ–Ψ–≥–Ψ –±–Ψ–Μ–Ψ―²–Α, –Ψ―²–Ψ―Ä–≤–Α―²―¨ –Ψ―² ―¹―²―è–Ε–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Η―Ü―΄, –Ω–Ψ–Κ–Α –¥–Β–≤―É―à–Κ–Α –Ϋ–Β ―¹―²–Α–Ϋ–Β―² ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Ε–Β, –Κ–Α–Κ –Φ–Α―²―¨... βÄî –€–Ϋ–Β –¥―É–Φ–Α–Β―²―¹―è, –Ψ–Ϋ–Α –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α... βÄî –Γ―²―è–Ε–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ βÄî –Ζ–Α―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Α―è –±–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ―¨. –ö―¹―²–Α―²–Η, –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–Β―²―¹―è –Η –Ω–Ψ –Ϋ–Α―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤―É... –ê–Ϋ–Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―²―è–Ϋ―É–Μ–Α –†–Ψ―¹―²–Η―¹–Μ–Α–≤―É ―΅–Α―à–Κ―É –±–Μ–Β–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―΅–Α―è. –û–Ϋ –Ψ―²–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è. βÄî –· –Ϋ–Β ―Ö–Ψ―΅―É, ―¹–Ω–Α―¹–Η–±–Ψ. 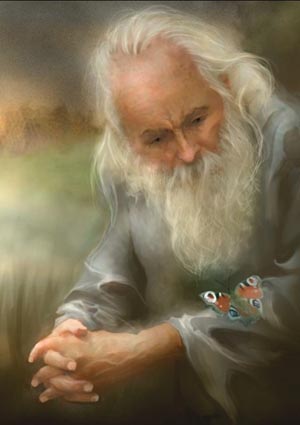 βÄî –ü–Β–Ι―²–Β,βÄî ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –®–Α–±–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η–Ι. –û–Ϋ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–Ε –±―΄–Μ –Ϋ–Α ―¹―²–Α―Ä―É―é, –≤―¹–Β –Ω–Ψ–≤–Η–¥–Α–≤―à―É―é –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Β–Φ –≤–Β–Κ―É –Ω―²–Η―Ü―É. βÄî –‰ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ε–Η―²–Β-–Κ–Α –Ψ ―¹–Β–±–Β ―΅―²–Ψ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨. –Δ–Α–Κ –Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―É ―²–Β–±―è –≤ –¥–Ψ–Φ–Β –Ω–Ψ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―¹―²―¨. –ê–Ϋ–Ϋ–Α –≤–Β–¥―¨ –Ϋ–Β –Ε–Η–≤–Β―² ―¹–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–Ι βÄî –Ψ–Ϋ–Α –Ζ–Α–Φ―É–Ε–Β–Φ. –ü―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―² –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α... –Κ–Α–Κ ―¹–Ψ–Μ–Ϋ–Β―΅–Ϋ―΄–Ι –Μ―É―΅ ―¹―Ä–Β–¥–Η –±–Β―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–≤–Β―²–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Α―Ä–Ψ―¹―²–Η. –Γ―²–Α―Ä–Ψ―¹―²―¨, –Φ–Η–Μ―΄–Ι –Φ–Ψ–Ι, –Ω―Ä–Β–Φ–Β―Ä–Ζ–Κ–Α―è –≤–Β―â―¨... 6–ù–Α –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –ê–Μ―è –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Ϋ–Η–Μ–Α ―É―²―Ä–Ψ–Φ, ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η–¥–Β―² –Ω―Ä―è–Φ–Ψ ―¹ ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –≤ –≥–Ψ―¹―²–Η–Ϋ–Η―Ü―É. –ë―΄–Μ –Φ–Ψ―Ä–Ψ–Ζ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ–Μ–Ϋ–Β―΅–Ϋ―΄–Ι –¥–Β–Ϋ―¨; –Ϋ–Α–≤―¹―²―Ä–Β―΅―É –†–Ψ―¹―²–Η―¹–Μ–Α–≤―É –Ω–Ψ–Ω–Α–¥–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤―΄–Β –Ω–Α―Ä–Ψ―΅–Κ–Η, ―¹–Φ–Β―é―â–Η–Β―¹―è –¥–Β–≤―É―à–Κ–Η; –Β–Φ―É –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α–Μ–Ψ―¹―¨: ¬Ϊ–ù―É –Η ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Α―è –Φ–Ϋ–Β –¥–Ψ―¹―²–Α–Μ–Α―¹―¨ –Μ―é–±–Ψ–≤―¨!¬Μ –ù–Ψ –Β―¹–Μ–Η –±―΄ –Κ―²–Ψ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Β–Φ―É –Ω–Ψ―¹–Ψ–≤–Β―²–Ψ–≤–Α–Μ: ¬Ϊ–ü–Μ―é–Ϋ―¨ –Ϋ–Α –≤―¹–Β¬Μ, –Ψ–Ϋ –±―΄ –≤–Ψ–Ζ–Φ―É―²–Η–Μ―¹―è. –†–Ψ―¹―²–Η―¹–Μ–Α–≤ –Ω–Ψ―à–Β–Μ –≤ –†―É―¹―¹–Κ–Η–Ι –Φ―É–Ζ–Β–Ι βÄî –Ψ–Ϋ –Μ―é–±–Η–Μ –Β–≥–Ψ ―¹ –¥–Β―²―¹―²–≤–Α. –£ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η―Ö ―¹–≤–Β―²–Μ―΄―Ö –Ζ–Α–Μ–Α―Ö –Φ―É–Ζ–Β―è –±―΄–Μ –Η –€–Α–Μ―è–≤–Η–Ϋ, –Η –ö–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η–Ϋ, –Η –ö―É–Η–Ϋ–¥–Ε–Η, –Η –®–Η―à–Κ–Η–Ϋ, –Η –ù–Β―¹―²–Β―Ä–Ψ–≤ βÄî –Ψ–Ϋ–Η –Ω―Ä–Η–Ϋ–Α–¥–Μ–Β–Ε–Α–Μ–Η –≤―¹–Β–Φ, –Α –Ϋ–Β –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –€–Α―Ä–Η–Η –Λ–Η―Ä―¹–Ψ–≤–Ϋ–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Η–Μ–Η –≤―²–Η―Ö–Ψ–Φ–Ψ–Μ–Κ―É –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Ψ–≤ –Ω―Ä–Ψ–¥–Α―¹―² ―ç―²–Η ―¹–Ψ–Κ―Ä–Ψ–≤–Η―â–Α ―²–Α–Κ–Η–Φ –Ε–Β ―¹―²―è–Ε–Α―²–Β–Μ―è–Φ, –Κ–Α–Κ –Η –Ψ–Ϋ–Α, –Ζ–Α―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–≤―à–Η–Φ –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η –Ϋ–Β―΅–Β―¹―²–Ϋ―΄–Φ –Ω―É―²–Β–Φ, –Η–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ–Ε–Η–≤–Β―² –Β―â–Β –¥–Β―¹―è―²–Κ–Α –¥–≤–Α –Μ–Β―² –Η –Ω–Ψ-–Ω―Ä–Β–Ε–Ϋ–Β–Φ―É –±―É–¥–Β―² –Ω―Ä―è―²–Α―²―¨ ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Β―² ―Ä–Α–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤―¹–Β―Ö. –¦―é–±―É–Β―²―¹―è –Μ–Η –Ψ–Ϋ–Α –≤–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ–Α–Φ–Η? –™–Ψ–Μ–Ψ–≤―É –Ϋ–Α –Ψ―²―¹–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β βÄî –Ϋ–Β―²! –≠―²–Ψ –¥–Μ―è –Ϋ–Β–Β –±–Ψ–≥–Α―²―¹―²–≤–Ψ, –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η, ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –ï―¹―²―¨ –Ε–Β ―É –Ϋ–Α―¹, –Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è, –Β―â–Β –€–Α―Ä–Η–Η –Λ–Η―Ä―¹–Ψ–≤–Ϋ―΄ βÄî –Η, –Ω–Ψ-–≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ–Φ―É, –Ϋ–Β –Ψ–¥–Ϋ–Α! –ü―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Η―²―¨ –±―΄ –Η―Ö –Κ–≤–Α―Ä―²–Η―Ä―΄, –≤―¹–Β ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―¹–¥–Α―²―¨ –≤ –Φ―É–Ζ–Β–Η, ―É―¹―²―Ä–Ψ–Η―²―¨ –±―΄ –≤―΄―¹―²–Α–≤–Κ―É ―¹–Κ―Ä―΄–≤–Α–Β–Φ―΄―Ö ―¹–Ψ–Κ―Ä–Ψ–≤–Η―â!  –ü–Ψ―Ä–Α –±―΄–Μ–Ψ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α―²―¨―¹―è –≤ . –Γ –ê–Μ–Β–Ι –Ψ–Ϋ–Η –Ψ–±–Β–¥–Α–Μ–Η –≤ –Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä–Β; –Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Ϋ―² –Ω―Ä–Η–Ϋ–Β―¹ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Ψ―¹–Β –≤―¹–Β ―¹―Ä–Α–Ζ―É βÄî –Η –Ϋ–Α–¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –Η―¹―΅–Β–Ζ. –ê–Μ―è –±―΄–Μ–Α ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―É–±–Η―²–Α: βÄî –€–Α–Φ–Α –Ϋ–Β ―Ö–Ψ―΅–Β―², ―΅―²–Ψ–±―΄ ―è –Ζ–Α ―²–Β–±―è –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α, –Ψ–Ϋ–Α –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ―è―Ö –Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Α –Ϋ–Β ―É–Β–Ζ–Ε–Α―²―¨ –Ψ―² –Ϋ–Β–Β. –û–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è, ―É –Ϋ–Β–Β –±―΄–Μ –Η–Ϋ―³–Α―Ä–Κ―². –û–Ϋ–Α –Ψ―² –Φ–Β–Ϋ―è ―¹–Κ―Ä―΄–Μ–Α –Η ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ ―É–Φ―Ä–Β―², –Η ―É–Φ–Β―Ä–Β―²―¨ –Φ–Ψ–Ε–Β―² ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Α, ―ç―²–Ψ ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ–Ψ! –†–Ψ―¹―²–Η―¹–Μ–Α–≤ –Ω–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Μ –Β–Β: –Α―Ö ―²―΄, ―΅–Η―¹―²–Α―è, –¥–Ψ–≤–Β―Ä―΅–Η–≤–Α―è –¥―É―à–Α! βÄî –· –±―΄–Μ ―É –®–Α–±–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η―Ö,βÄî ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Μ―¹―è –Ψ–Ϋ. βÄî –Δ―΄? –Θ –®–Α–±–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η―Ö? –½–Α―΅–Β–Φ? βÄî –Ξ–Ψ―²–Β–Μ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Η―²―¨ –™–Α–≤―Ä―é―à–Η–Ϋ–Α. βÄî –ù―É –Η ―΅―²–Ψ –Ε–Β ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η –®–Α–±–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η–Β? βÄî –Γ―²–Α―Ä–Η–Κ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –¥–Α–Ε–Β –±–Ψ–Μ―¨―à–Β: –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ–Ϋ –Ψ―²–Ψ–±―Ä–Α–Μ ―É –€–Α―Ä–Η–Η –Λ–Η―Ä―¹–Ψ–≤–Ϋ―΄ ―¹–≤–Ψ–Η –≤–Β―â–Η, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ―¹―è –Η–Ζ ―ç–≤–Α–Κ―É–Α―Ü–Η–Η. βÄî –ö–Α–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Β–≥–Ψ–¥―è–Ι! –î–Α –≤–Β–¥―¨ –Ψ–Ϋ –Ε–Β ―¹–Α–Φ –Ψ―²–¥–Α–Μ –≤–Β―â–Η –Ϋ–Α ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β, –Φ–Α–Φ–Α –Φ–Ϋ–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Α. –û–Ϋ –¥―Ä―É–Ε–Η–Μ ―¹ –Ω–Α–Ω–Ψ–Ι... –‰ –Ω–Α–Ω–Α ―¹–Α–Φ –Ω–Ψ–Κ―É–Ω–Α–Μ ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ... βÄî –Δ–≤–Ψ–Ι –Ψ―²–Β―Ü –Ϋ–Β –Κ―É–Ω–Η–Μ –Ϋ–Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ―΄ βÄî ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –¥–Β–Ϋ–Β–≥. βÄî –Δ–Α–Κ –Ψ―²–Κ―É–¥–Α –Ε–Β... ―²–Ψ–≥–¥–Α... –≤―¹–Β ―É –Ϋ–Α―¹? βÄî –£–Ψ―² –Η ―è ―²–Β–±―è ―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α―é: –Ψ―²–Κ―É–¥–Α? 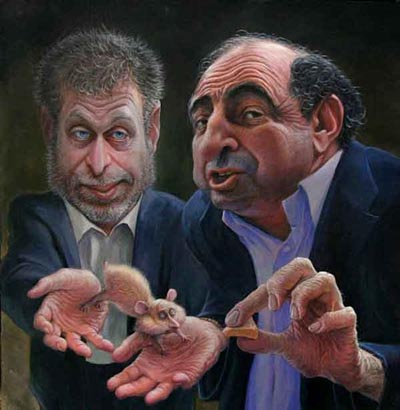 –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―².  –£–Β―Ä―é–Ε―¹–Κ–Η–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–£–ù–ê), –™–Ψ―Ä–Μ–Ψ–≤ –û–Μ–Β–≥ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–û–ê–™), –€–Α–Κ―¹–Η–Φ–Ψ–≤ –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–€–£–£), –ö–Γ–£. 198188. –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥, ―É–Μ. –€–Α―Ä―à–Α–Μ–Α –™–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α, –¥–Ψ–Φ 11/3, –Κ–≤. 70. –ö–Α―Ä–Α―¹–Β–≤ –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅, –Α―Ä―Ö–Η–≤–Α―Ä–Η―É―¹. karasevserg@yandex.ru
11.09.201311:0011.09.2013 11:00:51
|














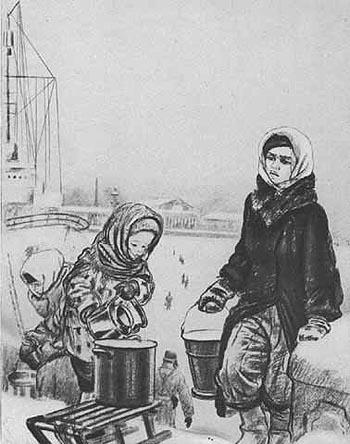



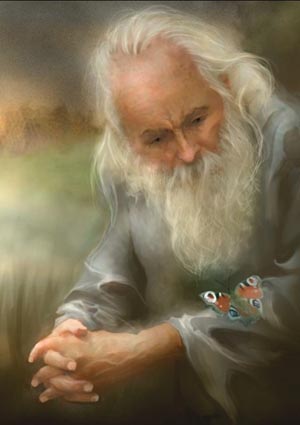

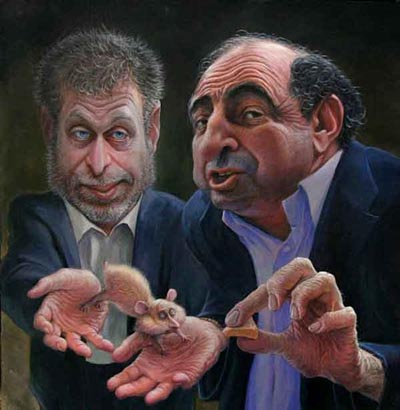

.jpg)


