–ë–Α–Ϋ–Ϋ–Β―Ä

–Γ–Η―¹―²–Β–Φ―΄ –Φ–Ψ–Κ―Ä–Ψ–≥–Ψ –≤―΄―Ö–Μ–Ψ–Ω–Α –¥–Μ―è ―¹―É–¥–Ψ–≤ ―¹ –¥–≤–Η–≥–Α―²–Β–Μ―è–Φ–Η –¥–Ψ 400 –Κ–£―²
|
–£―¹–Κ–Ψ―Ä–Φ–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹ –Κ–Ψ–Ω―¨―è - –Γ–Ψ–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Α 26.10.2013
0
26.10.201310:1626.10.2013 10:16:35
–ù–Ψ–≤―΄–Β –Ω–Β―¹–Ϋ–Η –Ψ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Φ. –™–Μ–Α–≤–Α ―²―Ä–Β―²―¨―è, –Ω–Ψ―΅―²–Η –Μ–Η―à–Ϋ―è―è–‰―²–Α–Κ, –≤ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ι –≥–Μ–Α–≤–Β ―è ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β –≤–Η―Ä―²―É–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―Ä―΄–Ϋ–Κ–Η ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Ψ–≤ –Η ―³–Η–Ϋ–Α–Ϋ―¹–Ψ–≤, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α –Ϋ–Η―Ö ―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä―É–Β―²―¹―è –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ―¨, –Ψ―²–Φ–Β―²–Η–≤ –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –≤―¹―è–Κ–Α―è –≤–Η―Ä―²―É–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ―¨, –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β ―΅–Β–Φ ―É–Ω–Α―¹―²―¨ –Ϋ–Α ―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―¹―΅–Β―²–Α, –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Β―¹–Β―΅―¨ –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü―΄, –Ψ―¹―²–Α–≤–Η–≤ –≤–Φ–Β―¹―²–Ψ ―¹–Β–±―è, βÄî ―É–≤―΄! βÄî –≥–Η–≥–Α–Ϋ―²―¹–Κ–Η–Β –¥–Ψ–Μ–≥–Η. –ü―Ä–Β–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Β –¥–Β–Ϋ–Β–≥ –¥–Μ―è –Ψ–¥–Ϋ–Η―Ö –≤ –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ―¨, –Α –¥–Μ―è –¥―Ä―É–≥–Η―Ö βÄî –≤ –¥–Ψ–Μ–≥–Η ―¹―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Η –Η–≥―Ä―΄ –≤ ¬Ϊ–Ϋ–Α–Ω–Β―Ä―¹―²–Ψ–Κ¬Μ, –Ϋ–Ψ –Ψ–±―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Κ–Ψ–Φ–Ω―¨―é―²–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ –Η –Η–Ϋ―΄–Φ ―à–Η–Κ–Ψ–Φ. –½–Α–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ –¥–Α–Ε–Β ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Ι –Φ–Α―²–Β–Φ–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Α–Ω–Ω–Α―Ä–Α―², –Ϋ–Ψ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β –±–Ψ–Μ―¨―à–Β ―΅–Β–Φ –Α–Ϋ―²―É―Ä–Α–Ε. –†–Ψ―¹―¹–Η―è ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α –≤–Η―Ä―²―É–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―Ä―΄–Ϋ–Ψ–Κ –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Β―². –û–± ―ç―²–Ψ–Φ ―¹–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤―É–Β―² ―Ö–Ψ―²―è –±―΄ –Φ–Α–Μ―΄–Ι –≤–Ϋ–Β―à–Ϋ–Η–Ι –¥–Ψ–Μ–≥ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η. –Γ―É–¥―è –Ω–Ψ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η–Η, –Ω–Ψ–Ω―΄―²–Κ–Η –Ω―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Κ–Ϋ―É―²―¨ –Ϋ–Α –≤–Η―Ä―²―É–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―Ä―΄–Ϋ–Ψ–Κ –¥–Β–Μ–Α–Μ–Η―¹―¨, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Η―΅–Β–Φ ―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Ϋ–Β –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ–Η―¹―¨: –Κ―Ä―É–≥ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α―²–Β–Μ–Β–Ι –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ–Η –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨ ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Η–Φ. –‰ –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β, ―ç―²–Α –≤–Β―²–≤―¨ ―³–Η–Ϋ–Α–Ϋ―¹–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η―è βÄî ―²―É–Ω–Η–Κ–Ψ–≤–Α―è, –Η –≤―Ä–Β–Φ―è ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –≤–Η―Ä―²―É–Α–Μ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨, –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É ―Ä–≤–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ―² ―Ä―΄–Ϋ–Ψ–Κ –Ϋ–Β ―¹―²–Ψ–Η―². –ü–Ψ–Κ–Α –≤―Ä–Β–Φ―è –Ϋ–Β –≤―΄―à–Μ–Ψ, –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ ―É –≤–Η―Ä―²―É–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―Ä―΄–Ϋ–Κ–Ψ–≤ –Β―¹―²―¨ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η –Η –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Η, –Η –¥―Ä―É–Ε–Η―²―¨ ―¹ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Φ–Η. –ù–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –¥―Ä―É–Ε–Η―²―¨. –£–Ψ―², –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, ―¹–Ψ–≤–Ψ–Κ―É–Ω–Ϋ―΄–Ι –¥–Ψ–Μ–≥ –Γ–®–ê –Ω–Β―Ä–Β–¥ –·–Ω–Ψ–Ϋ–Η–Β–Ι –Η –ö–Η―²–Α–Β–Φ ―¹―²–Ψ–Μ―¨ –≤–Β–Μ–Η–Κ, ―΅―²–Ψ –Μ―é–±―΄–Β ―¹–Ψ–≤–Φ–Β―¹―²–Ϋ―΄–Β –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è ―ç―²–Η―Ö ―¹―²―Ä–Α–Ϋ –Φ–Ψ–≥―É―² –Ω―Ä–Η–≤–Β―¹―²–Η –Κ –Κ–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –≤ –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η. –ù–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ –Ϋ–Β ―¹–Ψ–±–Β―Ä―É―²―¹―è –≤―΄―¹―²―É–Ω–Η―²―¨ ―¹–Ψ–≤–Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É –Β―¹―²―¨ ―²―Ä–Β―²―¨―è (―΅–Η―²–Α–Ι, –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Α―è) ―¹–Η–Μ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –≤―¹–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω―΄―²–Α–Β―²―¹―è –≤–±–Η―²―¨ –Κ–Μ–Η–Ϋ –Φ–Β–Ε–¥―É –Ϋ–Η–Φ–Η. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ζ–Α–¥–Α―΅–Α ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Ϋ–Β―à–Ϋ–Β–Ι –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η–Κ–Η ―¹–≤–Ψ–¥–Η―²―¹―è –Κ ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―É–Φ–Β–Μ–Ψ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨ ―¹―É―â–Β―¹―²–≤―É―é―â–Η–Β –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ―Ä–Β―΅–Η―è –Η –Ζ–Α―â–Η―²–Η―²―¨ –†–Ψ―¹―¹–Η―é –Ψ―² –¥–≤―É―Ö –Ϋ–Α–Ω–Α―¹―²–Β–Ι ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Μ–Ψ–±–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η–Κ–Η βÄî –≤–Η―Ä―²―É–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä―΄–Ϋ–Κ–Α –Η ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –¥–Ψ–Μ–Μ–Α―Ä–Α. –ö–Α–Κ―É―é –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―²–Α–Η―² –≤ ―¹–Β–±–Β –¥–Ψ–Μ–Μ–Α―Ä? –£–Ψ-–Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö, –Ζ–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Β ―¹–Ψ―Ä–Ψ–Κ –Μ–Β―² –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–¥–Β―à–Β–≤–Β–Μ –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ –≤ ―¹–Ψ―Ä–Ψ–Κ ―Ä–Α–Ζ, –Η, –Ω―Ä–Ψ–¥–Α–≤–Α―è –Ϋ–Β―³―²―¨ –Ω–Ψ ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è―à–Ϋ–Η–Φ ―Ü–Β–Ϋ–Α–Φ, –Φ―΄ –Β–Β –Ω―Ä–Ψ–¥–Α–Β–Φ ―³–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –≤ –¥–≤–Α ―Ä–Α–Ζ–Α –¥–Β―à–Β–≤–Μ–Β, ―΅–Β–Φ –Ω―Ä–Ψ–¥–Α–≤–Α–Μ –Γ–Γ–Γ–† –≤ –≥–Ψ–¥―΄ ―¹–Α–Φ―΄―Ö –Ϋ–Η–Ζ–Κ–Η―Ö ―Ü–Β–Ϋ. –Δ―É―² –≤―΄―¹―²―Ä–Α–Η–≤–Α–Β―²―¹―è ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è ―Ü–Β–Ω–Ψ―΅–Κ–Α. –ù–Β―³―²–Β–¥–Ψ–±―΄―²―΅–Η–Κ–Η –¥–Μ―è –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Η―è ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é―²―¹―è –≤–¥―Ä―É–≥ –Ζ–Α–Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –≤ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Κ―É―Ä―¹–Α ―Ä―É–±–Μ―è –Κ –¥–Ψ–Μ–Μ–Α―Ä―É. –≠―²–Ψ –¥–Α–Β―² –Η–Φ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ζ–Α ―³–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Ω–Ψ―΅―²–Η –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β ―¹―²–Ψ―è―â–Η–Ι –¥–Ψ–Μ–Μ–Α―Ä –Ω―Ä–Η–Ψ–±―Ä–Β―²–Α―²―¨ –≤―¹–Β –±–Ψ–Μ―¨―à–Β–Β –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ ―Ä―É–±–Μ–Β–Ι. –ß–Β–Φ –Ϋ–Η–Ε–Β –Κ―É―Ä―¹ ―Ä―É–±–Μ―è –Κ –¥–Ψ–Μ–Μ–Α―Ä―É, ―²–Β–Φ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è ―Ä―É–±–Μ–Β–Ι ―É –Ϋ–Β―³―²―è–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Η ―²–Β–Φ –¥–Β―à–Β–≤–Μ–Β –¥–Μ―è –Ϋ–Η―Ö ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¹―è ―¹―²–Ψ–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨ ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Β–Ι ―¹–Η–Μ―΄ –Η –≤―¹–Β―Ö –Ψ–±―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤ –Ω–Β―Ä–Β–¥ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Ψ–Φ. –£ ―ç―²–Ψ–Φ ―¹–Φ―΄―¹–Μ–Β, –≤―¹–Β ―ç–Κ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Β―Ä―΄ –≤–Β–¥―É―² ―¹–Β–±―è –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Β –Ϋ–Β–Ω–Α―²―Ä–Η–Ψ―²–Η―΅–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ, –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ–Ϋ–Η ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―è―é―² –Κ―É―Ä―¹ –Ϋ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Α–Μ―é―²―΄ –Ω–Ψ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―é –Κ–Ψ –≤―¹–Β–Φ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ. –€–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ –Ω–Α―²―Ä–Η–Ψ―²–Α–Φ–Η –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –±―΄ –±―΄―²―¨ –Η–Φ–Ω–Ψ―Ä―²–Β―Ä―΄. –‰ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Ψ–Ϋ–Η –Ζ–Α–Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ψ–≤–Α–Ϋ―΄ –≤ ―É–Κ―Ä–Β–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Η ―Ä―É–±–Μ―è, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ζ–Α –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β–Β –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ ―Ä―É–±–Μ–Β–Ι –Ω―Ä–Η–Ψ–±―Ä–Β―²–Α―²―¨ –Κ–Α–Κ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –¥–Ψ–Μ–Μ–Α―Ä–Ψ–≤, ―É–≤–Β–Μ–Η―΅–Η–≤–Α―²―¨ –Η–Φ–Ω–Ψ―Ä―² –Η ―¹–≤–Ψ―é ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ―¨. –≠―²–Ψ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Ψ –Η–Φ–Ω–Ψ―Ä―²–Β―Ä–Ψ–≤ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Α–Β―² –Ϋ–Β–Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η–Β –≤–Η–¥–Β―²―¨, –Κ–Α–Κ ―Ä–Α–Ζ–≤–Η–≤–Α–Β―²―¹―è ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Β –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –Μ―é–±–Ψ–Β –Η–Φ–Ω–Ψ―Ä―²-–Ζ–Α–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η–Β ―É–≥―Ä–Ψ–Ε–Α–Β―² –Η―Ö ―³–Η–Ϋ–Α–Ϋ―¹–Ψ–≤–Ψ–Φ―É –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―é. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É ―¹–Ψ―é–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Η―Ö –Ω–Α―²―Ä–Η–Ψ―²–Ψ–≤ –Ψ–Ϋ–Η –Φ–Ψ–≥―É―² –±―΄―²―¨ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ ―²–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Β. –Γ―²―Ä–Α―²–Β–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β –Ω–Α―Ä―²–Ϋ–Β―Ä―¹―²–≤–Ψ ―¹ –Ϋ–Η–Φ–Η –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ. –Λ–Η–Ϋ–Α–Ϋ―¹–Ψ–≤–Α―è –Ϋ–Β–Ω–Α―²―Ä–Η–Ψ―²–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―É―¹―É–≥―É–±–Μ―è–Β―²―¹―è –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è–Φ–Η –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Ψ–±–Α–Ϋ–Κ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ω–Ψ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É ―¹―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η―é –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è –Β―â–Β –Η –ë–Α–Ϋ–Κ–Ψ–Φ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η. –£ –Ω–Α―Ä–Β ―¹ –€–Η–Ϋ―³–Η–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ–Ϋ –¥–Ψ–Ω―É―¹–Κ–Α–Β―² –Φ–Α–Ϋ–Η–Ω―É–Μ―è―Ü–Η–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―¹–Α–Φ―΄–Φ –Ψ―²―Ä–Η―Ü–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ –Ψ―²–Ζ―΄–≤–Α―é―²―¹―è –Ϋ–Α ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η–Κ–Β. –ù–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –Ϋ–Α ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ϋ―É–Ε–¥―΄ ―É –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Α –Ϋ–Β ―Ö–≤–Α―²–Α–Β―² ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤. –Δ–Ψ–≥–¥–Α –Ω―Ä–Η ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Β 30 ―Ä―É–±–Μ–Β–Ι –Ζ–Α –¥–Ψ–Μ–Μ–Α―Ä ―³–Η–Ϋ–Α–Ϋ―¹–Ψ–≤―΄–Β –≤–Μ–Α―¹―²–Η (–Α –≤ ―ç―²–Η―Ö ―¹–Μ―É―΅–Α―è―Ö –Η―Ö ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ–Η―²―¨) ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ―É–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Φ–Ψ―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –±–Α–Ϋ–Κ–Η –Ζ–Α–Κ―É–Ω–Α―é―² ―É ―ç–Κ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Β―Ä–Ψ–≤ –Η–Μ–Η –≤ ―³–Ψ–Ϋ–¥–Α―Ö, –¥–Β–Ϋ–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤ –¥–Ψ–Μ–Μ–Α―Ä–Α―Ö, ―¹–Κ–Α–Ε–Β–Φ, 10 –Φ–Η–Μ–Μ–Η–Α―Ä–¥–Ψ–≤ –¥–Ψ–Μ–Μ–Α―Ä–Ψ–≤. –ß–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Β–Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―Ä―É–±–Μ―¨ –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β―² ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Ζ–Η―²―¨ –≤–Ϋ–Η–Ζ, –Η, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ –¥–Ψ―¹―²–Η–≥–Α–Β―² –Ϋ–Η–Ε–Ϋ–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α ―²–Ψ―² –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―² –¥–Ψ–Ω―É―¹―²–Η–Φ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η―è, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, 34 ―Ä―É–±–Μ―è –Κ –¥–Ψ–Μ–Μ–Α―Ä―É, ―Ä–Α–Ϋ–Β–Β –Κ―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –¥–Ψ–Μ–Μ–Α―Ä―΄ –Ω―Ä–Ψ–¥–Α―é―²―¹―è. –ï―¹–Μ–Η –¥–Μ―è –Ω–Ψ–Κ―É–Ω–Κ–Η –¥–Ψ–Μ–Μ–Α―Ä–Ψ–≤ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ 300 –Φ–Η–Μ–Μ–Η–Α―Ä–¥–Ψ–≤ ―Ä―É–±–Μ–Β–Ι, ―²–Ψ –Ω―Ä–Η –Η―Ö –Ω―Ä–Ψ–¥–Α–Ε–Β –≤―΄―Ä―É―΅–Κ–Α ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Α –Ϋ–Α 40 –Φ–Η–Μ–Μ–Η–Α―Ä–¥–Ψ–≤ ―Ä―É–±–Μ–Β–Ι –±–Ψ–Μ―¨―à–Β, –Η –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Α―è –¥―΄―Ä–Ψ―΅–Κ–Α –≤ –±―é–¥–Ε–Β―²–Β –Ζ–Α―²―΄–Κ–Α–Β―²―¹―è. –ü―Ä–Η –Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Η ―²–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Α–Κ –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –≤–Β―¹―²–Η ―¹–Β–±―è ―Ä―É–±–Μ―¨ –≤ –Ψ–±–Ψ–Ζ―Ä–Η–Φ–Ψ–Φ –±―É–¥―É―â–Β–Φ ―²–Α–Κ–Η–Β ¬Ϊ–Ζ–Α―Ä–Α–±–Ψ―²–Κ–Η¬Μ –¥–Β–Ϋ–Β–≥ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥―É―² –Ϋ–Β –≤―΄–Ζ―΄–≤–Α―²―¨ –Ψ–Ζ–Α–±–Ψ―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –‰ –¥–Μ―è ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Β―¹―²―¨, –Κ–Α–Κ –Φ–Η–Ϋ–Η–Φ―É–Φ, –¥–≤–Β –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ―΄. –£–Ψ-–Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö, ―¹―É–±―ä–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Α―è –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Α βÄ™ –Ω–Ψ―è–≤–Μ―è―é―â–Η–Β―¹―è ―²–Α–Κ–Η–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η –Φ–Ψ–≥―É―² –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α ¬Ϊ–Ζ–Α–±–Μ―É–¥–Η―²―¨―¹―è¬Μ –Η –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Α ―¹―΅–Β―²–Α―Ö ¬Ϊ―ç―³―³–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ―΄―Ö –Φ–Β–Ϋ–Β–¥–Ε–Β―Ä–Ψ–≤¬Μ. –£–Ψ-–≤―²–Ψ―Ä―΄―Ö, ―²–Α–Κ –Ϋ–Β –±―΄–≤–Α–Β―², ―΅―²–Ψ–±―΄ –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η –Ω–Ψ―è–≤–Μ―è–Μ–Η―¹―¨ –Η–Ζ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Α. –ö―²–Ψ-―²–Ψ –Ζ–Α ―²–Α–Κ–Η–Β –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η –≤―¹–Β ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –Ω–Μ–Α―²–Η―²―¨. –ü–Μ–Α―²–Η–Φ –Φ―΄ ―¹ –≤–Α–Φ–Η, –Ω―Ä–Η―΅–Β–Φ, ―²–Α–Κ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Β―²―¹―è, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β –Ψ–¥–Η–Ϋ ―Ä–Α–Ζ. –ü–Β―Ä–≤―΄–Ι ―Ä–Α–Ζ βÄ™ –≤ –≤–Η–¥–Β –Ϋ–Β–¥–Ψ–±–Ψ―Ä–Α –¥–Ψ–Μ–Μ–Α―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι –≤―΄―Ä―É―΅–Κ–Η –Ψ―² ―ç–Κ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Β―Ä–Ψ–≤. –Γ–≤–Ψ–Η ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Η –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ–≤―΄–Β –Ψ–±―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α –Ψ–Ϋ–Η, –Κ–Α–Κ ―è ―É–Ε–Β –Ω–Η―¹–Α–Μ, –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è―é―² –≤ ―Ä―É–±–Μ―è―Ö, –Η –Ϋ–Η–Ζ–Κ–Η–Ι –Κ―É―Ä―¹ ―Ä―É–±–Μ―è –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–Β―² –Η–Φ ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η―²―¨ ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α βÄ™ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ–Β –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ ―Ä―É–±–Μ–Β–Ι –Ψ–Ϋ–Η –Ω–Ψ–Κ―É–Ω–Α―é―² –Ζ–Α –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β–Β –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –¥–Ψ–Μ–Μ–Α―Ä–Ψ–≤, –Α –¥–Μ―è –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±―΄–≤–Α―²–Β–Μ―è ―ç―²–Η ―Ä―É–±–Μ–Η ―²–Β―Ä―è―é―² ―¹–≤–Ψ―é –Ω–Ψ–Κ―É–Ω–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, ―É–¥–Β―à–Β–≤–Μ―è―é―² ―²―Ä―É–¥ –Η, βÄ™ ―¹–Α–Φ–Ψ–Β –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Ψ―΅–Β–≤–Η–¥–Ϋ–Ψ–Β, βÄ™ ―É―Ö―É–¥―à–Α―é―² –Η–Ϋ–≤–Β―¹―²–Η―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Κ–Μ–Η–Φ–Α―². –‰ ―²―É―² –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Α–Β―² ¬Ϊ–≤–Ψ-–≤―²–Ψ―Ä―΄―Ö¬Μ. –ù–Α –Ω–Ψ–¥–Β―à–Β–≤–Β–≤―à–Η―Ö ―Ä―É–±–Μ―è―Ö ―²–Β―Ä―è―é―² ―¹–≤–Ψ―é –¥–Ψ–Μ–Μ–Α―Ä–Ψ–≤―É―é –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ―¨ –Η–Ϋ–≤–Β―¹―²–Ψ―Ä―΄, –Η, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨, –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Ψ, –Φ–Ψ―²–Η–≤–Η―Ä―É–Β–Φ–Ψ–Β ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η–Β–Φ ―É–Μ―É―΅―à–Η―²―¨ ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Κ–Μ–Η–Φ–Α―², –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β―² –Ω–Ψ–Ψ―â―Ä―è―²―¨ –Ω–Ψ–≤―΄―à–Β–Ϋ–Η–Β ―²–Α―Ä–Η―³–Ψ–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β, –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Ψ–≤, –Μ–Ψ–Ε–Α―²―¹―è –±―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Β–Φ –Ϋ–Α –Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Η―²–Β–Μ―è. –ü―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ ―²–Α–Κ―É―é ―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α―é―² ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―ç―³―³–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ―΄–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–¥–Ε–Β―Ä―΄, –Ψ–±–Μ–Α–¥–Α―é―â–Η–Β –≤–Β―¹―¨–Φ–Α ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Η―¹–Κ―É―¹―¹―²–≤–Ψ–Φ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è―²―¨ –≤―¹–Β–Φ –Η –≤―¹―è, –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ω–Β―Ä–Β―Ä–Α―¹–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―è―è ―³–Η–Ϋ–Α–Ϋ―¹–Ψ–≤―΄–Β –Ω–Ψ―²–Ψ–Κ–Η. –£―΄, –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η–Μ–Η, ―΅―²–Ψ ―Ä―É–±–Μ―¨ –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Κ―É–Ω–Α–Β―²―¹―è –Η –Ω―Ä–Ψ–¥–Α–Β―²―¹―è, –Α –Κ―É―Ä―¹ ―Ä―É–±–Μ―è –Κ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Φ –≤–Α–Μ―é―²–Α–Φ –Κ–Ψ–Μ–Β–±–Μ–Β―²―¹―è. –Γ―Ä–Α–Ζ―É ―¹–Κ–Α–Ε―É, ―΅―²–Ψ, ―΅–Β–Φ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Κ–Ψ–Μ–Β–±–Α–Ϋ–Η―è ―Ä―É–±–Μ―è, ―²–Β–Φ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Η–≤–Μ–Β–Κ–Α–Β―² ―³–Η–Ϋ–Α–Ϋ―¹–Ψ–≤―΄―Ö ―¹–Ω–Β–Κ―É–Μ―è–Ϋ―²–Ψ–≤, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ ―¹–≤–Ψ–Ι―¹―²–≤–Ψ –Μ―é–±–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Μ–Β–±–Μ―é―â–Β–Ι―¹―è –≤–Α–Μ―é―²―΄ βÄ™ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Ψ―¹–Η―²―¨ –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ―¨ ―¹–Ω–Β–Κ―É–Μ―è–Ϋ―²―É, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―É–Φ–Β–Β―² –Ζ–Α―Ä–Α–±–Α―²―΄–≤–Α―²―¨ –Ψ–¥–Η–Ϋ–Α–Κ–Ψ–≤–Ψ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Η –Ϋ–Α –Ω–Α–¥–Α―é―â–Β–Φ –Η –Ϋ–Α ―Ä–Α―¹―²―É―â–Β–Φ –Κ―É―Ä―¹–Β –Μ―é–±–Ψ–Ι –≤–Α–Μ―é―²―΄. –½–Α―΅–Β–Φ –Ϋ―É–Ε–Β–Ϋ ―¹–Ω–Β–Κ―É–Μ―è–Ϋ―²? –î–Ψ ―¹–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä –Β–≥–Ψ ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ψ–Ω―Ä–Α–≤–¥―΄–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –Φ–Α―¹―¹–Α ―¹–Ω–Β–Κ―É–Μ―è–Ϋ―²–Ψ–≤ –Ϋ–Β –¥–Ψ–Ω―É―¹–Κ–Α–Β―² ―¹–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Α –Ϋ–Α ―Ä―΄–Ϋ–Κ–Β ―³–Η–Ϋ–Α–Ϋ―¹–Ψ–≤. –ù–Ψ ―ç―²–Ψ―² ―³–Α–Κ―² ―²–Β―Ä―è–Β―² ―¹–≤–Ψ–Β –Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Β –≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―΅–Α―¹―²–Ψ ―¹–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Α–Β―² –Ϋ–Β –Ϋ–Α ―Ä―΄–Ϋ–Κ–Β, –Α –Ϋ–Α –Ω–Ψ―Ä–Ψ–≥–Β ―Ä―΄–Ϋ–Κ–Α, ―¹―Ä–Β–¥–Η ―²–Β―Ö, –Κ―²–Ψ –Ω–Ψ―²–≤–Ψ―Ä―¹―²–≤―É–Β―² ―¹–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―É βÄ™ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Ψ –Η –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―΄–Β ―³–Η–Ϋ–Α–Ϋ―¹–Ψ–≤―΄–Β –Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η, ―¹ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ–Η –Ω–Ψ –≤–Ψ–Ζ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―é –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Η–Β –Ω–Ψ–Μ―΅–Η―â–Α ―¹–Ω–Β–Κ―É–Μ―è–Ϋ―²–Ψ–≤ ―¹―Ä–Α–≤–Ϋ–Η―²―¨―¹―è –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥―É―². –ï―¹―²―¨ –Β―â–Β –Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Ψ–Ω―Ä–Α–≤–¥–Α–Ϋ–Η–Β ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―é ―¹–Ω–Β–Κ―É–Μ―è–Ϋ―²–Α –Ϋ–Α ―Ä―΄–Ϋ–Κ–Β. –î–Β–Μ–Ψ –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α―è –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ―¨, ―¹–Ω–Β–Κ―É–Μ―è–Ϋ―² –≤―΄–Ϋ―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤–Κ–Μ―é―΅–Α–Β―² ―²–Β–Ϋ–¥–Β–Ϋ―Ü–Η–Η, –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Β –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Β–Ϋ–¥–Β–Ϋ―Ü–Η–Η ―Ä―΄–Ϋ–Κ–Α, –Η, ―²–Α–Κ–Η–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ, –Β–≥–Ψ ―¹―²–Α–±–Η–Μ–Η–Ζ–Η―Ä―É–Β―². –ù–Ψ –Ζ–Α –≤―¹―ë –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –Φ–Η―Ä–Β –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –Ω–Μ–Α―²–Η―²―¨, –Η ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β ―¹–Ω–Β–Κ―É–Μ―è–Ϋ―²–Α –Ϋ–Β ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η–Β–Φ. –Γ–Ω–Β–Κ―É–Μ―è–Ϋ―² βÄ™ ―²–Ψ–Ε–Β ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ ―Ä–Ψ–¥–Α –Η–Ϋ–≤–Β―¹―²–Ψ―Ä, –Ϋ–Ψ –≤ ―²–Α–Κ–Ψ–Φ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β –Ψ–Ϋ –≤―΄―¹―²―É–Ω–Α–Β―² –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É ―¹ –Ϋ–Η–Φ –Α―¹―¹–Ψ―Ü–Η–Η―Ä―É―é―²―¹―è ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―²–Α–Κ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ―΄–Β ¬Ϊ–Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Η–Β –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η¬Μ, ―²–Ψ–≥–¥–Α –Κ–Α–Κ –Μ―é–±–Α―è ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η–Κ–Α –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ω―Ä–Η–±―΄–≤–Α―²―¨ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ¬Ϊ–¥–Μ–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Α–Φ–Η¬Μ. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ψ―²―Ä–Α–¥–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β–¥–Α–≤–Ϋ–Β–Β ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β ¬Ϊ–†–Ψ―¹–Ϋ–Β―³―²–Η¬Μ –Ω–Β―Ä–Β–Ι―²–Η –≤ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è―Ö ―¹ –Ω–Α―Ä―²–Ϋ–Β―Ä–Α–Φ–Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Α–Κ―²―΄. –≠―²–Ψ –≤―΄–≤–Ψ–¥–Η―² –±–Η–Ζ–Ϋ–Β―¹ –Η–Ζ ―²–Ψ–Ι ―¹―³–Β―Ä―΄, –≥–¥–Β –Ψ–Ϋ –Φ–Ψ–Ε–Β―² ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Α ―¹–Β–±–Β –Ψ―²―Ä–Η―Ü–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –≤–Μ–Η―è–Ϋ–Η–Β ―¹–Ω–Β–Κ―É–Μ―è–Ϋ―²–Ψ–≤. –ï―¹―²―¨ –Μ–Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±―΄ –±–Ψ―Ä―¨–±―΄ ―¹ ―³–Η–Ϋ–Α–Ϋ―¹–Ψ–≤―΄–Φ ―¹–Ω–Β–Κ―É–Μ―è–Ϋ―²–Ψ–Φ? –ï―¹―²―¨ βÄ™ ―ç―²–Ψ ―¹―²–Α–±–Η–Μ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―è –Κ―É―Ä―¹–Α ―Ä―É–±–Μ―è. –ù–Α ―¹―²–Α–±–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Κ―É―Ä―¹–Β –Ϋ–Η –Ψ–¥–Η–Ϋ ―¹–Ω–Β–Κ―É–Μ―è–Ϋ―² –Ζ–Α―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―², –Η ―²–Α–Κ–Α―è –≤–Α–Μ―é―²–Α –¥–Μ―è –Ϋ–Β–≥–Ψ ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¹―è –Ϋ–Β–Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ–Ψ–Ι. –€–Ψ–Ε–Β―² –Μ–Η ―ç―²–Ψ –Ψ―²–Ω―É–≥–Ϋ―É―²―¨ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–≥–Ψ –Η–Ϋ–≤–Β―¹―²–Ψ―Ä–Α? βÄ™ –ù–Β―², –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―è–Β―²―¹―è –¥―Ä―É–≥–Η–Φ–Η ―³–Α–Κ―²–Ψ―Ä–Α–Φ–Η, –Η ―¹―²–Α–±–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤–Α–Μ―é―²―΄ –Κ –Ϋ–Η–Φ –Ϋ–Β –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η―²―¹―è. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ, –Β―¹–Μ–Η ―²–Α–Κ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Η–Ζ–±–Α–≤–Η―²―¨―¹―è –Ψ―² ―¹–Ω–Β–Κ―É–Μ―è–Ϋ―²–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Ϋ–Α –Ω―É―¹―²–Ψ–Φ –Φ–Β―¹―²–Β –¥–Β–Μ–Α–Β―² –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Β―â–Β –Ϋ–Β–¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Α―à–Η–Φ–Η, ―²–Ψ –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Β―² ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨? –û―²–≤–Β―² –Ω―Ä–Ψ―¹―²: ―¹―Ä–Β–¥–Η ―¹–Ω–Β–Κ―É–Μ―è–Ϋ―²–Ψ–≤ –Β―¹―²―¨ ¬Ϊ―΅―É–Ε–Η–Β¬Μ, –Ϋ–Ψ –Β―¹―²―¨-―²–Α–Κ–Η –Η ¬Ϊ–Ϋ–Α―à–Η¬Μ, –Α ―Ä–Α–¥–Η –Ϋ–Η―Ö –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Ι―²–Η –Ϋ–Α –≤―¹―ë. –‰–Ζ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ω–Α―¹―¹–Α–Ε–Α –Ψ ―¹–Ω–Β–Κ―É–Μ―è–Ϋ―²–Α―Ö ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² ―²–Ψ, –Κ–Α–Κ–Η–Β –Ζ–Α–¥–Α―΅–Η –Φ–Ψ–≥―É―² ―Ä–Β―à–Η―²―¨ ―²–Β, –Κ―²–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–±–Ψ–Η―²―¹―è –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η―²―¨―¹―è –Κ –Ϋ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Α–Μ―é―²–Β ―¹–Ψ –≤―¹–Β–Ι –Ω–Α―²―Ä–Η–Ψ―²–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é. –ï―¹―²―¨ –Β―â–Β –Ψ–¥–Ϋ–Α ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Α―è –≤–Ϋ–Β―à–Ϋ–Β–Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è –Ζ–Α–¥–Α―΅–Α, ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è ―¹ ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η–Κ–Ψ–Ι. –î–Β–Μ–Ψ –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è ―É –†–Ψ―¹―¹–Η–Η ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β―² ―Ä―΄―΅–Α–≥–Ψ–≤, ―¹ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨―é –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ψ–Ϋ–Α –Φ–Ψ–≥–Μ–Α –±―΄ –≤–Μ–Η―è―²―¨ –Ϋ–Α ―Ü–Β–Ϋ―΄ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ―΄―Ö ―ç–Κ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―²–Ψ–≤. –Π–Β–Ϋ–Α –Ϋ–Α –Ϋ–Β―³―²―¨, –≥–Α–Ζ, ―¹―²–Α–Μ―¨, –Ζ–Β―Ä–Ϋ–Ψ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―è–Β―²―¹―è –Ϋ–Β –Ϋ–Α ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Η –†–Ψ―¹―¹–Η–Η, –Α –Ζ–Α –Β–Β –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Α–Φ–Η, –Η –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ψ–≤ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η –Ϋ–Β ―É―΅–Η―²―΄–≤–Α–Β―². –ë–Ψ–Μ–Β–Β ―²–Ψ–≥–Ψ ―Ü–Β–Ϋ–Α –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―è–Β―²―¹―è –Ϋ–Β –≤ ―Ä―É–±–Μ―è―Ö, –Η, –Ω–Ψ–Κ–Α ―²–Α–Κ–Α―è ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η―è ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―è–Β―²―¹―è, ―ç–Κ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Β―Ä―΄ –Ϋ–Β ―¹–Φ–Ψ–≥―É―² ―¹―²–Α―²―¨ –Ω–Α―²―Ä–Η–Ψ―²–Α–Φ–Η. –ü–Ψ–Ϋ―è―²–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ –Η―Ö –Ϋ–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –≤–Ψ–Μ–Ϋ―É–Β―², –Ϋ–Ψ ―ç―²–Ψ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ –≤–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤―¹–Β―Ö –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ ―²–Α–Κ–Η–Β ―¹―Ö–Β–Φ―΄ –Φ–Ψ–≥―É―² ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ζ–Α –Ϋ–Α―à ―¹ –≤–Α–Φ–Η ―¹―΅–Β―². –£ ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–Ι –≥–Μ–Α–≤–Β –Φ―΄ –Ω–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Φ –Ψ –Ω–Ψ―¹―²–Η–Ϋ–¥―É―¹―²―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β, –Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Α–Φ–Ψ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η, –Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö –Ϋ–Α–Μ–Ψ–≥–Α―Ö, –Φ–Α–Μ–Ψ–Φ –±–Η–Ζ–Ϋ–Β―¹–Β –Η –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β –Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö –≥―Ä–Ψ–Φ–Κ–Η―Ö –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Ι. 25 –Ψ–Κ―²―è–±―Ä―è 2013 –≥. 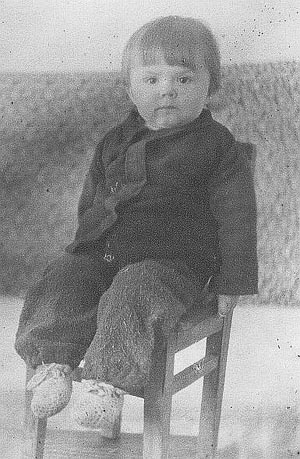 –½–Η–Φ–Α ―¹–≤–Β–Ε–Α –½–Η–Φ–Α ―¹–≤–Β–Ε–Α–½–Η–Φ–Α ―¹–≤–Β–Ε–Α. –ü―Ä–Η―΅―É–¥–Μ–Η–≤–Α –Η–≥―Ä–Α –½–Β–Μ–Β–Ϋ―΄―Ö –Β–Μ–Β–Ι –Ω–Ψ–¥ –Ω–Ψ–Κ―Ä–Ψ–≤–Ψ–Φ ―¹–Ϋ–Β–≥–Α, –ù–Ψ –±–Β–Μ–Η–Ζ–Ϋ–Α –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²―¹―è –Κ –Ω–Ψ–±–Β–≥―É βÄ™ –£–Β–¥―¨ –Ω–Ψ–Μ–¥–Β–Ϋ―¨ ―¹–Ψ–Μ–Ϋ―Ü―É ―Ä–Α–Ζ–Ψ–≥―Ä–Β―²―¨ –Ω–Ψ―Ä–Α. –‰ –≤―¹―ë –Β―â–Β, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β –≤―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ βÄî –ù–Η ―¹–Ϋ–Β–≥, –Ϋ–Η ―¹–Ψ–Μ–Ϋ―Ü–Β, –Ϋ–Η –¥–Μ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ―²―΄ ―²–Β–Ϋ–Β–Ι –ù–Ψ ―¹―²―Ä–Α―Ö –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Κ–Η–¥–Α–Μ ―Ä–Α―¹―²–Β–Ϋ–Η–Ι, –£–Β–¥―¨ –≥–¥–Β-―²–Ψ ―²–Α–Φ ―É–Ε–Β ―²―Ä–Β―â–Η―² –Φ–Ψ―Ä–Ψ–ΖβÄΠ –ü–Ψ―Ä–Α –±―΄ ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ ―²–Ψ―΅–Κ―É, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Ϋ–Β –£―¹―ë ―΅―É–¥–Η―²―¹―è, –≤―¹―ë –≤–Η–¥–Η―²―¹―è –Η–Ϋ–Ψ–Β βÄ™ –€–Ϋ–Β –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è, ―΅―²–Ψ –≤–Ψ–≤―¹–Β –Ϋ–Β–Ζ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–Β, –ù–Β –≤ ―à―É–Φ–Β –Η –≤―΅–Β―Ä–Α―à–Ϋ–Β–Ι ―²–Ψ–Μ–Κ–Ψ―²–Ϋ–Β. –‰ –Ϋ–Β –≤ –¥–Ψ–Μ–≥–Α―Ö, –Η –Ϋ–Β –≤ –Φ–Β―΅―²–Α―Ö –Ψ ―΅―É–¥–ΒβÄΠ –€–Ϋ–Β –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è, ―΅―²–Ψ –Μ―é–¥–Η βÄ™ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Μ―é–¥–Η, –ù–Ψ –Η–Φ –Ϋ–Β ―¹―²–Α―²―¨ –Ϋ–Η –±–Μ–Η–Ε–Β, –Ϋ–Η ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Β–Ι. 23 –Ψ–Κ―²―è–±―Ä―è 2013 –≥.
26.10.201310:1626.10.2013 10:16:35
0
26.10.201310:0526.10.2013 10:05:29
–Θ―Ä–Ψ–≤–Β–Ϋ―¨ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι, –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²―΄―Ö –ö–ë–Λ –Η–Ζ –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ–Η –≤ 1940-1941 –≥–≥., –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Ι ―¹―É–¥–Ψ–≤, –Φ–Ψ–±–Η–Μ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ–Φ –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄, –±―΄–Μ –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ―΄–Φ. –ù–Α –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―³–Μ–Ψ―²–Α –Κ –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Β –Ψ―²―Ä–Η―Ü–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Η –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Κ–Η –≤ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Η –Φ–Ψ–±–Η–Μ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö ―¹―É–¥–Ψ–≤ –Η –Ω―Ä–Η–Ω–Η―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α: βÄî ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è –Ϋ–Β–Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Φ–Ψ–±–Η–Μ–Η–Ζ―É–Β–Φ―΄―Ö ―¹―É–¥–Ψ–≤ –Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Α –Η―Ö –≤–Ϋ–Β–Ω–Μ–Α–Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Α –Η –≤–Ψ –Η–Φ―è ―¹–Ψ–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η―è ―¹―Ä–Ψ–Κ–Ψ–≤ –≤–≤–Ψ–¥–Α –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –ö–ë–Λ –Ω―Ä–Η–≤–Β–Μ–Α –Κ ―¹–Ψ–Κ―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η―é ―¹―Ä–Ψ–Κ–Ψ–≤ –Η, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Κ ―¹–Ϋ–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―é –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Α –Ψ―²―Ä–Α–±–Ψ―²–Κ–Η –Η–Φ–Η –Ζ–Α–¥–Α―΅ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η; βÄî –Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–≤―à–Β–Β―¹―è ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―É–≤–Β–Μ–Η―΅–Β–Ϋ–Η–Β, –Ω–Ψ ―¹―Ä–Α–≤–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é ―¹ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ, –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Α –Φ–Ψ–±–Η–Μ–Η–Ζ―É–Β–Φ―΄―Ö ―¹―É–¥–Ψ–≤ –≤―΄–Ζ–≤–Α–Μ–Ψ –Ϋ–Β―Ö–≤–Α―²–Κ―É –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è –¥–Μ―è –Ϋ–Η―Ö; βÄî –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –Ω―Ä–Η–Ζ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Η–Ζ –Ζ–Α–Ω–Α―¹–Α –Ψ–Ω―΄―²–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Ψ–≤ –≤ –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤―΄–Β ―΅–Α―¹―²–Η ―³–Μ–Ψ―²–Α –Η –¥–Α–Ε–Β –≤ –ö―Ä–Α―¹–Ϋ―É―é –Α―Ä–Φ–Η―é ―É–≤–Β–Μ–Η―΅–Η–Μ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Φ–Ψ–±–Η–Μ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹―É–¥–Ψ–≤ –≤ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Ω–Ψ ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ―é –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η―Ö ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Ι. –ö―Ä–Ψ–Φ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –Φ–Ψ–±–Η–Μ–Η–Ζ―É–Β–Φ―΄–Β ―¹―É–¥–Α, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ, –Η–Φ–Β–Μ–Η –Ϋ–Η–Ζ–Κ–Η–Β –Φ–Ψ―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Α. –Γ–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Β ―¹–Η―¹―²–Β–Φ―΄ –±–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Η, ―¹–Η―¹―²–Β–Φ―΄ –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –≤ –Ω―Ä–Η–±–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö ―Ä–Β―¹–Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Α―Ö, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅―²–Ψ –≤–Ψ―à–Β–¥―à–Η―Ö –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –Γ–Γ–Γ–†, –Κ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―É –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –Η–Μ–Η –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ζ–Α–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ψ, –Η–Μ–Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ –Ψ―²―Ä–Η―Ü–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤–Μ–Η―è–Μ–Ψ –Ϋ–Α ―ç―³―³–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι –ö–ë–Λ. –£ ―Ö–Ψ–¥–Β –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Α―²–Β–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―² –Γ–½–ù –Η –Ϋ–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ –£–€–Λ ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Ψ―² –ö–ë–Λ –Α–Κ―²–Η–≤–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι –Ϋ–Α –Φ–Ψ―Ä–Β. –£–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ ―²–Β–Φ –Ψ–Ϋ–Η –Ε–Β –Η –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Α―è –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Α –Ζ–Α―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Η ―³–Μ–Ψ―² –≤―¹–Β –≤ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β–Ι ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Η –≤―²―è–≥–Η–≤–Α―²―¨―¹―è –≤ –±–Ψ–Β–≤―΄–Β –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –Ϋ–Α ―¹―É―Ö–Ψ–Ω―É―²–Ϋ–Ψ–Φ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Β. –ù–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü, –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω―Ä–Η–Μ–Α–≥–Α―²―¨ –≤―¹–Β –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Β ―É―¹–Η–Μ–Η―è –¥–Μ―è –Ζ–Α―â–Η―²―΄ ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η–Κ–Α―Ü–Η–Ι, ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η―è –Φ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Ι –≤ –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Β –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―è―²―¨ –≤ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹–Η–Μ–Α–Φ–Η –Ψ–±―à–Η―Ä–Ϋ―΄–Β ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Η ―¹ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―è―â–Η–Φ–Η―¹―è –Ϋ–Α –Ϋ–Η―Ö –±–Α–Ζ–Α–Φ–Η ―³–Μ–Ψ―²–Α. –ü―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Α –ö–ë–Λ –≤ –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É ―¹–Ψ–≤–Β―²―É –Γ–½–ù –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ―΄–Β –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Η–≤―΄ ―³–Μ–Ψ―²―É –Ϋ–Β―Ä–Β–¥–Κ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–≤–Α―Ä―è–Μ–Η―¹―¨ –≥―Ä–Ψ–Ζ–Ϋ―΄–Φ–Η –≤–Ϋ―É―à–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η –Η ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Α–Μ–Η―¹―¨ –Α–≥–Η―²–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Ω―Ä–Ψ–Ω–Α–≥–Α–Ϋ–¥–Η―¹―²―¹–Κ–Η–Φ–Η –Μ–Ψ–Ζ―É–Ϋ–≥–Α–Φ–Η, –Α ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è ―΅–Α―¹―²―¨ –Η–Ζ–Ψ–±–Η–Μ–Ψ–≤–Α–Μ–Α –Ω–Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Ψ–Ι –Ζ–Α–¥–Α―΅, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Μ–Η–±–Ψ –Η ―²–Α–Κ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ–Η―¹―¨ ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –Ω–Ψ–≤―¹–Β–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ–Ψ, –±–Β–Ζ –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Ι, –Μ–Η–±–Ψ –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Β―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η. –£–Ψ―², –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –≤―΄–¥–Β―Ä–Ε–Κ–Α –Η–Ζ –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Η–≤―΄ –Γ–½–ù –Ψ―² 18.07 ⳕ 34: ¬Ϊ–ù–Α –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η ―³–Α–Κ―²–Ψ–≤ –Ψ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è―Ö –Ζ–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Α –ö–ë–Λ –≥–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ψ-–½–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―² –Κ –≤―΄–≤–Ψ–¥―É, ―΅―²–Ψ... –≤–Φ–Β―¹―²–Ψ ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Φ–Α–Κ―¹–Η–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Α–Κ―²–Η–≤–Η–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è ―³–Μ–Ψ―²–Α –Η –Φ–Ψ–±–Η–Μ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ–Ι –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Β –Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –Ϋ–Α –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ―΄―Ö –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Ζ–Α–¥–Α―΅, –Κ―Ä–Β–Ω–Η―²―¨ –Β–≥–Ψ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –¥―É―Ö –Η ―¹–Ω–Μ–Ψ―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –ö–ë–Λ, –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ―è―è –Ϋ–Β―²–Β―Ä–Ω–Η–Φ―É―é ―Ä–Α―¹―²–Β―Ä―è–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –Ψ―Ä–Η–Β–Ϋ―²–Η―Ä―É–Β―²―¹―è –Ϋ–Α ―ç–≤–Α–Κ―É–Α―Ü–Η―é –≤–≥–Μ―É–±―¨ –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤ –Α, ―΅―²–Ψ ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Β–¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―é –Ω–Ψ–Μ―è –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ―É. –£–≤–Η–¥―É ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –≤―΄–Ϋ―É–Ε–¥–Β–Ϋ –Ω―Ä–Β–¥―É–Ω―Ä–Β–¥–Η―²―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –ö–ë–Λ, –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α ―²–Ψ–≤. –Δ―Ä–Η–±―É―Ü - –≤ –Ω–Β―Ä–≤―É―é –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥―¨, ―΅―²–Ψ –≤―¹―è–Κ–Ψ–Β –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β ―Ä–Α―¹―²–Β―Ä―è–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η –Ψ―¹–Μ–Α–±–Μ–Β–Ϋ–Η―è ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Α –±–Ψ–Β–≤―΄–Φ–Η –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è–Φ–Η ―³–Μ–Ψ―²–Α ―¹–Ψ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Η –≤―¹–Β―Ö –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α―Ö –±―É–¥―É―² –Φ–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α―¹―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α―²―¨―¹―è –Κ–Α–Κ –Ϋ–Β–Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η–Β –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Ι –¥–Ψ–Μ–≥ –Η –Ϋ–Α―Ä―É―à–Β–Ϋ–Η–Β –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η―¹―è–≥–Η. –Δ―Ä–Β–±―É―é ―Ä–Β―à–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Α–Κ―²–Η–≤–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η ―¹–Η–Μ ―³–Μ–Ψ―²–Α –Κ–Α–Κ –¥–Μ―è ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―è ―΅–Η―¹―²–Ψ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Ζ–Α–¥–Α―΅, ―²–Α–Κ –Η –¥–Μ―è ―¹–Ψ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è ―¹―É―Ö–Ψ–Ω―É―²–Ϋ―΄–Φ –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α–Φ –≤ –Η―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è―Ö –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ –≤―Ä–Α–≥–Α... –£ –ë–Α–Μ―². –Φ–Ψ―Ä–Β ―É–≤–Β–Μ–Η―΅–Η―²―¨ –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –¥–Μ―è –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ―΄―Ö –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η–Ι –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η–Κ–Α―Ü–Η―è―Ö –Ω―Ä-–Κ–Α... –ù–Α―à–Η –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ―΄ –¥–Α―²―¨ –Ψ ―¹–Β–±–Β –Κ–Α–Κ ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² –Ζ–Ϋ–Α―²―¨ –Ϋ–Α–≥–Μ―΄–Φ ―³–Α―à–Η―¹―²―¹–Κ–Η–Φ –Ω–Η―Ä–Α―²–Α–Φ. –ü–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨ ―¹–Φ–Β–Μ–Ψ, ―Ä–Β―à–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Α–Β―² –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Η... –£ –†–Η–Ε―¹–Κ–Ψ–Φ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Β - –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ―΄–Φ–Η –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η―è–Φ–Η –Η –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Φ–Α–Ϋ–Β–≤―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹–Η–Μ (–Φ–Η–Ϋ–Ψ–Ϋ–Ψ―¹―Ü―΄, ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄–Β –Κ–Α―²–Β―Ä–Α, –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Η, –Α–≤–Η–Α―Ü–Η―è) –Ϋ–Α–Ϋ–Ψ―¹–Η―²―¨ –Ω―Ä-–Κ―É –Φ–Α–Κ―¹–Η–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―É―Ä–Ψ–Ϋ, ―²–Β–Φ ―¹–Α–Φ―΄–Φ –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η―²―¨ –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ―É―é –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―É –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Ψ–≤. –£ ―ç―²–Η―Ö ―Ü–Β–Μ―è―Ö: –Ζ–Α–≥―Ä–Α–¥–Η―²―¨ –Φ–Η–Ϋ–Α–Φ–Η –≤―΄―Ö–Ψ–¥ –Η–Ζ –Θ―¹―²―¨-–î–≤–Η–Ϋ―¹–Κ–Α, –Φ–Α–Κ―¹–Η–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―É―¹–Η–Μ–Η―²―¨ –Φ–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –≤ –‰―Ä–±–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤–Β... –£ –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Β - –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ―΄–Φ–Η –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è–Φ–Η –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Η, –≤―΄–Μ–Α–Ζ–Κ–Α–Φ–Η –Φ–Η–Ϋ–Ψ–Ϋ–Ψ―¹―Ü–Β–≤ –Η ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ–Α―²–Β―Ä–Ψ–≤ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Β―Ä―΄–≤–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Ϋ–Ψ―¹–Η―²―¨ –Ω―Ä-–Κ―É –Ψ―â―É―²–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―É–¥–Α―Ä―΄, ―²–Ψ–Ω–Η―²―¨ –Β–≥–Ψ ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Α, –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Η –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―³–Μ–Ψ―² –Κ–Α–Κ –≤ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α, ―²–Α–Κ –Η ―à―Ö–Β―Ä–Α―Ö, –Ϋ–Β –¥–Α–≤–Α―è –Η–Φ ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–¥–≤–Η–≥–Α―²―¨―¹―è –Ω–Ψ –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Ζ–Α–Μ–Η–≤―É, ―É―¹–Η–Μ–Η―²―¨ –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ―É―é –Φ–Η–Ϋ–Ϋ―É―é –≤–Ψ–Ι–Ϋ―É –Ϋ–Α ―³–Α―Ä–≤–Α―²–Β―Ä–Α―Ö –Ω―Ä-–Κ–Α –Η –≤–Ϋ―É―²―Ä–Η ―à―Ö–Β―Ä... –û―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨ –±–Ψ–Μ–Β–Β –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ―É―é –±–Ψ―Ä―¨–±―É ―¹ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ–Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Α–Φ–Η, –¥–Μ―è ―΅–Β–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –Ϋ–Α –±–Μ–Η–Ε–Α–Ι―à–Β–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ψ―¹–Ψ–±―΄–Ι –Ω–Μ–Α–Ϋ. –Γ–Η―¹―²–Β–Φ–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ ―²―Ä–Α–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η―²―¨ –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η–Κ–Α―Ü–Η–Η –¥–Μ―è –Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η―è –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Ψ–≤, –Ξ–Α–Ϋ–Κ–Ψ –Η –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α. –£–Ζ–Α–Η–Φ–Ψ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Β ―¹ –Α―Ä–Φ–Η–Β–Ι –Ψ―¹―²–Α–Β―²―¹―è –≤ ―¹–Η–Μ–Β –≤–Ψ –≤―¹–Β―Ö ―¹–Μ―É―΅–Α―è―Ö –¥–Μ―è ―¹–Ψ–≤–Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≥―Ä–Ψ–Φ–Α –≤―Ä–Α–≥–Α...¬Μ [–¥–Ψ–Κ. ⳕ 110]. –‰–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Η–≤―΄ –Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –±–Β–Ζ ―É–≥―Ä–Ψ–Ζ, –Ϋ–Ψ ―¹ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Μ–Ψ–Φ–Κ–Α–Φ–Η. –Δ–Α–Κ, 1.08 –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―² –Γ–½–ù ―É–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É ―¹–Ψ–≤–Β―²―É –ö–ë–Λ: ¬Ϊ–û―²–Φ–Β―΅–Α―é –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Β –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ―΄―Ö (–Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö) –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι –Ϋ–Α –Ζ–Α–Ω―Ä–Β―â–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–Ζ–Α –Ω–Ψ–¥–Κ―Ä–Β–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι –≠―¹―²–Ψ–Ϋ–Η―é, –Λ–Η–Ϋ–Μ―è–Ϋ–¥–Η―é, –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨ ―³–Μ–Α–Ϋ–≥–Α–Φ 8 –Η 23 –Α―Ä–Φ–Η–Η, –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Β –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α―Ü–Η–Η ―É―¹–Η–Μ–Η―è –Ϋ–Α –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Φ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –†–Η–Ε―¹–Κ–Ψ–Φ –Ζ-–≤–Β...¬Μ [–¥–Ψ–Κ. ⳕ 141]. –ù–Β –Ψ―²–Φ–Β–Ϋ―è―è ¬Ϊ–Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α―Ü–Η―é ―É―¹–Η–Μ–Η–Ι –Ϋ–Α... –†–Η–Ε―¹–Κ–Ψ–Φ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Β¬Μ, –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―² –Γ–½–ù 11.08 –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―² –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É ―¹–Ψ–≤–Β―²―É –ö–ë–Λ: ¬Ϊ–î–Μ―è –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –≤–Ψ–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α –ö–ë–Λ –Ζ–Α–¥–Α―΅ –≤ ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―΅–Α―¹―²–Η –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –≤―΄―à–Μ–Η –Ϋ–Α ―é–Ε–Ϋ―΄–Ι –±–Β―Ä–Β–≥ –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α, –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Η–Β –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η–Κ–Α―Ü–Η–Η –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α ―¹ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Ψ–Φ ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ζ–Α–¥–Α―΅–Β–Ι¬Μ [–¥–Ψ–Κ. ⳕ 308]. –ù–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―² –Γ–½–ù –≤ –Ω―Ä–Β–¥–≤–Η–¥–Β–Ϋ–Η–Η ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―΄–Μ –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ ―ç―²―É –Ζ–Α–¥–Α―΅―É –Ϋ–Β–¥–Β–Μ–Η –Ϋ–Α ―²―Ä–Η ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β. –‰–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ–Ψ ―²–Α–Κ–Ε–Β, –≤ ―΅–Β–Φ –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Α–Μ–Α―¹―¨ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Η―Ü–Α –Φ–Β–Ε–¥―É –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Φ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Η ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ζ–Α–¥–Α―΅–Β–Ι? –ö–Α–Κ ―Ä–Β―à–Η–Μ ―ç―²―É –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Μ–Ψ–Φ–Κ―É –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―² –ö–ë–Λ? –ê –≤–Ψ―² –Κ–Α–Κ! –û―Ü–Β–Ϋ–Η–≤ –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ―É –Η ―É―è―¹–Ϋ–Η–≤ –Ζ–Α–¥–Α―΅–Η, –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―² –ö–ë–Λ 12.08 –¥–Ψ–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ –Ϋ–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ―É –£–€–Λ: ¬Ϊ–î–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―ç―²–Α–Ω–Β –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α–¥–Α―΅–Η (–Φ–Ϋ–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―΅–Η―¹–Μ–Ψ! βÄî –†.3.) –ö–ë–Λ: –û―Ö―Ä–Α–Ϋ–Α –Ϋ–Α―à–Η―Ö –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η–Κ–Α―Ü–Η–Ι. –ù–Α―Ä―É―à–Β–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η–Κ–Α―Ü–Η–Ι –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –†–Η–Ε―¹–Κ–Ψ–Φ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Β, –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Α –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Ψ–≤, –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ―΄–Β –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η (–≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ, –Η–Φ–Β―é―²―¹―è –≤ –≤–Η–¥―É –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η –≤ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è –Η ―³–Η–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö ―à―Ö–Β―Ä–Α―Ö. βÄî –†.3.). –ü–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Κ–Α ―³–Μ–Α–Ϋ–≥–Α –Α―Ä–Φ–Η–Η. –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –‰―Ä–±–Β–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤¬Μ [–¥–Ψ–Κ. ⳕ 211]. –‰―²–Α–Κ, –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―² –Γ–½–ù ―¹―΅–Η―²–Α–Β―² ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ζ–Α–¥–Α―΅–Β–Ι –ö–ë–Λ –Ζ–Α―â–Η―²―É –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η–Κ–Α―Ü–Η–Ι –≤ –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Β, –Ϋ–Ψ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Φ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι βÄî –†–Η–Ε―¹–Κ–Η–Ι –Ζ–Α–Μ–Η–≤ (?). –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―² –ö–ë–Λ ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Β–Ϋ ―¹ ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Φ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –†–Η–Ε―¹–Κ–Η–Ι –Ζ–Α–Μ–Η–≤ (–Β–≥–Ψ –‰―Ä–±–Β–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤), –Ϋ–Ψ –≤ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―² –Ω―è―²―¨ –Ζ–Α–¥–Α―΅ (?!). –ï―¹―²―¨ –Ϋ–Α–¥ ―΅–Β–Φ –Ζ–Α–¥―É–Φ–Α―²―¨―¹―è –Η –≤ ―΅–Β–Φ –Ζ–Α–Ω―É―²–Α―²―¨―¹―è. –ö ―²–Ψ–Φ―É –Ε–Β –Ζ–Α–±―΄―²–Α ―à–Β―¹―²–Α―è, –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Α―è –Ζ–Α–¥–Α―΅–Α: –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Α –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α! –ë―΄–Μ–Α –Β―â–Β –Ψ–¥–Ϋ–Α ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ–Α―è –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Α, –≤–Μ–Η―è–≤―à–Α―è –Ϋ–Α ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι –ö–ë–Λ –≤ ―Ä–Α―¹―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α–Β–Φ―΄–Ι –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥. –‰–Φ–Β―é―²―¹―è –≤ –≤–Η–¥―É –Α–≤–≥―É―¹―²–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Β –±–Ψ–Φ–±–Α―Ä–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Η –ë–Β―Ä–Μ–Η–Ϋ–Α, ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Α–≤―à–Η–Β―¹―è ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Α–Φ–Η –Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –Α–≤–Η–Α–≥―Ä―É–Ω–Ω―΄, –≤―΄–Μ–Β―²–Α–≤―à–Η–Φ–Η ―¹ –Α―ç―Ä–Ψ–¥―Ä–Ψ–Φ–Ψ–≤, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Η―Ö―¹―è –Ϋ–Α –Ψ. –≠–Ζ–Β–Μ―¨. –ù–Β –Κ–Α―¹–Α―è―¹―¨ –≤–Μ–Η―è–Ϋ–Η―è ―ç―²–Η―Ö –±–Ψ–Φ–±–Α―Ä–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–Κ –Ϋ–Α –Ψ–±―â―É―é –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ―É –Ϋ–Α ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ-–≥–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Β, –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ –Ψ―²–Φ–Β―²–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –Α–≤–Η–Α–≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ –≥–Ψ―Ä―é―΅–Η–Φ –Η –±–Ψ–Φ–±–Α–Φ–Η ―¹ 30.07 ―¹―²–Α–Μ–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ –≤–Α–Ε–Ϋ―΄―Ö (–Η–Μ–Η –Β―â–Β –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄―Ö) –Ζ–Α–¥–Α―΅ ―³–Μ–Ψ―²–Α. –ù–Ψ –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι ―³–Μ–Ψ―², –Ϋ–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α ―΅―Ä–Β–Ζ–≤―΄―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β–≤―΄–≥–Ψ–¥–Ϋ–Ψ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Η–≤―à―É―é―¹―è –¥–Μ―è –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ―É, –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Ι―΅–Η–≤–Ψ ―¹―²―Ä–Β–Φ–Η–Μ―¹―è –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²―¨ –≤―¹–Β –≤–Ψ–Ζ–Μ–Α–≥–Α–≤―à–Η–Β―¹―è –Ϋ–Α –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ζ–Α–¥–Α―΅–Η –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α –Φ–Ψ―Ä–Β, ―²–Α–Κ –Η –Ϋ–Α ―¹―É―à–Β. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β ―³–Μ–Ψ―²–Α ―è―¹–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η–Ψ―Ä–Η―²–Β―² –Ζ–Α–¥–Α―΅ –Ω–Ψ ―¹–Ψ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―é –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ι –Α―Ä–Φ–Η–Η. –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Η–Β –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Η βÄî –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η, –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η, –Α–≤–Η–Α―²–Ψ―Ä―΄, –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Η–Κ–Η, ―²―΄–Μ–Ψ–≤–Η–Κ–Η βÄî ―¹–Α–Φ–Ψ–Ψ―²–≤–Β―Ä–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹―Ä–Α–Ε–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹ –≤―Ä–Α–≥–Ψ–Φ –≤―¹―é–¥―É, –Κ―É–¥–Α –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Μ–Ψ –Η―Ö –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β. –ë―΄–Μ–Η ―É ―³–Μ–Ψ―²–Α –Ϋ–Β―É–¥–Α―΅–Η, –±―΄–Μ–Η –Η –Ω–Ψ–±–Β–¥―΄, –±―΄–Μ–Η –Ψ―à–Η–±–Κ–Η, –Ϋ–Ψ –≤–Ψ –≤―¹–Β―Ö ―¹–Μ―É―΅–Α―è―Ö –Ω―Ä–Η–Ψ–±―Ä–Β―²–Α–Μ―¹―è –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ψ–Ω―΄―². –Δ―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Ψ―Ü–Β–Ϋ–Η―²―¨ –≤–Κ–Μ–Α–¥ –±–Α–Μ―²–Η–Ι―Ü–Β–≤ –≤ –Ζ–Α–¥–Β―Ä–Ε–Κ―É –≤―Ä–Α–≥–Α –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥―¹―²―É–Ω–Α―Ö –Κ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―É. –û–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Β–Ι―à–Η―Ö –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α―¹―¨ –¥–Μ―è –ö–ë–Λ –Ζ–Α–¥–Α―΅–Α –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η―è ―³―É–Ϋ–Κ―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η–Κ–Α―Ü–Η–Ι –≤ –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Β –Ψ―² –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Α –¥–Ψ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α –Η –¥–Α–Μ–Β–Β –¥–Ψ –€–Ψ–Ψ–Ϋ–Ζ―É–Ϋ–¥―¹–Κ–Η―Ö –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Ψ–≤ –Η –Ω-–Ψ–≤–Α –Ξ–Α–Ϋ–Κ–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Α –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η―Ö –≤–Ψ–Ι―¹–Κ –Ϋ–Α ―é–Ε–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨–Β –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α. –ù–Η–Ε–Β ―Ö–Ψ–¥ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―è ―ç―²–Ψ–Ι –Ζ–Α–¥–Α―΅–Η ―Ä–Α―¹―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α–Β―²―¹―è ―à–Η―Ä–Β –Η –Ω–Ψ–¥―Ä–Ψ–±–Ϋ–Β–Β, –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –¥–Ψ―¹―²–Η–≥–Ϋ―É―²–Α―è ―ç―³―³–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Β–Β ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–≤–Μ–Η―è–Μ–Α –Ϋ–Α ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α. 2.3. –½–Α―â–Η―²–Α –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η–Κ–Α―Ü–Η–Ι –≤ –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Β–ù–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α ―²–Ψ ―΅―²–Ψ –Ζ–Α–¥–Α―΅–Α –Ζ–Α―â–Η―²―΄ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η–Κ–Α―Ü–Η–Ι –Ω–Β―Ä–Β–¥ –ö–ë–Λ –Ϋ–Α–Κ–Α–Ϋ―É–Ϋ–Β –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –Ϋ–Β ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Α―¹―¨, ―³–Μ–Ψ―² –Κ –Β–Β ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―é –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥ –Ϋ–Β –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²―¨―¹―è, –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Η ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―è―â–Η–Β –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²―΄ –£–€–Λ (–Ω―Ä–Η–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β 10, ―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ I, ―¹―². 6, 7, 12; ―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ VII; ―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ IX, –≥–Μ. 5). –ö–Α–Κ –Ε–Β –±―΄–Μ–Η –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ―΄ –Ϋ–Α –ö–ë–Λ ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―è―â–Η―Ö –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Ψ–≤ –Ω–Ψ –Ζ–Α―â–Η―²–Β ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η–Κ–Α―Ü–Η–Ι? –ü―Ä–Β–Ε–¥–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ –Κ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―É –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Β–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β―Ä―²―΄–≤–Α–Ϋ–Η–Β ―¹–Η―¹―²–Β–Φ―΄ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –±–Α–Ζ, –±–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Η, –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄, –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Ι –Η ―¹―É―Ö–Ψ–Ω―É―²–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –ö–ë–Λ –Ϋ–Α ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Η –Ω―Ä–Η–±–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö ―Ä–Β―¹–Ω―É–±–Μ–Η–Κ, –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ζ–Α 10 –Φ–Β―¹―è―Ü–Β–≤ –¥–Ψ –Ϋ–Α–Ω–Α–¥–Β–Ϋ–Η―è –™–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ–Η–Η –≤–Ψ―à–Β–¥―à–Η―Ö –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –Γ–Γ–Γ–†. –£ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Β –Ψ―²―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α―à–Η―Ö –≤–Ψ–Ι―¹–Κ –Κ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―É –ö–ë–Λ –Μ–Η―à–Η–Μ―¹―è –Κ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü―É –Α–≤–≥―É―¹―²–Α –Ω–Ψ―΅―²–Η –≤―¹–Β―Ö –£–€–ë –Η –Α―ç―Ä–Ψ–¥―Ä–Ψ–Φ–Ψ–≤ –Ϋ–Α –Ψ–±–Ψ–Η―Ö –±–Β―Ä–Β–≥–Α―Ö –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α, –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Β, –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β –Η –Ω–Ψ–±–Μ–Η–Ζ–Ψ―¹―²–Η –Ψ―² –Ϋ–Β–≥–Ψ, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α, –Ϋ–Α –Ω-–Ψ–≤–Β –Ξ–Α–Ϋ–Κ–Ψ –Η –€–Ψ–Ψ–Ϋ–Ζ―É–Ϋ–¥―¹–Κ–Η―Ö –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α―Ö. –ù–Ψ ―ç―²–Η –±–Α–Ζ―΄ –Η –Α―ç―Ä–Ψ–¥―Ä–Ψ–Φ―΄ –±―΄–Μ–Η –Ψ―¹–Α–Ε–¥–Β–Ϋ―΄ –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α–Φ–Η –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α, –Ω―Ä–Η―΅–Β–Φ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Β ―²―Ä–Η –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Β–≥–Ψ –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Ψ–Φ ―²―΄–Μ―É. –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Α―è –Ε–Β ―΅–Α―¹―²―¨ ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±–Β―Ä–Β–≥–Α –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ω–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Α–Φ –Ϋ–Α―à–Η –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α –≤ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ ―¹ –Λ–Η–Ϋ–Μ―è–Ϋ–¥–Η–Β–Ι –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Η –Ψ–≤–Μ–Α–¥–Β―²―¨ –Ϋ–Α 30-–Ι βÄî 40-–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è, –Ψ―¹―²–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤ ―Ä―É–Κ–Α―Ö –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α ―¹–Ψ –≤―¹–Β–Φ–Η –Η–Φ–Β–≤―à–Η–Φ–Η―¹―è ―²–Α–Φ –Β–≥–Ψ –£–€–ë –Η –Α―ç―Ä–Ψ–¥―Ä–Ψ–Φ–Α–Φ–Η. –Δ–Α–Κ–Η–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ, –±―΄–Μ–Η –Κ–Α―Ä–¥–Η–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ –Ϋ–Α―Ä―É―à–Β–Ϋ―΄ ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Η―è –ö–ë–Λ –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Β–Ε–Η–Φ–Α –≤ –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Β (–Ω―Ä–Η–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β 10, ―¹―². 60), –Α –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Ϋ–Η–Φ–Η –Η ―¹–Η―¹―²–Β–Φ–Α –Ζ–Α―â–Η―²―΄ –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ϋ–Α―à–Η―Ö –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η–Κ–Α―Ü–Η–Ι. –†―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―è―â–Η–Β –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²―΄ ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Η ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–Ϋ―΄―Ö –¥–Ψ–Ζ–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Η –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Κ–Α–Κ ―ç–Μ–Β–Φ–Β–Ϋ―²–Ψ–≤ ―¹–Η―¹―²–Β–Φ―΄ –Ζ–Α―â–Η―²―΄ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η–Κ–Α―Ü–Η–Ι. –£ ―ç―²–Ψ–Φ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Β, –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―É–Ω―Ä–Β–Κ–Ϋ―É―²―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –ö–ë–Λ –≤ –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Η –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–≤–Η–¥–Β–Ϋ–Η―è. –ù–Ψ ―ç―²–Ψ―² ―É–Ω―Ä–Β–Κ ―²–Ψ–≥–¥–Α –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –Κ–Α―¹–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―ç―²–Η―Ö ―ç–Μ–Β–Φ–Β–Ϋ―²–Ψ–≤ –Η –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –ö–ë–Λ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Κ –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Β –Ω–Ψ –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω–Μ–Α–Ϋ―É, ―Ä–Α–Ζ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –≤ ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Η–Η ―¹ –Ζ–Α–¥–Α―΅–Α–Φ–Η, –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ϋ–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ–Ψ–Φ –£–€–Λ, –Η –Η–Φ –Ε–Β ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É (―²–Ψ―΅–Ϋ–Β–Β, –±―΄–Μ–Ψ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Ψ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Β―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ―΄–Φ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Ψ–Φ). –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Ϋ–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –ö–ë–Λ, –Ϋ–Η –≤―΄―à–Β―¹―²–Ψ―è―â–Β–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–¥–≤–Η–¥–Β–Μ–Η ―²–Α–Κ–Ε–Β –Η –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²–Η –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ ―¹ ―¹―É―à–Η –™–ë ―³–Μ–Ψ―²–Α, ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤ ―¹–Ψ―²–Ϋ―è―Ö –Κ–Η–Μ–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤ –Ψ―² –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü―΄. –ù–Β –Ω―Ä–Β–¥–≤–Η–¥–Β–Μ–Η –Ψ–Ϋ–Η –Η –Ω–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η―Ö –≤–Ψ–Ι―¹–Κ –≤ 60 –Κ–Φ –Ψ―² –™–ë –ö–ë–Λ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –¥–≤–Β ―¹ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Β–¥–Β–Μ–Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –Η ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ω–Ψ–Μ―²–Ψ―Ä–Α –Φ–Β―¹―è―Ü–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Β–Β –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –Ψ–Ϋ–Α –Ψ–Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è –≤ –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –≤–Ψ–Ι―¹–Κ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α, –≤ –Β–≥–Ψ ―²―΄–Μ―É, –≤ 250 –Κ–Φ –Ζ–Α –Μ–Η–Ϋ–Η–Β–Ι ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Α. –‰, –Ϋ–Α–¥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α―²―¨, –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ω―Ä–Β–¥–≤–Η–¥–Β―²―¨. –ù–Α–¥–Ψ ―²–Α–Κ–Ε–Β ―É―΅–Η―²―΄–≤–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Φ–Η –Ζ–Α–¥–Α―΅–Α–Φ–Η –ö–ë–Λ –≤ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β ―Ä–Α–Ζ–≤―è–Ζ―΄–≤–Α–Ϋ–Η―è –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ –Γ–Γ–Γ–† –™–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ–Η–Β–Ι –Η –Λ–Η–Ϋ–Μ―è–Ϋ–¥–Η–Β–Ι, –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Φ–Ϋ―é, –±―΄–Μ–Η: - ―¹–Ψ–≤–Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ ―¹ ―¹―É―Ö–Ψ–Ω―É―²–Ϋ―΄–Φ–Η –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α–Φ–Η –Η –£–£–Γ –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ι –Α―Ä–Φ–Η–Η –Ϋ–Β –¥–Ψ–Ω―É―¹―²–Η―²―¨ –≤―΄―¹–Α–¥–Κ–Η –Ϋ–Β–Φ―Ü–Α–Φ–Η –¥–Β―¹–Α–Ϋ―²–Ψ–≤ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨–Β –¦–Α―²–≤–Η–Η –Η –€–Ψ–Ψ–Ϋ–Ζ―É–Ϋ–¥―¹–Κ–Η–Β –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α; - –Ϋ–Α–Ϋ–Β―¹―²–Η –Ω–Ψ―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Ψ–Φ―É ―³–Μ–Ψ―²―É –Ω―Ä–Η –Ω–Ψ–Ω―΄―²–Κ–Β –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Κ–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η―è –≤ –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Η –†–Η–Ε―¹–Κ–Η–Ι –Ζ–Α–Μ–Η–≤―΄; - ―¹–Ψ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α–Φ –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ι –Α―Ä–Φ–Η–Η, –≤–Β–¥―É―â–Η–Φ –±–Ψ–Β–≤―΄–Β –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –Ϋ–Α ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨–Β –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α, –≤–Κ–Μ―é―΅–Α―è –Ω-–Ψ–≤ –Ξ–Α–Ϋ–Κ–Ψ. –ü–Ψ–¥―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Β–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Η –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨ ―É–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Η―è –≥–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥―¹―²–≤–Α –≤ –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Β. –£ –Ζ–Α–Ω–Η―¹–Κ–Β –ù–ö–û –Η –ù–™–® –ö–ê –≤ –Π–ö –£–ö–ü(–±) –Ψ―² 18.09.1940 –≥. –Ψ–± –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α―Ö ―¹―²―Ä–Α―²–Β–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β―Ä―²―΄–≤–Α–Ϋ–Η―è –£–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹–Η–Μ –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ ―¹―²―Ä–Α―²–Β–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β ―Ä–Α–Ζ–≤–Β―Ä―²―΄–≤–Α–Ϋ–Η–Β ¬Ϊ–Ϋ–Α ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ψ-–Ζ–Α–Ω–Α–¥–Β –Ϋ–Α―à–Η―Ö –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄―²―¨ –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Ψ –≤ –Ω–Β―Ä–≤―É―é –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥―¨ –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Α, –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²–Η―é –€―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Η –Η ―É–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Η―é –Ϋ–Α–Φ–Η –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥―¹―²–≤–Α –≤ –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Β¬Μ [–¥–Ψ–Κ. ⳕ 9]. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Α―è –Ζ–Α–¥–Α―΅–Α –Ω–Ψ ―É–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Η―é –≥–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥―¹―²–≤–Α –≤ –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Β –Ϋ–Η –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ―É ―³–Μ–Ψ―²―É, –Ϋ–Η –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–Φ―É –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ψ–Κ―Ä―É–≥―É –Ϋ–Β ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Α―¹―¨. –£–Η–¥–Η–Φ–Ψ, ―¹ ―É―΅–Β―²–Ψ–Φ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–≤―à–Β–≥–Ψ―¹―è –Ψ–≤–Μ–Α–¥–Β–Ϋ–Η―è ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Β–Ι –Λ–Η–Ϋ–Μ―è–Ϋ–¥–Η–Η ―¹―΅–Η―²–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ―΄–Φ ―É–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α―²―¨ –Ζ–¥–Β―¹―¨ –≥–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ –Ω―É―²–Β–Φ –≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–≤―¹–Β–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ―΄―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι –Ω–Ψ –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Η―é –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Β–Ε–Η–Φ–Α. –†–Α―¹―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Η–Φ –¥–Α–Μ–Β–Β ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä –Η –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―¹–Ψ–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ―΄―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η–Ι –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Η―è –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Β–Ε–Η–Φ–Α. –Α) –¥–Ψ–Ζ–Ψ―Ä–Ϋ–Α―è ―¹–Μ―É–Ε–±–Α–ü–Β―Ä–≤―΄–Β –Ω–Ψ–Μ―²–Ψ―Ä–Α –Φ–Β―¹―è―Ü–Α –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–¥–Η–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η–±―Ä–Β–Ε–Ϋ―΄–Ι ―³–Α―Ä–≤–Α―²–Β―Ä (–Λ–£–ö ⳕ 8 –ö–€, 8 –Δ–€, 12 –Δ–ë-–± –Η 13 –Δ–ë-–±, -–≤, -–≥, -–¥), –±–Ψ–Μ–Β–Β ―É–¥–Α–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ψ―² –±–Α–Ζ –£–€–Γ –Λ–Η–Ϋ–Μ―è–Ϋ–¥–Η–Η, ―΅–Β–Φ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι, –¥–Ψ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Α –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η―Ö –≤–Ψ–Ι―¹–Κ –Ϋ–Α ―é–Ε–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨–Β –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β ―É–¥–Ψ–≤–Μ–Β―²–≤–Ψ―Ä―è–Μ –Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―³–Μ–Ψ―²–Α –Η –Α―Ä–Φ–Η–Η –≤ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–Ζ–Κ–Α―Ö. –ù–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –Ζ–Α–¥–Α―΅–Α –¥–Ψ–Ζ–Ψ―Ä–Ϋ―΄―Ö ―¹–Η–Μ –≤ –Ζ–Ψ–Ϋ–Β –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―΄ –≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α (–û–£–†) –™–ë ―¹ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –Η―é–Μ―è –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö –¥–Ψ–Ζ–Ψ―Ä–Ψ–≤ –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η―²―¨ –±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Ψ―² –Φ. –°–Φ–Η–Ϋ–¥–Α –¥–Ψ –¥. –€–Α―Ö―É. –Γ 22.06 –¥–Ψ 10.08 –Ω–Ψ –Ω―Ä–Η–±―Ä–Β–Ε–Ϋ–Ψ–Φ―É –Λ–£–ö –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Η –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Ψ―²–Β–Ϋ ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö ―¹―É–¥–Ψ–≤ –Η –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η –Ϋ–Η –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö –Ϋ–Β –±―΄–Μ –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ –ü–¦ –Η–Μ–Η –Δ–ö–ê –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α, –Ϋ–Ψ ―²―Ä–Η –Δ–† –Ω–Ψ–¥–Ψ―Ä–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Φ–Η–Ϋ–Α―Ö, –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―³–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ–Η –ü–¦ –Κ ―¹–Β–≤–Β―Ä―É –Ψ―² –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨―è –≠―¹―²–Ψ–Ϋ–Η–Η, –Ϋ–Α ―É―΅–Α―¹―²–Κ–Β –Φ–Β–Ε–¥―É –Ζ–Α–Μ. –≠―Ä―É –Η –±. –ö―É–Ϋ–¥–Α. –ü―Ä–Α–≤–¥–Α, ―ç―²–Ψ ―¹–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≤ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –¥–Ϋ–Η –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄, –¥–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β―Ä―²―΄–≤–Α–Ϋ–Η―è –¥–Ψ–Ζ–Ψ―Ä–Ψ–≤ –≤ ―ç―²–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β. –î–Ψ–Ζ–Ψ―Ä―΄ –≤―΄―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Η―¹―¨ –Κ ―¹–Β–≤–Β―Ä―É –Ψ―² –Ω―Ä–Η–±―Ä–Β–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Α―Ä–≤–Α―²–Β―Ä–Α. –£–Ψ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Β –Η―é–Μ―è –¥–Ψ–Ζ–Ψ―Ä–Α–Φ –û–£–† –™–ë (–≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Φ–Α–Ϋ–Β–≤―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –±–Α–Ζ–Α –ö―É–Ϋ–¥–Α) –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Η―¹―΄–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨: ¬Ϊ–Γ–≤–Ψ–Β–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η―²―¨ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α―é―â–Β–≥–Ψ―¹―è –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –Η –¥–Ψ–Ϋ–Β―¹―²–Η –≤―¹–Β–Φ–Η –Η–Φ–Β―é―â–Η–Φ–Η―¹―è ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α–Φ–Η ―¹–≤―è–Ζ–Η, –≤―¹–Β–Φ–Η ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α–Φ–Η –Ψ―Ä―É–Ε–Η―è ―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Η―²―¨ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –Η–Μ–Η –Ζ–Α–¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨ –¥–Ψ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Α –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Κ–Η¬Μ [–¥–Ψ–Κ. ⳕ 272]; –Η–Μ–Η: ¬Ϊ–ü―Ä–Β–¥―É–Ω―Ä–Β–¥–Η―²―¨ –Η –Ζ–Α–¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨ –¥–Ψ –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Α –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄―Ö ―¹–Η–Μ –î–ï–Γ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ - –ù–Α―Ä–≤–Α. –½–Α―²―Ä―É–¥–Ϋ–Η―²―¨ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –Κ–Α―²–Β―Ä–Ψ–≤ –Η –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –Ϋ–Α –Ϋ–Α―à–Β–Ι –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η–Κ–Α―Ü–Η–Η¬Μ [–¥–Ψ–Κ. ⳕ 278]. –ü―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ –Μ–Η–Ϋ–Η–Β–Ι –¥–Ψ–Ζ–Ψ―Ä–Α –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η―¹―¨ –Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Α –Λ–£–ö ⳕ 10 –Δ–ë-–Β, –Ε. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Α –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η―Ö –≤–Ψ–Ι―¹–Κ –Ϋ–Α ―é–Ε–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨–Β –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―² –ö–ë–Λ 14.08 ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É –û–£–† –™–ë, ―΅―²–Ψ –¥–Ψ–Ζ–Ψ―Ä―΄ –Ω―Ä–Β–¥–Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α―é―²―¹―è ¬Ϊ–¥–Μ―è –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―΄ –Φ–Ψ―Ä. –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η–Κ–Α―Ü–Η–Ι, –Ζ–Α―²―Ä―É–¥–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι –ü–¦ –Η ―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Γ–ö–ê –Η –Δ–ö–ê –Ω―Ä-–Κ–Α –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –™–ë¬Μ [–¥–Ψ–Κ. ⳕ 320]. –£ –Ω―Ä–Η–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Α―Ö –Ψ–±―â–Η―Ö –Ζ–Α–¥–Α―΅ –¥–Ψ–Ζ–Ψ―Ä–Ψ–≤ –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤―É–Β―² –Ζ–Α–¥–Α―΅–Α –Ϋ–Β–¥–Ψ–Ω―É―â–Β–Ϋ–Η―è –Φ–Η–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Κ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ, ―Ö–Ψ―²―è –≤ –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Η―è―Ö –Ϋ–Α –Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η–Β –¥–Ψ–Ζ–Ψ―Ä–Α –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―Ä–Β―²–Ϋ―΄–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ –Ψ–Ϋ–Α –≤―¹–Β–≥–¥–Α ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Α―¹―¨. –î–Μ―è –¥–Ψ–Ζ–Ψ―Ä–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –û–£–† –™–ë –Ψ–Ϋ–Α ―³–Ψ―Ä–Φ―É–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ ―²–Α–Κ: ¬Ϊ–ù–Β–¥–Ψ–Ω―É―â–Β–Ϋ–Η–Β... –Φ–Η–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Κ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –Ϋ–Α –Ϋ–Α―à–Η―Ö –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η–Κ–Α―Ü–Η―è―Ö¬Μ [–¥–Ψ–Κ. ⳕ 275]; –Η–Μ–Η: ¬Ϊ–ù–Β–¥–Ψ–Ω―É―â–Β–Ϋ–Η–Β –Φ–Η–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Κ ―à―é―Ü–Κ–Ψ―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Α―²–Β―Ä–Ψ–≤...¬Μ [–¥–Ψ–Κ. ⳕ 284]; –Η–Μ–Η ¬Ϊ–½–Α–¥–Α―΅–Β–Ι ―¹―΅–Η―²–Α―²―¨... –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Ζ–Α –Ϋ–Α―à–Η–Φ–Η –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η–Κ–Α―Ü–Η―è–Φ–Η (–Ψ –≤―¹–Β―Ö –Φ–Η–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Α―Ö ―¹ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Α –¥–Ψ–Ϋ–Ψ―¹–Η―²―¨)¬Μ [–¥–Ψ–Κ. ⳕ 318]. –û–£–† –ö–£–€–ë ―ç―²–Α –Ζ–Α–¥–Α―΅–Α –±―΄–Μ–Α –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Α –≤ –Ψ–±―â–Β–Ι –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Η–≤–Β –Ω–Ψ –¥–Ψ–Ζ–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±–Β: ¬Ϊ–£–Β―¹―²–Η –±–Ψ―Ä―¨–±―É ―¹ ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η –Η –Ζ–Α–≥―Ä–Α–¥–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η―è–Φ–Η –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –¥–Ψ–Ζ–Ψ―Ä–Α¬Μ [–¥–Ψ–Κ. ⳕ 285]. –î–Ψ–Ζ–Ψ―Ä–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –≤ –Ϋ–Ψ―΅―¨ ―¹ 20 –Ϋ–Α 21 –Η―é–Μ―è –≤–Ψ―¹–Ω―Ä–Β–Ω―è―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Ω–Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Β ―é–Ε–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –Φ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –‰-29 –Ϋ–Α –Λ–£–ö ⳕ 12 –Δ–ë-–±, –Ω―Ä–Α–≤–¥–Α, ―¹–Α–Φ–Η –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–Ψ–Ζ―Ä–Β–≤–Α―è –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ ―¹―΅–Η―²–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–Μ–Η –î–ï–Γ–û –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α. –£–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―ç―²–Ψ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Β ―¹―²–Ψ–Μ–Κ–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ, –Ζ–Α―¹―²–Α–≤–Η–≤―à–Β–Ι –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Ψ-―³–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Β –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Η–Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¨ –Φ–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Η –≤ ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤–Ψ–Ζ–Ψ–±–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¨ –Η―Ö –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Α –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η―Ö –≤–Ψ–Ι―¹–Κ –Ϋ–Α –Β–≥–Ψ ―é–Ε–Ϋ―΄–Ι –±–Β―Ä–Β–≥. –î―Ä―É–≥–Η–Φ–Η –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Α–Φ–Η –±―΄–Μ–Η: –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Α―è –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―²–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η ―¹―É―²–Ψ–Κ –≤ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ –±–Β–Μ―΄―Ö –Ϋ–Ψ―΅–Β–Ι, –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Β –¥–Μ―è –Φ–Α―¹―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Κ –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –Φ–Η–Ϋ, –Η–Φ–Β–≤―à–Η―Ö―¹―è –≤ –Λ–Η–Ϋ–Μ―è–Ϋ–¥–Η–Η, ―Ä–Α–Ζ–≤–Β―Ä―²―΄–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α–Φ–Η –≤–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Β–Β –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α –Φ–Α–Ϋ–Β–≤―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –£–€–ë –ö―É–Ϋ–¥–Α. –≠―²–Ψ ¬Ϊ–Φ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Ζ–Α–≥―Ä–Α–¥–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Ζ–Α―²–Η―à―¨–Β¬Μ, –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ, –Ω―Ä–Η–≤–Β–Μ–Ψ ―à―²–Α–± –ö–ë–Λ –Κ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Α–Φ–Ψ―É―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –Δ–Β–Φ –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β –≤ ―à―²–Α–±–Β –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨ –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Η―è –Φ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Η–±―Ä–Β–Ε–Ϋ–Ψ–Ι, –Ϋ–Ψ –Η –Ϋ–Α ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η–Κ–Α―Ü–Η–Η –Η –Ω―Ä–Β–¥–≤–Η–¥–Β–Μ–Η –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Α–Κ―²–Η–≤–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η –Φ–Η–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Κ –Ϋ–Α –Λ–£–ö ⳕ 10 –Δ–ë-–Β, -–Ε. –Γ ―ç―²–Ψ–Ι ―Ü–Β–Μ―¨―é –≤ –Η―é–Μ–Β –Ω―Ä–Β–¥–Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ–Ω―΄―²–Κ–Η –≤―΄–¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è –¥–Ψ–Ζ–Ψ―Ä–Ψ–≤ –Ϋ–Α –Ω–Α―Ä–Α–Μ–Μ–Β–Μ―¨ 59¬Α55'. –ù–Ψ –Η―Ö ―²―É―² –Ε–Β –Ω–Β―Ä–Β–Φ–Β―¹―²–Η–Μ–Η –Ϋ–Α –Ψ―¹―¨ –Λ–£–ö ⳕ 10 –Δ–ë-–Β, -–Ε –Η–Ζ-–Ζ–Α –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ω–Ψ–¥―Ä―΄–≤–Α –¥–Ψ–Ζ–Ψ―Ä–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Ϋ–Α –Φ–Η–Ϋ–Α―Ö –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β, –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥―΄–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ ―²―Ä–Α–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ (–≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –≤ –¥–Ψ–Ζ–Ψ―Ä –Β―â–Β –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η―¹―¨ –≠–€ –Η –Γ–ö–†, –Η–Φ–Β–≤―à–Η–Β –Ψ―¹–Α–¥–Κ―É –±–Ψ–Μ–Β–Β 3 –Φ). –£ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨ –≤–¥―É–Φ―΅–Η–≤–Ψ–Φ―É ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ―é. –ü―Ä–Η–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Κ –Κ–Ϋ–Η–≥–Β –†.–ê.–½―É–±–Κ–Ψ–≤ ¬Ϊ–Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤ –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α (–Α–≤–≥―É―¹―² - ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä―¨ 1941 –≥.)¬Μ –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―²
26.10.201310:0526.10.2013 10:05:29
0
26.10.201309:5226.10.2013 09:52:44
βÄî –ê –≤―΄ –Ζ–Α ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –Ϋ–Β ―΅―É–≤―¹―²–≤―É–Β―²–Β –≤–Η–Ϋ―΄? βÄî –Δ–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―², –≤―΄ –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Α–Μ–Η –Β–≥–Ψ –¥–Ψ–Ω―É―¹–Κ–Α―²―¨ –Κ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Β –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β, –≤–Ψ―² –Ψ–Ϋ –Η –Ψ–Ω–Μ–Ψ―à–Α–Μ. βÄî –ü–Ψ–¥―É–Φ–Α–Μ–Η –Μ–Η –≤―΄, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―É–Β–Ζ–Ε–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –ö–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–≤ –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ω–Ψ–¥–≤–Β―¹―²–Η? βÄî –ù–Β –Ζ–Α–¥―É–Φ―΄–≤–Α–Μ―¹―è, ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―². βÄî –ê ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ζ–Α–¥―É–Φ―΄–≤–Α–Β―²–Β―¹―¨? βÄî –ü–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α―é, ―΅―²–Ψ –Μ―É―΅―à–Β –±―΄, –Β―¹–Μ–Η –±―΄ ―è –±―΄–Μ –Ϋ–Α –Φ–Β―¹―²–Β. –ù–Ψ ―è –≤–Β–¥―¨ –±–Ψ–Μ–Β–Μ. –ê–Ζ–Η–Α―²―¹–Κ–Η–Ι –≥―Ä–Η–Ω–Ω. βÄî –ê –Ζ–Α ―¹–≤–Ψ–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –≤―΄ –Ϋ–Β –±–Ψ–Μ–Β–Μ–Η? –ê? –Γ–Α–Ω–Β―²–Ψ–≤ –Φ–Ψ–Μ―΅–Α–Μ, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Η –≥―Ä–Α–Ϋ–Α ―¹–Φ―É―â–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –≤ –Β–≥–Ψ βÄî ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –ë–Β―¹–Ω–Ψ―â–Α–¥–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ βÄî –Ϋ–Α–≥–Μ―΄―Ö .  –‰ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –ë–Ψ―Ä–Η―¹ –ê―Ä–Β―³―¨–Β–≤–Η―΅ –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Μ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ―É –Γ–Α–Ω–Β―²–Ψ–≤–Α, ―΅―²–Ψ –Γ–Α–Ω–Β―²–Ψ–≤ –Ϋ–Β ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ, –Α –≤―΄―¹–Μ―É–Ε–Η–≤–Α–Μ―¹―è, –Η –Ζ–Ϋ–Α―΅–Κ–Η –Ϋ–Α –Β–≥–Ψ ―³–Μ–Α–Ϋ–Β–Μ–Β–≤–Κ–Β –≤―΄―¹–Μ―É–Ε–Β–Ϋ―΄, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Ψ―Ö–≤–Α―¹―²–Α―²―¨―¹―è –Ω–Β―Ä–Β–¥ –¥―Ä―É–Ζ―¨―è–Φ–Η ―¹ –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ–Κ–Η –Η –¥–Β–≤―É―à–Κ–Α–Φ–Η; –Γ–Α–Ω–Β―²–Ψ–≤ –Ϋ–Β –Μ―é–±–Η―² ―³–Μ–Ψ―², ―¹–Μ―É–Ε–±―É, ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Β–Ι, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α, –≤―¹–Β ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –≤―¹–Β–Φ –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ. –ë–Β―¹–Ω–Ψ―â–Α–¥–Ϋ―΄–Ι ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ –Ϋ–Α –Ϋ–Α–≥–Μ–Ψ–≤–Α―²–Ψ–Β, –Κ―Ä–Α―¹–Η–≤–Ψ–Β –Μ–Η―Ü–Ψ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ―΄, –≤ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α―Ö–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β, –≤―΄–Ζ―΄–≤–Α―é―â–Η–Β –≥–Μ–Α–Ζ–Α –Η –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Κ–Α –Μ–Η–Ω–Ψ–≤–Α―è, –Ϋ–Ψ –Ψ–Ϋ, –Ψ―²–¥–Α–≤ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ö–≤–Ψ―¹―²–Α –Ω–Ψ–¥ ―¹―É–¥, ―É―¹―É–≥―É–±–Η―² ―¹–≤–Ψ–Β –Η –±–Β–Ζ ―²–Ψ–≥–Ψ ―à–Α―²–Κ–Ψ–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β. –ß―²–Ψ –Ε, –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―², –Ψ–Ω―è―²―¨ –Η–¥―²–Η –Ϋ–Α ―¹–¥–Β–Μ–Κ―É ―¹ ―¹–Ψ–≤–Β―¹―²―¨―é?.. –Γ–Α–Ω–Β―²–Ψ–≤ –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Μ–Β–Ω–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―², ―΅―²–Ψ ―²–≤–Ψ―Ä–Η―²―¹―è –≤ –¥―É―à–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α, –Η –Η–≥―Ä–Α–Β―² –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ–Φ, ―¹–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Η–Μ –ë–Β―¹–Ω–Ψ―â–Α–¥–Ϋ―΄–Ι. –ü–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Α–≥–Μ―΄–Ι –≤–Η–¥! –ë–Ψ―Ä–Η―¹ –ê―Ä–Β―³―¨–Β–≤–Η―΅ ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –Κ–Α–Κ –Φ–Ψ–≥ ―¹―²―Ä–Ψ–Ε–Β: βÄî –ö―²–Ψ –≤―΄–¥–Α–Μ –≤–Α–Φ ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Κ―É? βÄîβÄî –Δ–Α–Φ ―¹―²–Ψ–Η―² ―à―²–Α–Φ–Ω, ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―². βÄî –· ―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α―é: –Κ―²–Ψ –≤―΄–¥–Α–Μ ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Κ―É? βÄî –Δ–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä! –£―΄ ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–≤–Α–Β―²–Β―¹―¨, ―΅―²–Ψ ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Κ–Α –Ω–Ψ–¥–Μ–Η–Ϋ–Ϋ–Α―è? –ù–Β –Ω–Ψ–¥–¥–Β–Μ–Α–Μ –Ε–Β ―è –Β–Β. –î–Ψ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―è –Ϋ–Β –¥–Ψ―à–Β–Μ. βÄî –ê –¥–Ψ ―΅–Β–≥–Ψ –≤―΄ –¥–Ψ―à–Μ–Η?  βÄî –£―΄ βÄî –Φ–Ψ–Ι –Ψ―²–Β―Ü-–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä, βÄî –ë–Β―¹–Ω–Ψ―â–Α–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Β–Ζ–Α–Ϋ―É–Μ–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Α–Ϋ–Η–±―Ä–Α―²―¹―²–≤–Ψ, βÄî –Η –Ψ―² –≤–Α―¹ ―è ―¹–Κ―Ä―΄–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –±―É–¥―É. –Γ–Ω―Ä–Α–≤–Κ–Α –Ω–Ψ–¥–Μ–Η–Ϋ–Ϋ–Α―è, –Ψ–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Α . –ù–Η–Κ―²–Ψ –Κ –Ϋ–Β–Ι –Ω―Ä–Η–¥―Ä–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Β ―¹–Φ–Ψ–Ε–Β―². βÄî –· ―¹–Φ–Ψ–≥―É. βÄî –£―΄, ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―², –±–Β–Ζ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ, –Φ–Ψ–Ε–Β―²–Β, βÄî –Ψ―Ö–Ψ―²–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–¥–Η–Μ –Γ–Α–Ω–Β―²–Ψ–≤. βÄî –ù–Ψ –Φ–Ϋ–Β –≤―¹–Β –Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η―à–Μ–Α –Ω–Ψ―Ä–Α ―É–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ―è―²―¨―¹―è, –Α –≤–Ψ―² –≤―΄... –½–Α ―΅―²–Ψ –Ε–Β –≤―΄ –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Α–¥–Α–Β―²–Β? –· –Η –≤–Α―¹, –Η –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Ι ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Η―²―¨ –Ϋ–Β ―Ö–Ψ―΅―É. ¬Ϊ–ê―Ö, ―¹―É–Κ–Η–Ϋ ―¹―΄–Ϋ, βÄî –≤–Ψ–Ζ–Φ―É―²–Η–Μ―¹―è –ë–Β―¹–Ω–Ψ―â–Α–¥–Ϋ―΄–Ι, –≥–Μ―è–¥―è –≤ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α–≥–Μ―΄–Β, –Ϋ–Β–Φ–Η–≥–Α―é―â–Η–Β –≥–Μ–Α–Ζ–Α. βÄî –™–Ψ–¥―΄ ―è –Ε–Η–Μ ―¹ ―²–Ψ–±–Ψ–Ι –±–Ψ–Κ –Ψ –±–Ψ–Κ –Η –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Μ, –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι ―²―΄ –Ω―Ä–Ψ―Ö–≤–Ψ―¹―²... –· –Ϋ–Β–Ε–Η–Μ, –≤―΄–¥–≤–Η–≥–Α–Μ –Ω–Ψ–¥–Μ–Β―Ü–Α –Η –Ζ–Α–¥–Α―Ä–Η–≤–Α–Μ, –Α ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ ―²―΄ –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Α–≥–Α–Β―à―¨ –Φ–Ϋ–Β ―¹–¥–Β–Μ–Κ―É!..¬Μ βÄî –Δ–Α–Κ –≤―΄ ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ ―É–≤–Ψ–Μ–Η―²―¨―¹―è? βÄî ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –Ψ–Ϋ –Ζ–Μ–Ψ―Ä–Α–¥–Ϋ–Ψ, –Ω–Ψ–Ϋ―è–≤, ―΅―²–Ψ –Γ–Α–Ω–Β―²–Ψ–≤ –Ϋ–Β ―΅–Η―²–Α–Μ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –≥–Α–Ζ–Β―². βÄî –Δ–Α–Κ ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ. –Γ–≤–Ψ–Β –Ψ―²―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ. –ü–Ψ―²―Ä―É–Ε―É―¹―¨ –Ϋ–Α –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ–Κ–Β. βÄî –ê –≤―΄, –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―¨―²–Β ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η―²―¨ –≤–Α―¹, –≥–Α–Ζ–Β―²―΄ ―΅–Η―²–Α–Β―²–Β? βÄî –Δ–Α–Κ ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ, ―΅–Η―²–Α―é. βÄî –û ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Η –Ω―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α –Ζ–Ϋ–Α–Β―²–Β? βÄî –û ―΅–Β–Φ? βÄî –≥–Μ–Α–Ζ–Α –Γ–Α–Ω–Β―²–Ψ–≤–Α –±–Β―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–±–Β–≥–Α–Μ–Η. βÄî –û ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ ―¹―²–Α―Ä–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Α―â–Η–Β –Ζ–Α–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α―é―²―¹―è –¥–Ψ –Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Η―è? βÄî –ù–Η–Κ–Α–Κ –Ϋ–Β―², –Ϋ–Β ―΅–Η―²–Α–Μ. βÄî –£–Ψ–Ζ―¨–Φ–Η―²–Β –Ω―Ä–Ψ―΅―²–Η―²–Β. βÄî –‰ –Β―â–Β –±–Ψ–Μ–Β–Β –Ζ–Μ–Ψ–±–Ϋ–Ψ –Ψ―²―΅–Β–Κ–Α–Ϋ–Η–Μ:βÄî –· –Ψ―²–¥–Α―é –≤–Α―¹ –Ω–Ψ–¥ ―¹―É–¥, –Γ–Α–Ω–Β―²–Ψ–≤. –½–Α –Ψ–±–Φ–Α–Ϋ –Η –Ζ–Α –¥–Β–Ζ–Β―Ä―²–Η―Ä―¹―²–≤–Ψ. –‰–¥–Η―²–Β, βÄî ―¹–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ –Ψ–Ϋ. –Γ–Α–Ω–Β―²–Ψ–≤ –≤―¹–Κ–Η–Ϋ―É–Μ –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –≥–Μ–Α–Ζ–Α. –‰―Ö –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥―΄ ―¹–Κ―Ä–Β―¹―²–Η–Μ–Η―¹―¨. –£–Ψ –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥–Β –Γ–Α–Ω–Β―²–Ψ–≤–Α –ë–Ψ―Ä–Η―¹ –ê―Ä–Β―³―¨–Β–≤–Η―΅ –Ω―Ä–Ψ―΅–Β–Μ ―É–≥―Ä–Ψ–Ζ―É. ¬Ϊ–ê, ―²–Α–Κ –Ψ–Ϋ –Β―â–Β –Φ–Β–Ϋ―è –Ζ–Α–Ω―É–≥–Η–≤–Α–Β―²?!¬Μ 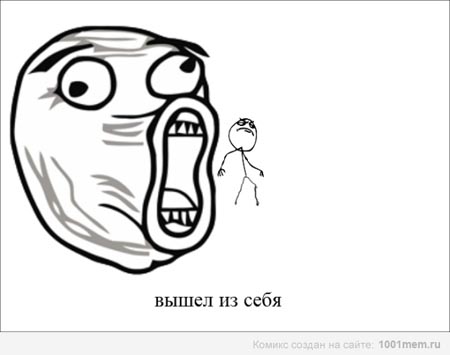 βÄî –£―΄–Ι–¥–Η―²–Β –≤–Ψ–Ϋ! βÄî –Κ―Ä–Η–Κ–Ϋ―É–Μ –ë–Β―¹–Ω–Ψ―â–Α–¥–Ϋ―΄–Ι. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Γ–Α–Ω–Β―²–Ψ–≤ ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β―à–Α–≥–Ϋ―É–Μ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Κ–Ψ–Φ–Η–Ϋ–≥―¹, –ë–Ψ―Ä–Η―¹ –ê―Ä–Β―³―¨–Β–≤–Η―΅ –Ψ–±–Μ–Β–≥―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤–Ζ–¥–Ψ―Ö–Ϋ―É–Μ. –™–¦–ê–£–ê –Γ–ï–î–Σ–€–ê–·. –ü–û–‰–Γ–ö
1–Λ―Ä–Ψ–Μ –Ω―Ä–Η―à–Β–Μ –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Ζ–¥–Ϋ–Ψ –≤–Β―΅–Β―Ä–Ψ–Φ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Γ―²―ç–Μ–Μ–Α –Β–≥–Ψ –Η –Ε–¥–Α―²―¨ –Ω–Β―Ä–Β―¹―²–Α–Μ–Α. –ê–Μ–Β―à–Κ–Α –Η ―²–Β―²―è –€–Α―Ä–Ψ ―É–Ε–Β ―¹–Ω–Α–Μ–Η. –Γ―²―ç–Μ–Μ–Α ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ–Α, ―΅―²–Ψ ―É –Φ―É–Ε–Α –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –Ξ–Φ―É―Ä―΄–Ι, –Ψ–Ζ–Α–±–Ψ―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι, –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ―Ü–Β–Μ–Ψ–≤–Α–Μ –Β–Β, ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –≥–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β–Ϋ. –û–Ϋ –Β–Μ ―Ä–Α–Ζ–Ψ–≥―Ä–Β―²―΄–Ι ―É–Ε–Η–Ϋ, –Ω–Η–Μ –Κ―Ä–Β–Ω–Κ–Η–Ι ―΅–Α–Ι –Η –Φ–Ψ–Μ―΅–Α–Μ. –Γ―²―ç–Μ–Μ–Α ―¹–Η–¥–Β–Μ–Α –Ϋ–Α–Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤, –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–≤ –Μ–Ψ–Κ―²–Η –Ϋ–Α ―¹―²–Ψ–Μ –Η –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–≤ –Ϋ–Α ―Ä―É–Κ–Η –Ω–Ψ–¥–±–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ψ–Κ. –û–Ϋ–Α –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Β–≥–Ψ –Ϋ–Η –Ψ ―΅–Β–Φ –Ϋ–Β ―Ä–Α―¹―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α–Μ–Α: –Ϋ–Α–Ι–¥–Β―² –Ϋ―É–Ε–Ϋ―΄–Φ βÄî ―¹–Κ–Α–Ε–Β―², –Α –Φ–Ψ–Ε–Β―², ―¹–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―²–Α–Κ–Ψ–Β, –Ψ ―΅–Β–Φ –Η –Ε–Β–Ϋ–Β –Ϋ–Β ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ε–Β―à―¨. –û–Ϋ–Α –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Α, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ –≤ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Β –≤–Β―â–Β–Ι –Η –Ψ–±–Η–Ε–Α―²―¨―¹―è –≥–Μ―É–Ω–Ψ. –û–Ϋ –Ψ―²―¹―²–Α–≤–Η–Μ ―¹―²–Α–Κ–Α–Ϋ, –Ζ–Α–Κ―É―Ä–Η–Μ –Μ―é–±–Η–Φ―É―é . –Γ―²―ç–Μ–Μ–Α –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Β―¹–Μ–Α –Ζ–Α–Ε–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―É―é ―¹–Ω–Η―΅–Κ―É. –ü―Ä–Η–Κ―É―Ä–Η–≤, –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Η–¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ –Β–Β ―Ä―É–Κ―É, –≤–Ζ–≥–Μ―è–Ϋ―É–Μ –≤ –≥–Μ–Α–Ζ–Α:  βÄî –≠―Ö ―²―΄, –Φ–Ψ―è ―¹–Β―Ä–Ψ–≥–Μ–Α–Ζ–Α―è... βÄî –ü–Ψ–Φ–Ψ–Μ―΅–Α–Μ. –î–Ψ–Κ―É―Ä–Η–Μ. –Γ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Ψ: βÄî –ê ―É –Φ–Β–Ϋ―è ―΅–Β–Ω–Β, –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Α―è. –û–Ϋ–Α –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Α, ―΅―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β ―΅–Β–Ω–Β. βÄî –‰ –≤―¹–Β –Κ―Ä–Α―¹–Α –Η –≥–Ψ―Ä–¥–Ψ―¹―²―¨ βÄî –ë–Ψ―Ä–Η―¹ –ë–Β―¹–Ω–Ψ―â–Α–¥–Ϋ―΄–Ι! –ï–Ι –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ζ–Α―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Ψ―¹―¨ ―É–Ζ–Ϋ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α―²–≤–Ψ―Ä–Η–Μ –ë–Β―¹–Ω–Ψ―â–Α–¥–Ϋ―΄–Ι. –û–Ϋ ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ϋ―Ä–Α–≤–Η–Μ―¹―è –Β–Ι βÄî –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –Κ–Α–Κ-―²–Ψ –≤ –≥–Ψ―¹―²–Η. –ù–Β ―²–Β―Ä–Ω–Η―² –Ψ–Ϋ–Α ―Ö–≤–Α―¹―²―É–Ϋ–Ψ–≤. –ê –Ψ–Ϋ ―Ö–≤–Α―¹―²―É–Ϋ. ¬Ϊ–·, ―è, ―è¬Μ βÄî ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Φ ―¹–Μ–Ψ–≤–Β. –‰ –Β―¹–Μ–Η –†–Ψ―¹―²–Η―¹–Μ–Α–≤–Α –Ψ–Ϋ–Α –≤―¹–Β–≥–¥–Α –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Μ–Α –Ω―Ä–Η–≤–Β―²–Μ–Η–≤–Ψ, ―²–Ψ ―Ä–Α–¥―É―à–Ϋ–Ψ–Ι ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι–Κ–Ψ–Ι –¥–Μ―è –ë–Β―¹–Ω–Ψ―â–Α–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±―΄―²―¨ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Α. –ü―Ä–Α–≤–¥–Α, –Λ―Ä–Ψ–Μ ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ, ―΅―²–Ψ –ë–Β―¹–Ω–Ψ―â–Α–¥–Ϋ―΄–Ι ―Ö–Ψ―²―¨ –Η ―³–Α–Ϋ―³–Α―Ä–Ψ–Ϋ, –Ϋ–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―é―â–Η–Ι –Η ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Ι –Φ–Ψ―Ä―è–Κ, –≤–Β―Ä–Ϋ–Β–Β, –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Η–Φ ―¹―²–Α―²―¨, –Β―¹–Μ–Η –Ψ–±―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Η―²―¹―è. –‰–Ζ–±–Α–Μ–Ψ–≤–Α–Μ–Η ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α, –Ζ–Α―Ö–≤–Α–Μ–Η–Μ–Η, –Η―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Η–Μ–Η. –ê –Β–≥–Ψ –¥―Ä–Α–Η―²―¨ –Ϋ–Α–¥–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ, –¥―É―²–Α―è –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²–Ψ―¹―²―¨! –‰ –≤–Ψ―² ―É –Λ―Ä–Ψ–Μ–Α –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η βÄî ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ―ç―²―É ―¹–Α–Φ―É―é –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²–Ψ―¹―²―¨. –ù–Β ―¹–Μ–Η―à–Κ–Ψ–Φ –Μ–Η –Λ―Ä–Ψ–Μ –Κ –Ϋ–Β–Φ―É ―¹–Ϋ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Ϋ? ~βÄî –Θ―¹―²–Α–Μ ―è, –Γ―²―ç–Μ–Μ–Ψ―΅–Κ–Α... –†–Α―¹―¹―²–Β–≥–Ϋ―É–Μ –Κ–Η―²–Β–Μ―¨, –Ω–Ψ―à–Β–Μ –≤–Ζ–≥–Μ―è–Ϋ―É–Μ –Ϋ–Α –ê–Μ–Β―à–Κ―É, ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –±–Ψ―Ä–Φ–Ψ―²–Α–≤―à–Β–≥–Ψ –≤–Ψ ―¹–Ϋ–Β; ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ? βÄî –Δ―΄ –Ϋ–Β –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α–Ε–Α–Β―à―¨, ―è –Μ―è–≥―É? βÄî –û–Ϋ –Ω―Ä–Η―²―è–Ϋ―É–Μ –Β–Β –Κ ―¹–Β–±–Β: βÄî –ù–Η―΅–Β–≥–Ψ, –≤―΄–¥―é–Ε–Η–Φ. –Δ―΄ –Κ–Α–Κ –¥―É–Φ–Α–Β―à―¨, –¥–Β–≤–Ψ―΅–Κ–Α, –Α? βÄî –Δ―΄, –Φ–Η–Μ―΄–Ι, –≤―΄–¥―é–Ε–Η―à―¨... –û–Ϋ ―É–Ε–Β ―¹–Ω–Α–Μ. –ß―²–Ψ –Ε–Β –Ϋ–Α―²–≤–Ψ―Ä–Η–Μ –ë–Β―¹–Ω–Ψ―â–Α–¥–Ϋ―΄–Ι? –ï–Ι –Ϋ–Β–Ϋ–Α–≤–Η―¹―²–Ϋ―΄ –Β–≥–Ψ ―¹–≤–Β―²–Μ―΄–Β –±–Α―΅–Κ–Η, –Β–≥–Ψ –Α–Ω–Μ–Ψ–Φ–±, –Β–≥–Ψ ―è―΅–Β―¹―²–≤–Ψ, –¥–Α–Ε–Β –Β–≥–Ψ ―³―Ä–Α–Ϋ―²–Ψ–≤―¹―²–≤–Ψ. –≠―²–Ψ―² ―³–Α–Ϋ―³–Α―Ä–Ψ–Ϋ –Ζ–Α―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―² ―¹―²―Ä–Α–¥–Α―²―¨ –Β–Β –Λ―Ä–Ψ–Μ–Α...  –û–Ϋ–Α ―¹–Β–Μ–Α –Ϋ–Α –Ω–Ψ―¹―²–Β–Μ―¨ –Η ―Ä–Α―¹–Ω–Μ–Α–Κ–Α–Μ–Α―¹―¨. –Γ–Μ–Η―à–Κ–Ψ–Φ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ψ–Ϋ–Α –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Α –Φ―É–Ε–Α –Η –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ–Α: –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Β –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –Λ―Ä–Ψ–Μ ―¹–Ω–Α–Μ, –Α –Ψ–Ϋ–Α ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ–Α –Β–Φ―É –≤ –Μ–Η―Ü–Ψ, –Η –≤–Ψ ―¹–Ϋ–Β –Ϋ–Α―Ö–Φ―É―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β. βÄî –ë–Β–¥–Ϋ―΄–Ι ―²―΄ –Φ–Ψ–Ι, βÄî –Ω―Ä–Ψ―à–Β–Ω―²–Α–Μ–Α –Ψ–Ϋ–Α. –ù–Ψ ―²―É―² –Ε–Β –Ω–Ψ–¥–±–Ψ–¥―Ä–Η–Μ–Α―¹―¨: βÄî –ù–Η―΅–Β–≥–Ψ, –Ϋ–Β ―²–Α–Κ–Ψ–Β –≤―΄–¥―é–Ε–Η–≤–Α–Μ–Η... –ü–Ψ–≥–Α―¹–Η–Μ–Α ―¹–≤–Β―². –Δ–Η―Ö–Ψ–Ϋ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ–¥―¹―É–Ϋ―É–≤ ―Ä―É–Κ―É –Β–Φ―É –Ω–Ψ–¥ ―à–Β―é, –Ω–Ψ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Α –Β–≥–Ψ ―²–Β–Ω–Μ–Ψ βÄî ―²–Β–Ω–Μ–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–≥–Ψ, ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α. ¬Ϊ–•–Η–Ζ–Ϋ―¨ βÄî ―ç―²–Ψ ―¹–Κ–Α―΅–Κ–Α ―¹ –Ω―Ä–Β–Ω―è―²―¹―²–≤–Η―è–Φ–Η¬Μ, βÄî ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ –Ψ―¹―²―Ä―è–Κ. –Λ―Ä–Ψ–Μ –Ω―Ä–Β–Ψ–¥–Ψ–Μ–Β–Β―² –Μ―é–±–Ψ–Β –Ω―Ä–Β–Ω―è―²―¹―²–≤–Η–Β. –û–Ϋ–Α ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Β―² –Λ―Ä–Ψ–Μ–Α. –û–Ϋ βÄî –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―é–Ϋ–Η―²―¹―è. –ê –Β―â–Β –Ϋ–Β–Φ–Α–Μ–Ψ –Ω―Ä–Β–Ω―è―²―¹―²–≤–Η–Ι –Ω―Ä–Η–¥–Β―²―¹―è –Ω―Ä–Β–Ψ–¥–Ψ–Μ–Β–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Α –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ–Φ –Ω―É―²–Η! –û–Ϋ–Α –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Α, –Ω–Ψ–±―É–¥–Β―² –Μ–Η –Ψ–Ϋ –Ζ–Α–≤―²―Ä–Α –¥–Ψ–Φ–Α –Η–Μ–Η ―Ä–Α–Ϋ–Ψ ―É―²―Ä–Ψ–Φ ―É–Ι–¥–Β―². –ê –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ω―Ä–Η–¥–Β―² ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α? –ö–Ψ–≥–¥–Α-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨. ¬Ϊ–ü–Ψ–¥–Ψ–Ε–¥―É βÄî –≤–Β–¥―¨ ―è –Ε–Β–Ϋ–Α –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Α¬Μ. –Λ―Ä–Ψ–Μ –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ―¹―è –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―Ä–Α–Ϋ–Ψ –Η, ―΅―²–Ψ–± –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ–±―É–¥–Η―²―¨ ―¹–Ω―è―â–Η―Ö, –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Η―Ö –Ϋ–Ψ―¹–Κ–Α―Ö –Ω–Ψ―à–Β–Μ –≤–Ζ–≥–Μ―è–Ϋ―É―²―¨ –Ϋ–Α –ê–Μ–Β―à–Κ―É, –±–Β―Ä–Β–Ε–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄–Μ –Ψ–¥–Β―è–Μ–Ψ–Φ –Γ―²―ç–Μ–Μ―É, –Ϋ–Α–¥–Β–Μ –±–Ψ―²–Η–Ϋ–Κ–Η –≤ –Ω–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–Ι, –Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ –Ζ–Α–Ω–Η―¹–Κ―É: ¬Ϊ–ü–Ψ―¹―²–Α―Ä–Α―é―¹―¨ –Ω―Ä–Η–Ι―²–Η –Κ–Α–Κ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―¹–Κ–Ψ―Ä–Β–Ι¬Μ βÄî –Η ―É―à–Β–Μ –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η. 2 –ß―²–Ψ ―ç―²–Ψ? –Γ―²―É―΅–Α―²? –ö―²–Ψ? –†–Ψ―¹―²–Η―¹–Μ–Α–≤ –≤–Ζ–≥–Μ―è–Ϋ―É–Μ –Ϋ–Α : –Ω―Ä–Ψ―¹–Ω–Α–Μ –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ω―è―²―¨ –Φ–Η–Ϋ―É―². –£―Ö–Ψ–¥–Η―² –ë–Α―Ä―΄―à–Β–≤: βÄî –£―Ä–Β–Φ―è. –†–Ψ―¹―²–Η―¹–Μ–Α–≤ –Μ–Β–≥–Κ–Ψ –≤―¹–Κ–Α–Κ–Η–≤–Α–Β―², ―¹―²–Η―Ä–Α–Β―² –Μ–Α–¥–Ψ–Ϋ―¨―é ―¹–Ψ–Ϋ ―¹ –Μ–Η―Ü–Α, –≤―¹―²―Ä―è―Ö–Η–≤–Α–Β―²―¹―è, –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η―². –ù–Α―²–Κ–Ϋ―É–Μ―¹―è –Ϋ–Α ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–≤–Β―²―¹―²–≤―É―é―â–Β–≥–Ψ –Β–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―¹–Α. –ù–Α ―Ö–Ψ–¥―É –Ψ―²–¥–Α–Μ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η–Β: βÄî –£–Β―Ä―²–Ψ–Μ–Β―²–Α –Ϋ–Α–≤–Β―Ä―Ö –Ϋ–Β –Ω―É―¹–Κ–Α―²―¨. –ï―â–Β ―¹–Φ–Ψ–Β―² –≤–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Ι, ―΅–Β–≥–Ψ –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–≥–Ψ. –¦–Β–≥–Κ–Ψ –≤–Ζ–±–Β–≥–Α–Β―² –Ω–Ψ ―²―Ä–Α–Ω―É –Ϋ–Α –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ. –ü–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Ψ–Κ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ–Η―² –Ϋ–Β–Μ–Β–≥–Κ–Η–Ι. –û–Ϋ –≤–Η–¥–Β–Μ –Ϋ–Α –¥–Ϋ―è―Ö –≤ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ –Κ–Μ―É–±–Β ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Β–Φ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α. –Θ–Φ–Β–Ϋ, –Ψ–Ω―΄―²–Β–Ϋ, –≥–Μ–Α–Ζ–Α ―Ö–Η―²―Ä―΄–Β, ―É―¹–Φ–Β―à–Β―΅–Κ–Α –Ϋ–Α –≥―É–±–Α―Ö βÄî –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Η–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –Α―¹. –Δ–Α–Κ–Ψ–Ι –Φ–Α―Ö―É –Ϋ–Β –¥–Α―¹―²! –™–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―², –Ϋ–Β–¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –¥–Α–Ε–Β –Ψ―² –≥–≤–Α―Ä–¥–Β–Ι―Ü–Β–≤ ―É―à–Β–Μ, –Ψ―¹―²–Α–≤–Η–≤ –Η―Ö ―¹ –Ϋ–Ψ―¹–Ψ–Φ. –ü–Β―Ä–Β―Ö–Η―²―Ä–Η–Μ –Μ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Φ ―ç―Ö–Ψ–Φ, ―¹–Φ–Α–Ϋ–Β–≤―Ä–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ, ―É–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Η–Μ―¹―è –Η βÄî –Η―â–Η –≤–Β―²―Ä–Α –≤ –Ω–Ψ–Μ–Β! –Γ –Ϋ–Η–Φ –Ϋ–Α–¥–Ψ ―É―Ö–Ψ –≤–Ψ―¹―²―Ä–Ψ –¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨. –‰ –Μ–Ψ–¥–Κ–Α ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–≤–Β–Ι―à–Α―è, –Ϋ–Β ―¹–Β–Κ―Ä–Β―²... –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Β –¥–Ψ―¹―²–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Η... ¬Ϊ–‰ –≤―¹–Β –Ε–Β βÄî ―è –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ –Ϋ–Α –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄―Ö, βÄî ―Ä–Α–Ζ–¥―É–Φ―΄–≤–Α–Β―² –†–Ψ―¹―²–Η―¹–Μ–Α–≤ ―É–Ε–Β –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β. βÄî –ü―Ä–Ψ–≤–Α–Μ –ë–Β―¹–Ω–Ψ―â–Α–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±―΄–Μ –¥–Μ―è –Φ–Β–Ϋ―è ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Φ ―É―Ä–Ψ–Κ–Ψ–Φ. –Δ–Ψ―² –Ω–Ψ–Ϋ–Α–¥–Β―è–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Γ–Α–Ω–Β―²–Ψ–≤–Α βÄî –Γ–Α–Ω–Β―²–Ψ–≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Β–Μ. –· –Ϋ–Α–¥–Β―è–Μ―¹―è –Ϋ–Α –û―Ä–Μ–Α –Η –Ψ–±―Ä–Α–¥–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ ―¹–Α–Φ –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –Ψ―¹―²–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Α ―¹–Ψ―¹―²―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–Η―¹–Κ. –î–Α, –Ϋ–Α–¥–Β―è–Μ―¹―è. –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ ―è ―Ä–Β―à–Η–Μ –Η–Ϋ–Α―΅–Β. –û―Ä–Β–Μ –Φ–Β–Ϋ―è –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ. –û–Ϋ –Ϋ–Β –Ψ–±–Η–¥–Β–Μ―¹―è, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―è –≤–Φ–Β―¹―²–Ψ –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ―¹–Α–¥–Η–Μ –Ϋ–Α ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―é –Θ―Ä–Α–≥–Α–Ϋ–Ψ–≤–Α. –ü–Ψ–Ϋ―è–Μ: –¥–Μ―è –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―΄ ―¹–Μ―É–Ε–±―΄, –¥–Μ―è –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―΄ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è. 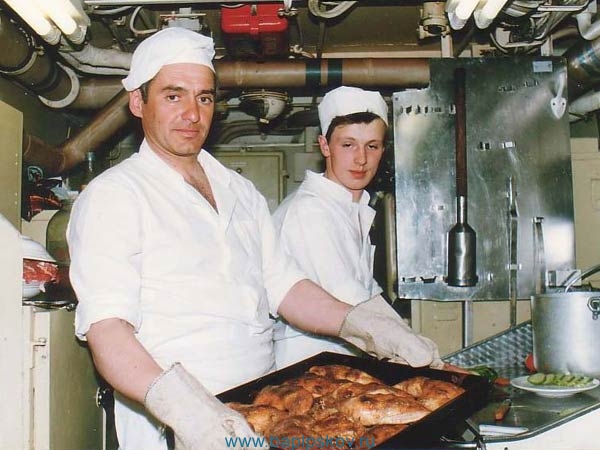 –û―²–Β―Ü ―²–Ψ–Ε–Β –≤―΄–¥–≤–Η–≥–Α–Μ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄―Ö βÄî –Β–Φ―É –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ―΄ –Η –ù–Η–Κ–Η―²–Α –†―΄–Ϋ–¥–Η–Ϋ, –Η –Λ―Ä–Ψ–Μ –•–Η–≤―Ü–Ψ–≤ ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Α―¹–Η–¥–Β–Μ–Η―¹―¨, –Κ–Α–Κ –Ζ–Α―¹–Η–¥–Β–Μ―¹―è –‰–≥–Ϋ–Α―à–Α –ë–Α―Ä―΄―à–Β–≤ –≤ ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Α―Ö. –ê –Ζ–Α―¹–Η–¥–Β–Μ―¹―è –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ –Η–Ζ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Κ –Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Φ―É, –Ϋ–Β –Μ―é–±–Η–≤―à–Β–Φ―É ―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–≤–Α―²―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É. –£–Ψ―² –Ψ–Ϋ –Η –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–Μ –≤–Β―Ä―É –≤ ―¹–Β–±―è, ―¹―²–Α–Μ –Ω―Ä–Η―¹–Μ―É―à–Η–≤–Α―²―¨―¹―è –Κ –Α–≤―²–Ψ―Ä–Η―²–Β―²–Α–Φ. –•–Η–≤―Ü–Ψ–≤ βÄî –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β―Ü. –‰–≥–Ϋ–Α―à―É, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ –Ϋ–Α–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ, –Η –Ψ―²―¹―²–Α–Η–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨. –•–Η–≤―Ü–Ψ–≤ ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ: βÄî –Θ ―²–Β–±―è, –Γ–Μ–Α–≤–Α, –≤―¹–Β–≥–¥–Α –≤―¹–Β ―à–Μ–Ψ –≥–Μ–Α–¥–Κ–Ψ? βÄî –ù–Β―². –ë―΄–≤–Α–Μ–Η –Η ―¹―Ä―΄–≤―΄. βÄî –ù–Ψ ―²–Β–±―è –Ϋ–Β –Ζ–Α―΅–Η―¹–Μ―è–Μ–Η –≤ –Ϋ–Β–Η―¹–Ω―Ä–Α–≤–Η–Φ―΄–Β? βÄî –ù–Β―². βÄî –Δ–Α–Κ –Ϋ–Β –Ζ–Α–±―΄–≤–Α–Ι –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ. –ë–Α―Ä―΄―à–Β–≤ ―¹–Ω–Ψ―²–Κ–Ϋ―É–Μ―¹―è βÄî –Ω–Ψ–¥―΄–Φ–Β―²―¹―è. –‰, –Ζ–Α–Φ–Β―²―¨, –Ω–Ψ–¥―΄–Φ–Β―²―¹―è ―¹ ―²–≤–Ψ–Β–Ι –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨―é. –Ξ–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ, ―΅―²–Ψ ―²―΄ –Β–≥–Ψ ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Κ―Ä―΄–Μ. –û–Ϋ . 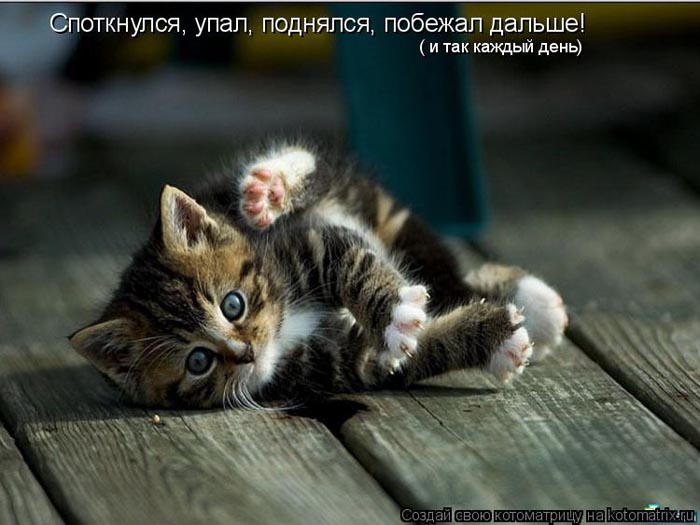 –î–Α, –‰–≥–Ϋ–Α―à–Α –≤―΄–¥―é–Ε–Η―². –ê –¥―Ä―É–≥–Η–Β? –ù–Α –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Φ ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η–Η –Ψ–±―¹―É–Ε–¥–Α–Μ–Η –Ω–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Β –¥―Ä–Α―΅―É–Ϋ–Ψ–≤, –Θ―Ä–Α–≥–Α–Ϋ–Ψ–≤ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ: βÄî –Δ–Ψ–≥–Ψ, –Κ―²–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Ω–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Φ–Α―Ä–Α–Β―² –¥–Ψ–±―Ä―É―é ―¹–Μ–Α–≤―É –≤―¹–Β–≥–Ψ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α, –Ϋ–Α–¥–Ψ ―¹–Ω–Η―¹–Α―²―¨ ―¹ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è. –ü–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Φ –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α. –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―².  –£–Β―Ä―é–Ε―¹–Κ–Η–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–£–ù–ê), –™–Ψ―Ä–Μ–Ψ–≤ –û–Μ–Β–≥ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–û–ê–™), –€–Α–Κ―¹–Η–Φ–Ψ–≤ –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–€–£–£), –ö–Γ–£. 198188. –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥, ―É–Μ. –€–Α―Ä―à–Α–Μ–Α –™–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α, –¥–Ψ–Φ 11/3, –Κ–≤. 70. –ö–Α―Ä–Α―¹–Β–≤ –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅, –Α―Ä―Ö–Η–≤–Α―Ä–Η―É―¹. karasevserg@yandex.ru
26.10.201309:5226.10.2013 09:52:44
|
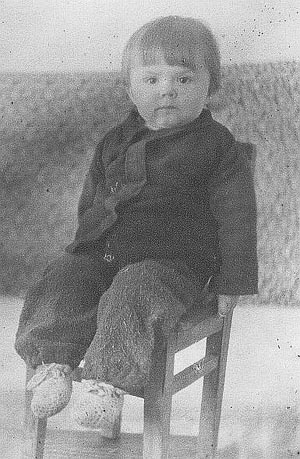




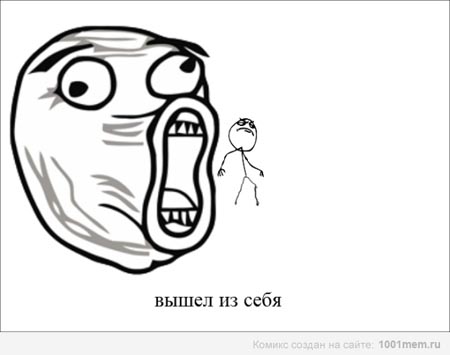



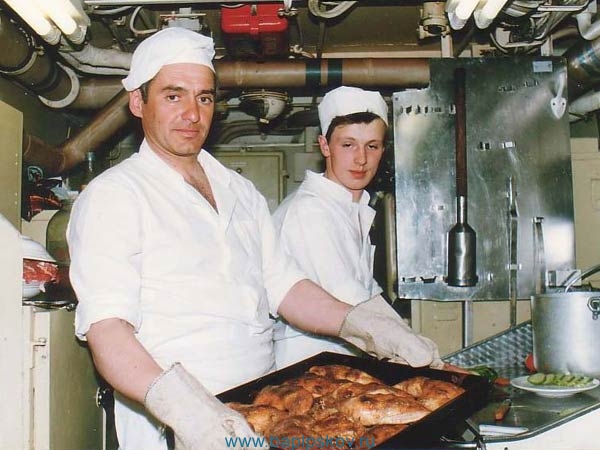
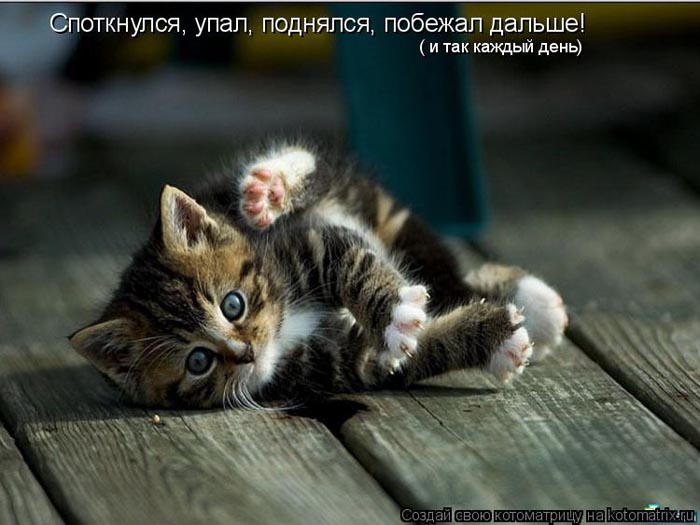

.jpg)


