–î–Α –Η ―¹–Α–Φ ―è –≤ ―¹–Η–Μ―É –±–Β–Ζ–¥―É–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ―¨―è –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ―è–Μ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η –Η –≤–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Η –±–Β―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι―¹―²–≤–Α. –Θ–Ι–¥–Β―à―¨, –±―΄–≤–Α–Μ–Ψ, ―¹ ―Ä–Β–±―è―²–Α–Φ–Η –±–Β–Ζ ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Α –≤ –Ω–Ψ–¥–Μ–Β―¹–Ψ–Κ, –≤ –Μ–Β―¹, –≤ –Ω–Ψ–Μ–Β, –≥–¥–Β –≤–Ζ―Ä–Ψ―¹–Μ―΄–Β ―Ä–Β–±―è―²–Α –Μ–Α―²―É―Ö –≤ –Ϋ–Β–±–Ψ –Ζ–Α–Ω―É―¹–Κ–Α–Μ–Η, –Η–Μ–Η –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥ –£–Ψ–Μ–≥–Η, –≤ –¥–Ψ–Φ–Β ¬Ϊ–Ψ–±―ä―è–≤–Μ―è–Μ–Α―¹―¨¬Μ ―²―Ä–Β–≤–Ψ–≥–Α. –£–Β―Ä–Α –Η –†–Α–Η―¹–Α –Ω–Ψ―¹―΄–Μ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α ―Ä–Ψ–Ζ―΄―¹–Κ. –ê –≥–¥–Β –Φ–Β–Ϋ―è –Η―¹–Κ–Α―²―¨? –Γ–Μ–Ψ–±–Ψ–¥–Α, ―Ö–Ψ―²―è –Η –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Α―è, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι –Η –¥–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤ ―É –Ϋ–Β–Β –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ. –û–±–Ψ–Ι–¥―É―² –Ψ–Ϋ–Η –≤―¹―é –Ψ–Κ―Ä―É–≥―É, –Η –±–Β–Ζ ―É―¹–Ω–Β―Ö–Α. –€–Α―²―¨ ―΅―É―²―¨ –Μ–Η –Ϋ–Β –≤ –Ω–Α–Ϋ–Η–Κ–Β. –î–Β–Μ–Ψ –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –±―΄–≤–Α–Μ–Η ―¹–Μ―É―΅–Α–Η, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―Ä–Β–±―è―²–Α –Φ–Ψ–Β–≥–Ψ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²–Α ―²–Ψ–Ϋ―É–Μ–Η –≤ ―Ä–Β–Κ–Β. –‰ –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Ϋ–Β –≤–Η–¥–Β–Μ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Η –≥–¥–Β ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ.
–ù–Ψ –≤―¹–Β ―ç―²–Ψ, –Κ–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¹―è, –¥–Β–Μ–Α –Ϋ–Α―à–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Β, –Φ―΄ ―¹–Α–Φ–Η ―²–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η –Η―Ö, –Η ―¹–Α–Φ–Η ―¹–Β–±―è –Η –≤–Η–Ϋ–Η–Μ–Η. –û–±–Η–¥―΄, –¥–Ψ―¹–Α–¥―΄ –Ω–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Φ, ―Ö–Ψ―²―è –Η –Ω―Ä–Η–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η –ï–Μ–Η–Ζ–Α–≤–Β―²―É –ï–≤–≥―Ä–Α―³–Ψ–≤–Ϋ―É –Κ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ―¹―²―è–Φ –Η–Μ–Η –¥–Α–Ε–Β –Κ ―²―Ä–Β–≤–Ψ–≥–Α–Φ, –Ψ–Ϋ–Η –≤―¹–Β-―²–Α–Κ–Η –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –Ζ–Α–±―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨, –¥―É―à–Α –Η ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Β –Φ–Α―²–Β―Ä–Η –Ψ–±―Ä–Β―²–Α–Μ–Η ―Ä–Α–Ζ―Ä―è–¥–Κ―É.
–ù–Ψ –Ϋ–Α―à―É ―¹–Β–Φ―¨―é, –Κ ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Ϋ–Η―é, –Κ–Α–Κ –¥―¨―è–≤–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Β –Ϋ–Α–≤–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β, –¥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Α –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Φ–Α―²–Β―Ä–Η –Η ―¹―²–Α―Ä―à–Β–Ι –¥–Ψ―΅–Β―Ä–Η –Β–Β βÄ™ –Δ–Ψ–Ϋ–Η, ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Α–Μ–Η ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–≥–Ψ –¥―Ä–Α–Φ–Α―²–Η–Ζ–Φ–Α.
–£ 1914 –≥–Ψ–¥―É –≤―¹–Ω―΄―Ö–Ϋ―É–Μ–Α –ü–Β―Ä–≤–Α―è –Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α―è –Η–Φ–Ω–Β―Ä–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Α. –£ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Φ –Ε–Β –Ω―Ä–Η–Ζ―΄–≤–Β –Ζ–Α–Ω–Α―¹–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –≤ –Α–≤–≥―É―¹―²–Β –Φ–Β―¹―è―Ü–Β, –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –€–Η―à–Α - –Φ―É–Ε –Δ–Ψ–Ϋ–Η. –î–Ϋ―è ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ―²―Ä–Η-―΅–Β―²―΄―Ä–Β –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ –Ϋ–Α ―³―Ä–Ψ–Ϋ―².

–· –±―΄–Μ ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Η ―¹–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ–Β–Φ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Ψ–≤ ―¹–Ψ–Μ–¥–Α―² ―è―Ä–Ψ―¹–Μ–Α–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≥–Α―Ä–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–Ϋ–Α –Ϋ–Α ―³―Ä–Ψ–Ϋ―². –€–Α―²―¨ –Η –Δ–Ψ–Ϋ―è –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–Α–Μ–Η –€–Η―à―É. –· –±―΄–Μ ―¹ –Ϋ–Η–Φ–Η. –£―΄―à–Β ―É–Ε–Β ―É–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ ―²–Α –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Α ―΅―É–Ε–¥–Α –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Α–Φ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Α, –Ψ–Ϋ–Α –≤–Β–Μ–Α―¹―¨ –Φ–Β–Ε–¥―É –Η–Φ–Ω–Β―Ä–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ–Η –¥–Β―Ä–Ε–Α–≤–Α–Φ–Η –Ζ–Α –Ω–Β―Ä–Β–¥–Β–Μ –Φ–Η―Ä–Α, –Ζ–Α –≥–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ –≤ –Φ–Η―Ä–Β, –Ζ–Α –Ζ–Α―Ö–≤–Α―² ―΅―É–Ε–Η―Ö ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Ι, –Ζ–Α –Ω–Ψ―Ä–Α–±–Ψ―â–Β–Ϋ–Η–Β ―΅―É–Ε–Η―Ö –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤.
–û–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Α, ―¹–Μ–Ψ–Ε–Η–≤―à–Α―è―¹―è –Ϋ–Α –Ω―É―²–Η –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Κ–Ψ–Μ–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄ –≤–Ψ–Ι―¹–Κ, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–≤―à–Η―Ö―¹―è –Ϋ–Α –≤–Ψ–Κ–Ζ–Α–Μ, –Ω–Μ–Α―΅, ―Ä―΄–¥–Α–Ϋ–Η―è, –Η―¹―²–Β―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –≤―΄–Κ―Ä–Η–Κ–Η: ¬Ϊ–ë―É–¥―¨ –Ω―Ä–Ψ–Κ–Μ―è―², –Κ―²–Ψ –Ζ–Α―²–Β―è–Μ ―ç―²―É –±–Ψ–Ι–Ϋ―é!¬Μ - ―¹–Μ–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Β–¥–Η–Ϋ―΄–Ι, –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β―Ä―΄–≤–Α–≤―à–Η–Ι―¹―è –Ϋ–Α –≤―¹–Β–Φ –Ω―É―²–Η –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è ―¹–Ψ–Μ–¥–Α―² –≤ –Ψ–±―â–Η–Ι, –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α―é –Κ–Α–Κ –Η –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α―²―¨, ―¹―²–Ψ–Ϋ-―à―É–Φ. –ö–Ψ–Μ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Α ―¹–Ψ–Μ–¥–Α―² –±―΄–Μ–Α –Ψ―Ö–≤–Α―΅–Β–Ϋ–Α ―¹ –Ψ–±–Β–Η―Ö ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ ―¹–Ω–Μ–Ψ―à–Ϋ―΄–Φ–Η ¬Ϊ―¹―²–Β–Ϋ–Α–Φ–Η¬Μ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–Α–≤―à–Η―Ö. –€―΄ ―à–Μ–Η ―¹ ―²–Β–Φ ―Ä―è–¥–Ψ–Φ ―¹–Ψ–Μ–¥–Α―² –≤ ―¹―²―Ä–Ψ―é, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –€–Η―à–Α. –€–Α―²―¨, ―¹–Β―¹―²―Ä–Α βÄ™ –≤ ―¹–Μ–Β–Ζ–Α―Ö, –Α ―è –Η―¹–Ω―΄―²―΄–≤–Α–Μ ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –≤―Ä–Ψ–¥–Β –Η―¹–Ω―É–≥–Α.
–û―³–Η―Ü–Β―Ä―΄ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Η: ¬Ϊ–½–Α–Ω–Β–≤–Α–Ι!¬Μ. –™–¥–Β-―²–Ψ –≤ ―¹―²―Ä–Ψ―é –Ω–Β―¹–Ϋ―è, –Κ–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¹―è, –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ–Α―¹―¨, –¥–Α ―²―É―² –Ε–Β –Η –Ζ–Α―²―É―Ö–Α–Μ–Α. –Γ–Ψ–Μ–¥–Α―²–Α–Φ –Ϋ–Β –Ω–Β–Μ–Ψ―¹―¨. –û―³–Η―Ü–Β―Ä―΄ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η –Η–≥―Ä–Α―²―¨ –±–Α―Ä–Α–±–Α–Ϋ―â–Η–Κ–Α–Φ, ―Ä–Α―¹―¹―΅–Η―²―΄–≤–Α―è, –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –Ζ–Α–≥–Μ―É―à–Η―²―¨ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι ―¹―²–Ψ–Ϋ. –ù–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ ―ç―³―³–Β–Κ―²–Α –±–Α―Ä–Α–±–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –±–Ψ–Ι –Ϋ–Β –¥–Ψ―¹―²–Η–≥–Α–Μ, –Ϋ–Α–Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ―², –Ψ–Ϋ –Β―â–Β ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Β–Β –¥―Ä–Α–Φ–Α―²–Η–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ―É. –ê –Κ―É–Μ―¨–Φ–Η–Ϋ–Α―Ü–Η–Β–Ι –¥―Ä–Α–Φ–Α―²–Η–Ζ–Φ–Α –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Η –±―΄–Μ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ –Ϋ–Α –≤–Ψ–Κ–Ζ–Α–Μ–Β, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Α: ¬Ϊ–ü–Ψ –≤–Α–≥–Ψ–Ϋ–Α–Φ!¬Μ, –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–≤–Α–Β–Φ–Α―è –Ω–Ψ ―ç―à–Β–Μ–Ψ–Ϋ―É. –Δ–Ψ―² ―¹―²–Ψ–Ϋ –Η –Η―¹―²–Β―Ä–Η–Κ–Α, –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è, –Η ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –Ζ–≤―É―΅–Α―² –≤ –Φ–Ψ–Η―Ö ―É―à–Α―Ö. –‰ –Ψ–Ϋ–Η, ―¹―²–Ψ–Ϋ –Η –Η―¹―²–Β―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –≤―΄–Κ―Ä–Η–Κ–Η, –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―²–Η–Μ–Η―¹―¨ –Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥, ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–≤―à–Η–Ι –Η–Ζ ¬Ϊ―²–Β–Ω–Μ―É―à–Β–Κ¬Μ - ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Ϋ―΄―Ö –≤–Α–≥–Ψ–Ϋ–Ψ–≤, –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ¬Ϊ–Ω―É―à–Β―΅–Ϋ―΄–Φ –Φ―è―¹–Ψ–Φ¬Μ - ―¹–Κ―Ä―΄–Μ―¹―è –Ζ–Α –Ω–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ―²–Ψ–Φ –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–¥–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―É―²–Η. –€–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―¹–Ψ―²–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è ―²–Ψ–Μ–Ω–Α –Ϋ–Β ―Ä–Α―¹―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨.

–£ –¥–Ψ–Φ–Β –≤–Ψ―Ü–Α―Ä–Η–Μ―¹―è –Ω–Β―΅–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Α―¹―²―Ä–Ψ–Ι. –Δ–Ψ–Ϋ―è –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―²–Η–Μ–Α―¹―¨ –≤ –Ϋ–Α―à―É ―¹–Β–Φ―¨―é. –£–Ϋ–Ψ–≤―¨ –Ϋ–Β―Ä–Β–¥–Κ–Η–Β ―¹–Μ–Β–Ζ―΄, ―Ä―΄–¥–Α–Ϋ–Η―è. –€–Α―²―¨ –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Β ―É―²―Ä–Ψ –Η –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –≤–Β―΅–Β―Ä, –Φ–Ψ–Μ―è―¹―¨ –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Η–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Ι, –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ―è―Ö –Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Α ―É ¬Ϊ–±–Ψ–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Η―Ü―΄¬Μ –Ζ–Α―â–Η―²―΄ –Η –Ω–Ψ–Κ―Ä–Ψ–≤–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α –¥–Μ―è –Β–Β –Ζ―è―²―è βÄ™ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –Ζ―è―²―è –≤ ―¹–Β–Φ―¨–Β.
–Δ–Ψ–Ϋ―è –Ω–Ψ-–Ω―Ä–Β–Ε–Ϋ–Β–Φ―É ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Α –Κ–Ψ–Ϋ–¥―É–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ ―²―Ä–Α–Φ–≤–Α―è. –ü―Ä–Η–¥―è ―¹ ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄, –Ψ–Ϋ–Α –Ζ–Α–¥–Α–≤–Α–Μ–Α –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η ―²–Ψ―² –Ε–Β –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹: ¬Ϊ–ü–Η―¹―¨–Φ–Α –Ψ―² –€–Η―à–Η –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ?¬Μ. –ï–Μ–Η–Ζ–Α–≤–Β―²–Α –ï–≤–≥―Ä–Α―³–Ψ–≤–Ϋ–Α, ―É–≤–Η–¥–Β–≤ –≤ –Ψ–Κ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―΅―²–Α–Μ―¨–Ψ–Ϋ–Α, –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥―è―â–Η–Φ –Φ–Η–Φ–Ψ –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –Ε–Η–Μ―¨―è, –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι ―Ä–Α–Ζ –Ζ–Α–¥–Α–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Ψ–Φ: ¬Ϊ–ß―²–Ψ –Ε–Β ―ç―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β? –û–Ω―è―²―¨ –Ω―Ä–Ψ―à–Β–Μ!¬Μ. –û―²―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Β –Ω–Η―¹―¨–Φ–Α –≤–Ψ–Ζ–±―É–Ε–¥–Α–Μ–Ψ ―É –Φ–Α―²–Β―Ä–Η –Η –Δ–Ψ–Ϋ–Η ―²―Ä–Β–≤–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Β –Φ―΄―¹–Μ–Η, ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ψ–Ϋ–Η –Ψ–±–Β –±–Ψ―è–Μ–Η―¹―¨ –≤―΄―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –¥―Ä―É–≥ –¥―Ä―É–≥―É –≤―¹–Μ―É―Ö.
–Γ–Β–Ι―΅–Α―¹ ―É–Ε–Β –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Φ–Ϋ―é, –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β 1914 –Η–Μ–Η –≤ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β 1915 –≥–Ψ–¥–Α –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ ¬Ϊ–Ω–Η―¹―¨–Φ–Ψ ―¹ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Α¬Μ. –Δ–Ψ–Ϋ―è –±―΄–Μ–Α –Ϋ–Α ―Ä–Α–±–Ψ―²–Β. –€–Α―²―¨ –≤―¹–Κ―Ä―΄–Μ–Α –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Β―Ä―² –Η, –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, –Ϋ–Β –¥–Ψ―΅–Η―²–Α–≤ –Κ–Α–Ζ–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –±―É–Φ–Α–≥―É, –≤ –±–Β―¹―¹–Η–Μ–Η–Η –Ψ–Ω―É―¹―²–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ. –ß–Β―Ä–Β–Ζ –Φ–Η–Ϋ―É―²―É-–¥–≤–Β, –Ψ–Ω–Η―Ä–Α―è―¹―¨ –Ω―Ä–Α–≤–Ψ–Ι ―Ä―É–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ, –Ψ–Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ–Α –Μ–Β–≤―É―é ―Ä―É–Κ―É –Κ –Η–Κ–Ψ–Ϋ–Β –Η, –Ζ–Α―Ö–Μ–Β–±―΄–≤–Α―è―¹―¨ ―¹–Μ–Β–Ζ–Α–Φ–Η, –≤ ―Ä―΄–¥–Α–Ϋ–Η–Η –Ω―Ä–Ψ―à–Β–Ω―²–Α–Μ–Α ―¹ ―Ä–Α–Ζ―Ä―΄–≤–Α–Φ–Η: ¬Ϊ–ß―²–Ψ –Ε–Β ―²―΄ –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Α–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―à―¨? –Δ―΄ –Ε–Β –Φ–Η–Μ–Ψ―¹―²–Η–≤―΄–Ι!¬Μ. –Θ–Ω–Α–Μ–Α –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ, –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹ –Β–Β ―¹–Ψ–¥―Ä–Ψ–≥–Α–Μ―¹―è –Ψ―² ―Ä―΄–¥–Α–Ϋ–Η―è. –ü–Η―¹―¨–Φ–Ψ –≤―΄–Ω–Α–Μ–Ψ –Η–Ζ ―Ä―É–Κ.
–£–Β―Ä–Α –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Μ–Α –Φ–Α―²–Β―Ä–Η –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è―²―¨―¹―è, ―É–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Α –Β–Β –≤ –Ω–Ψ―¹―²–Β–Μ―¨, –¥–Α–Μ–Α –≤–Α–Μ–Β―Ä―¨―è–Ϋ–Κ–Η. –ü–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ–Α –Ω–Η―¹―¨–Φ–Ψ, –Ω―Ä–Ψ―΅–Η―²–Α–Μ–Α –Η, –≤―΄–Ι–¥―è –≤ –Κ―É―Ö–Ϋ―é, ―Ä–Α–Ζ―Ä―΄–¥–Α–Μ–Α―¹―¨.
–ü–Η―¹―¨–Φ–Ψ –≥–Μ–Α―¹–Η–Μ–Ψ: ¬Ϊ–†―è–¥–Ψ–≤–Ψ–Ι ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ-―²–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Κ–Α –€.–‰.–€―É–Ε―΅–Η–Ϋ–Η–Ϋ βÄΠ ―É–±–Η―²βÄΠ¬Μ. –Γ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ –Δ–Ψ–Ϋ–Η ―¹ ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –≤―¹–Β –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä–Η–Μ–Ψ―¹―¨. –î–Μ―è –Ϋ–Β–Β –Η –Φ–Α―²–Β―Ä–Η –Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α―à–Α―²―΄―Ä–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ω–Η―Ä―², –Ζ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –£–Β―Ä–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Α–Μ–Α –†–Α–Η―¹―É –Κ ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι–Κ–Β ―³–Μ–Η–≥–Β–Μ―è.
–£ –¥–Ψ–Φ–Β, –Κ–Α–Κ –≤ 1911 –≥–Ψ–¥―É, ―²―Ä–Α―É―Ä. –€–Α―²―¨ –Ψ―¹–Μ–Α–±–Μ–Α, –¥–≤–Α –Η–Μ–Η ―²―Ä–Η –¥–Ϋ―è –Ϋ–Β –≤―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Α. –Δ–Ψ–Ϋ―è ―²–Ψ–Ε–Β, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –±―΄–Μ–Α ¬Ϊ―Ä–Α–Ζ–±–Η―²–Ψ–Ι¬Μ, ―Ä–Α―¹―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι.
–€–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η–Β ―¹–Β–Φ―¨–Η –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Η ―²–Α–Κ–Η–Β –≤–Ψ―² ¬Ϊ–Ω–Η―¹―¨–Φ–Α ―¹ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Α¬Μ.

–£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Β –≥–Ψ―Ä–Β, –≥–Η–±–Μ–Η ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Η –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Η–Β –Ϋ–Α –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Β, ―Ä–Α–Ζ–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–¥–Η –Κ–Ψ―Ä―΄―¹―²–Ϋ―΄―Ö –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ψ–≤ ―Ü–Α―Ä–Β–Ι, –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Μ–Η―¹―²–Ψ–≤, –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Η–Κ–Ψ–≤.
–ù–Β–±–Β–Ζ―΄–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ–Ψ –Ω–Η―¹―¨–Φ–Ψ –≥–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α–Ι–Ζ–Β―Ä–Α –£–Η–Μ―¨–≥–Β–Μ―¨–Φ–Α –£―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ (–Ζ–Α―à–Η―³―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Η―¹―¨–Φ–Ψ) –Κ ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –Κ–Ϋ―è–≥–Η–Ϋ–Β –€–Α―Ä–Η–Η –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Β, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Κ–Α–Ι–Ζ–Β―Ä ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Α–Μ, ―΅―²–Ψ ¬Ϊ–Φ–Β–Ε–¥―É –†–Ψ–Φ–Α–Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ–Η –Η –™–Ψ–≥–Β―Ü–Ψ–Μ–Μ–Β―Ä–Ϋ–Α–Φ–Η (–¥–Η–Ϋ–Α―¹―²–Η―è –ö–Α–Ι–Ζ–Β―Ä–Ψ–≤) –Ϋ–Β―² –Η –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨ –≤―Ä–Α–Ε–¥―΄, ―΅―²–Ψ –≤–Β–¥–Β―²―¹―è ―ç―²–Α –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Α –™–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ–Η–Β–Ι ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Α, –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –Ψ–Ϋ –±–Ψ–Η―²―¹―è –Η –Ϋ–Β ―Ö–Ψ―΅–Β―² –≥–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤–Μ–Η―è–Ϋ–Η―è.
–ü–Ψ–Η―¹―²–Η–Ϋ–Β –Μ–Ψ–≥–Η–Κ–Α ―Ö–Η―â–Ϋ–Η–Κ–Α. –ö–Ψ–Μ―¨ ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–Ι –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥ –Ϋ–Β ―Ö–Ψ―΅–Β―² –±―΄―²―¨ –Ω–Ψ–¥ –Ω―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–Φ ―¹–Α–Ω–Ψ–≥–Ψ–Φ, ―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Η―²―¨ –Β–≥–Ψ, –Ω–Β―Ä–Β–±–Η―²―¨ –Ϋ–Α –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Β!
–‰ –≤―¹―è –Ω―Ä–Ψ–≥–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Α―è –≥―Ä―É–Ω–Ω–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Α, –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Α–≤―à–Α―è ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–Ι ―Ü–Α―Ä―¹–Κ–Η–Ι –¥–≤–Ψ―Ä, –±―΄–Μ–Α ―¹–Ψ–Μ–Η–¥–Α―Ä–Ϋ–Α ―¹ –Κ–Α–Ι–Ζ–Β―Ä–Ψ–Φ. –ê –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –£―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –±―΄–Μ ―¹–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Β–Ϋ –Κ –Ζ–Α–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Η―é ―¹ –Ϋ–Η–Φ. –ù–Ψ ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ ―¹–Ψ―é–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Η –†–Ψ―¹―¹–Η–Η –≤ –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Β βÄ™ –Η–Φ–Ω–Β―Ä–Η–Α–Μ–Η―¹―²―΄ –ê–Ϋ―²–Α–Ϋ―²―΄ (–ê–Ϋ–≥–Μ–Η―è –Η –Λ―Ä–Α–Ϋ―Ü–Η―è), ―Ä–Α―¹―¹―΅–Η―²―΄–≤–Α―é―â–Η–Β –Ϋ–Α ―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –†–Ψ―¹―¹–Η–Η –Ϋ–Α –Ζ–Ψ–Ϋ―΄ –Η―Ö ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Μ–Η―è–Ϋ–Η―è. –ö ―²–Ψ–Φ―É –Ε–Β –≤ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Α―Ö –Ψ–±–Β–Η―Ö –¥–Η–Ϋ–Α―¹―²–Η–Ι βÄ™ –†–Ψ–Φ–Α–Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö –Η –™–Ψ–≥–Β–Ϋ―Ü–Ψ–Μ–Μ–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≤ βÄ™ –Ϋ–Α―Ä–Α―¹―²–Α–Μ–Α –≤–Ψ–Μ–Ϋ–Α ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è.
–ß―²–Ψ –Ε–Β –Κ–Α―¹–Α–Β―²―¹―è ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–Ι –±―É―Ä–Ε―É–Α–Ζ–Η–Η, –Ϋ–Α–Ε–Η–≤–Α–≤―à–Β–Ι―¹―è –Ϋ–Α –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Β –Η –±–Ψ―è–≤―à–Β–Ι―¹―è ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥―ä–Β–Φ–Α, ―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Α ―Ä–Α―¹―¹―É–Ε–¥–Α–Μ–Α, ―²–Α–Κ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, –Ω–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―³–Ψ―Ä–Φ―É–Μ–Β: ¬Ϊ–ê–Ϋ―²–Α–Ϋ―²–Α –Μ–Η, –Ϋ–Β–Φ―Ü―΄ –Μ–Η βÄ™ –Ω―É―¹―²―¨ –Μ―É―΅―à–Β –Ψ–Ϋ–Η –Ψ―²―Ä―É–±―è―² –Ϋ–Α–Φ ―Ö–≤–Ψ―¹―², ―΅–Β–Φ –Φ―É–Ε–Η–Κ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―ɬΜ.
–£ ―Ö–Ψ–¥–Β –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η–Κ–Α –†–Ψ―¹―¹–Η–Η ―Ä–Α–Ζ–≤–Α–Μ–Η–≤–Α–Μ–Α―¹―¨, –Κ–Α–Ζ–Ϋ–Α –Η―¹―²–Ψ―â–Α–Μ–Α―¹―¨. –ù–Α―΅–Α–Μ–Η –≤―΄–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α―²―¨ ―É –ê–Ϋ–≥–Μ–Η–Η –Η –Λ―Ä–Α–Ϋ―Ü–Η–Η –¥–Β–Ϋ–Β–Ε–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α–Ι–Φ―΄, –Ζ–Α–Μ–Β–Ζ–Α―²―¨ –≤ –Κ–Α–±–Α–Μ―É. –ö–Ψ–Ϋ–Β―Ü –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α–Μ―¹―è.
–£―Ä–Β–Φ―è ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β –¥–Β–Μ–Ψ. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –Ω–Ψ―²―Ä―è―¹–Β–Ϋ–Η–Ι –≤ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ –≥–Η–±–Β–Μ―¨―é –€–Η―à–Η, –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Α –≤ ―¹–Β–Φ―¨–Β –Ω–Ψ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α –≤ –Ϋ–Ψ―Ä–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β ―Ä―É―¹–Μ–Ψ. –ï–Μ–Η–Ζ–Α–≤–Β―²–Α –ï–≤–≥―Ä–Α―³–Ψ–≤–Ϋ–Α –Ω–Ψ-–Ω―Ä–Β–Ε–Ϋ–Β–Φ―É –Η–Φ–Β–Μ–Α ¬Ϊ–Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η–Ι –¥–Β–Ϋ―¨¬Μ, –Δ–Ψ–Ϋ―è ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Α –Κ–Ψ–Ϋ–¥―É–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ, –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι - –≤ –Φ–Α–≥–Α–Ζ–Η–Ϋ–Β, –£–Β―Ä–Α –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι–Κ–Ψ–Ι –≤―¹–Β―Ö –¥–Ψ–Φ–Α―à–Ϋ–Η―Ö –¥–Β–Μ, –≤–Κ–Μ―é―΅–Α―è –Η ―É―Ö–Ψ–¥ –Ζ–Α –Ϋ–Α–Φ–Η ―¹ –†–Α–Η―¹–Ψ–Ι.

. –‰ –≥–Ψ―Ä–Β, –Η ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²―¨ –≤―΄―Ä–Α–Ε–Α–Μ–Η –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ―΄ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ―΄―Ö –≤–Β–Κ–Ψ–≤ –≤ –Ω–Ψ―ç―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Η–Φ–Ω―Ä–Ψ–≤–Η–Ζ–Α―Ü–Η―è―Ö. –Γ–≤–Α–¥―¨–±–Α, –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥―΄ –≤ ―¹–Ψ–Μ–¥–Α―²―΄ –Η –Ω–Ψ―Ö–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Ϋ–Β –Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –±–Β–Ζ –Ω–Μ–Α―΅–Β–Ι –Η –Ω―Ä–Η―΅–Η―²–Α–Ϋ–Η–Ι.
–£ –¥–Ψ–Φ–Β ―¹―²–Α–Μ–Η ―¹–Μ―΄―à–Α―²―¨―¹―è –¥–Α–Ε–Β –Ω–Β―¹–Ϋ–Η. –Δ–Ψ–Ϋ―è –Ζ–Α–Ω–Β–≤–Α–Μ–Α –≤–Ω–Ψ–Μ–≥–Ψ–Μ–Ψ―¹–Α, –Α –Φ–Α―²―¨ ―²–Ψ–Ε–Β –≤–Ω–Ψ–Μ–≥–Ψ–Μ–Ψ―¹–Α –Ω–Ψ–¥–Ω–Β–≤–Α–Μ–Α, ―¹–Η–¥―è –Η–Μ–Η ―¹―²–Ψ―è –Ζ–Α ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η–Φ ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–Φ. –™―Ä―É―¹―²–Ϋ―΄–Β –Ω–Β―¹–Ϋ–Η –Ω–Β–Μ–Η: ¬Ϊ–ê―Ö, ―²―΄ –¥–Ψ–Μ―è, –Φ–Ψ―è –¥–Ψ–Μ―è, –¥–Ψ–Μ―è –Ε–Β–Ϋ―¹–Κ–Α―è –Φ–Ψ―èβÄΠ¬Μ, ¬Ϊ–ß―²–Ψ –Ε–Β ―²―΄ –Μ―É―΅–Η–Ϋ―É―à–Κ–Α, –Ϋ–Β ―è―¹–Ϋ–Ψ –≥–Ψ―Ä–Η―à―¨βÄΠ¬Μ, ¬Ϊ–î–Ψ–Φ–Η–Κ –Ϋ–Α–¥ ―Ä–Β–Κ–Ψ―é, –≤ –Ψ–Κ–Ϋ–Α―Ö –Ψ–≥–Ψ–Ϋ–Β–Κ, ―¹–≤–Β―²–Μ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ–Ψ―¹―É―é –Ϋ–Α –≤–Ψ–¥―É –Ψ–Ϋ –Μ–Β–≥. –£ –¥–Ψ–Φ–Β –Ϋ–Β –¥–Ψ–Ε–¥―É―²―¹―è ―¹ –Φ–Ψ―Ä―è ―Ä―΄–±–Α–Κ–Α, –Ψ–±–Β―â–Α–Μ –≤–Β―Ä–Ϋ―É―²―¨―¹―è ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –¥–≤–Α –¥–Β–Ϋ―¨–Κ–Α. –ù–Ψ –Ω―Ä–Ψ―à–Β–Μ –Η ―²―Ä–Β―²–Η–Ι, –Α –Β–≥–Ψ –≤―¹–Β –Ϋ–Β―². –•–¥―É―² –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ –¥–Β―²–Η, –Ε–¥–Β―² –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ –¥–Β–¥¬Μ. –ü–Β–Μ–Η –Ϋ–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ψ–≤―¹–Κ―É―é: ¬Ϊ–€–Β–Ε –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η―Ö ―Ö–Μ–Β–±–Ψ–≤ –Ζ–Α―²–Β―Ä―è–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Β–±–Ψ–≥–Α―²–Ψ–Β –Ϋ–Α―à–Β ―¹–Β–Μ–Ψ. –™–Ψ―Ä–Β –≥–Ψ―Ä―¨–Κ–Ψ–Β –Ω–Ψ ―¹–≤–Β―²―É ¬Ϊ―à–Μ―è–Μ–Ψ―¹―è¬Μ, –¥–Α –Η –Κ –Ϋ–Α–Φ –Ϋ–Β–≤–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Ι –Ζ–Α–±―Ä–Β–Μ–ΨβÄΠ¬Μ –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―΄–Β –Ω–Β―¹–Ϋ–Η.
–†–Α–¥–Ψ―¹―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―¹―²―Ä–Ψ―è ―ç―²–Η –Ω–Β―¹–Ϋ–Η –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–±―É–Ε–¥–Α–Μ–Η, –¥–Α –Η –Ω–Β–Μ–Η―¹―¨ –Ψ–Ϋ–Η, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ, –Ζ–Η–Φ–Ϋ–Η–Φ–Η –≤–Β―΅–Β―Ä–Α–Φ–Η, –Ω―Ä–Η ―²―É―¹–Κ–Μ–Ψ–Φ –Ψ―¹–≤–Β―â–Β–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Κ–Β―Ä–Ψ―¹–Η–Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Μ–Α–Φ–Ω―΄, –Ω–Ψ–¥ –Α–Κ–Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Β–Φ–Β–Ϋ―² ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –¥–Ψ–Ϋ–Ψ―¹–Η–≤―à–Β–≥–Ψ―¹―è –Ζ–Α–≤―΄–≤–Α–Ϋ–Η―è ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Μ–Ε―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤–Β―²―Ä–Α.
–ù–Α –Ω–Ψ―Ä–Ψ–≥–Β –±―΄–Μ 1917 –≥–Ψ–¥. –ü–Β―Ä–≤―΄–Β –Ε–Β –¥–Ϋ–Η –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α―Ä―É―à–Η–Μ–Η –Η ―ç―²–Ψ ¬Ϊ―²―É―¹–Κ–Μ–Ψ–Β¬Μ ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι―¹―²–≤–Η–Β –≤ ―¹–Β–Φ―¨–Β. –£–Ψ―¹–Β–Φ–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²–Η–Μ–Β―²–Ϋ–Η–Ι –±―Ä–Α―² –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι, 1898 –≥–Ψ–¥–Α ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è, –≤ –¥–Β–Κ–Α–±―Ä–Β 1916 –Η–Μ–Η –≤ ―è–Ϋ–≤–Α―Ä–Β 1917 (?) –±―΄–Μ –Ω―Ä–Η–Ζ–≤–Α–Ϋ –≤ –Α―Ä–Φ–Η―é –Η –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ –Ϋ–Α ―³―Ä–Ψ–Ϋ―². –ù–Β―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Β –ï–Μ–Η–Ζ–Α–≤–Β―²―΄ –ï–≤–≥―Ä–Α―³–Ψ–≤–Ϋ―΄, –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–Α―é―â–Β–Ι ―é–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹―΄–Ϋ–Α –Ϋ–Α ―²―É –Ε–Β ―¹–Α–Φ―É―é, –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ–Α –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Α –≤–Ψ–Ι–Ϋ―É ¬Ϊ–Κ―Ä–Ψ–≤–Α–≤―É―é –±–Ψ–Ι–Ϋ―é¬Μ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è ―É–Ε–Β –Ω–Ψ–≥–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Α –Β―é ―É–≤–Α–Ε–Α–Β–Φ–Ψ–≥–Ψ –Ζ―è―²―è. –£ –¥–Ψ–Φ–Β –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ ―Ä―΄–¥–Α–Ϋ–Η―è, –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ –≤–Α–Μ–Β―Ä―¨―è–Ϋ–Κ–Α –Η –Ϋ–Α―à–Α―²―΄―Ä–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ω–Η―Ä―². –ù–Α –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Β –Φ–Α―²–Β―Ä–Η –Ζ–Α–Φ–Β―²–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ–Μ–Ψ―¹―΄ ―¹–Β–¥―΄―Ö –≤–Ψ–Μ–Ψ―¹. –ê –Β–Ι –≤ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β 1917 –≥–Ψ–¥–Α –±―΄–Μ–Ψ –≤―¹–Β–≥–Ψ –Μ–Η―à―¨ 44 –≥–Ψ–¥–Α.

–û–Ϋ–Α, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ψ–Ε–Η–¥–Α–Μ–Α –Ω–Η―¹–Β–Φ –Ψ―² ―¹―΄–Ϋ–Α. –ù–Ψ –Η –±–Ψ―è–Μ–Α―¹―¨ ¬Ϊ–Ω–Η―¹–Β–Φ ―¹ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Α¬Μ. –Θ–≤–Η–¥–Β–≤ –Ω–Ψ―΅―²–Α–Μ―¨–Ψ–Ϋ–Α, –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ –Ω–Β―Ä–Β―É–Μ–Κ―É, ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –Ε–Β –≤–Ψ―¹–Κ–Μ–Η―Ü–Α–Μ–Α: ¬Ϊ–ß―²–Ψ –Ε–Β ―ç―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β, –Ψ–Ω―è―²―¨ –Ω―Ä–Ψ―à–Β–Μ –Φ–Η–Φ–Ψ¬Μ –Η–Μ–Η ¬Ϊ–Γ–Μ–Α–≤–Α –±–Ψ–≥―É, –Ω―Ä–Ψ―à–Β–Μ –Φ–Η–Φ–Ψ¬Μ. –ü–Η―¹―¨–Φ–Α –Ψ―² –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α―è –±―΄–Μ–Η –≤–Β―¹―¨–Φ–Α ―Ä–Β–¥–Κ–Η–Φ–Η, –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Η―Ö –±―΄–Μ–Ψ –¥–Μ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ. –€–Α―²―¨ –≤–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–≤–Α–Μ–Α―¹―¨.
–£ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –Φ–Β―¹―è―Ü―΄ 1917 –≥–Ψ–¥–Α –≤ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β –Η –≤ –Α―Ä–Φ–Η–Η –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –±―É―Ä–Ϋ―΄–Β ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω―Ä–Η–≤–Β–Μ–Η –Κ ―³–Β–≤―Ä–Α–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Η, –Κ ―¹–≤–Β―Ä–Ε–Β–Ϋ–Η―é ―¹–Α–Φ–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α–≤–Η―è. –ü–Ψ –ö–Ψ―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ―²–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤ –Ω–Ψ ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ–≤–Ψ–¥―É, –≤―΄–Ζ―΄–≤–Α–≤―à–Η―Ö ―É –Φ–Α―²–Β―Ä–Η –±–Β―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι―¹―²–≤–Ψ –Ζ–Α ―¹―΄–Ϋ–Α.
1917 –≥–Ψ–¥ –Η –Φ–Ϋ–Ψ―é –±―΄–Μ –Ψ―²–Φ–Β―΅–Β–Ϋ, –Ω―Ä–Α–≤–¥–Α –Ϋ–Β –Μ―É―΅―à–Η–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Μ–Ψ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η –¥–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η.
–ü–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –Φ–Α―è ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η–Ι –Κ–Μ–Α―¹―¹ –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –≤―΄―à–Β–Μ –Ϋ–Α ―É–Μ–Η―Ü―΄ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Ψ, –±–Β–Ζ –±–Ψ―è–Ζ–Ϋ–Η –Α―Ä–Β―¹―²–Α –Η –Κ–Α–Ζ–Α―΅―¨–Β–Ι –Ϋ–Α–≥–Α–Ι–Κ–Η. –®–Μ–Η –Κ–Ψ–Μ–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄ –¥–Β–Φ–Ψ–Ϋ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―²–Ψ–≤ ―¹ –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Φ–Η –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Α–Φ–Η, ―¹ ―³–Μ–Α–≥–Α–Φ–Η, ―¹ –≤–Ψ–Ζ–≥–Μ–Α―¹–Α–Φ–Η: ¬Ϊ–î–Α –Ζ–¥―Ä–Α–≤―¹―²–≤―É–Β―² ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η―è!¬Μ. –ê ―É –Ϋ–Α―¹, ―É ―Ä–Β–±―è―² ―³–Μ–Α–≥–Α –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ. –· –Ζ–Α–±―Ä–Α–Μ―¹―è –≤ ―à–Κ–Α―³, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Φ–Α―²―¨ –¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ–Α ―²–Κ–Α–Ϋ–Η, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Α–Ι―²–Η –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Ι –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ. –ù–Β –Ϋ–Α―à–Β–Μ. –û―²―Ä–Β–Ζ–Α–Μ –Κ―É―¹–Ψ–Κ ―Ä–Ψ–Ζ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–Κ. –ü―Ä–Η–±–Η–Μ –≥–≤–Ψ–Ζ–¥―è–Φ–Η –Κ –Ω–Α–Μ–Κ–Β, –Η ―¹ ―ç―²–Η–Φ ―³–Μ–Α–≥–Ψ–Φ –±–Β–≥–Α–Μ ―¹ –≥―É―Ä―¨–±–Ψ―é ―Ä–Β–±―è―² –Ω–Ψ –Ω–Β―Ä–Β―É–Μ–Κ―É.
–ü―Ä–Ψ–±–Β–≥–Α―é –Φ–Η–Φ–Ψ –¥–Ψ–Φ–Α –Μ–Α–≤–Ψ―΅–Ϋ–Η―Ü―΄ –Γ―΄―Ä–Β–Ι―â–Η–Κ–Ψ–≤–Ψ–Ι, ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι–Κ–Α –Ω–Ψ–¥–Ψ–Ζ–≤–Α–Μ–Α –Φ–Β–Ϋ―è –Κ ―¹–Β–±–Β, –Ω–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ–Α –Ϋ–Α ―³–Μ–Α–≥, ―¹―Ö–≤–Α―²–Η–Μ–Α –Φ–Β–Ϋ―è –Ζ–Α ―É―Ö–Ψ –Η –Ω–Ψ–≤–Β–Μ–Α –Κ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η.
- –· –¥–Ψ–≤–Β―Ä―è―é ―²–Β–±–Β –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ, –Α ―²–≤–Ψ–Ι –Ω–Α―Ä―à–Η–≤–Β―Ü –Ϋ–Ψ―¹–Η―²―¹―è ―¹ –Ϋ–Η–Φ –Ω–Ψ –Ω–Β―Ä–Β―É–Μ–Κ―É –Η –Ζ–Α ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η―é –Ψ―Ä–Β―², βÄ™ –Κ―Ä–Η―΅–Α–Μ–Α –Μ–Α–≤–Ψ―΅–Ϋ–Η―Ü–Α –Ϋ–Α –ï–Μ–Η–Ζ–Α–≤–Β―²―É –ï–≤–≥―Ä–Α―³–Ψ–≤–Ϋ―É.

–€–Α―²―¨ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–≤–Β―Ä–Η–Μ–Α. –€―΄ –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Β ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–Μ–Η―â–Β –Ϋ–Β –Μ–Α–Ζ–Η–Μ–Η. –ù–Ψ –Ω–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–≤ –Ϋ–Α –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ –Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Η–≤ ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–Μ–Η―â–Β, –Φ–Α―²―¨ –Φ–Ψ–Μ―΅–Α –Ω–Ψ–¥―Ä―É–Φ―è–Ϋ–Η–Μ–Α –Φ–Ψ–Η –Φ―è–≥–Κ–Η–Β –Φ–Β―¹―²–Α. –ê –Μ–Α–≤–Ψ―΅–Ϋ–Η―Ü–Α –≤ ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ ―¹―Ö–≤–Α―²–Η–Μ–Α –Φ–Ψ–Β ―É―Ö–Ψ –Η –Κ―Ä―É―²–Η–Μ–Α –Β–≥–Ψ ―²–Α–Κ, ―΅―²–Ψ ―è ―É―Ö–Α ―É–Ε–Β –Ϋ–Β ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ.
–€–Α―²―¨ –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Κ –Ϋ–Α–Φ –¥–Β―²―è–Φ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ―è–Μ–Α ―ç–Κ–Ζ–Β–Κ―É―Ü–Η–Η, –Ϋ–Ψ ―²―É―²βÄΠ –±―΄–Μ –Ϋ–Α–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ –Β–Ι –Η –Φ–Ψ―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Η –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―É―â–Β―Ä–±.
–£ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ ―²–Α–Κ–Η–Φ ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Β–Φ ―è –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ ―¹―²–Α–Μ –≤ ―à―É―²–Κ―É –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α―²―¨ ―¹–Β–±―è ¬Ϊ–Ω–Ψ―¹―²―Ä–Α–¥–Α–≤―à–Η–Φ –Ζ–Α ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η―é¬Μ.
–£ –¥–Ψ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ϋ–Α―à–Α ―¹–Β–Φ―¨―è –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Α ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Α ―¹ ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ-–Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ–Η ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è–Φ–Η, –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β―¹―¹–Α–Φ–Η, –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Η–Φ–Η –≤ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β –Η, –≤ ―΅–Α―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –≤ –·―Ä–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Μ–Β. –£–Ψ –≤―¹―è–Κ–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β –Ψ―²–Β―Ü –Ϋ–Β –Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ―² ―¹―΅–Β―² –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―¹–Μ–Β–¥–Η―è. –î–Α –Η –Κ–Ψ–Φ―É –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è―²―¨ ―²–Α–Κ–Ψ–Β –Ϋ–Α―¹–Μ–Β–¥–Η–Β, –Β―¹–Μ–Η –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –Η –±―΄–Μ–Ψ? –î–Β―²–Η βÄ™ –Φ–Α–Μ―΄, –Ε–Β–Ϋ–Α - –±–Β–Ζ–≥―Ä–Α–Φ–Ψ―²–Ϋ–Α―è, ―Ä–Β–Μ–Η–≥–Η–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―è –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α, –Ψ–±―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι ―¹–Β–Φ―¨–Β–Ι! –ü―Ä–Α–≤–¥–Α –Ψ―² –Ϋ–Β–Β –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Μ―΄―à–Α―²―¨ –≤―΄―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η―è, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä: ¬Ϊ–Θ –Ϋ–Η―Ö –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η –Β―¹―²―¨, –Ψ–Ϋ–Η –±–Ψ–≥–Α―²―΄–ΒβÄΠ¬Μ, –Θ –±–Ψ–≥–Α―²―΄―Ö –≤―¹–Β –Ϋ–Α–Ι–¥–Β―²―¹―è, –Ψ–Ϋ–Η –±–Β–¥–Ϋ―΄–Φ–Η –Ϋ–Β –±―É–¥―É―²βÄΠ¬Μ, ¬Ϊ–û–Ϋ–Η –±–Ψ–≥–Α―²―΄–Β, –Η–Φ –≤―¹–Β –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–ΨβÄΠ¬Μ, ¬Ϊ–ë–Ψ–≥–Α―²―΄–Β –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ι–Φ―É―² –Ϋ–Α―¹, –Ψ―² –Ϋ–Η―Ö –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Η –Ϋ–Β –Ε–¥–ΗβÄΠ¬Μ –Η ―².–Ω. –Δ–Α–Κ–Η–Β –≤―΄―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η―è –≤―΄―Ä―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ―É –Ϋ–Β–Β –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ, –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ, –Η–Ζ –Ε–Η―²–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Ω―΄―²–Α, –Ϋ–Ψ –Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ϋ–Α–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Β–Ι –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ –Ψ–±–Η–¥―΄, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ψ–Ϋ–Η –Κ–Α–Κ –±―΄ –Ω―Ä–Ψ ―¹–Β–±―è –Η –¥–Μ―è ―¹–Β–±―è, –Ϋ–Β―Ä–Β–¥–Κ–Ψ –≤ ¬Ϊ―²–Η―Ö–Η―Ö¬Μ ―¹–Μ–Β–Ζ–Α―Ö, –Κ–Α–Κ –Κ–Ψ–Ϋ―¹―²–Α―²–Α―Ü–Η―è ―³–Α–Κ―²–Α, –±–Β–Ζ ―Ä–Α–Ζ―ä―è―¹–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι, –±–Β–Ζ ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η―è ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Α.

–î–Μ―è ―¹―Ä–Α–≤–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è.
–€–Α―²―¨, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Α, ―΅―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β ¬Ϊ–¥–Β―Ä–Ε–Η–Φ–Ψ―Ä–¥―΄¬Μ, –Η –Κ―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ¬Ϊ–ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ö―Ä–Ψ–≤–Α–≤―΄–Ι¬Μ –Η ¬Ϊ–ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ü–Α–Μ–Κ–Η–Ϋ¬Μ. –û–Ϋ–Α, –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Μ–Α –Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η―é, –≤ ―΅–Α―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ψ―² –Ε–Β–Ϋ ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η―Ö, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Κ –Ϋ–Β–Ι ―¹ –Ζ–Α–Κ–Α–Ζ–Α–Φ–Η, –Ψ –Ζ–Α–±–Α―¹―²–Ψ–≤–Κ–Α―Ö –Η –¥–Β–Φ–Ψ–Ϋ―¹―²―Ä–Α―Ü–Η―è―Ö ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η―Ö –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Η―Ö ―³–Α–±―Ä–Η–Κ –Η –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Ψ–≤. –û–Ϋ–Α –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Α, –Ζ–Α ―΅―²–Ψ –Η –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ ―΅–Β–≥–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –≤―΄―¹―²―É–Ω–Α―é―², –±–Ψ―Ä―é―²―¹―è. –î–Α, –Η –Δ–Ψ–Ϋ―è, ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―è –Κ–Ψ–Ϋ–¥―É–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ ―²―Ä–Α–Φ–≤–Α―è, –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Α –Φ–Α―²–Β―Ä–Η –Ψ –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö ―²–Ψ–Μ–Κ–Α―Ö –Η ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è―Ö, –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥―è―â–Η―Ö –≤ –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–Κ―²–Η–≤–Β ―²―Ä–Α–Φ–≤–Α–Ι–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Α―Ä–Κ–Α. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –≤ –¥–Ψ–Φ–Β –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―É―é ―²–Β–Φ–Α―²–Η–Κ―É.
–£ –¥–Ψ–Φ–Β –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Η –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Ψ–≤, –Ϋ–Η –≥–Α–Ζ–Β―², –Ϋ–Η –Κ–Ϋ–Η–≥, –Ζ–Α –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –±―É–Κ–≤–Α―Ä―è, –Ω–Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ―É –£–Β―Ä–Α –Ψ–±―É―΅–Α–Μ–Α –Ϋ–Α―¹ ―΅―²–Β–Ϋ–Η―é –Η ―¹―΅–Β―²―É, –¥–Α ―¹―²–Α―Ä–Β–Ϋ―¨–Κ–Ψ–Ι, –Ω–Ψ―²―Ä–Β–Ω–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι, ―¹ ―Ä–Α–Ζ―Ä―É―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ω–Β―Ä–Β–Ω–Μ–Β―²–Ψ–Φ, –±–Β–Ζ –Ψ–±–Μ–Ψ–Ε–Β–Κ, ―Ö―Ä–Β―¹―²–Ψ–Φ–Α―²–Η–Η, –Ζ–Α–±―΄―²–Ψ–Ι –Η–Μ–Η –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –±―΄–≤―à–Η–Φ–Η –Ε–Η–Μ―¨―Ü–Α–Φ–Η ―³–Μ–Η–≥–Β–Μ―è. –£–Β―Ä–Α ―΅–Η―²–Α–Μ–Α –Ϋ–Α–Φ –Η–Ζ ―Ö―Ä–Β―¹―²–Ψ–Φ–Α―²–Η–Η –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –ü―É―à–Κ–Η–Ϋ–Α, –¦–Β―Ä–Φ–Ψ–Ϋ―²–Ψ–≤–Α, –ù–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ψ–≤–Α, –ö–Ψ–Μ―¨―Ü–Ψ–≤–Α. –Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α–Φ –Ϋ–Β–Ψ―²–Κ―É–¥–Α –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è –Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η–Β–Ι –Ψ–± –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄ –Η –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α, –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β –Κ–Α–Κ –Η–Ζ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ―²–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤ ―¹–Μ–Ψ–±–Ψ–Ε–Α–Ϋ.
–û–± –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η –¥–Α–Ε–Β –Η –Ϋ–Β –Φ–Β―΅―²–Α–Μ–Ψ―¹―¨. –£–Ψ-–Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö, ―¹–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ―΄–Ι –±―é–¥–Ε–Β―² –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–Μ –Ϋ–Α–Φ ―²–Α–Κ―É―é ¬Ϊ―Ä–Ψ―¹–Κ–Ψ―à―¨¬Μ. –ü–Μ–Α―²–Α –Ζ–Α –Ψ–±―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β, ―É―΅–Β–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è ―³–Ψ―Ä–Φ–Α –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β ―Ä–Α―¹―Ö–Ψ–¥―΄, ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹ –Ψ–±―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β–Φ, ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Β–Φ–Α–Μ―΄―Ö –¥–Β–Ϋ–Β–≥. –ê –≤–Ψ-–≤―²–Ψ―Ä―΄―Ö βÄ™ ―è―Ä–Ψ―¹–Μ–Α–≤―¹–Κ–Α―è –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Α―è ―à–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η―è –≤―΄–Ϋ–Β―¹–Μ–Α –≤ 1913 –≥–Ψ–¥―É ¬Ϊ–≤–Β―Ä–¥–Η–Κ―²¬Μ, –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Η―¹―΄–≤–Α–≤―à–Η–Ι: ¬Ϊ–û―²–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –≤ –Ω―Ä–Η–Β–Φ–Β –Ϋ–Α –Ψ–±―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β –≤ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –≤―¹–Β–Φ –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–¥–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Φ ―¹–Μ―É–Ε–Α―â–Η–Φ –Η ―³–Α–±―Ä–Η―΅–Ϋ―΄–Φ¬Μ. –Γ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Φ, ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η–Ι –Κ–Μ–Α―¹―¹ –Κ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―é –Ϋ–Β –¥–Ψ–Ω―É―¹–Κ–Α–Μ―¹―è.

–Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –¥–Μ―è –Ϋ–Α―¹ ¬Ϊ–Ϋ–Β ―¹–≤–Β―²–Η–Μ–Ψ―¹―¨¬Μ –Η ¬Ϊ–Ϋ–Β ―É–Μ―΄–±–Α–Μ–Ψ―¹―¨¬Μ. –£ –·―Ä–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Μ–Β, ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Ϋ–Ψ –Μ–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Ϋ―΄–Φ –Η―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ, –±―΄–Μ–Ψ –±–Ψ–Μ–Β–Β ―΅–Β―²–≤–Β―Ä―²–Η –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η–Κ–Ψ–≤ –Η –±–Ψ–Μ–Β–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ―΄ –¥–Β–≤–Ψ―΅–Β–Κ –≤ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²–Β –Ψ―² 9 –¥–Ψ 11 –Μ–Β―² –Ϋ–Β–≥―Ä–Α–Φ–Ψ―²–Ϋ―΄―Ö, ―².–Β. –≤–Ψ–≤―¹–Β –Ϋ–Β ―É–Φ–Β–≤―à–Η―Ö –Ϋ–Η –Ω–Η―¹–Α―²―¨, –Ϋ–Η ―΅–Η―²–Α―²―¨. –Δ–Β –Ε–Β, –Κ―²–Ψ ―Ö–Ψ―²―¨ –Κ–Α–Κ-―²–Ψ, –Φ–Ψ–≥ ―΅–Η―²–Α―²―¨ –Η –Ω–Η―¹–Α―²―¨, –≤―Ä–Ψ–¥–Β –Ϋ–Α―¹ ―¹ –†–Α–Η―¹–Ψ–Ι –Η –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–Φ, –≤ ―É–Ω–Ψ–Φ―è–Ϋ―É―²―΄–Β –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²–Β–Μ–Η –Ϋ–Β –≤―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η. –û–Ϋ–Η, ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, ―¹―΅–Η―²–Α–Μ–Η―¹―¨ –≥―Ä–Α–Φ–Ψ―²–Ϋ―΄–Φ–Η. –ü–Ψ –≤―¹–Β–Ι –†–Ψ―¹―¹–Η–Η 73% –Ϋ–Α―¹–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Β–≥―Ä–Α–Φ–Ψ―²–Ϋ―΄–Β.
–û―¹–Β–Ϋ―¨―é 1917 –≥–Ψ–¥–Α –Δ–Ψ–Ϋ―è –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ζ –≤―΄―à–Μ–Α –Ζ–Α–Φ―É–Ε. –‰ –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ –Ζ–Α –Κ–Ψ–Ϋ–¥―É–Κ―²–Ψ―Ä–Α ―²―Ä–Α–Φ–≤–Α―è –•–Η―Ä–Ψ–≤–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Α. –Γ –Ϋ–Η–Φ –Η –Ε–Η–Μ–Α –≤ –¥–Ψ–Φ–Β –Β–≥–Ψ ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Ι. –û―²–Β―Ü –•–Η―Ä–Ψ–≤–Α –±―΄–Μ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―é―â–Η–Φ –Ω–Μ–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Η ―¹―²–Ψ–Μ―è―Ä–Ψ–Φ, ―¹–Α–Φ ―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ –¥–Ψ–Φ, –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι, –≤ ―²―Ä–Η –Ψ–Κ–Ϋ–Α, ―¹ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Ϋ–Α―²–Ψ–Ι, –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥―¨―é 16-18 –Κ–≤. –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤, –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–Ε–Β–Ι βÄ™ –≤ 6-7 –Κ–≤. –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤, –Κ―É―Ö–Ϋ―è βÄ™ –Ϋ–Β –±–Ψ–Μ–Β–Β 3 –Κ–≤. –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤, ―¹ ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Β―΅–Κ–Ψ–Ι. –ë―΄–Μ–Η –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Β ―¹–Β–Ϋ–Η, ―΅―É–Μ–Α–Ϋ –Η –Κ―Ä―΄―²–Α―è –Μ–Β―²–Ϋ―è―è –≤–Β―Ä–Α–Ϋ–¥–Α. –ù–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –¥–≤–Ψ―Ä–Η–Κ ―¹ ―¹–Α―Ä–Α―é―à–Κ–Ψ–Ι. –£ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ –Ω–Β―Ä–Β–Β–Ζ–¥–Ψ–Φ –Δ–Ψ–Ϋ–Η, –Ψ–¥–Ϋ–Α ―²―Ä–Β―²―¨ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Ϋ–Α―²―΄ –±―΄–Μ–Α –Ψ―²–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Β–±–Ψ―Ä–Κ–Ψ–Ι –¥–Μ―è –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ψ–≤. –î–Ψ–Φ–Η–Κ ―¹―²–Ψ―è–Μ –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Ψ (–¥–Α –Ψ–Ϋ, –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, –Η ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ ―¹―²–Ψ–Η―²) –Κ –±–Β―Ä–Β–≥―É ―Ä–Β–Κ–Η –ö–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ―¹–Μ―¨ –Ϋ–Α –ö–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ―¹–Μ–Β–≤–Ψ–Φ –Ω–Β―Ä–Β―É–Μ–Κ–Β –Ω–Ψ–¥ –Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä–Ψ–Φ 2, –≤ –Ζ–Α–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ―¹–Μ–Β–≤–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –·―Ä–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Μ―è.
–· ―É–Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –¥–Α–Μ ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―Ä―΄ –Ε–Η–Μ–Ψ–Ι –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Η –¥–Ψ–Φ–Η–Κ–Α, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥–Η –Φ–Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–¥–Β―²―¹―è –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –Ω―Ä–Ψ–Ε–Η–≤–Α–≤―à–Η―Ö –≤ –Ϋ–Β–Φ. –ù―É, –Α –Φ―΄, –Φ–Α―²―¨, –£–Β―Ä–Α, –†–Α–Η―¹–Α, ―è –Ψ―¹―²–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –½–Α–≤–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω–Β―Ä–Β―É–Μ–Κ–Β –ö–Ψ―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤.

–¦.–ö.–ë–Β–Κ―Ä–Β–Ϋ–Β–≤ –≤ –½–Α–≤–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω–Β―Ä–Β―É–Μ–Κ–Β ―¹–Μ–Ψ–±–Ψ–¥―΄ –ö–Ψ―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ–Η, –≥–¥–Β –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Ψ–Ε–Η–≤–Α–Μ ―¹ –≤–Β―¹–Ϋ―΄ 1913 –≥. –¥–Ψ –Ψ―¹–Β–Ϋ–Η 1918 –≥–Ψ–¥–Α.







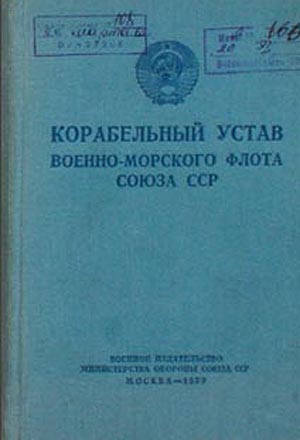


.jpg)


