–ë–Α–Ϋ–Ϋ–Β―Ä

–ö–Α–Κ –Η–Ζ–±–Β–Ε–Α―²―¨ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ―è ―Ü–Β―Ö–Α –≤ –Μ–Β―²–Ϋ―é―é –Ε–Α―Ä―É
|
–£―¹–Κ–Ψ―Ä–Φ–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹ –Κ–Ψ–Ω―¨―è - –Γ–Ψ–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Α ―³–Β–≤―Ä–Α–Μ―¨ 2014 –≥–Ψ–¥–Α
0
28.02.201400:2928.02.2014 00:29:19
26 ―³–Β–≤―Ä–Α–Μ―è –≤ –î–Ψ–Φ–Β –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ (–¦–Η―²–Β–Ι–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä,20) –Ω–Ψ –Η–Ϋ–Η―Ü–Η–Α―²–Η–≤–Β –Γ–Ψ–¥―Ä―É–Ε–Β―¹―²–≤–Α –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Ι ¬Ϊ–½–Α –¥―Ä―É–≥–Η ―¹–≤–Ψ―è¬Μ, ¬Ϊ–ë–Ψ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ –±―Ä–Α―²―¹―²–≤–Α¬Μ, –û–ö–û ¬Ϊ–ö–Α–Ζ–Α―΅―¨―è ―¹―²―Ä–Α–Ε–Α¬Μ, –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è ¬Ϊ–ù–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –Γ–Ψ–±–Ψ―Ä¬Μ –Η –¥―Ä. ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ–±―â–Β–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–Β ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Ι –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Ω–Α―²―Ä–Η–Ψ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ω–Ψ –Ω–Ψ–≤–Ψ–¥―É –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥―è―â–Η―Ö –≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Ι –Ϋ–Α –Θ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ–Β. –£ –Α–Κ―²–Ψ–≤–Ψ–Φ –Ζ–Α–Μ–Β –î–Ψ–Φ–Α –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Α 150 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–≤―à–Η―Ö –±–Ψ–Μ–Β–Β 50 –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö, –Κ–Α–Ζ–Α―΅―¨–Η―Ö –Η –Ω–Α―²―Ä–Η–Ψ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Ι. –ù–Α ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η–Η –±―΄–Μ –Ζ–Α―¹–Μ―É―à–Α–Ϋ –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ―è –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ –Θ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―΄ –≥. –ö–Η–Β–≤–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β―è –ù–Α―²–Α–Μ–Β–Ϋ–Κ–Ψ. –Γ―²–Α–Μ–Η –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β –Ω–Ψ–¥―Ä–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ―Ä–Ψ―²–Α –Ϋ–Α –Θ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ–Β, –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β–Ψ–Ϋ–Α―Ü–Η―¹―²―¹–Κ–Η–Φ–Η –≥―Ä―É–Ω–Ω–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Α–Φ–Η –Ω―Ä–Η ―É―¹–Η–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―³–Η–Ϋ–Α–Ϋ―¹–Ψ–≤–Ψ–Ι –Η –Φ–Ψ―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Κ–Β –Γ–®–ê –Η –Ω–Ψ–Ω―É―¹―²–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Β –Ω―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä–Α –·–Ϋ―É–Κ–Ψ–≤–Η―΅–Α.
 –ü–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤–Α–Φ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β―è, –Ϋ–Α ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è―à–Ϋ–Η–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ ―¹–Η–Μ–Α–Φ –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Α–Φ–Ψ–Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ –ö―Ä―΄–Φ―É. –ü–Ψ–Ω―΄―²–Κ–Η ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ ¬Ϊ―²–Ψ―΅–Κ–Α–Φ–Η ―¹–±–Ψ―Ä–Κ–Η¬Μ –Ξ–Α―Ä―¨–Κ–Ψ–≤, –î–Ψ–Ϋ–Β―Ü–Κ –Η –¦―É–≥–Α–Ϋ―¹–Κ –¥–Ψ ―¹–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä –Ϋ–Β ―Ä–Β–Α–Μ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ―΄ –Η–Ζ-–Ζ–Α –Ω―Ä–Β–¥–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α –Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Μ–Α―¹―²–Η. –£ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η–Η –Ω–Ψ–¥ ―É–¥–Α―Ä–Ψ–Φ ―ç–Κ―¹―²―Ä–Β–Φ–Η―¹―²–Ψ–≤ –Φ–Ψ–≥―É―² –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨―¹―è –≤ –Ω–Β―Ä–≤―É―é –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥―¨ ―¹–Β–Φ―¨–Η –±–Ψ–Ι―Ü–Ψ–≤ –ë–Β―Ä–Κ―É―²–Α, –≤–Ϋ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Η―Ö –≤–Ψ–Ι―¹–Κ, –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ–Β ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ―è–Ζ―΄―΅–Ϋ―΄–Β, –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Β –Α–Κ―²–Η–≤–Η―¹―²―΄, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –±–Α–Ϋ–¥–Β―Ä–Ψ–≤―Ü–Α–Φ –≤ –ö–Η–Β–≤–Β –Η –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α―Ö, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ω―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Β ―¹–≤―è―²―΄–Ϋ–Η. –ü–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤–Α–Φ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β―è, –Ϋ–Α ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è―à–Ϋ–Η–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ ―¹–Η–Μ–Α–Φ –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Α–Φ–Ψ–Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ –ö―Ä―΄–Φ―É. –ü–Ψ–Ω―΄―²–Κ–Η ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ ¬Ϊ―²–Ψ―΅–Κ–Α–Φ–Η ―¹–±–Ψ―Ä–Κ–Η¬Μ –Ξ–Α―Ä―¨–Κ–Ψ–≤, –î–Ψ–Ϋ–Β―Ü–Κ –Η –¦―É–≥–Α–Ϋ―¹–Κ –¥–Ψ ―¹–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä –Ϋ–Β ―Ä–Β–Α–Μ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ―΄ –Η–Ζ-–Ζ–Α –Ω―Ä–Β–¥–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α –Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Μ–Α―¹―²–Η. –£ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η–Η –Ω–Ψ–¥ ―É–¥–Α―Ä–Ψ–Φ ―ç–Κ―¹―²―Ä–Β–Φ–Η―¹―²–Ψ–≤ –Φ–Ψ–≥―É―² –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨―¹―è –≤ –Ω–Β―Ä–≤―É―é –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥―¨ ―¹–Β–Φ―¨–Η –±–Ψ–Ι―Ü–Ψ–≤ –ë–Β―Ä–Κ―É―²–Α, –≤–Ϋ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Η―Ö –≤–Ψ–Ι―¹–Κ, –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ–Β ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ―è–Ζ―΄―΅–Ϋ―΄–Β, –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Β –Α–Κ―²–Η–≤–Η―¹―²―΄, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –±–Α–Ϋ–¥–Β―Ä–Ψ–≤―Ü–Α–Φ –≤ –ö–Η–Β–≤–Β –Η –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α―Ö, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ω―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Β ―¹–≤―è―²―΄–Ϋ–Η.
–Θ―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Η ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η―è –Ψ–±―¹―É–¥–Η–Μ–Η ―Ä―è–¥ –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―Ä–Β―²–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Ι –Ω–Ψ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Η –Ϋ–Α―à–Η–Φ –±―Ä–Α―²―¨―è–Φ –Ϋ–Α –Θ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ–Β, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ϋ–Β–¥–Ψ–Ω―É―â–Β–Ϋ–Η―é ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ζ–Α–Ϋ–Η―è –Κ–Ψ―Ä–Η―΅–Ϋ–Β–≤–Ψ–Ι –Ζ–Α―Ä–Α–Ζ―΄ –Ϋ–Α ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Η. –£ ―΅–Α―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –±―΄–Μ–Ψ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Ψ ―¹―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –ö–Ψ–Ψ―Ä–¥–Η–Ϋ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä –≤–Ζ–Α–Η–Φ–Ψ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è ―¹ –Θ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ–Η ―¹–Η–Μ–Α–Φ–Η –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Α–Φ–Ψ–Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Ω―Ä–Η –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–¥–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η–Η –Γ–ü–±, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –≤ –Ω–Β―Ä–≤―É―é –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥―¨ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―² –Ψ–±―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Β –Κ –ü―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Β–Ϋ―²―É –†–Ψ―¹―¹–Η–Η –Η –≤–Ψ–Ζ―¨–Φ–Β―² –Ϋ–Α ―¹–Β–±―è –Κ–Ψ–Ψ―Ä–¥–Η–Ϋ–Η―Ä―É―é―â–Η–Β ―³―É–Ϋ–Κ―Ü–Η–Η –Ω–Ψ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Η ―¹–Β–Φ―¨―è–Φ –±–Ψ–Ι―Ü–Ψ–≤ ¬Ϊ–ë–Β―Ä–Κ―É―²–Α¬Μ –Η ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η―é –Η―Ö ―¹–Β–Φ–Β–Ι –≤ –ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Β, –Α ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Η―² –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Β –¥–Β―¹―²―Ä―É–Κ―²–Η–≤–Ϋ―΄–Φ ―¹–Η–Μ–Α–Φ –≤ –ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Β –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β ―³―É–Ϋ–Κ―Ü–Η–Η. –û–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–Φ―΄―Ö –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö ―à–Α–≥–Ψ–≤ –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨ –Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Μ–Β–Ϋ ―É–Ε–Β ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è. –Θ―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ –≤―΅–Β―Ä–Α―à–Ϋ–Β–≥–Ψ ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η―è, –¥–Β–Ω―É―²–Α―² –½–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–¥–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η―è, –Ω―Ä–Β–¥―¹–Β–¥–Α―²–Β–Μ―¨ ¬Ϊ–ë–Ψ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ –±―Ä–Α―²―¹―²–≤–Α¬Μ –‰–≥–Ψ―Ä―¨ –£―΄―¹–Ψ―Ü–Κ–Η–Ι –Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Η―² –Ζ–Α–Ω―Ä–Ψ―¹ –≤ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ―΄ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Μ–Α―¹―²–Η –Γ–ü–± –Ω–Ψ ―³–Α–Κ―²―É –Ω―Ä–Ψ―à–Β–¥―à–Β–≥–Ψ 16 ―³–Β–≤―Ä–Α–Μ―è –Ϋ–Α –€–Α―Ä―¹–Ψ–≤–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Β –Ϋ–Β–Ψ―³–Α―à–Η―¹―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Η―²–Η–Ϋ–≥–Α ¬Ϊ–£ –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Κ―É –€–Α–Ι–¥–Α–Ϋ–Α¬Μ. –£ ―¹–≤–Ψ―é –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥―¨, –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ¬Ϊ–ù–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –Γ–Ψ–±–Ψ―Ä¬Μ –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―² –Ζ–Α―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –≤ –Ω―Ä–Α–≤–Ψ–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ―΄ –Ψ –Ω―Ä–Η–≤–Μ–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Η –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Ϋ―΄―Ö –Μ–Η―Ü, –≤–Η–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ―΄―Ö –≤ –Ω–Ψ―²–≤–Ψ―Ä―¹―²–≤–Β –Φ–Α–Ι–¥–Α–Ϋ―â–Η–Κ–Α–Φ, –Κ –Α–¥–Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Ι, –¥–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ–Α―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –Η ―É–≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η.
–ü―Ä–Β―¹―¹-―¹–Μ―É–Ε–±–Α –Γ–Ψ–¥―Ä―É–Ε–Β―¹―²–≤–Α –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Ι ¬Ϊ¬Μ
–ü―Ä–Β―¹―¹-―¹–Μ―É–Ε–±–Α –û–û–î ¬Ϊ¬Μ
28.02.201400:2928.02.2014 00:29:19
0
28.02.201400:1828.02.2014 00:18:55
–ê –€–Β–Μ–Κ–Ψ–≤–Α, –Φ–Ψ–Β–≥–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–¥–Κ–Α, –Ψ―²–Ω―É―¹―²–Η–Μ–Η ―¹ ―É―΅–Β―²–Ψ–Φ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―¹–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ―΄―Ö –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤ βÄî –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ –Ε–Β–Ϋ–Α―² –Ϋ–Α ―Ä–Ψ–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η―Ü–Β –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²–Ψ–≥–Ψ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –ë–Α―¹–Η―¹―²–Ψ–≥–Ψ. –£–Ψ –≤―¹―è–Κ–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ–Η–Ι –ê–Ϋ―²–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ ―¹ ―¹–Ψ–Μ–¥–Α―²―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω―Ä―è–Φ–Ψ―²–Ψ–Ι –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ –Φ–Ϋ–Β –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ. –£ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Β ―É―΅–Β–±–Α –Ψ―²–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Α –Ϋ–Α –≥–Ψ–¥. –î–Μ―è –Φ–Β–Ϋ―è –Ω–Η–Μ―é–Μ―è –Ω–Ψ–¥―¹–Μ–Α―â–Η–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –±―É–Κ–≤–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Κ–Α–Ϋ―É–Ϋ–Β ―ç―²–Η―Ö ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Ι –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Ψ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Η–Β –Ψ –Ω―Ä–Η―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Η–Η –Φ–Ϋ–Β –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η―è ¬Ϊ–Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 3 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α¬Μ. –ü―Ä–Α–≤–¥–Α, ―É–≤–Η–¥–Β―²―¨ ―¹–Β–±―è –≤ –Ζ–Β―Ä–Κ–Α–Μ–Β –≤ –Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö –¥–≤―É―Ö–Ω―Ä–Ψ―¹–≤–Β―²–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–≥–Ψ–Ϋ–Α―Ö –Ω–Ψ–Κ–Α –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Φ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Ψ―¹―¨, ―ç―²–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Α –†–Ψ–¥–Η–Ϋ―É. –½–¥–Β―¹―¨ –Ε–Β –Κ–Ψ –Φ–Ϋ–Β –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η –Ψ–±―Ä–Α―â–Α―²―¨―¹―è ¬Ϊ–€–Α–Ι–Ψ―Ä –ö–Ψ―³―³¬Μ, ―¹–Ψ–Κ―Ä–Α―â–Α―è ―³–Α–Φ–Η–Μ–Η―é –†―΄–Ε–Η–Κ–Ψ–≤ –≤ ―Ü–Β–Μ―è―Ö ―É–Ω―Ä–Ψ―â–Β–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è, –Ϋ–Ψ –Η ―ç―²–Ψ ―¹–Β―Ä–¥―Ü―É –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ.
–Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ –Ζ–Α –¥–≤–Ψ–Η―Ö –¥–Ψ ―²–Β―Ö –Ω–Ψ―Ä, –Ω–Ψ–Κ–Α –Η–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ–Β–Ζ–Η–Ι―¹–Κ–Η–Β ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Η –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–Ι–¥―É―² ¬Ϊ–ö―É―Ä―¹–Α –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ¬Μ, –Ϋ–Β –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ―É―é―² ―¹–Μ―É–Ε–±―É –Η –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ―É –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –Κ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―é.
–‰–Ζ –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄ –Φ―΄ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Η –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –™–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ–Α –£–€–Λ ¬Ϊ–½–Α ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ–Β –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–¥–Α–Ϋ–Η―è¬Μ. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ¬Ϊ–Γ-292¬Μ –™―Ä–Η–≥–Ψ―Ä–Η–Ι –Δ–Α―Ä–≥–Ψ–Ϋ–Η–Ϋ –Η –Κ–Ψ–Φ–±―Ä–Η–≥ –ê.–ê.–†―É–Μ―é–Κ –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ―΄ –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Α–Φ–Η –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –½–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η. –ü–Ψ–¥–Ψ–Ζ―Ä–Β–≤–Α―é, ―΅―²–Ψ –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Η ―É–¥–Ψ―¹―²–Ψ–Β–Ϋ―΄ –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Ψ–≤ –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä―è –Ζ–Ψ―Ä–Κ–Ψ–Φ―É –Ψ–Κ―É –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Ψ―²–¥–Β–Μ–Α –Η –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ¬Ϊ–Ψ―¹–Ψ–±–Η―¹―²–Α¬Μ. –ö–Α–Ε–¥―΄–Ι –≥–¥–Β-―²–Ψ, –Κ–Α–Κ-―²–Ψ ¬Ϊ–Ω―Ä–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ–Μ―¹―è¬Μ –Ϋ–Α –≤―΄–Ω–Η–≤–Κ–Β –Η–Μ–Η –Ϋ–Β–Μ–Ψ―è–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –≤―΄―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Ϋ–Η―è―Ö. –ù–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Η–Φ–Β–Μ –Ϋ–Β–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤–Ψ –≤―¹–Β―É―¹–Μ―΄―à–Α–Ϋ–Η–Β –Ζ–Α―è–≤–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β ―¹―²–Α–Μ –±―΄ ―²–Ψ–Ω–Η―²―¨ ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ ―¹ –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Φ –Κ―Ä–Β―¹―²–Ψ–Φ –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―²―É, –Ϋ–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Η –Ϋ–Α –Κ–Α–Κ–Η–Β –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―è. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ–Α ―É–Ε–Α―¹–Ϋ–Α―è –Κ―Ä–Α–Φ–Ψ–Μ–Α! –ë–Β–¥–Ϋ―è–≥–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É ―΅―É―²―¨ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Α–Ω–Η―¹–Α–Μ–Η –≤ –Α―²―²–Β―¹―²–Α―Ü–Η―é ―³―Ä–Α–Ζ―É –Ψ–± ―ç–Μ–Β–Φ–Β–Ϋ―²–Α―Ö –Ϋ–Β–Ω–Ψ–≤–Η–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η―è. –ê –Ω–Ψ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ, –≤―¹–Β-―²–Α–Κ–Η –≤–Ω–Η―¹–Α–Μ–Η –Η –Ω–Ψ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–Μ–Η –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤―É―é –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –Δ–Β―à–Η–Μ–Ψ –Φ–Ψ–Β ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―é–±–Η–Β –Η ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ ¬Ϊ–•―É―Ä–Ϋ–Α–Μ –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι¬Μ –Ω–Μ ¬Ϊ–Γ-236¬Μ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―è –≤–Β–Μ, ―à―²–Α–± –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Μ –Μ―É―΅―à–Η–Φ –Η ―É―΅–Η–Μ –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Φ –≤―¹–Β―Ö –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –Η ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Ψ–≤. –£ –Ψ–±―â–Β–Φ, –Ϋ–Α―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Β―Ä–Β–¥ ―É–±―΄―²–Η–Β–Φ –±―΄–Μ–Ψ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Φ.
–ü–Β―Ä–Β–Ε–Η–Μ–Η –Φ―΄ –Η –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ―΄―Ö ―¹―É―²–Ψ–Κ –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –ö–Α―Ä–Η–±―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ―Ä–Η–Ζ–Η―¹–Α. –‰–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ–Β–Ζ–Η―è –Ζ–Α―è–≤–Η–Μ–Α ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ –Ϋ–Β–Ι―²―Ä–Α–Μ–Η―²–Β―²–Β.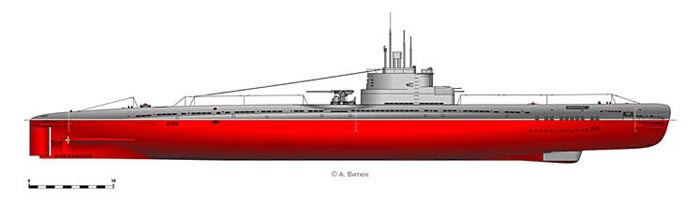
–ù–Α–Φ –Ψ–±―ä―è–≤–Η–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –≤ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β –Κ–Ψ–Ϋ―³–Μ–Η–Κ―²–Α –Φ–Β–Ε–¥―É –Γ–Γ–Γ–† –Η –Γ–®–ê ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Η ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –±―É–¥―É―² –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ―΄. –ö–Ψ–Φ–±―Ä–Η–≥ –Ϋ–Α ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η–Η –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ –Ζ–Α―è–≤–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è –Φ―΄ –Ϋ–Β –±―É–¥–Β–Φ, –Α –±―É–¥–Β–Φ ―¹ –±–Ψ–Β–Φ(?!!) –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α―²―¨―¹―è –≤–Ψ –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ. –ß–Β―¹―²–Ϋ–Ψ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è, ―è –Ϋ–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―΅–Β―²–Κ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ ―¹–Β–±–Β ―ç―²–Ψ―² ¬Ϊ–Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤¬Μ. –ü–Ψ―΅–Β–Φ―É-―²–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―²―¨, –Κ–Α–Κ –Β―â–Β –±―É–¥―É―΅–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –ë–ß-2-3 (–±―΄–Μ–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β ―¹–Ψ―΅–Β―²–Α–Ϋ–Η–Β βÄî –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Ψ-–Φ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β) ―¹–¥–Α–Μ –Κ–Ψ―Ä–Φ–Ψ–≤–Ψ–Β –Ψ―Ä―É–¥–Η–Β –Ϋ–Α –Α―Ä―²―¹–Κ–Μ–Α–¥ –≤ –Γ–Β–≤–Α―¹―²–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Β, –Α –Ϋ–Ψ―¹–Ψ–≤―É―é –Ω―É―à–Κ―É βÄî –≤ –€–Ψ–Μ–Ψ―²–Ψ–≤―¹–Κ–Β, –Ϋ―΄–Ϋ–Β –≤ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ψ–¥–≤–Η–Ϋ―¹–Κ–Β. –ß―¨―è-―²–Ψ ¬Ϊ―É–Φ–Ϋ–Α―è¬Μ –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ-–Κ–Ψ–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―²–Ψ―Ä―¹–Κ–Α―è –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Α –Ω–Ψ―¹―΅–Η―²–Α–Μ–Α, ―΅―²–Ψ –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η―è –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö –Ϋ–Β―Ü–Β–Μ–Β―¹–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Α. ¬Ϊ–Λ–Α–Ϋ―²–Ψ–Φ¬Μ –Φ–Ψ–Μ –Ω―É―à–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Β ―¹–Ψ–±―¨–Β―à―¨. –û―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹ –Ζ–Α–≤–Η―¹―²―¨―é ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨ –Ϋ–Α ―Ä–Α–Ϋ–Β–Β –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –‰–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ–Β–Ζ–Η–Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Η: –Ω–Ψ ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è–Φ ―ç―²–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄, –Ϋ–Α –Ϋ–Η―Ö –Ϋ–Α―à–Η–Φ–Η ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Α–Φ–Η –≤–Ψ –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Β –±―΄–Μ–Η –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ―΄ –Ϋ–Ψ―¹–Ψ–≤―΄–Β ―É–Ϋ–Η–≤–Β―Ä―¹–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Η–Β –Α–≤―²–Ψ–Φ–Α―²―΄. –ö–Ψ―Ä–Φ–Ψ–≤―΄―Ö-―²–Ψ –Ω―É―à–Β–Κ, –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, ―É–Ε–Β –Η –Ϋ–Α ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Η―Ö ―¹–Κ–Μ–Α–¥–Α―Ö –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Η–Μ–Η –Η–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ–Β–Ζ–Η–Ι―Ü―΄ ―¹―²–Α―Ä―΄―Ö ―΅–Β―Ä―²–Β–Ε–Β–Ι –Ϋ–Β –Ϋ–Α―à–Μ–Η... –ü―Ä–Η–¥–Β―²―¹―è, –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ, ¬Ϊ–ö–Α–Μ–Α―à–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤―΄–Φ–Η¬Μ –¥–Α ¬Ϊ–€–Α–Κ–Α―Ä–Ψ–≤―΄–Φ–Η¬Μ –¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨ –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―É, –Ω–Ψ–Κ–Α –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–Ι–¥–Β–Φ ―É–Ζ–Κ–Η–Ι –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Α–Ϋ–Α–Μ –¥–Ψ –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―΄, –≥–¥–Β ―¹–Φ–Ψ–Ε–Β–Φ –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ζ–Η―²―¨―¹―è, –Η–Μ–Η –¥–Α―²―¨ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Ι ―Ö–Ψ–¥ –¥–Η–Ζ–Β–Μ―è–Φ–Η. –· ―É–Ε–Β –Ω–Η―¹–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ ―ç―²–Ψ–Φ―É ―³–Α―Ä–≤–Α―²–Β―Ä―É –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ζ―²–Η –¥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è –Ϋ–Β –Ψ–¥–Η–Ϋ ―΅–Α―¹. –Δ–Α–Κ–Η–Β –≤–Ψ―² –Κ―Ä–Α–Φ–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Φ―΄―¹–Μ–Η ―à–Β–≤–Β–Μ–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Φ–Ψ–Β–Ι (–¥–Α ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Μ–Η –≤ –Φ–Ψ–Β–Ι) –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Β –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –≤―΄―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è ―É–≤–Α–Ε–Α–Β–Φ–Ψ–≥–Ψ –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ–Η―è –ê–Ϋ―²–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–Α –†―É–Μ―é–Κ–Α –Ϋ–Α ―²–Ψ–Φ ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η–Η. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ, –Κ–Α–Κ –≤–Ψ–¥–Η―²―¹―è, –≤―¹–Β –Β–¥–Η–Ϋ–Ψ–¥―É―à–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ–Η ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α. –î–Α –Η ―΅―²–Ψ –Φ–Ψ–≥ –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨ –Ϋ–Α―à ―¹―²–Α―Ä―΄–Ι –Η –Φ―É–¥―Ä―΄–Ι –≤–Ψ―è–Κ–Α, ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Η–≤―à–Η–Ι –Β―â–Β ―É –™―Ä–Β―à–Η–Μ–Ψ–≤–Α –≤ –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Η –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–≤―à–Η–Ι, –Ϋ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü, –≤―΄―¹―²―Ä–Α–¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β ¬Ϊ–±–Β―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–≤–Β―²–Ϋ―΄–Β¬Μ –Ω–Ψ–≥–Ψ–Ϋ―΄ –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Φ –±–Ψ–Μ–Β–Β –≥–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥? –‰ –Κ–Α–Κ –Η–Ϋ–Α―΅–Β –≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Φ―΄ –Φ–Ψ–≥–Μ–Η ―Ä–Β–Α–≥–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨? –Γ–Μ–Α–≤–Α –±–Ψ–≥―É, –Ψ–±–Ψ―à–Μ–Ψ―¹―¨. –Ξ―Ä―É―â–Β–≤ ―¹ –ö–Β–Ϋ–Ϋ–Β–¥–Η ¬Ϊ–Ζ–Α–Φ–Η―Ä–Η–Μ–Η―¹―¨¬Μ, –Η –Ω–Ψ–Ζ–Ψ―Ä–Α –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Φ―΄ –Η–Ζ–±–Β–Ε–Α–Μ–Η. –ö–Α―Ä–Η–±―¹–Κ–Η–Ι –Κ―Ä–Η–Ζ–Η―¹ –Φ–Η–Ϋ–Ψ–≤–Α–Μ.
–ö―¹―²–Α―²–Η, –¥–Α–Ε–Β –≤ ―ç―²–Η ―²―Ä–Β–≤–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Β –¥–Ϋ–Η –Ψ–±―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Η–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ–Β–Ζ–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Ι –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―â–Α–Μ–Ψ―¹―¨.
–Δ―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ, –Ω―Ä–Α–≤–¥–Α, –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―è―²―¨ ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι―¹―²–≤–Η–Β, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α –¥―É―à–Β ¬Ϊ–Κ–Ψ―à–Κ–Η ―¹–Κ―Ä–Β–±–Μ–Η¬Μ. –£―¹–Β –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –Κ―Ä–Α―é –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–Ω–Α―¹―²–Η –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –Φ–Η―Ä. –ù–Ψ –Η –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ―² ―Ä–Α–Ζ –Ω–Ψ–±–Β–¥–Η–Μ ―Ä–Α–Ζ―É–Φ. –•–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ–Α―¹―¨!
–‰–Ζ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ―΄―Ö ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Ι ―²–Ψ–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥–Α –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Β―²―¹―è ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―ç–Ω–Η–Ζ–Ψ–¥. –£ –Η–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ–Β–Ζ–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹–Η–Μ–Α―Ö, –Κ–Α–Κ ―è –Ψ―²–Φ–Β―΅–Α–Μ, –Ω–Ψ―Ä–Α–Ε–Α–Μ–Ψ –Μ–Β–≥–Κ–Ψ–Φ―΄―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Β –Κ –Ψ―Ä―É–Ε–Η―é. –ê ―²―É―² –Β―â–Β –±―΄–Μ–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β! –£–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è ―²―Ä–Β–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–Κ –Η –Ω–Α―Ä–Α–¥–Α –≤ ―΅–Β―¹―²―¨ –î–Ϋ―è –£–€–Λ –‰–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ–Β–Ζ–Η–Η –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥―è―â–Β–Β –Φ–Η–Φ–Ψ ―²―Ä–Η–±―É–Ϋ―΄ ―¹ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ–Φ –Η –≥–Ψ―¹―²―è–Φ–Η –Ω–Ψ–¥―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Ψ –≤–Η–Ϋ―²–Ψ–≤–Κ–Η ―¹ –Ω–Μ–Β―΅ –Η –¥–Α–≤–Α–Μ–Ψ –¥―Ä―É–Ε–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α–Μ–Ω―΄ –≤ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö. –î–Μ―è –Ϋ–Α―¹ ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ϋ–Β―¹–Μ―΄―Ö–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ! –· –≤ ―¹–≤–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ –≤ ―΅–Β―²―΄―Ä–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²–Η –Ω–Α―Ä–Α–¥–Α―Ö, –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Α βÄî ―¹ –≤–Η–Ϋ―²–Ψ–≤–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Α –Ω–Μ–Β―΅–Β. –ö–Α–Ε–¥―΄–Ι ―Ä–Α–Ζ –Ω–Β―Ä–Β–¥ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ –Ϋ–Α –î–≤–Ψ―Ä―Ü–Ψ–≤―É―é –Η–Μ–Η –ö―Ä–Α―¹–Ϋ―É―é –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Η –Ϋ–Α―à–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ ―²―â–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä―è–Μ–Η ―É –Ϋ–Α―¹ –Ω–Ψ–¥―¹―É–Φ–Κ–Η –Η –Ζ–Α–Μ–Β–Ζ–Α–Μ–Η –Ω–Α–Μ―¨―Ü–Α–Φ–Η –≤ –Ω–Α―²―Ä–Ψ–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η –≤–Η–Ϋ―²–Ψ–≤–Ψ–Κ, –¥–Α–±―΄ ―É–±–Β–¥–Η―²―¨―¹―è –≤ –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Η ―²–Α–Φ –Ω–Α―²―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–≤. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É, –Ϋ–Α –Φ–Ψ–Ι –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥, ―¹―²–Α–Μ–Ψ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Φ ―É–±–Η–Ι―¹―²–≤–Ψ –ê–Ϋ–≤–Α―Ä–Α –Γ–Α–¥–Α―²–Α –≤ –ï–≥–Η–Ω―²–Β –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω–Α―Ä–Α–¥–Α. –£–Η–¥–Η–Φ–Ψ, –Η ―²–Α–Φ ―¹–Ψ ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–±–Ψ–Ι –±―΄–Μ–Ψ ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ϋ–Ψ! –ü―Ä–Ψ―â–Α–Ι, –‰–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ–Β–Ζ–Η―è - –Ζ–¥―Ä–Α–≤―¹―²–≤―É–Ι, –†–Ψ–¥–Η–Ϋ–Α! –ù–Α―¹―²―É–Ω–Η–Μ –¥–Β–Κ–Α–±―Ä―¨. –ù–Α –Ω―Ä–Η―à–Β–¥―à–Η–Ι –≤ –Γ―É―Ä–Α–±–Α–Ι―é ―¹–Ω–Β―Ü―Ä–Β–Ι―¹–Ψ–Φ ―²–Β–Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ–¥ ¬Ϊ–£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ¬Μ –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ζ–Η–Μ–Η―¹―¨ –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹―΄, ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ―΄ –Η –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄ ―à–Β―¹―²–Η –±―΄–≤―à–Η―Ö ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ. –£ –‰–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ–Β–Ζ–Η–Η –Β―â–Β –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö ―΅–Α―¹―²–Β–Ι –Η ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ―΄ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥. –û–Ϋ–Η –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Η –¥–Ψ–≤–Β―¹―²–Η –Φ–Β―¹―²–Ϋ―΄–Β ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Η –¥–Ψ ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ―è –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α–¥–Α―΅ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η –Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Η–Φ–Η ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄―Ö ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄―Ö ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–± ―²–Ψ–Ε–Β ―É–±―΄―²―¨ –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι. –€―΄ ―¹ –£–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β–Ι –¦–Β–Ω–Β―à–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ –Ω―Ä–Ψ―â–Α–Β–Φ―¹―è ―¹ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ, ―¹ –Ψ―¹―²–Α―é―â–Η–Φ–Η―¹―è –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α–Φ–Η –Η ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ–Α–Φ–Η. –ù–Β–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Μ–Η―Ö–Ψ –Ζ–≤―É―΅–Α–≤―à–Α―è –Ω–Β―¹–Β–Ϋ–Κ–Α ¬Ϊ–€―΄ –Η–¥–Β–Φ –Ω–Ψ –Γ―É―Ä–Α–±–Α–Ι–Β¬Μ, –Ω–Β―Ä–Β–Η–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è ―¹ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–Ι ¬Ϊ–€―΄ –Η–¥–Β–Φ –Ω–Ψ –Θ―Ä―É–≥–≤–Α―é¬Μ, –Ζ–≤―É―΅–Η―² –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ―² ―Ä–Α–Ζ –≥―Ä―É―¹―²–Ϋ–Ψ. –£―¹–Β―Ö –Ϋ–Α―¹ –Ψ–Ε–Η–¥–Α―é―² –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η, –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η―è...
–ü―Ä–Ψ―â–Α–Ι ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Α―è ¬Ϊ–Γ-236¬Μ, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–≤―à–Α―è –≤ –‰–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ–Β–Ζ–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Β –Η–Φ―è ¬Ϊ–ë―Ä–Α–Φ–Α―¹―²―Ä–Α¬Μ! –ü―Ä–Ψ―â–Α–Ι ―²―Ä–Ψ–Ω–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Κ–Μ–Η–Φ–Α―², –≤–Ψ–Ϋ―¨ –Η –Μ–Η―Ö–Ψ―Ä–Α–¥–Κ–Α. –ù–Β―² –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –¥―Ä―É–Ε–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Β–Φ―¨–Η βÄî ¬Ϊ–Ω–Ψ―é―â–Β–≥–Ψ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α "–Γ-236"¬Μ...–Θ―Ö–Ψ–¥–Η–Φ, –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è―è, –Κ–Α–Κ –≤―¹–Β–≥–¥–Α, ―΅–Α―¹―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –¥―É―à–Η ―²–Α–Φ, –≥–¥–Β –±―΄–Μ–Ψ ―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Ε–Η―²–Ψ –Η –Ω–Β―Ä–Β–¥―É–Φ–Α–Ϋ–Ψ. –ü―Ä–Ψ―â–Α–Ι―²–Β –≥–Ψ―¹―²–Β–Ω―Ä–Η–Η–Φ–Ϋ―΄–Β –Η–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ–Β–Ζ–Η–Ι―Ü―΄!
–£–Ω–Β―Ä–Β–¥–Η βÄî –¥–Β―¹―è―²–Η―¹―É―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Β –≤ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β –Ω–Α―¹―¹–Α–Ε–Η―Ä–Ψ–≤ –Ω–Ψ ―à―²–Ψ―Ä–Φ–Ψ–≤―΄–Φ –Ζ–Η–Φ–Ϋ–Η–Φ –Φ–Ψ―Ä―è–Φ, –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α ―²–Α–Φ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ 1963 –≥–Ψ–¥–Α, –≤―΄―¹–Α–¥–Κ–Α –≤ –±–Β―¹―¹–Ϋ–Β–Ε–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä–Ψ–Ζ–Ϋ―΄–Ι –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ (–Α –Ϋ–Α –Ϋ–Α―¹ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Κ–Η―²–Α–Ι―¹–Κ–Η–Β –Ω–Μ–Α―â–Η ¬Ϊ–î―Ä―É–Ε–±–Α¬Μ –Η ―à–Μ―è–Ω―΄), –¥–≤―É―Ö–Ϋ–Β–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Η–¥–Β–Ϋ–Η–Β –≤ –Κ–Α―Ä–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Β –Η, –Ϋ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü, –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Β –≤ ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―É―é, –Α ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ ―΅―É–Ε―É―é –±–Α–Ζ―É –≤ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Β –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Α. –£–Ω―Ä–Ψ―΅–Β–Φ, –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥ –±―΄–Μ –≤–Β―¹―¨–Φ–Α –Ω–Ψ―É―΅–Η―²–Β–Μ–Β–Ϋ. –ù–Β–¥–Α―Ä–Ψ–Φ –≤ –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Φ –¥–Β–Μ–Β –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ζ–Α–Ω–Η―¹―¨ ¬Ϊ–‰–Φ–Β–Β―² –Ψ–Ω―΄―² –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι –≤ ―²―Ä–Ψ–Ω–Η–Κ–Α―Ö¬Μ.
–Δ―Ä–Ψ–Ω–Η–Κ–Η ―²―Ä–Ψ–Ω–Η–Κ–Α–Φ–Η, –Α –≥–Μ–Α–Ζ–Α –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η–Κ―É –Η –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ―é ―Ä–Ψ–Μ―¨ –Ω–Β―à–Β–Κ –≤ –Ϋ–Β–Ι –Ψ―²–Κ―Ä―΄–Μ–Η―¹―¨ ―É –Ϋ–Α―¹ –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Ψ. –î―É–Φ–Α―é, ―΅―²–Ψ –Ψ―â―É―â–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―É–Ϋ–Η–Ζ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Α–Μ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≤ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η―Ö –Φ–Β–Ε–≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Η–≥―Ä–Α―Ö –Ψ―¹―²–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―É –≤―¹–Β―Ö ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―ç―²–Ψ–Ι, ―¹–Μ–Α–≤–Α –±–Ψ–≥―É, –Ϋ–Β –Ϋ–Α―΅–Α–≤―à–Β–Ι―¹―è –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄. –Δ–ê–ö –û–ù–‰ –‰ –Δ–û–ù–Θ–Δ –£ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Η–Β –Ψ―² –≥–Β―Ä–Ψ―è ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ω–Β―¹–Ϋ–Η ¬Ϊ–½–Β–Φ–Μ―è–Ϋ–Κ–Α¬Μ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ―É –¥–Ψ ―¹–Φ–Β―Ä―²–Η –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ¬Ϊ ―΅–Β―²―΄―Ä–Β ―à–Α–≥–Α¬Μ, –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ –¥–Ψ ―¹–Φ–Β―Ä―²–Η –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ―¹―²–Α―é―²―¹―è ―¹―΅–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Φ–Β―²―Ä―΄ –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―΄...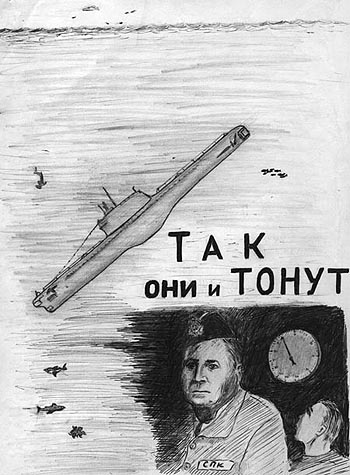 –€–Ϋ–Β –Ζ–Α ―¹–Β–Φ―¨–¥–Β―¹―è―². –™–Ψ–¥―΄ –Κ―Ä―É―²–Ψ –Κ–Α―²―è―²―¹―è ¬Ϊ–Ω–Ψ–¥ –≥–Ψ―Ä–Κ―É¬Μ. –£―Ä–Ψ–¥–Β –±―΄ ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Β–¥–Α–≤–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–¥–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Η―é ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–≥–Ψ –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η―è βÄî –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α, –Α –≤–Ψ―² ―É–Ε–Β –≤―¹–Β ―Ä–Β–Ε–Β –Η ―Ä–Β–Ε–Β –Ϋ–Α–¥–Β–≤–Α―é ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ―É―é ―²―É–Ε―É―Ä–Κ―É –¥–Α–Ε–Β –≤ ―¹–≤―è―²–Ψ–Ι –¥–Μ―è –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Α –¥–Β–Ϋ―¨ βÄî –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Β –≤–Ψ―¹–Κ―Ä–Β―¹–Β–Ϋ―¨–Β –Η―é–Μ―è. –€–Ϋ–Β –Ζ–Α ―¹–Β–Φ―¨–¥–Β―¹―è―². –™–Ψ–¥―΄ –Κ―Ä―É―²–Ψ –Κ–Α―²―è―²―¹―è ¬Ϊ–Ω–Ψ–¥ –≥–Ψ―Ä–Κ―É¬Μ. –£―Ä–Ψ–¥–Β –±―΄ ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Β–¥–Α–≤–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–¥–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Η―é ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–≥–Ψ –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η―è βÄî –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α, –Α –≤–Ψ―² ―É–Ε–Β –≤―¹–Β ―Ä–Β–Ε–Β –Η ―Ä–Β–Ε–Β –Ϋ–Α–¥–Β–≤–Α―é ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ―É―é ―²―É–Ε―É―Ä–Κ―É –¥–Α–Ε–Β –≤ ―¹–≤―è―²–Ψ–Ι –¥–Μ―è –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Α –¥–Β–Ϋ―¨ βÄî –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Β –≤–Ψ―¹–Κ―Ä–Β―¹–Β–Ϋ―¨–Β –Η―é–Μ―è.
–ù–Β―² –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –±–Β―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ–Ι, –Ϋ–Β–Μ―é–±–Η–Φ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄, –Ϋ–Β –Ψ―² –Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α―²―¨ –Η –Ϋ–Β–Κ–Ψ–Φ―É –¥–Α–≤–Α―²―¨ ¬Ϊ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―è¬Μ, –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ ―²–Β―΅–Β―² –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ, –Β―¹–Μ–Η ―²–Α–Κ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―¹―΅–Η―²–Α―²―¨ –≤ –Ϋ–Α―à–Β –±–Β―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β–¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ω–Μ–Ψ―²–Ϋ–Α―è –Ζ–Α–≤–Β―¹–Α, –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–Ϋ–Ψ –Ζ–Α―â–Η―â–Α–≤―à–Α―è –Ψ―² –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Ϋ–Η―Ö –≥–Μ–Α–Ζ ―²–Α–Κ―É―é ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ-–±–Ψ–Μ–Β–≤―É―é –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ―É, –Κ–Α–Κ –Α–≤–Α―Ä–Η–Ι–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β―² –Ω–Ψ―²–Η―Ö–Ψ–Ϋ―¨–Κ―É –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨―¹―è, –Ζ–Α―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ–¥–Β–Μ–Η―²―¨―¹―è ―¹–Ψ ―¹–Φ–Β–Ϋ–Η–≤―à–Η–Φ –Ϋ–Α―¹ –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ–Η –Φ―΄―¹–Μ―è–Φ–Η, –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η, –≤―΄–≤–Ψ–¥–Α–Φ–Η.
–ü–Ψ –Φ–Ψ–Β–Φ―É –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Ψ–Φ―É ―É–±–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―é, –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Α―è –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Α –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Ϋ―¹―²–≤–Α –Α–≤–Α―Ä–Η–Ι –Η –Α–≤–Α―Ä–Η–Ι–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―à–Β―¹―²–≤–Η–Ι, ―¹–Μ―É―΅–Α―é―â–Η―Ö―¹―è –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö βÄî –Ϋ–Η–Ζ–Κ–Α―è –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―è ―¹–Μ―É–Ε–±―΄, –Ω―Ä–Ψ―â–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è, ―Ö–Α–Μ–Α―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι ―΅–Μ–Β–Ϋ–Α–Φ–Η ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Ι. –ù–Η―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Β ―É–Φ–Α–Μ―è―é –Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Β ―΅–Η―¹―²–Ψ ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö, –Κ–Ψ–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―²–Η–≤–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹ –Ϋ–Β–¥–Ψ―Ä–Α–±–Ψ―²–Κ–Ψ–Ι –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―É–Ζ–Μ–Ψ–≤ –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ–Ψ–≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι, –Ψ–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ, –≤―¹–Β-―²–Α–Κ–Η –≤–Ϋ–Η–Φ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Η–Ζ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Α–≤–Α―Ä–Η–Ι–Ϋ―΄―Ö ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η–Ι, –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―¹–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ–Β–Φ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –±―΄―²―¨, –≤―΄–¥–Β–Μ―è–Β―² ―ç―²―É –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―É―é –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ―É –±–Β–¥ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι.
–•–Β–Μ–Α–Ϋ–Η–Β ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Ψ–± –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Η–Ζ ―ç–Ω–Η–Ζ–Ψ–¥–Ψ–≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄, –Α –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―² –Η –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η, ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―¹ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Η–±–Β–Μ―¨―é –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―É―¹–Η–Μ–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―Ä―è–¥–Α –Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Α―Ü–Η–Ι, –Ω―΄―²–Α―é―â–Η―Ö―¹―è –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η―²―¨ ―¹–≤–Β―² –Ϋ–Α ―²–Α–Ι–Ϋ―É –≥–Η–±–Β–Μ–Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ―²–Η–Ω–Ϋ–Ψ–Ι ―¹ ¬Ϊ–Φ–Ψ–Β–Ι¬Μ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ¬Ϊ–ö-129¬Μ.
–ë―É–¥―É ―Ä–Α–¥ –Β―¹–Μ–Η –Φ–Ψ–Ι ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ –Β―â–Β ―Ä–Α–Ζ –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–¥–Η―² ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ―é, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Β―¹–Μ–Η ―ç―²–Ψ―² ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ―¨ –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α―é―â–Η–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―É –Φ–Ψ―Ä―è–Κ, –Η―¹―²–Η–Ϋ―É –Ψ –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Β–Ι –≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –¥–Μ―è –±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ψ―²―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, ―¹–Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –¥–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è, ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ –≤―¹–Β–≥–Ψ ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ ―¹–Κ―Ä―΄–≤–Α–Β―²―¹―è –Ω–Ψ–¥ –Κ–Α–Ζ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Η–Β–Φ ¬Ϊ–Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―è ―¹–Μ―É–Ε–±―΄¬Μ. –ù–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ω―Ä–Ψ―¹―¨–±–Α –ü―Ä–Ψ–Φ–Ψ–Ζ–≥–Μ―΄–Φ –≤–Β―΅–Β―Ä–Ψ–Φ ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ―¹–Β–Ϋ–Η 1965 –≥–Ψ–¥–Α ―è, ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –¥–Η–Ζ–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ ―²–Ψ–≥–¥–Α―à–Ϋ–Β–Ι –Κ–Μ–Α―¹―¹–Η―³–Η–Κ–Α―Ü–Η–Η βÄî –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ¬Ϊ–ö-126¬Μ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α, ―à–Β–Μ –Ω–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Η–¥–Ψ―Ä―É –Ω–Μ–Α–≤–±–Α–Ζ―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ ¬Ϊ–ù–Β–≤–Α¬Μ, –Η–Φ–Β―è –Ω–Ψ–¥ –Φ―΄―à–Κ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Κ ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―é –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ ¬Ϊ–Γ―É―²–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι –Ω–Μ–Α–Ϋ ―Ä–Α–±–Ψ―² –Η –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η–Ι ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α¬Μ.
–¦–Ψ–¥–Κ–Α –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ –≤ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Ψ–≤–Ψ-–Ω―Ä–Β–¥―É–Ω―Ä–Β–¥–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Β –Η ―É ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Α ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ ―Ö–≤–Α―²–Α–Μ–Ψ, –Κ–Α–Κ –≤–Ω―Ä–Ψ―΅–Β–Φ, ―Ö–≤–Α―²–Α–Β―² –Β–Β ―É ―ç―²–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Β–Ι –Μ–Ψ―à–Α–¥–Κ–Η –Μ―é–±–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –≤―¹–Β–≥–¥–Α.
–ù–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–¥–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ –Φ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–≥–Α βÄî ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α ¬Ϊ―¹–Η―¹―²–Β―Ä ―à–Η–Ω¬Μ βÄî –Ψ–¥–Ϋ–Ψ―²–Η–Ω–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Ψ―¹–Β–¥–Ϋ–Β–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ¬Ϊ–ö-139¬Μ, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―è―â–Β–Ι―¹―è –≤ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Φ –¥–Β–Ε―É―Ä―¹―²–≤–Β, ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ―΅–Α―¹–Ψ–≤–Ψ–Ι –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Κ –≤―΄―Ö–Ψ–¥―É –≤ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ –Ω–Ψ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―²―Ä–Β–≤–Ψ–≥–Β.
–°―Ä–Α –¦–Α–Ζ–Α―Ä–Β–≤, ―²–Α–Κ –Ζ–≤–Α–Μ–Η –Φ–Ψ–Β–≥–Ψ –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–≥―É, ―è–≤–Μ―è–Μ ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –≤–Η–¥ –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Β ―É–¥―Ä―É―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Η ―Ä–Α―¹―²–Β―Ä―è–Ϋ–Ϋ―΄–Ι. –û–Ϋ ―²―É―² –Ε–Β –Ϋ–Α ―Ö–Ψ–¥―É, ―¹―²–Α–Μ –Ω―Ä–Ψ―¹–Η―²―¨ –Φ–Β–Ϋ―è –Ω–Ψ–¥–Φ–Β–Ϋ–Η―²―¨ –Β–≥–Ψ –≤ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Α –¥–Β–Ε―É―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –¥–Ϋ–Β–Ι –Ϋ–Α –¥–Β―¹―è―²―¨, –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –Β–Φ―É ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ ―¹–Μ–Β―²–Α―²―¨ –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι –≤ –ö―É–Ι–±―΄―à–Β–≤ –Η–Ζ-–Ζ–Α ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ–Ι –±–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Η –Ψ―²―Ü–Α. –†–Α–Ζ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Ψ, ―¹ –Φ–Ψ–Η–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Ψ–≤–Α–Ϋ –Η ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Ψ–Β ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η–Β. –Γ –°―Ä–Ψ–Ι –Φ―΄ –±―΄–Μ–Η –Ω―Ä–Η―è―²–Β–Μ―è–Φ–Η, –Η ―è, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η–Μ―¹―è, ―²–Β–Φ –±–Ψ–Μ–Β–Β, ―΅―²–Ψ ―²–Α–Κ–Α―è –Ω–Ψ–¥–Φ–Β–Ϋ–Α –Ϋ–Η―΅–Β–Φ, –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Ψ–±―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ―è–Μ–Α. –· –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―΄–Μ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤–Ψ –≤―¹―è–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Ψ–¥–Α –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Κ–Α―Ö –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –¥–Β–Ε―É―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è, –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥―è―â–Η―Ö―¹―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Η ―à―²–Α–±–Α–Φ–Η ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è, –Ψ–±―ä–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è, ―³–Μ–Ψ―²–Α –Η –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Φ ―à―²–Α–±–Ψ–Φ –£–€–Λ, –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α―è –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β. –€–Ϋ–Β –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Β –Ζ–Α–Ω―Ä–Β―â–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –≤ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Η–Β –Ψ―² –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ –¥–Β–Ε―É―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α ―É–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ―è―²―¨―¹―è –Ϋ–Β –±–Β―Ä–Β–≥, ―². –Β. ―É―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι. –€―΄ –Ω–Ψ–Ε–Α–Μ–Η –¥―Ä―É–≥ –¥―Ä―É–≥―É ―Ä―É–Κ–Η, ―¹―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Ϋ–Α –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥ –Κ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è, –Η ―è –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è ¬Ϊ–Β–¥–Η–Ϋ –≤ –¥–≤―É―Ö –Μ–Η―Ü–Α―Ö¬Μ.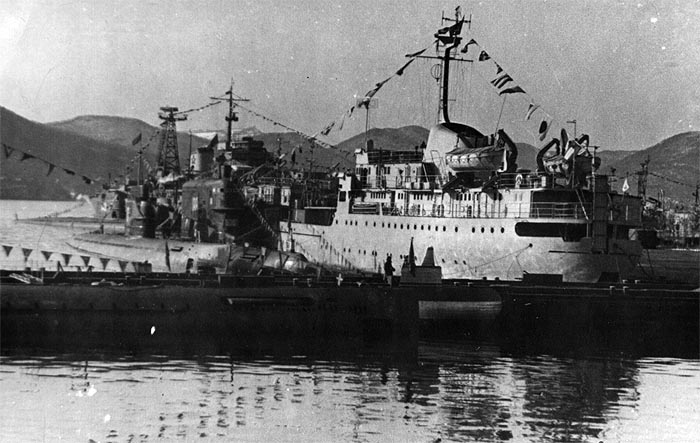
–ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ–Α. –ü–ë "–ù–Β–≤–Α" –Η –ü–¦ 629 –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Α.–ü―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Ϋ–Β–Ι. –ü–Ψ –Φ–Ψ–Η–Φ ―Ä–Α―¹―΅–Β―²–Α–Φ –°―Ä–Α –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―΄–Μ –≤–Ψ―²-–≤–Ψ―² –≤–Β―Ä–Ϋ―É―²―¨―¹―è, –Κ–Α–Κ –≤–¥―Ä―É–≥...
–ù–Η―΅―²–Ψ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–¥–≤–Β―â–Α–Μ–Ψ –Κ–Α–Κ–Η―Ö-–Μ–Η–±–Ψ ―²―Ä–Β–≤–Ψ–≥, –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Β –Ζ–Α–≤―΄–≤–Α–Μ –≤–Β―²–Β―Ä –Ζ–Α –Ψ–Κ–Ϋ–Α–Φ–Η, –Η, ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –±―΄―²―¨ –≤―΄–Ζ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –¥–Μ―è ¬Ϊ–Ψ―²―¹–Κ–Α–Κ–Η–≤–Α–Ϋ–Η―è¬Μ –Ψ―² –Ω–Η―Ä―¹–Α –Ϋ–Α ―Ä–Β–Ι–¥. –û―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –±―É―Ö―²―΄, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –±–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è, ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Ζ―΄–±―¨ –Ω―Ä–Η ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –≤–Β―²―Ä–Α―Ö –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι, –≤―΄–Ζ―΄–≤–Α―é―â–Α―è –Ψ–±―Ä―΄–≤―΄ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―à–≤–Α―Ä―²–Ψ–≤–Ψ–≤. –î–Ψ–Ω–Η–≤–Α―è ―²―Ä–Β―²–Η–Ι ―¹―²–Α–Κ–Α–Ϋ ―΅–Α―è –≤ –Κ―Ä―É–≥―É ―¹–Β–Φ―¨–Η, ―è ―¹ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ψ–Φ –¥–Ψ―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α–Μ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Β―²–Β–Κ―²–Η–≤ –Η–Ζ ―²–Β–Μ–Β―¹–Β―Ä–Η–Α–Μ–Α –Ψ ―¹―΄―â–Η–Κ–Α―Ö –Η –≤–Ψ―Ä–Α―Ö –Η, –Κ–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¹―è, –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ―¹―è –Ψ―²–Ψ–Ι―²–Η –Κ–Ψ ―¹–Ϋ―É. –£–¥―Ä―É–≥, –Κ–Α–Κ –≤ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–Φ ―¹ –¥–Β―²―¹―²–≤–Α ―¹―²–Η―Ö–Ψ―²–≤–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Η–Η, –Ζ–Α–Ζ–≤–Ψ–Ϋ–Η–Μ ―²–Β–Μ–Β―³–Ψ–Ϋ. –£ ―²―Ä―É–±–Κ–Β –Κ―²–Ψ-―²–Ψ, –Ψ―΅–Β–≤–Η–¥–Ϋ–Ψ –¥–Β–Ε―É―Ä–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é, –Ω―Ä–Ψ―Ö―Ä–Η–Ω–Β–Μ ¬Ϊ–Ω–Β―²―É―à–Η–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ¬Μ, –Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α―é―â–Β–Β ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι –≤―΄–Ζ–Ψ–≤ –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨. –ù–Α―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―â–Α–≤―à–Η―¹―¨ ―¹ –Ε–Β–Ϋ–Ψ–Ι, ―è ―É―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Η–Μ –Β–Β, –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–≤ –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Κ–Η –¥–Β–Ε―É―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –¥–Β–Μ–Ψ –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ–Β, –Η –Ω–Ψ–Ψ–±–Β―â–Α–≤, ―΅―²–Ψ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ω–Α―Ä―É ―΅–Α―¹–Ψ–≤ ―è –≤–Β―Ä–Ϋ―É―¹―¨. –ë–Β–≥–Ψ–Φ ―¹–Κ–Α―²–Η–Μ―¹―è ―¹ ―¹–Ψ–Ω–Κ–Η, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ―è–Μ –Φ–Ψ–Ι –¥–Ψ–Φ, –±–Β–≥–Ψ–Φ –≤–Ζ–±–Β–Ε–Α–Μ –Ω–Ψ ―²―Ä–Α–Ω―É –Ϋ–Α –Ω–Μ–Α–≤–±–Α–Ζ―É –Η –Ω―Ä–Η–≤―΄―΅–Ϋ–Ψ –Ω―Ä―΄–≥–Ϋ―É–Μ –≤ –≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Η–Ι ―Ä―É–±–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι –Μ―é–Κ –¥–Β–Ε―É―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η. –Γ―Ä–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι –≤―΄―Ö–Ψ–¥ 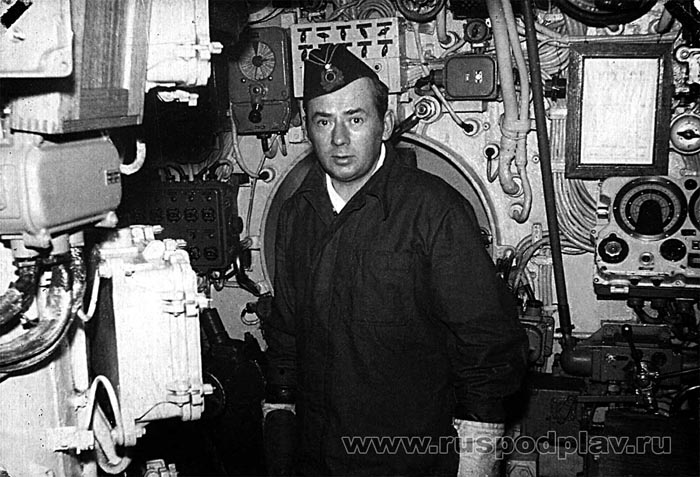
–£ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ―¹―²―É ―è―Ä–Κ–Ψ –≥–Ψ―Ä–Β–Μ ―¹–≤–Β―², –Ω―Ä–Η–≤―΄―΅–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Η–≥–Η–≤–Α–Μ–Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Μ–Α–Φ–Ω–Ψ―΅–Κ–Η –Ω―Ä–Η–±–Ψ―Ä–Ψ–≤, ―Ö–Μ–Ψ–Ω–Α–Μ–Η –Η –Μ―è–Ζ–≥–Α–Μ–Η –Ζ–Α–Φ–Κ–Α–Φ–Η –Ω–Β―Ä–Β–±–Ψ―Ä–Ψ―΅–Ϋ―΄–Β –¥–≤–Β―Ä–Η –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Η ―΅–Β―²–≤–Β―Ä―²–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Ψ–≤, ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ ―¹–≤–Ψ–Η –Φ–Β―¹―²–Α –Ϋ–Α –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Ω–Ψ―¹―²–Α―Ö. –£ –Ϋ–Η–Ε–Ϋ–Β–Φ ―Ä―É–±–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Φ –Μ―é–Κ–Β –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Ω–Ψ―è–≤–Μ―è–Μ–Η―¹―¨ ―΅–Β―Ä–Ϋ―΄–Β –±―Ä―é–Κ–Η –Η –±–Ψ―²–Η–Ϋ–Κ–Η βÄî ―ç―²–Ψ ―¹–Ω–Β―à–Η–Μ–Η –Ζ–Α–Ϋ―è―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Η –Φ–Β―¹―²–Α –Ω–Ψ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Φ―É ―Ä–Α―¹–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η―é –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄ –Η –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ―΄. –û–Ϋ–Η –Μ–Ψ–≤–Κ–Ψ, –Ω–Ψ―΅―²–Η –Ϋ–Β –Κ–Α―¹–Α―è―¹―¨ –Ω–Β―Ä–Β–Κ–Μ–Α–¥–Η–Ϋ ―²―Ä–Α–Ω–Α, ―¹–Κ–Α―²―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤–Ϋ–Η–Ζ –Η –Η―¹―΅–Β–Ζ–Α–Μ–Η –≤ –Ω–Β―Ä–Β–±–Ψ―Ä–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö –¥–≤–Β―Ä―è―Ö. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ë–ß-5 - –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ, ―É―¹―²―Ä–Ψ–Η–≤―à–Η―¹―¨ –≤ ―É–≥–Μ―É –Ψ―²―¹–Β–Κ–Α, –Κ–Ψ–Μ–¥–Ψ–≤–Α–Μ –Ϋ–Α–¥ ―Ä–Α―¹―΅–Β―²–Ψ–Φ –¥–Η―³―³–Β―Ä–Β–Ϋ―²–Ψ–≤–Κ–Η, –¥–Β–Ε―É―Ä–Ϋ―΄–Ι –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä –Ω–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―é –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΄ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Ψ–≤ –Ψ –Ϋ–Α–Μ–Η―΅–Η–Η –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α βÄî –Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ–Α –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Α―è –Ω―Ä–Η –Ψ–±―ä―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―²―Ä–Β–≤–Ψ–≥–Η.
–ü―Ä–Η–Ϋ―è–≤ –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥ –¥–Β–Ε―É―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ψ―²―¹–Β–Κ–Ψ–≤ –Κ –±–Ψ―é, ―è –Ζ–Α–Ϋ―è–Μ –Φ–Β―¹―²–Ψ ―É –Ω–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É―¹―²―Ä–Ψ–Ι―¹―²–≤–Α –Η –Ω–Ψ–¥–Α–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É: ¬Ϊ–ü–Ψ –Φ–Β―¹―²–Α–Φ ―¹―²–Ψ―è―²―¨, –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―É―é –Μ–Ψ–¥–Κ―É ―ç–Κ―¹―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Κ –±–Ψ―é –Η –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥―É –Ω―Ä–Η–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²―¨!¬Μ ¬Ϊ–û―²―¹―²–Α–≤–Η―²―¨!¬ΜβÄî –≤–¥―Ä―É–≥ ―É―¹–Μ―΄―à–Α–Μ ―è –Ζ–Α ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―¹–Ω–Η–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 2 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –Γ–Β–Φ–Β–Ϋ–Α –Ξ–Ψ–Μ―΅–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ. –û–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è, –Ψ–Ϋ –Φ–Η–Ϋ―É―²―É –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥ ―¹–Ω―É―¹―²–Η–Μ―¹―è –≤ –Μ–Ψ–¥–Κ―É, –Α ―è, –Κ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É ―¹―²―΄–¥―É, –≤ ―¹―É–Φ–Α―²–Ψ―Ö–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η–Μ. ¬Ϊ–ù–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Ι –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Η–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β,βÄî –¥–Ψ–±–Α–≤–Η–Μ –Ψ–Ϋ, βÄî –Ϋ–Β ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ω–Η―¹―¨, –¥–Α–Ι ―²―â–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨ –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ―΄. –ü―É―¹―²―¨ –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ –Κ–Α–Κ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―¹–Κ―Ä―É–Ω―É–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Β–Β ―Ä–Α―¹―¹―΅–Η―²–Α–Β―² –Ϋ–Α–≥―Ä―É–Ζ–Κ―É –Η –¥–Η―³―³–Β―Ä–Β–Ϋ―²–Ψ–≤–Κ―É¬Μ.
–ü―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Β―Ä–Β–Η–≥―Ä–Α―²―¨ –Ω―Ä–Β–¥―΄–¥―É―â―É―é –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É –Η –Ϋ–Α―΅–Α―²―¨ –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Η–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ―Ö–Φ―É―Ä–Ψ –Ψ–≥–Μ―è–¥–Β–Μ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ―¹―², ―΅―²–Ψ-―²–Ψ ―¹–Β―Ä–¥–Η―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–±―É―Ä―΅–Α–Μ ―¹–Β–±–Β –Ω–Ψ–¥ –Ϋ–Ψ―¹, ―à–Α–≥–Ϋ―É–Μ –≤–Ψ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ψ―²―¹–Β–Κ –Η, –Κ–Α–Κ –Φ–Ϋ–Β –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, ―¹–Μ–Η―à–Κ–Ψ–Φ –≥―Ä–Ψ–Φ–Κ–Ψ –Ζ–Α–¥―Ä–Α–Η–Μ –Ζ–Α ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –Ω–Β―Ä–Β–±–Ψ―Ä–Ψ―΅–Ϋ―É―é –¥–≤–Β―Ä―¨. –ü–Ψ―¹–Μ―΄―à–Α–Μ―¹―è ―²―Ä–Β―¹–Κ ―¹ ―¹–Η–Μ–Ψ–Ι –Ψ―²–Ψ–¥–≤–Η–≥–Α–Β–Φ–Ψ–Ι –¥–≤–Β―Ä–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Α―é―²―΄. –ù–Η―΅–Β–≥–Ψ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–≥–Ψ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–¥–≤–Β―â–Α–Μ–Ψ. –ü―Ä–Η–≤―΄–Κ–Ϋ―É–≤, –Ψ–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ, –Ζ–Α –≥–Ψ–¥―΄ ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Ϋ–Η―΅–Β–Φ―É –Ϋ–Β ―É–¥–Η–≤–Μ―è―²―¨―¹―è, –Ω–Ψ –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Β–Ι –Φ–Β―Ä–Β, –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―²―¨ –≤–Η–¥–Α, ―è –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²―¨ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨.
–ß–Β―Ä–Β–Ζ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –±―΄–Μ–Α –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Α –Κ –≤―΄―Ö–Ψ–¥―É –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β. –·, –±―΄–Μ–Ψ, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¹―è –≤–Ψ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ψ―²―¹–Β–Κ ―¹ –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É, –Ϋ–Ψ –Ψ–Ϋ ―¹–Α–Φ –≤–Ψ―à–Β–Μ –≤ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ―¹―² ―¹ ―²–Β–Φ –Ε–Β ―Ö–Φ―É―Ä–Ψ-–Ψ–Ζ–Α–±–Ψ―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Μ–Η―Ü–Ψ–Φ, –Ψ–¥–Β―²―΄–Ι –Ω–Ψ-–Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ―É βÄî –≤ –Κ–Α–Ϋ–Α–¥–Κ―É, ―¹–Α–Ω–Ψ–≥–Η –Η –Ω–Η–Μ–Ψ―²–Κ―É. –ö–Η–≤–Κ–Ψ–Φ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―΄ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―¹–Η–Μ –Φ–Β–Ϋ―è ―¹ ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –Ϋ–Α–≤–Β―Ä―Ö.–ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―²
28.02.201400:1828.02.2014 00:18:55
0
27.02.201400:3627.02.2014 00:36:02
–Γ –î–ï–£–ß–û–ù–ö–û–ô –î–†–Θ–•–‰–Δ–§? –· –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ –Β–Β ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Ϋ–Β–Ι –≤ –ö–Α–¥―Ä–Η–Ψ―Ä–≥–Β. –ü–Α―Ä–Κ –±―΄–Μ –≤–Β―¹―¨ –Ε–Β–Μ―²―΄–Ι βÄî –Ω–Ψ–≤―¹―é–¥―É –Μ–Β–Ε–Α–Μ–Η ―É–Ω–Α–≤―à–Η–Β –Μ–Η―¹―²―¨―è, –Η ―¹–Κ–≤–Ψ–Ζ―¨ –Ω–Ψ―Ä–Β–¥–Β–≤―à―É―é –Μ–Η―¹―²–≤―É –±―΄–Μ–Ψ –≤–Η–¥–Ϋ–Ψ –Ζ–Β–Μ–Β–Ϋ–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä–Β. –€―΄ ―¹–Ω―É―¹―²–Η–Μ–Η ―¹–Ψ–±–Α–Κ ―¹ –Ω–Ψ–≤–Ψ–¥–Κ–Ψ–≤, –Η –Ψ–Ϋ–Η –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Ψ―¹–Η―²―¨―¹―è –Ω–Ψ –Ω–Α―Ä–Κ―É.
–ù–Α –¥–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Κ–Β –Μ–Β–Ε–Α–Μ ―¹–Μ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –±―É―Ä–Β–Ι –¥―É–±; –≤–Β―²–≤–Η –Κ―²–Ψ-―²–Ψ ―É―¹–Ω–Β–Μ –Ω–Ψ–Ψ–±―Ä–Β–Ζ–Α―²―¨.
–ö–Α―Ä–Η–Ϋ–Α, ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Ψ ―Ä–Α―¹―¹―²–Α–≤–Η–≤ ―Ä―É–Κ–Η, –Ω―Ä–Ψ–±–Β–Ε–Α–Μ–Α –Ω–Ψ ―²–Ψ–Μ―¹―²–Ψ–Φ―É ―¹―²–≤–Ψ–Μ―É. –¦–Α―Ä―¹–Β–Ϋ, ―²–Η―Ö–Ψ–Ϋ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ–≤–Η–Ζ–≥–Η–≤–Α―è, –Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―à–Β–Μ –Ζ–Α ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι–Κ–Ψ–Ι.
βÄî –‰–Ϋ–≥―Ä–Η–¥, –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥!
–‰–Ϋ–≥―Ä–Η–¥ –≤―¹–Κ–Ψ―΅–Η–Μ–Α –Ϋ–Α –¥–Β―Ä–Β–≤–Ψ, ―è βÄî –Ζ–Α –Ϋ–Β–Ι. –î–Β―Ä–Β–≤–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Ζ–Κ–Ψ–Β, –Ϋ–Ψ ―è ―Ä–Η―¹–Κ–Ϋ―É–Μ. –Γ–Ψ―Ä–≤―É―¹―¨ βÄî ―²–Ψ-―²–Ψ –Ω–Ψ―¹–Φ–Β–Β―²―¹―è –ö–Α―Ä–Η–Ϋ–Α! –ù–Β ―¹–Ψ―Ä–≤–Α–Μ―¹―è... –ê –Ψ–± –‰–Ϋ–≥―Ä–Η–¥ –Η –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨ –Ϋ–Β―΅–Β–≥–Ψ.
βÄî –ê ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ϋ–Α–Ω–Β―Ä–Β–≥–Ψ–Ϋ–Κ–Η! βÄî –Ζ–Α–Κ―Ä–Η―΅–Α–Μ–Α –ö–Α―Ä–Η–Ϋ–Α. βÄî –£–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β! –Γ―²–Α―Ä―²! –Δ―΄ –≥–Ψ―²–Ψ–≤, –€–Α–Κ―¹–Η–Φ? –î–Ψ ¬Ϊ–†―É―¹–Α–Μ–Κ–Η¬Μ. –†–Α–Ζ, –¥–≤–Α, ―²―Ä–Η!
–ü–Ψ–¥ –Ϋ–Ψ–≥–Α–Φ–Η ―à―É―Ä―à–Α–Μ–Η –Ε–Β–Μ―²―΄–Β –Μ–Η―¹―²―¨―è. –ö–Α―Ä–Η–Ϋ–Α –Ϋ–Β―¹–Μ–Α―¹―¨ ―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ –≤–Β―²–Β―Ä, –Α –Ζ–Α –Ϋ–Β–Ι, –≤―΄―¹―É–Ϋ―É–≤ ―è–Ζ―΄–Κ–Η, –±–Β–Ε–Α–Μ–Η ―¹–Ψ–±–Α–Κ–Η; –Ψ–Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–≤–Α―è –Ω―Ä–Η–±–Β–Ε–Α–Μ–Α –Κ –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ―É ¬Ϊ–†―É―¹–Α–Μ–Κ–Β¬Μ: –Ϋ–Α –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―²–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Κ–Α–Μ–Β ―¹―²–Ψ–Η―² –Α–Ϋ–≥–Β–Μ, ―É–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―è –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β.
–ù–Η –¥―É―à–Η –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –≤–Ψ–Ζ–Μ–Β –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ–Α ―É―²–Ψ–Ϋ―É–≤―à–Β–Φ―É . –€―΄ ―¹―²–Α–Μ–Η ―Ä–Α―¹―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α―²―¨ –¥–Ψ―¹–Κ–Η ―¹ –Η–Φ–Β–Ϋ–Α–Φ–Η –Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Η―Ö –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤ –Η –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤. βÄî –û–Ϋ–Η ―É―à–Μ–Η –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β,βÄî ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α –ö–Α―Ä–Η–Ϋ–Α,βÄî –Η –Ϋ–Α–¥–Β―è–Μ–Η―¹―¨, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Ε–Η–≤―É―² –Β―â–Β –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ-–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ–Β―²... –£–Ψ―² ―²–Α–Κ –≤―¹–Β–≥–¥–Α βÄî –¥―É–Φ–Α–Β―à―¨, ―΅―²–Ψ –Β―â–Β –Ω―Ä–Ψ–Ε–Η–≤–Β―à―¨ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ–Β―², –Α –Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –¥–Β–Μ–Β... –Θ –Ϋ–Α―¹ –≤ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Β –£–Β―Ä–Α –ë–Β―Ä–≥–Φ–Α–Ϋ ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Α ―¹―²–Α―²―¨ –Α―Ä―Ö–Η―²–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ. –ö–Α–Κ–Η–Β –¥–Ψ–Φ–Α ―Ä–Η―¹–Ψ–≤–Α–Μ–Α! –ê –Μ–Β―²–Ψ–Φ –Ψ–Ϋ–Α ―É―²–Ψ–Ϋ―É–Μ–Α –≤ –ü–Η―Ä–Η―²–Β. βÄî –û–Ϋ–Η ―É―à–Μ–Η –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β,βÄî ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α –ö–Α―Ä–Η–Ϋ–Α,βÄî –Η –Ϋ–Α–¥–Β―è–Μ–Η―¹―¨, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Ε–Η–≤―É―² –Β―â–Β –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ-–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ–Β―²... –£–Ψ―² ―²–Α–Κ –≤―¹–Β–≥–¥–Α βÄî –¥―É–Φ–Α–Β―à―¨, ―΅―²–Ψ –Β―â–Β –Ω―Ä–Ψ–Ε–Η–≤–Β―à―¨ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ–Β―², –Α –Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –¥–Β–Μ–Β... –Θ –Ϋ–Α―¹ –≤ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Β –£–Β―Ä–Α –ë–Β―Ä–≥–Φ–Α–Ϋ ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Α ―¹―²–Α―²―¨ –Α―Ä―Ö–Η―²–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ. –ö–Α–Κ–Η–Β –¥–Ψ–Φ–Α ―Ä–Η―¹–Ψ–≤–Α–Μ–Α! –ê –Μ–Β―²–Ψ–Φ –Ψ–Ϋ–Α ―É―²–Ψ–Ϋ―É–Μ–Α –≤ –ü–Η―Ä–Η―²–Β.
βÄî –ê ―²―΄... –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ–¥―É–Φ–Α–Μ–Α ―²―΄ –±―΄―²―¨ ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Ψ–Φ?
βÄî –ù–Β―²! –£–Β–¥―¨ ―è –Μ―é–±–Μ―é –Φ–Ψ―Ä–Β –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β, ―΅–Β–Φ –Ω–Α–Ω–Α... –Η ―²―΄! βÄî –Ω–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ–Α –Ψ–Ϋ–Α –Φ–Ϋ–Β –≤ –≥–Μ–Α–Ζ–Α.
–€―΄ –±–Ψ–Μ―²–Α–Μ–Η –Ψ ―²–Ψ–Φ –Η –Ψ ―¹–Β–Φ. –· –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―é, ―΅―²–Ψ ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―΅–Η―²–Α―é. –ü―Ä–Ψ―΅–Β–Μ –≤―¹–Β –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Β ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄ –Η –Ω–Ψ–≤–Β―¹―²–Η –Γ―²–Α–Ϋ―é–Κ–Ψ–≤–Η―΅–Α, ―É–Ζ–Ϋ–Α–Μ, –Κ–Α–Κ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –Ω–Α―Ä―É―¹–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è―Ö –Φ–Ψ–Η –Ω―Ä–Α–Ω―Ä–Α–Ω―Ä–Α–¥–Β–¥―΄. –ü―Ä–Ψ―΅–Η―²–Α–Μ ¬Ϊ–Π―É―¹–Η–Φ―É¬Μ –Η ¬Ϊ–ü–Ψ―Ä―²-–ê―Ä―²―É―Ä¬Μ βÄî –Ψ ―²–Ψ–Φ, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Α–Ω―Ä–Α–¥–Β–¥―΄ –≤–Ψ–Β–≤–Α–Μ–Η.
βÄî –Θ –Ϋ–Α―¹ –Β―¹―²―¨ –¥–Β–≤–Ψ―΅–Κ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ϋ–Β –Μ―é–±―è―² ―΅–Η―²–Α―²―¨. –û–Ϋ–Η –Ϋ–Β ―΅–Η―²–Α―é―², –Α –Ζ―É–±―Ä―è―². –î–Α–Ε–Β ¬Ϊ–û–Ϋ–Β–≥–Η–Ϋ–Α¬Μ –≤―΄–Ζ―É–±―Ä–Η–≤–Α―é―², ―΅―²–Ψ–±―΄, ―΅–Β–≥–Ψ –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–≥–Ψ, –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―²―¨ ―²―Ä–Ψ–Ι–Κ―É. –ü–Ψ–Μ―É―΅–Α―é―² –Ω―è―²–Β―Ä–Κ―É, –Α ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η –Η―Ö: ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ε–Η ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η ―¹–Μ–Ψ–≤–Α–Φ–ΗβÄî –Ϋ–Η–Ω–Ψ―΅–Β–Φ –Ϋ–Β ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ε―É―². –ê –Κ–Α–Κ–Α―è –Ω―Ä–Β–Μ–Β―¹―²―¨ βÄî –û–Ϋ–Β–≥–Η–Ϋ, –¦–Β–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι, –Δ–Α―²―¨―è–Ϋ–Α... –ê ―²―΄ –Φ―É–Ζ―΄–Κ―É –Μ―é–±–Η―à―¨?
βÄî –û―΅–Β–Ϋ―¨. –· ―¹–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β―Ä―²―΄ ―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –Ϋ–Β –Μ―é–±–Η–Μ, –¥―É–Φ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥―É –Ω–Ψ–Ϋ―è―²―¨ –Φ―É–Ζ―΄–Κ―É; –Ϋ–Ψ –Ψ―²–Β―Ü ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Φ―É–Ζ―΄–Κ―É –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨, –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨. –‰ –≤–Ψ―² –Ψ–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ –≤ –Ζ–Α–Μ–Β ¬Ϊ–≠―¹―²–Ψ–Ϋ–Η―è¬Μ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ–Η ¬Ϊ–ë―É―Ä―é¬Μ –ß–Α–Ι–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ. –· –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Κ―É―΅–Α–Μ, –Η –≤–¥―Ä―É–≥ –≤–Ψ –Φ–Ϋ–Β ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ–Ψ―¹―¨ βÄî ―è ―É―¹–Μ―΄―à–Α–Μ, –Κ–Α–Κ –Φ–Ψ―Ä–Β ―à―É–Φ–Η―², –Ϋ―É ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ, –Κ–Α–Κ ―É –Ϋ–Α―¹, –≤ –ö–Η–≤–Η―Ä–Α–Ϋ–¥–Β. –ü–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―²―¹―è ―à―²–Ψ―Ä–Φ. –ö–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –±–Ψ―Ä–Β―²―¹―è ―¹ –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –≤–Ψ–Μ–Ϋ. –€―É―Ä–Α―à–Κ–Η –Ζ–Α–±–Β–≥–Α–Μ–Η –Ω–Ψ ―¹–Ω–Η–Ϋ–Β... –ù–Ψ –≤–Ψ―² –±―É―Ä―è ―¹―²–Η―Ö–Μ–Α. –ü–Ψ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è ―¹–Ψ–Μ–Ϋ―Ü–Β. –€–Ψ―Ä–Β –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Β ―¹–Β―Ä–Ψ–Β. –û–Ϋ–Ψ –Ε–Β–Μ―²–Ψ-―Ä–Ψ–Ζ–Ψ–≤–Ψ–Β, –Η –≤ –Ϋ–Β–Φ –Ψ―²―Ä–Α–Ε–Α–Β―²―¹―è –Μ–Β―¹. –€–Ϋ–Β –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, ―è –Κ―É–¥–Α-―²–Ψ –Μ–Β―΅―É, –Μ–Β―΅―É... –ù–Ψ ―²―É―² –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α –Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ–Α―¹―¨. –· ―É–≤–Η–¥–Β–Μ –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α–Ϋ―²–Ψ–≤ –≤–Ψ ―³―Ä–Α–Κ–Α―Ö –Η –¥–Η―Ä–Η–Ε–Β―Ä–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η ―Ü–≤–Β―²―΄. –û―²–Β―Ü ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ –Ϋ–Α –Φ–Β–Ϋ―è ―É–Μ―΄–±–Α―è―¹―¨.
βÄî –Δ―΄ –Ζ–Ϋ–Α–Β―à―¨, ―è –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι ―Ä–Α–Ζ –Ζ–Α–Κ―Ä―΄–≤–Α―é –≥–Μ–Α–Ζ–Α –Η ―²–Ψ–Ε–Β ―¹–Β–±–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è―é.
–ö–Α–Κ –Ϋ–Β–Ω–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Α –Ϋ–Α –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –¥–Β–≤―΅–Ψ–Ϋ–Ψ–Κ –ö–Α―Ä–Η–Ϋ–Α! –Γ –Ϋ–Β–Ι –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ–Ψ –Η –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ. –ö–Α–Κ –±―É–¥―²–Ψ ―¹ ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Β–Φ. –û–Ϋ–Α –Ϋ–Β –Ψ―Ö–Ψ―Ä–Α―à–Η–≤–Α–Β―²―¹―è, –Κ–Α–Κ –¥―Ä―É–≥–Η–Β –¥–Β–≤―΅–Ψ–Ϋ–Κ–Η. –‰ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Β―² –Ω―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ―É. –Θ –Ϋ–Β–Β βÄî –Κ–Ψ―¹―΄. –Γ–Β–Ι―΅–Α―¹ –Η―Ö ―²–Α–Κ ―Ä–Β–¥–Κ–Ψ ―É–≤–Η–¥–Η―à―¨!
–‰ ―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ –≤ –Ψ―²–≤–Β―² –Ϋ–Α –Φ–Ψ–Η –Φ―΄―¹–Μ–Η –ö–Α―Ä–Η–Ϋ–Α ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α: βÄî –Θ –Ϋ–Α―¹ –Β―¹―²―¨ , –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Η –Μ―é–±―è―², ―΅―²–Ψ ―²–Α–Ϋ―Ü―΄ –Η –Μ–Β–≥–Κ―É―é –Φ―É–Ζ―΄–Κ―É, –Η ―Ö–Ψ―²―è―² –Ω―Ä–Η―΅–Β―¹―΄–≤–Α―²―¨―¹―è, –Κ–Α–Κ –≤–Ζ―Ä–Ψ―¹–Μ―΄–Β. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η–Κ –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Η―²―¹―è ―¹ –Ϋ–Η–Φ–Η –Ϋ–Α ―É–Μ–Η―Ü–Β, –Ψ–Ϋ–Η ―¹ ―É–Φ–Α ―¹―Ö–Ψ–¥―è―² –Ψ―² ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Η. –û–Ϋ–Η –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é―² ―ç―²–Ψ: –Ψ–Ϋ –Ζ–Α –Φ–Ϋ–Ψ–Ι ―É―Ö–Α–Ε–Η–≤–Α–Β―²... –£ –≤–Α―à–Β–Ι ―à–Κ–Ψ–Μ–Β –Β―¹―²―¨ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –®–Η–Μ–Μ–Β―Ä –≠–Μ–Η–≥–Η–Ι. –· ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Μ―é―¹―¨ –Ϋ–Α ―É–Μ–Η―Ü–Α―Ö. –û–Ϋ –Ϋ–Α―à–Η–Φ –¥–Β–≤–Ψ―΅–Κ–Α–Φ –Ϋ―Ä–Α–≤–Η―²―¹―è, –Α –Φ–Ϋ–Β –Ϋ–Β―². –û–Ϋ–Η –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é―² ¬Ϊ–Κ―Ä–Α―¹–Α–≤―΅–Η–Κ–Ψ–Φ¬Μ. –Δ―΄ –≤–Ψ―², –€–Α–Κ―¹–Η–Φ, –Ϋ–Β–Κ―Ä–Α―¹–Η–≤―΄–Ι... βÄî –û–Ϋ–Α –Ζ–Α–Ω–Ϋ―É–Μ–Α―¹―¨. βÄî –Θ –Ϋ–Α―¹ –Β―¹―²―¨ , –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Η –Μ―é–±―è―², ―΅―²–Ψ ―²–Α–Ϋ―Ü―΄ –Η –Μ–Β–≥–Κ―É―é –Φ―É–Ζ―΄–Κ―É, –Η ―Ö–Ψ―²―è―² –Ω―Ä–Η―΅–Β―¹―΄–≤–Α―²―¨―¹―è, –Κ–Α–Κ –≤–Ζ―Ä–Ψ―¹–Μ―΄–Β. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η–Κ –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Η―²―¹―è ―¹ –Ϋ–Η–Φ–Η –Ϋ–Α ―É–Μ–Η―Ü–Β, –Ψ–Ϋ–Η ―¹ ―É–Φ–Α ―¹―Ö–Ψ–¥―è―² –Ψ―² ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Η. –û–Ϋ–Η –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é―² ―ç―²–Ψ: –Ψ–Ϋ –Ζ–Α –Φ–Ϋ–Ψ–Ι ―É―Ö–Α–Ε–Η–≤–Α–Β―²... –£ –≤–Α―à–Β–Ι ―à–Κ–Ψ–Μ–Β –Β―¹―²―¨ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –®–Η–Μ–Μ–Β―Ä –≠–Μ–Η–≥–Η–Ι. –· ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Μ―é―¹―¨ –Ϋ–Α ―É–Μ–Η―Ü–Α―Ö. –û–Ϋ –Ϋ–Α―à–Η–Φ –¥–Β–≤–Ψ―΅–Κ–Α–Φ –Ϋ―Ä–Α–≤–Η―²―¹―è, –Α –Φ–Ϋ–Β –Ϋ–Β―². –û–Ϋ–Η –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é―² ¬Ϊ–Κ―Ä–Α―¹–Α–≤―΅–Η–Κ–Ψ–Φ¬Μ. –Δ―΄ –≤–Ψ―², –€–Α–Κ―¹–Η–Φ, –Ϋ–Β–Κ―Ä–Α―¹–Η–≤―΄–Ι... βÄî –û–Ϋ–Α –Ζ–Α–Ω–Ϋ―É–Μ–Α―¹―¨.
βÄî –£–Α–Μ―è–Ι, –≤–Α–Μ―è–Ι... βÄî –· –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±–Η–¥–Β–Μ―¹―è.
βÄî –ê ―¹ ―²–Ψ–±–Ψ―é ―è ―¹―²–Α–Ϋ―É –¥―Ä―É–Ε–Η―²―¨.
βÄî –Γ–Ω–Α―¹–Η–±–Ψ...βÄî –û–±–Η–¥–Α –Β―â–Β –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Α.
βÄî –Δ―΄ ―΅―²–Ψ –Ε–Β, –Ψ–±–Η–¥–Β–Μ―¹―è?
βÄî –ù–Β―². βÄî –ü–Ψ–Ε–Α–Μ―É–Ι, –Ψ–±–Η–Ε–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Β ―¹―²–Ψ–Η–Μ–Ψ.
βÄî –Θ –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η–Κ–Ψ–≤ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Α –Ζ–Α–±–Η―²–Α ―³―É―²–±–Ψ–Μ–Ψ–Φ. –ù–Η―΅–Β–Φ –Ϋ–Β –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹―É―é―²―¹―è βÄî –Ϋ–Η –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Ψ–Ι, –Ϋ–Η ―²–Β–Α―²―Ä–Ψ–Φ, –Ϋ–Η –Κ–Ϋ–Η–≥–Α–Φ–Η. –£–Β―¹―¨ ―É–Φ ―É―à–Β–Μ –≤ –Ϋ–Ψ–≥–Η.
βÄî –ë―΄–≤–Α–Β―²...
–ù–Β –≤―¹–Β –Φ―΄, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ε–Η–≤–Β–Φ –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ ―³―É―²–±–Ψ–Μ–Ψ–Φ, –Ϋ–Ψ –Β―¹―²―¨ ―¹―Ä–Β–¥–Η –Ϋ–Α―¹ –Η ―²–Α–Κ–Η–Β, ―É –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―É–Φ ―É―à–Β–Μ –≤ –Ϋ–Ψ–≥–Η. –€–Β―²–Κ–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α!
–Γ–Ψ–±–Α–Κ–Η –≤–Β―¹–Β–Μ–Ψ –Ω–Μ–Β―¹–Κ–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β. –£―΄–±–Β–≥–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥, –Ψ―²―Ä―è―Ö–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨, ―¹–±―Ä–Α―¹―΄–≤–Α–Μ–Η –≤–Ψ–¥―É –Ϋ–Α–Φ –Ϋ–Α –Ϋ–Ψ–≥–Η –Η ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –±–Β–Ε–Α–Μ–Η –Κ―É–Ω–Α―²―¨―¹―è. –û–Ϋ–Η –Ω–Ψ–¥―Ä―É–Ε–Η–Μ–Η―¹―¨. –€―΄, –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è, ―²–Ψ–Ε–Β.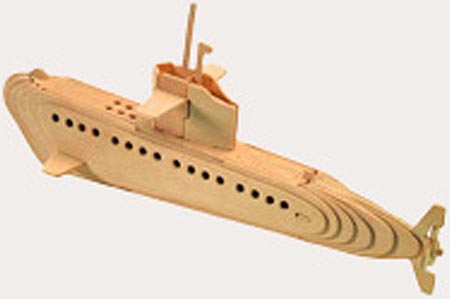 –£–Ψ –≤―¹―è–Κ–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β, –Φ―É―à–Κ–Β―²–Β―Ä―΄ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ–Η –ö–Α―Ä–Η–Ϋ―É –≤ –Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η―é. –Ξ–Ψ–¥–Η–Μ–Η –≤–Φ–Β―¹―²–Β –≤ –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Μ―É–± –î–û–Γ–ê–ê–Λ–Α, –≥–¥–Β ―è ―É–≤–Η–¥–Β–Μ –Φ–Ψ–¥–Β–Μ―¨ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, –≤―΄―²–Ψ―΅–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Η–Ζ , –Ω–Ψ–¥ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ψ: ¬Ϊ–†–Α–±–Ψ―²–Α ―΅–Μ–Β–Ϋ–Α –Κ–Μ―É–±–Α –ö–Α―Ä–Η–Ϋ―΄ –ö–Α―Ä–Α–Φ―΄―à–Β–≤–Ψ–Ι¬Μ (–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α–Μ –±―΄, ―΅―²–Ψ –¥–Β–≤―΅–Ψ–Ϋ–Κ–Α –Φ–Ψ–Ε–Β―² ―¹–Ψ–Ψ―Ä―É–¥–Η―²―¨ –Φ–Ψ–¥–Β–Μ―¨ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è); –≤ –€―É–Ζ–Β–Ι –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Η, –≤ –î–Ψ–Φ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ –Ϋ–Α –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Η ―¹ –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ–Α–Φ–Η ―³–Μ–Ψ―²–Α, ―¹ –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―è–Φ–Η. –ö–Α―Ä–Α–Φ―΄―à–Β–≤ –≤―¹–Β –Ϋ–Β –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α–Μ―¹―è. –î–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –Ε–Β –Ψ–Ϋ ―É–Ω–Μ―΄–Μ –Ω–Ψ–¥ –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι! –£–Ψ –≤―¹―è–Κ–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β, –Φ―É―à–Κ–Β―²–Β―Ä―΄ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ–Η –ö–Α―Ä–Η–Ϋ―É –≤ –Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η―é. –Ξ–Ψ–¥–Η–Μ–Η –≤–Φ–Β―¹―²–Β –≤ –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Μ―É–± –î–û–Γ–ê–ê–Λ–Α, –≥–¥–Β ―è ―É–≤–Η–¥–Β–Μ –Φ–Ψ–¥–Β–Μ―¨ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, –≤―΄―²–Ψ―΅–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Η–Ζ , –Ω–Ψ–¥ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ψ: ¬Ϊ–†–Α–±–Ψ―²–Α ―΅–Μ–Β–Ϋ–Α –Κ–Μ―É–±–Α –ö–Α―Ä–Η–Ϋ―΄ –ö–Α―Ä–Α–Φ―΄―à–Β–≤–Ψ–Ι¬Μ (–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α–Μ –±―΄, ―΅―²–Ψ –¥–Β–≤―΅–Ψ–Ϋ–Κ–Α –Φ–Ψ–Ε–Β―² ―¹–Ψ–Ψ―Ä―É–¥–Η―²―¨ –Φ–Ψ–¥–Β–Μ―¨ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è); –≤ –€―É–Ζ–Β–Ι –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Η, –≤ –î–Ψ–Φ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ –Ϋ–Α –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Η ―¹ –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ–Α–Φ–Η ―³–Μ–Ψ―²–Α, ―¹ –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―è–Φ–Η. –ö–Α―Ä–Α–Φ―΄―à–Β–≤ –≤―¹–Β –Ϋ–Β –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α–Μ―¹―è. –î–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –Ε–Β –Ψ–Ϋ ―É–Ω–Μ―΄–Μ –Ω–Ψ–¥ –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι!
–ù–Η–Κ―²–Ψ –Ϋ–Β –Ψ―¹―É–Ε–¥–Α–Μ –Φ–Ψ―é –¥―Ä―É–Ε–±―É ―¹ –ö–Α―Ä–Η–Ϋ–Ψ–Ι. –û–¥–Ϋ–Α ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―²–Β―²–Κ–Α –ù–Α―²–Α–Μ―¨―è ―¹ –Ϋ–Β–¥–Ψ–±―Ä–Ψ–Ι ―É―¹–Φ–Β―à–Β―΅–Κ–Ψ–Ι ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α –Ψ―²―Ü―É, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ψ–Ϋ ¬Ϊ–Ω―Ä–Η―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ―¹―è¬Μ. –û―²–Β―Ü –≤―¹–Ω―΄–Μ–Η–Μ:
βÄî –Δ―΄ ―΅―²–Ψ, –≤ ―΅–Η―¹―²―É―é –¥―Ä―É–Ε–±―É –Ϋ–Β –≤–Β―Ä–Η―à―¨?
βÄî –ù―É, –Κ–Α–Κ –Ζ–Ϋ–Α–Β―²–Β,βÄî –¥–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Α ―²–Β―²–Κ–Α –Ω–Μ–Β―΅–Ψ–Φ –Η ―¹―²–Α–Μ–Α –Ϋ–Α–Κ―Ä–Α―à–Η–≤–Α―²―¨ ―³–Η–Ψ–Μ–Β―²–Ψ–≤―΄–Φ –Κ–Α―Ä–Α–Ϋ–¥–Α―à–Η–Κ–Ψ–Φ –≥―É–±―΄. –û―²–Β―Ü –Ω–Ψ―à―É―²–Η–Μ:
βÄî –· –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α―é, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Η―Ä―É―é―² ―¹―²–Α―Ä―΄–Ι ―³–Α―¹–Α–¥, –Ψ–Ϋ ―²―Ä–Β–±―É–Β―² –Κ―Ä–Α―¹–Κ–Η. –ù–Ψ ―²―΄-―²–Ψ –Β―â–Β –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Α. –Δ–Β―²–Κ–Α ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ–Ψ –Ψ–±–Η–¥–Β–Μ–Α―¹―¨.***–û–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ ―è, –Ω―Ä–Η–¥―è –≤ –Κ–Μ–Α―¹―¹, ―É–≤–Η–¥–Β–Μ –Ϋ–Α –¥–Ψ―¹–Κ–Β –Η–¥–Η–Ψ―²―¹–Κ―É―é –Ϋ–Α–¥–Ω–Η―¹―¨: ¬Ϊ–€–Α–Κ―¹–Η–Φ + –ö–Α―Ä–Η–Ϋ–Α¬Μ. –ö―²–Ψ –¥–Ψ–¥―É–Φ–Α–Μ―¹―è –¥–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ―¹―²–Η?
–ü–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ–Α―è―¹―¨ –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―à–Κ–Ψ–Μ―΄, ―è ―É–≤–Η–¥–Β–Μ –Ϋ–Α ―¹―²–Β–Ϋ–Β: ¬Ϊ–€–Α–Κ―¹–Η–Φ + –ö–Α―Ä–Η–Ϋ–Α = –Μ―é–±–Ψ–≤―¨¬Μ.
–· ―¹ ―è―Ä–Ψ―¹―²―¨―é ―¹―²–Β―Ä –≥–Μ―É–Ω―É―é –Ϋ–Α–¥–Ω–Η―¹―¨. –ü–Ψ–Ι–Φ–Α―²―¨ –±―΄ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Η–¥–Η–Ψ―²–Α! –ù–Α –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –Ψ–Ϋ–Α –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α. –Γ―²–Β―Ä –Ψ–Ω―è―²―¨ βÄî ―Ä―É–Κ–Α–≤–Ψ–Φ. –€–Ψ–Ι ―¹–≤–Η―²–Β―Ä –Ψ―² ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―΅–Η―â–Β –Ϋ–Β ―¹―²–Α–Μ. –€–Α–Φ–Α ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Α:
βÄî –™–¥–Β ―²―΄ –Η–Ζ–Φ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è?
–· –Ω―Ä–Ψ–Φ–Ψ–Μ―΅–Α–Μ.
–ù–Ψ ―è –≤―¹–Β –Ε–Β ―É–Ζ–Ϋ–Α–Μ, –Κ―²–Ψ –Ω–Η―à–Β―² –Ϋ–Α ―¹―²–Β–Ϋ–Β –Ω–Α–Κ–Ψ―¹―²–Η.
–≠―Ö, –Β―¹–Μ–Η –±―΄ ―è –±―΄–Μ ―¹–Α–Φ–±–Η―¹―²–Ψ–Φ! –· –≤–Η–¥–Β–Μ, –Κ–Α–Κ –û―Ä–Β―¹―² –Γ–Β―Ä–Β–±―Ä―è–Ϋ―â–Η–Κ–Ψ–≤ –Ζ–Α–Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Κ–Η–¥―΄–≤–Α–Β―² ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ω–Μ–Β―΅–Ψ ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²―Ü–Α, –Α –Ψ―²–Β―Ü ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ βÄî –Ψ-–≥–Ψ-–≥–Ψ! βÄî ―É–≤–Β―¹–Η―¹―². –€–Ψ―Ä―è–Κ –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―΄―²―¨ –±–Β–Ζ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ . –‰–¥–Β―à―¨ –Ω–Ψ ―É–Μ–Η―Ü–Β, –≤–Η–¥–Η―à―¨ βÄî –Ω―Ä–Η―¹―²–Α―é―² ―Ö―É–Μ–Η–≥–Α–Ϋ―΄ –Κ –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Β –Η–Μ–Η –¥–Β–≤―΅–Ψ–Ϋ–Κ–Β, –Ω–Ψ–¥–Ψ―à–Β–Μ: ―Ä―Ä–Α–Ζ βÄî ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ω–Μ–Β―΅–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, ―Ä―Ä–Α–Ζ βÄî –¥―Ä―É–≥–Ψ–≥–Ψ! –ü–Β―Ä–Β–Κ–Η–¥–Α–Μ –Η –Ω–Ψ―à–Β–Μ ―¹–Β–±–Β –¥–Α–Μ―¨―à–Β. –ë―É–¥―¨ ―è ―¹–Α–Φ–±–Η―¹―²–Ψ–Φ, ―è –±―΄ –Ω–Β―Ä–Β–Κ–Η–Ϋ―É–Μ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ω–Μ–Β―΅–Ψ –≠–Μ–Η–≥–Η―è –®–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Α. –‰ ―è –Ω–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Μ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β ―Ö–Ψ–Ε―É –Ϋ–Α –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η―è ―¹–Α–Φ–±–Ψ. ¬Ϊ–ö―Ä–Α―¹–Α–≤―΅–Η–Κ¬Μ –≤―΄―à–Β –Η, –Ω–Ψ–Ε–Α–Μ―É–Ι, –≤–¥–≤–Ψ–Β ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Β–Β –Φ–Β–Ϋ―è. –½–‰–€–ù–‰–ï –ö–ê–ù–‰–ö–Θ–¦–Ϊ –û―²–Β―Ü –ö–Α―Ä–Η–Ϋ―΄ –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ―¹―è, –Α –≥–¥–Β –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ βÄî –Ϋ–Β ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―². –Γ–Φ–Β–Β―²―¹―è. –€–Ψ―Ä―è–Κ –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―΄―²―¨ –±–Β–Ζ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ . –‰–¥–Β―à―¨ –Ω–Ψ ―É–Μ–Η―Ü–Β, –≤–Η–¥–Η―à―¨ βÄî –Ω―Ä–Η―¹―²–Α―é―² ―Ö―É–Μ–Η–≥–Α–Ϋ―΄ –Κ –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Β –Η–Μ–Η –¥–Β–≤―΅–Ψ–Ϋ–Κ–Β, –Ω–Ψ–¥–Ψ―à–Β–Μ: ―Ä―Ä–Α–Ζ βÄî ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ω–Μ–Β―΅–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, ―Ä―Ä–Α–Ζ βÄî –¥―Ä―É–≥–Ψ–≥–Ψ! –ü–Β―Ä–Β–Κ–Η–¥–Α–Μ –Η –Ω–Ψ―à–Β–Μ ―¹–Β–±–Β –¥–Α–Μ―¨―à–Β. –ë―É–¥―¨ ―è ―¹–Α–Φ–±–Η―¹―²–Ψ–Φ, ―è –±―΄ –Ω–Β―Ä–Β–Κ–Η–Ϋ―É–Μ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ω–Μ–Β―΅–Ψ –≠–Μ–Η–≥–Η―è –®–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Α. –‰ ―è –Ω–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Μ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β ―Ö–Ψ–Ε―É –Ϋ–Α –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η―è ―¹–Α–Φ–±–Ψ. ¬Ϊ–ö―Ä–Α―¹–Α–≤―΅–Η–Κ¬Μ –≤―΄―à–Β –Η, –Ω–Ψ–Ε–Α–Μ―É–Ι, –≤–¥–≤–Ψ–Β ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Β–Β –Φ–Β–Ϋ―è. –½–‰–€–ù–‰–ï –ö–ê–ù–‰–ö–Θ–¦–Ϊ –û―²–Β―Ü –ö–Α―Ä–Η–Ϋ―΄ –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ―¹―è, –Α –≥–¥–Β –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ βÄî –Ϋ–Β ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―². –Γ–Φ–Β–Β―²―¹―è.
βÄî –£ –≥–Ψ―¹―²–Η ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –Κ –ù–Β–Ω―²―É–Ϋ―É!.. –ü–Ψ–Κ–Α –Ϋ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è,βÄî ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ψ–Ϋ –Φ–Ϋ–Β, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―è –Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –Β–≥–Ψ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Ψ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Β.
–û―Ö, –Κ–Α–Κ ―è –Ϋ–Α –Ϋ–Β–≥–Ψ ―Ä–Α―¹―¹–Β―Ä–¥–Η–Μ―¹―è! –‰ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―² ―Ä–Α―¹–Κ―Ä―΄―²―¨ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―É―é ―²–Α–Ι–Ϋ―É, –Η –≤―¹–Β –Ε–Β –Ζ–Μ–Η–Μ―¹―è. –ù–Ψ –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–Ψ–±–Β―â–Α–Μ –Κ–Ψ–≥–¥–Α-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Ψ–±–Ψ –≤―¹–Β–Φ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨.
βÄî –ö–Ϋ–Η–Ε–Κ―É –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α―²―¨ –Ω–Ψ―΅–Η―â–Β –•―é–Μ―è –£–Β―Ä–Ϋ–Α. –ü–Ψ–Φ–Ϋ–Η―à―¨ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α –ù–Β–Φ–Ψ, –€–Α–Κ―¹–Η–Φ? –û―²―¹―²–Α–Μ –±–Β–Ζ–Ϋ–Α–¥–Β–Ε–Ϋ–Ψ ―²–Ψ―² –ù–Β–Φ–Ψ. –· –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―Ä–Α–¥, ―΅―²–Ψ ―²―΄ –Ω–Ψ–¥―Ä―É–Ε–Η–Μ―¹―è ―¹ –ö–Α―Ä–Η–Ϋ–Ψ–Ι. –Γ ―²–Ψ–±–Ψ–Ι –Ϋ–Β ―²–Α–Κ ―¹–Κ―É―΅–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Β–Ι –±–Β–Ζ –Φ–Β–Ϋ―è...
–€–Α―²―¨ –ö–Α―Ä–Η–Ϋ―΄ ―É–Φ–Β―Ä–Μ–Α –¥–≤–Α –≥–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥, –Β―â–Β ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Α―è.
–½–Α–Μ–Η–≤ –Ζ–Α–Φ–Β―Ä–Ζ, –Ζ–Α–Φ–Β―Ä–Ζ –Η –Ω―Ä―É–¥ –≤ –ö–Α–¥―Ä–Η–Ψ―Ä–≥–Β; –Μ–Β–±–Β–¥–Β–Ι –Ω–Β―Ä–Β―¹–Β–Μ–Η–Μ–Η –Ϋ–Α –Ζ–Η–Φ–Ϋ–Η–Β –Κ–≤–Α―Ä―²–Η―Ä―΄. –ü–Α―Ä–Κ –≤–Β―¹―¨ –≤ ―¹–Ϋ–Β–≥―É, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ–¥–Ϋ–Η―Ö –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Κ–Α―Ö. –Γ–Ψ–±–Α–Κ–Η –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è―é―² –≥–Ψ–Μ―É–±―΄–Β ―¹–Μ–Β–¥―΄. –€―΄ ―¹ –ö–Α―Ä–Η–Ϋ–Ψ–Ι –Η–¥–Β–Φ –Ϋ–Α –Κ–Α―²–Ψ–Κ. –‰–Ζ –Ω–Α―¹―²–Η ―É –¦–Α―Ä―¹–Β–Ϋ–Α –≤–Α–Μ–Η―² –Ω–Α―Ä. –û–Ϋ –Η –‰–Ϋ–≥―Ä–Η–¥ –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―è―é―² –Ϋ–Α―à–Η –Ω–Α–Μ―¨―²–Ψ –Η –±–Ψ―²–Η–Ϋ–Κ–Η. –ö–Α―Ä–Η–Ϋ–Α –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―² –Ϋ–Α ―¹–Κ–Α–Φ–Β–Ι–Κ–Β ―¹–≤–Ψ–Ι –Κ–Ψ―à–Β–Μ–Β―΅–Β–Κ.
βÄî –î–Α, ―²―΄ –Ζ–Ϋ–Α–Β―à―¨, ―΅―²–Ψ ―É –Ϋ–Α―¹ –≤ ―à–Κ–Ψ–Μ–Β ―¹–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨? βÄî –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² –Ψ–Ϋ–Α.βÄî –û–¥–Η–Ϋ –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η–Κ ―¹―²–Α―â–Η–Μ ―É –¦―é–±―΄ –ù–Α–Ζ–Α―Ä―΅―É–Κ –Κ–Ψ―à–Β–Μ–Β–Κ –Η –Ϋ–Α–Κ―É–Ω–Η–Μ ―¹–Β–±–Β ―¹–Η–≥–Α―Ä–Β―², –Μ–Η–Φ–Ψ–Ϋ–Α–¥–Α –Η ―à–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Α–¥–Ψ–Κ. –ö–Α–Κ–Ψ–Β ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ ¬Ϊ–≤–Ψ―Ä¬Μ!
βÄî –ê ―΅―²–Ψ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ–Η ―¹ ―ç―²–Η–Φ –≤–Ψ―Ä–Η―à–Κ–Ψ–Ι?
βÄî –ï–≥–Ψ –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Η–Μ–Η –Η–Ζ ―à–Κ–Ψ–Μ―΄. –ü―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α –Κ –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Ψ―Ä―É –Β–≥–Ψ –Φ–Α–Φ–Α. –û–Ϋ–Α ―É–Ε–Α―¹–Ϋ–Ψ –Ω–Μ–Α–Κ–Α–Μ–Α... –ù―É, –Η–¥–Β–Φ, –€–Α–Κ―¹–Η–Φ! –Γ–Μ―΄―à–Η―à―¨ βÄî –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α?
–‰ –Φ―΄, –≤–Ζ―è–≤―à–Η―¹―¨ –Ζ–Α ―Ä―É–Κ–Η, ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Ζ–Η–Φ –Ω–Ψ –Μ―¨–¥―É. –Θ–¥–Η–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ: ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Ζ–Η―à―¨ –Ω–Ψ –Μ―¨–¥―É, –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥ ―¹―²–Ψ―è―² –≤–Β–Μ–Η–Κ–Α–Ϋ―΄-–¥–Β―Ä–Β–≤―¨―è, –Ψ―²―Ä―è―Ö–Η–≤–Α―é―²―¹―è βÄî –Η –Μ–Β―²–Η―² –Ϋ–Α ―²–Β–±―è –Ω―É―à–Η―¹―²―΄–Ι ! –ù–Α –ö–Α―Ä–Η–Ϋ–Β –±–Β–Μ–Α―è –Ω―É―Ö–Ψ–≤–Α―è ―à–Α–Ω–Ψ―΅–Κ–Α ―¹ –Ω–Ψ–Φ–Ω–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ, –Ψ–Ϋ–Α –Β–Ι –Η–¥–Β―². –¦–Η―Ü–Ψ ―É –Ϋ–Β–Β ―Ä–Α―¹–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Β–Μ–Ψ―¹―¨; ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―Ä―É–Φ―è–Ϋ–Β―Ü –Η –Ϋ–Β ―¹–Ϋ–Η–Μ―¹―è ―²–Β―²–Κ–Β –ù–Α―²–Α–Μ―¨–Β. –ù–Ψ –Ϋ–Α–Φ –Ω–Ψ―Ä–Α ―É–Ε–Β –≤–Ψ –î–≤–Ψ―Ä–Β―Ü –Ω–Η–Ψ–Ϋ–Β―Ä–Ψ–≤. –Γ–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è ―É –Ϋ–Α―¹ ―Ä–Β–Ω–Β―²–Η―Ü–Η―è. –ù–Α –ö–Α―Ä–Η–Ϋ–Β –±–Β–Μ–Α―è –Ω―É―Ö–Ψ–≤–Α―è ―à–Α–Ω–Ψ―΅–Κ–Α ―¹ –Ω–Ψ–Φ–Ω–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ, –Ψ–Ϋ–Α –Β–Ι –Η–¥–Β―². –¦–Η―Ü–Ψ ―É –Ϋ–Β–Β ―Ä–Α―¹–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Β–Μ–Ψ―¹―¨; ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―Ä―É–Φ―è–Ϋ–Β―Ü –Η –Ϋ–Β ―¹–Ϋ–Η–Μ―¹―è ―²–Β―²–Κ–Β –ù–Α―²–Α–Μ―¨–Β. –ù–Ψ –Ϋ–Α–Φ –Ω–Ψ―Ä–Α ―É–Ε–Β –≤–Ψ –î–≤–Ψ―Ä–Β―Ü –Ω–Η–Ψ–Ϋ–Β―Ä–Ψ–≤. –Γ–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è ―É –Ϋ–Α―¹ ―Ä–Β–Ω–Β―²–Η―Ü–Η―è.
–£–Α–¥–Η–Φ, –û–Μ–Β–Ε–Κ–Α –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β ¬Ϊ–Α―Ä―²–Η―¹―²―΄¬Μ –Ϋ–Α―¹ –Ε–¥―É―². –€―΄ ―¹–Α–¥–Η–Φ―¹―è –Ζ–Α –Ω―¨–Β―¹―É, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Φ –Κ –Κ–Α–Ϋ–Η–Κ―É–Μ–Α–Φ. –û–Ϋ–Α –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è ¬Ϊ–†―΄―Ü–Α―Ä–Η –Φ–Ψ―Ä―è¬Μ. –≠―²–Ψ –Ω―¨–Β―¹–Α –Ψ –Μ―é–¥―è―Ö, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ψ―²–¥–Α–Μ–Η –Φ–Ψ―Ä―é –≤―¹―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨. –û–Μ–Β–Ε–Κ–Α –Η–≥―Ä–Α–Β―² –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ ―²–Ψ–Μ―¹―²―΄–Ι. –ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ –Η–≥―Ä–Α―²―¨ ―¹―²–Α―Ä–Η–Κ–Α, –Η –Ψ–Ϋ –Ω―΄–Ε–Η―²―¹―è, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Κ–Α–Ζ–Α―²―¨―¹―è –Ω–Ψ–Ε–Η–Μ―΄–Φ –Η ―¹–Ψ–Μ–Η–¥–Ϋ―΄–Φ. –ö–Α―Ä–Η–Ϋ–Α –Η–≥―Ä–Α–Β―² –Β–≥–Ψ –≤–Ϋ―É―΅–Κ―É βÄî ¬Ϊ–Ω–Ψ–¥―Ä–Ψ―¹―²–Κ–Α¬Μ, –Κ–Α–Κ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ψ –≤ –Ω―¨–Β―¹–Β. –ù―É, –Α ―è βÄî –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α. –ù–Α–¥–Β–≤–Α―é –Κ–Η―²–Β–Μ―¨ –Ψ―²―Ü–Α –Η ―΅―É–≤―¹―²–≤―É―é ―¹–Β–±―è –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–Φ. –£–Α–¥–Η–Φ –Η–≥―Ä–Α–Β―² ―¹―²–Α―Ä–Ψ–≥–Ψ –±–Ψ―Ü–Φ–Α–Ϋ–Α. –£ –Ω―¨–Β―¹–Β –Ψ―²―¹―²–Α–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ ―¹―²–Α―Ä―΄–Φ –±–Ψ―Ü–Φ–Α–Ϋ–Ψ–Φ –Ε–Η–≤–Β―² –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Β –Ϋ–Α –Ψ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ–Β –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α. –ù–Α―΅–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Α, –≥–Η―²–Μ–Β―Ä–Ψ–≤―Ü―΄ –Ω–Ψ–¥–Ψ―à–Μ–Η –Κ ―ç―¹―²–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ―É –¥―Ä–Β–≤–Ϋ–Β–Φ―É –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―É, –Η –Ω–Ψ–¥―Ä–Ψ―¹―²–Ψ–Κ βÄî –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―¨―¹–Κ–Α―è –≤–Ϋ―É―΅–Κ–Α βÄî –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―² –≤ ―¹–Α–¥―É ―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α. –û–Ϋ–Η ―¹–Κ―Ä―΄–≤–Α―é―² –Β–≥–Ψ. –™–Η―²–Μ–Β―Ä–Ψ–≤―Ü―΄ –≤―Ä―΄–≤–Α―é―²―¹―è –≤ –¥–Ψ–Φ–Η–Κ. –ü―΄―²–Α―é―² –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –Η –±–Ψ―Ü–Φ–Α–Ϋ–Α. –ö–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² ―¹–Ω―Ä―è―²–Α–Ϋ –Ϋ–Α ―΅–Β―Ä–¥–Α–Κ–Β, –Η –≤–Ϋ―É―΅–Κ–Α –±–Ψ–Η―²―¹―è, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Ζ–Α―¹―²–Ψ–Ϋ–Β―² –Η –≥–Η―²–Μ–Β―Ä–Ψ–≤―Ü―΄ ―¹―Ö–≤–Α―²―è―² –Β–≥–Ψ. –û–Ϋ–Α –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Α–≥–Α–Β―² –≥–Η―²–Μ–Β―Ä–Ψ–≤―Ü–Α–Φ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―¹―²–Η –Η―Ö –Κ―Ä–Α―²―΅–Α–Ι―à–Β–Ι –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ–Ι –≤ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α. –ù―É, –Η ―²―É―² –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä―è–Β―²―¹―è –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―è –‰–≤–Α–Ϋ–Α –Γ―É―¹–Α–Ϋ–Η–Ϋ–Α. –≠―²–Η –≥–Α–¥―΄ –Η–Ζ–¥–Β–≤–Α―é―²―¹―è –Ϋ–Α–¥ –Ϋ–Β–Ι. –ï–Β –≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ―é―é –Φ–Η–Ϋ―É―²―É ―¹–Ω–Α―¹–Α―é―² –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹―΄. –ö–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –Κ–Ψ–≥–¥–Α-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Ι –Ε–Β–Ϋ–Η―²―¹―è. –ù–Ψ –Ψ–Ϋ ―É―Ö–Ψ–¥–Η―² ―¹ –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Α–Φ–Η, –Η –Ζ―Ä–Η―²–Β–Μ―¨ –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –≥–Α–¥–Α―²―¨: –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Β―²―¹―è –Μ–Η –Ψ–Ϋ –Ε–Η–≤, –Η–Μ–Η –Ϋ–Β―² –Η ―É–≤–Η–¥–Η―² –Μ–Η ―¹–≤–Ψ―é ―¹–Ω–Α―¹–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Η―Ü―É?
–£―¹―è –±–Β–¥–Α –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Ϋ–Β ―Ö–Ψ―΅–Β―² ―É –Ϋ–Α―¹ –Η–≥―Ä–Α―²―¨ –Ω–Ψ–¥–Μ―΄―Ö –≥–Η―²–Μ–Β―Ä–Ψ–≤―Ü–Β–≤. –£―¹–Β ―Ö–Ψ―²―è―² –±―΄―²―¨ ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Φ–Η. –ù–Ψ –Κ–Ψ–Φ―É-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Ϋ–Α–¥–Ψ –Ε–Β –Η–≥―Ä–Α―²―¨ –Η –Φ–Β―Ä–Ζ–Κ–Η–Β ―Ä–Ψ–Μ–Η!
–· –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ ―¹―΄–≥―Ä–Α―²―¨ ―³–Α―à–Η―¹―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α –≠–Μ–Η–≥–Η―é –®–Η–Μ–Μ–Β―Ä―É, –Ϋ–Ψ –Ψ–Ϋ ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ–Ψ –Ψ–±–Η–¥–Β–Μ―¹―è –Η –Ψ–±–Ψ–Ζ–≤–Α–Μ –Φ–Β–Ϋ―è ―²–Α–Κ, ―΅―²–Ψ –Η –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α―²―¨ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ; ―²–Ψ–≥–¥–Α –Φ―΄ –Ϋ–Α―à–Μ–Η –≤ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Β –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ–Β–Ι. –û–Ϋ–Η ―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ–Η –Ζ–≤–Β―Ä―¹–Κ–Η–Β –Μ–Η―Ü–Α –Η ―¹―²―É―΅–Α–Μ–Η –¥–Β―Ä–Β–≤―è–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Α–≤―²–Ψ–Φ–Α―²–Α–Φ–Η –Ψ–± –Ω–Ψ–Μ. –ê –≠–Μ–Η–≥–Η–Ι –≥–Ψ―Ä–¥–Ψ ―É―à–Β–Μ, –Ψ―²–Κ–Α–Ζ–Α–≤―à–Η―¹―¨ ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η. .–· ―²–Α–Κ –≤–Ψ―à–Β–Μ –≤ ―¹–≤–Ψ―é ―Ä–Ψ–Μ―¨, ―΅―²–Ψ –Φ–Ϋ–Β ―¹―²–Α–Μ–Ψ –Κ–Α–Ζ–Α―²―¨―¹―è, ―΅―²–Ψ ―É –Φ–Β–Ϋ―è –±–Ψ–Μ―è―² ―Ä–Α–Ϋ―΄. –£–Ψ―² ―΅―²–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―² –≤–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β! .–· ―²–Α–Κ –≤–Ψ―à–Β–Μ –≤ ―¹–≤–Ψ―é ―Ä–Ψ–Μ―¨, ―΅―²–Ψ –Φ–Ϋ–Β ―¹―²–Α–Μ–Ψ –Κ–Α–Ζ–Α―²―¨―¹―è, ―΅―²–Ψ ―É –Φ–Β–Ϋ―è –±–Ψ–Μ―è―² ―Ä–Α–Ϋ―΄. –£–Ψ―² ―΅―²–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―² –≤–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β!
–£–Β―΅–Β―Ä–Ψ–Φ –Κ –Ϋ–Α–Φ –Ϋ–Α –¦–Β–Φ–±–Η―²―É –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―² ―²–Β―²–Κ–Α –ù–Α―²–Α–Μ―¨―è ―¹ –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ –≠–¥–Β–Φ–Ψ–Φ –€–Β―Ä–Μ―É―à–Κ–Η–Ϋ―΄–Φ. –û–Ϋ ―¹–Α–Φ–Ψ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω–Α―Ä–Β–Ϋ―¨ –≤ –Φ–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Ψ―΅–Κ–Α―Ö. –ï–≥–Ψ ―¹―²–Α–Μ–Η –¥–Α–Ε–Β –Ω–Β―΅–Α―²–Α―²―¨ –≤ –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –≥–Α–Ζ–Β―²–Β, –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–≤–Α–Μ–Η –Ω–Ψ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ. –û―²–Β―Ü –Ζ–Α–Ω–Β―Ä―¹―è. –û–Ϋ –≤―¹–Β –≤–Β―΅–Β―Ä–Α –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²―¹―è ¬Ϊ–Ζ–Α―â–Η―²–Η―²―¨ –¥–Η―¹―¹–Β―Ä―²–Α―Ü–Η―é¬Μ.
βÄî –î–Α–≤–Α–Ι ―¹–Ψ―Ä–Β–≤–Ϋ–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è, ―¹―΄–Ϋ–Ψ–Κ. –û–±–Α –±―É–¥–Β–Φ ―¹–¥–Α–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Α –Ω―è―²–Β―Ä–Κ–Η!
–î–Α, –Ζ–Α–≤–Ψ–Β–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Β ―è –Φ–Ψ–≥―É ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω―è―²–Β―Ä–Κ–Α–Φ–Η.
–ö–Ψ–≥–¥–Α –Ψ―²–Β―Ü –Ω–Ψ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Ϋ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü –Η–Ζ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Κ–Α–±–Η–Ϋ–Β―²–Α, ―²–Β―²–Κ–Α –Ω―Ä–Ψ―¹–Η―², ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Ψ―ç―² –Ω―Ä–Ψ―΅–Η―²–Α–Μ –Ϋ–Α–Φ ―¹―²–Η―Ö–Η. –≠–¥–Β–Φ–Α –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ ―É–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α―²―¨. –û–Ϋ ―΅–Η―²–Α–Β―² –Ϋ–Α–Ω―΄―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, ―¹ –Ζ–Α–≤―΄–≤–Α–Ϋ–Η―è–Φ–Η. –Γ–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Κ–Α–Κ –≠–Μ–Η–≥–Η–Ι. –ü–Ψ-–Φ–Ψ–Β–Φ―É, –Ψ–Ϋ –Ω–Η―à–Β―² –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ω–Μ–Ψ―Ö–Η–Β ―¹―²–Η―Ö–Η; –Φ–Β–Ϋ―è ―Ä–Α–Ζ–±–Η―Ä–Α–Β―² ―¹–Φ–Β―Ö. –ê –€–Β―Ä–Μ―É―à–Κ–Η–Ϋ, –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, –¥―É–Φ–Α–Β―², ―΅―²–Ψ –€–Α―è–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι, –ï―¹–Β–Ϋ–Η–Ϋ –Η –ï–≤―²―É―à–Β–Ϋ–Κ–Ψ –≤ –Ω–Ψ–¥–Φ–Β―²–Κ–Η –Β–Φ―É –Ϋ–Β –≥–Ψ–¥―è―²―¹―è. –£ ―¹–Β–±–Β –Ψ–Ϋ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ. –Δ–Β―²–Κ–Α –Φ–Β―΅–Β―² –≤ –Φ–Β–Ϋ―è –Ζ–Μ―΄–Β –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥―΄.
–û―²–Β―Ü –Ω–Ψ–≥–Μ―è–¥―΄–≤–Α–Β―² ―¹–Ψ ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Ψ―¹―²―¨―é, –Ϋ–Ψ –≤ –≥–Μ–Α–Ζ–Α―Ö –Β–≥–Ψ ―è –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α―é –Ψ–Ζ–Ψ―Ä–Ϋ―΄–Β ―¹–Φ–Β―à–Η–Ϋ–Κ–Η; –Φ―΄ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Β–Φ –¥―Ä―É–≥ –¥―Ä―É–≥–Α. –û―²–Β―Ü ―²–Β―Ä–Ω–Β―²―¨ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―² –≤–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Α―é―â–Η―Ö –Ψ ―¹–Β–±–Β –Ω–Β―²―É―Ö–Ψ–≤. –û–Ϋ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―², –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Φ―΄ ―¹–Α–¥–Η–Φ―¹―è ―É–Ε–Η–Ϋ–Α―²―¨:
βÄî –ù―É ―΅―²–Ψ –Ε, –ù–Α―²–Α–Μ―¨―è, ―²―΄ ―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α–Μ–Α: –≥–¥–Β ―¹―΅–Α―¹―²―¨–Β? –û–Ϋ–Ψ ―¹–Η–¥–Η―² ―¹ ―²–Ψ–±–Ψ–Ι ―Ä―è–¥–Ψ–Φ.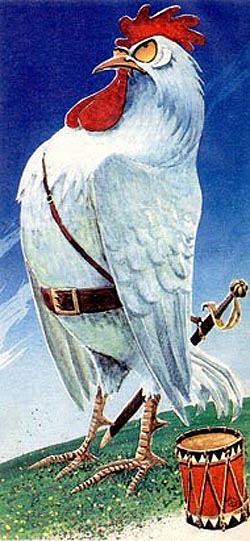 –‰ –Ω―Ä–Η–Ψ―¹–Α–Ϋ–Η–≤–Α–Β―²―¹―è –Η –≤–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Α–Β―², ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―²–Β―²–Κ–Η–Ϋ–Ψ ―¹―΅–Α―¹―²―¨–Β. –ê –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, –Ψ–Ϋ–Α βÄî –Β–≥–Ψ ―¹―΅–Α―¹―²―¨–Β? –û–Ϋ ―²–Ψ―â–Η–Ι –Η ―¹ –Ε–Α–¥–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Β―¹―². –Δ–Β―²–Κ–Α –±―É–¥–Β―² –Ω―Ä–Η–Ϋ–Ψ―¹–Η―²―¨ –Β–Φ―É ―¹―΄―²–Ϋ―΄–Ι –Ψ–±–Β–¥. –ö―¹―²–Α―²–Η, –≤ ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ϋ–Α ―É–Μ–Η―Ü–Β –£–Η―Ä―É –≠–¥–Β–Φ ―¹ –Ϋ–Β–Ι –Η –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Η–Μ―¹―è (–Ψ–Ϋ –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Μ –≤ ―¹―²–Η―Ö–Α―Ö –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ βÄî –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è, –Ω–Β―Ä–≤―É―é –≤ –Β–Β –Κ–Ϋ–Η–≥–Β –Ε–Α–Μ–Ψ–±).***–ù–Α –Κ–Α–Ϋ–Η–Κ―É–Μ–Α―Ö –Φ―΄ –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Η ¬Ϊ–†―΄―Ü–Α―Ä–Β–Ι –Φ–Ψ―Ä―è¬Μ –Η –Η–Φ–Β–Μ–Η –±–Ψ–Μ―¨―à―É―â–Η–Ι ―É―¹–Ω–Β―Ö. –î–Α, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ¬Ϊ–≥–Η―²–Μ–Β―Ä–Ψ–≤―Ü―΄¬Μ ―΅―É―²―¨ –Ϋ–Β –≤―΄–≤–Η―Ö–Ϋ―É–Μ–Η ―Ä―É–Κ―É –ö–Α―Ä–Η–Ϋ–Β. –ù–Ψ –Ψ–Ϋ–Α –Η –≤–Η–¥―É –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–Α–Μ–Α, ―΅―²–Ψ –Β–Ι –±–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ. –€–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β―Ü! –€―΄ ―²–Α–Ϋ―Ü–Β–≤–Α–Μ–Η ―¹ –Ϋ–Β–Ι –Ϋ–Α –Β–Μ–Κ–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―¹–Ω–Β–Κ―²–Α–Κ–Μ―è, –Η ―è ―É–≤–Η–¥–Β–Μ –Ϋ–Α –Β–Β ―²–Ψ–Ϋ–Κ–Ψ–Ι ―Ä―É―΅–Κ–Β –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι ―¹–Η–Ϋ―è―΅–Η―â–Β. –ê –≤ ―¹–Α–¥―É –î–≤–Ψ―Ä―Ü–Α –Ω–Η–Ψ–Ϋ–Β―Ä–Ψ–≤ –£–Α–¥–Η–Φ –Ζ–Α–Κ–Α―²–Η–Μ ―³–Β–Ι–Β―Ä–≤–Β―Ä–Κ. –û–Ϋ –Φ–Α―¹―²–Β―Ä –Ϋ–Α ―²–Α–Κ–Η–Β ―à―²―É–Κ–Η –Η –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ –≤―¹–Β ―¹–Α–Φ. –£ –Ϋ–Β–±–Ψ –≤―΄–Μ–Β―²–Β–Μ –¥–Α–Ε–Β –±–Β–Μ―΄–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ ―¹ –Α–Μ―΄–Φ–Η –Ω–Α―Ä―É―¹–Α–Φ–Η ¬Ϊ–Γ–Β–Κ―Ä–Β―²¬Μ. –£–Α–¥–Η–Φ–Α –Κ–Α―΅–Α–Μ–Η. –‰ –Ω―Ä–Η–Ψ―¹–Α–Ϋ–Η–≤–Α–Β―²―¹―è –Η –≤–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Α–Β―², ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―²–Β―²–Κ–Η–Ϋ–Ψ ―¹―΅–Α―¹―²―¨–Β. –ê –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, –Ψ–Ϋ–Α βÄî –Β–≥–Ψ ―¹―΅–Α―¹―²―¨–Β? –û–Ϋ ―²–Ψ―â–Η–Ι –Η ―¹ –Ε–Α–¥–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Β―¹―². –Δ–Β―²–Κ–Α –±―É–¥–Β―² –Ω―Ä–Η–Ϋ–Ψ―¹–Η―²―¨ –Β–Φ―É ―¹―΄―²–Ϋ―΄–Ι –Ψ–±–Β–¥. –ö―¹―²–Α―²–Η, –≤ ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ϋ–Α ―É–Μ–Η―Ü–Β –£–Η―Ä―É –≠–¥–Β–Φ ―¹ –Ϋ–Β–Ι –Η –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Η–Μ―¹―è (–Ψ–Ϋ –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Μ –≤ ―¹―²–Η―Ö–Α―Ö –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ βÄî –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è, –Ω–Β―Ä–≤―É―é –≤ –Β–Β –Κ–Ϋ–Η–≥–Β –Ε–Α–Μ–Ψ–±).***–ù–Α –Κ–Α–Ϋ–Η–Κ―É–Μ–Α―Ö –Φ―΄ –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Η ¬Ϊ–†―΄―Ü–Α―Ä–Β–Ι –Φ–Ψ―Ä―è¬Μ –Η –Η–Φ–Β–Μ–Η –±–Ψ–Μ―¨―à―É―â–Η–Ι ―É―¹–Ω–Β―Ö. –î–Α, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ¬Ϊ–≥–Η―²–Μ–Β―Ä–Ψ–≤―Ü―΄¬Μ ―΅―É―²―¨ –Ϋ–Β –≤―΄–≤–Η―Ö–Ϋ―É–Μ–Η ―Ä―É–Κ―É –ö–Α―Ä–Η–Ϋ–Β. –ù–Ψ –Ψ–Ϋ–Α –Η –≤–Η–¥―É –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–Α–Μ–Α, ―΅―²–Ψ –Β–Ι –±–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ. –€–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β―Ü! –€―΄ ―²–Α–Ϋ―Ü–Β–≤–Α–Μ–Η ―¹ –Ϋ–Β–Ι –Ϋ–Α –Β–Μ–Κ–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―¹–Ω–Β–Κ―²–Α–Κ–Μ―è, –Η ―è ―É–≤–Η–¥–Β–Μ –Ϋ–Α –Β–Β ―²–Ψ–Ϋ–Κ–Ψ–Ι ―Ä―É―΅–Κ–Β –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι ―¹–Η–Ϋ―è―΅–Η―â–Β. –ê –≤ ―¹–Α–¥―É –î–≤–Ψ―Ä―Ü–Α –Ω–Η–Ψ–Ϋ–Β―Ä–Ψ–≤ –£–Α–¥–Η–Φ –Ζ–Α–Κ–Α―²–Η–Μ ―³–Β–Ι–Β―Ä–≤–Β―Ä–Κ. –û–Ϋ –Φ–Α―¹―²–Β―Ä –Ϋ–Α ―²–Α–Κ–Η–Β ―à―²―É–Κ–Η –Η –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ –≤―¹–Β ―¹–Α–Φ. –£ –Ϋ–Β–±–Ψ –≤―΄–Μ–Β―²–Β–Μ –¥–Α–Ε–Β –±–Β–Μ―΄–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ ―¹ –Α–Μ―΄–Φ–Η –Ω–Α―Ä―É―¹–Α–Φ–Η ¬Ϊ–Γ–Β–Κ―Ä–Β―²¬Μ. –£–Α–¥–Η–Φ–Α –Κ–Α―΅–Α–Μ–Η.
–ü―Ä–Η–Β–Ζ–Ε–Α–Μ –Η–Ζ –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Α –£–Α–Μ–Β―Ä–Η–Ι. –ë–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–≥–Ψ ―É–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η―è ―è –Ϋ–Β –Ω–Ψ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ. –û–Ϋ –Β―â–Β –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –≤―΄―²―è–Ϋ―É–Μ―¹―è, –Η –Η–Ζ ―Ä―É–Κ–Α–≤–Ψ–≤ –Β–≥–Ψ ―â–Β–≥–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ―É―Ä―²–Κ–Η ―²–Ψ―Ä―΅–Α–Μ–Η –¥–Μ–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―Ä―É–Κ–Η. –û–Ϋ –≤―¹–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ψ–¥–Β―Ä–≥–Η–≤–Α–Μ ―Ä―É–Κ–Α–≤–Α. –ù–Ψ –¥–Ε–Η–Ϋ―¹―΄ –Β–Φ―É –±―΄–Μ–Η –≤–Ω–Ψ―Ä―É. –· ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –¥–≤–Ψ―é―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±―Ä–Α―²―Ü–Α:
βÄî –ù―É, –Κ–Α–Κ –¥–Β–Μ–Α, –Φ–Ψ―²–Ψ―Ü–Η–Κ–Μ–Η―¹―²?
βÄî –· –Ϋ–Β –±―É–¥―É –Φ–Ψ―²–Ψ―Ü–Η–Κ–Μ–Η―¹―²–Ψ–Φ.
βÄî –ü–Ψ―΅–Β–Φ―É?
βÄî –†–Α–Ζ–Ψ―΅–Α―Ä–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è.
βÄî –†–Α–Ζ–Ψ―΅–Α―Ä–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è?
βÄî –ù―É –¥–Α. –· –≤―΄–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ ―É –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–≤–Β―Ä―Ö―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ–Α –Φ–Ψ―²–Ψ―Ü–Η–Κ–Μ –Ω–Ψ–Κ–Α―²–Α―²―¨―¹―è, –Ω–Ψ–Β―Ö–Α–Μ, –Η –Ψ–Ϋ, –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―à―¨, –≤–¥―Ä―É–≥ –Ω―Ä―è–Φ–Ψ –≤–Ζ–±–Β―¹–Η–Μ―¹―è...
βÄî –Γ–≤–Β―Ä―Ö―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ? βÄî –€–Ψ―²–Ψ―Ü–Η–Κ–Μ, –¥―É―Ä–Β–Ϋ―¨! –ü–Β―Ä–Β―¹―²–Α–Μ ―¹–Μ―É―à–Α―²―¨―¹―è. –· –Ϋ–Α ―¹―²–Ψ–Μ–± –Ϋ–Α–Μ–Β―²–Β–Μ, –Ζ–Α–≤–Α–Μ–Η–Μ―¹―è –≤ . –û―΅―É―Ö–Α–Μ―¹―è βÄî –Μ–Β–Ε―É –Ϋ–Α –Ψ–±–Ψ―΅–Η–Ϋ–Β –Η –Κ―Ä―É–≥–Ψ–Φ –Φ–Η–Μ–Η―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Β―Ä―΄. –ü―Ä–Ψ–≤–Α–Μ―è–Μ―¹―è –≤ –≥–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ–Β –Φ–Β―¹―è―Ü... –£–Η–¥–Α–Μ? βÄî –€–Ψ―²–Ψ―Ü–Η–Κ–Μ, –¥―É―Ä–Β–Ϋ―¨! –ü–Β―Ä–Β―¹―²–Α–Μ ―¹–Μ―É―à–Α―²―¨―¹―è. –· –Ϋ–Α ―¹―²–Ψ–Μ–± –Ϋ–Α–Μ–Β―²–Β–Μ, –Ζ–Α–≤–Α–Μ–Η–Μ―¹―è –≤ . –û―΅―É―Ö–Α–Μ―¹―è βÄî –Μ–Β–Ε―É –Ϋ–Α –Ψ–±–Ψ―΅–Η–Ϋ–Β –Η –Κ―Ä―É–≥–Ψ–Φ –Φ–Η–Μ–Η―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Β―Ä―΄. –ü―Ä–Ψ–≤–Α–Μ―è–Μ―¹―è –≤ –≥–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ–Β –Φ–Β―¹―è―Ü... –£–Η–¥–Α–Μ?
–û–Ϋ –Ϋ–Α–≥–Ϋ―É–Μ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―É –Η –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –≤–Φ―è―²–Η–Ϋ―É. –£ –Ϋ–Β–Ι ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –Ω―É–Μ―¨―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ. –ù–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, –Φ–Ψ–Ζ–≥. –Δ–Α–Κ –Ϋ–Β–¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –Η –Φ–Ψ–Ζ–≥–Η ―Ä–Α―¹―²–Β―Ä―è―²―¨. –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―².

–£–Β―Ä―é–Ε―¹–Κ–Η–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–£–ù–ê), –™–Ψ―Ä–Μ–Ψ–≤ –û–Μ–Β–≥ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–û–ê–™), –€–Α–Κ―¹–Η–Φ–Ψ–≤ –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–€–£–£), –ö–Γ–£.
198188. –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥, ―É–Μ. –€–Α―Ä―à–Α–Μ–Α –™–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α, –¥–Ψ–Φ 11/3, –Κ–≤. 70. –ö–Α―Ä–Α―¹–Β–≤ –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅, –Α―Ä―Ö–Η–≤–Α―Ä–Η―É―¹.
27.02.201400:3627.02.2014 00:36:02
0
26.02.201400:4426.02.2014 00:44:05
–½–Α–Φ–Β―²–Η–Φ, –Κ―¹―²–Α―²–Η, ―΅―²–Ψ –≤ ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ–Β –Γ. –Γ. –ë–Β―Ä–Β–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ¬Ϊ–ö–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –Η ―¹―É–¥–Α –£–€–Λ –Γ–Γ–Γ–†. 1928-1945¬Μ [–±–Η–±–Μ. ⳕ 238] –Ϋ–Α ―¹. 268 –≤ –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Η β³• 321 –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Β–Ϋ, –Α –Ϋ–Α ―¹. 328 –Ω―Ä–Ψ–Ω―É―â–Β–Ϋ ―²–Α–Κ–Ε–Β –ö–ê–Δ–© ⳕ 1207, ―Ä–Α–Ϋ–Β–Β –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–≤―à–Η–Ι―¹―è –Γ–ö–ê ⳕ 322, –Α ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Ϋ–Ψ ―É–Ω–Ψ–Φ―è–Ϋ―É―²–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ―É –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –ö–ë–Λ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–≤―à–Η–Ι β³• 706.
3. –û–Ω–Β―΅–Α―²–Κ–Α –≤ ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ–Β –Γ. –Γ. –ë–Β―Ä–Β–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ¬Ϊ–ö–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –Η ―¹―É–¥–Α –£–€–Λ –Γ–Γ–Γ–†. 1928-1945¬Μ [–±–Η–±–Μ. ⳕ 238] –Ϋ–Α ―¹. 269. –Δ–Α–Φ –Γ–ö–ê, –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β –Η–Φ–Β–≤―à–Η–Ι –Ϋ–Α–Η–Φ–Β–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Θ–Γ-3 (–¥–Ψ 10.10.1939 –≥.), –Γ–ö–ê ⳕ 426 (―¹ 10.10,1939 –≥.) –Η –Γ–ö–ê ⳕ 314 (―¹ 1.12.1940 –≥.), ―¹―²–Α–Μ –≤–¥―Ä―É–≥ –ö–ê–Δ–© ⳕ 1209, –Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ε–Β ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ ¬Ϊ–¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Α―è ―¹―É–¥―¨–±–Α –Ϋ–Β ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Α¬Μ.
–ù–Ψ –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –Ε–Β ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ–Β –Ϋ–Α ―¹. 268 –Η 328, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –≤ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –ö–ë–Λ –Ψ―² 25.07.1941 –≥. ⳕ 31/2–Ω–Ψ―Ö ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –ö–ê–Δ–© ⳕ 1209 –±―΄–Μ –Ω–Β―Ä–Β–Ψ–±–Ψ―Ä―É–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ –Η–Ζ –Γ–ö–ê ⳕ 324. –£ –ê–û –Π–£–€–ê ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η―²―¹―è –≤―΄–Ω–Η―¹–Κ–Α –Η–Ζ –≤–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Α –Γ–ö–ê ⳕ 324 (–ö–ê–Δ–© ⳕ 1209) –Ζ–Α –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥ –Η–Ζ –ü–Α–Μ–¥–Η―¹–Κ–Η –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―² 27-30.08.1941 –≥. –Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Ι –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥ –Ϋ–Α –Ψ. –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥ –Ζ–Α ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Μ―é–¥―¨–Φ–Η 31.08-1.09.1941 –≥. [–¥–Ψ–Κ. ⳕ 911, 1189].
–ù–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü, –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –ö–ë–Λ –Ψ―² 7.09.1941 –≥. ⳕ –ö/003 –ö–ê–Δ–© ⳕ 1209 –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Η–Φ–Β–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –ö–ê–Δ–© ⳕ 708, –Ω–Ψ–¥ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ –≤–Ψ–Β–≤–Α―²―¨ –¥–Ψ –¥–Ϋ―è ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –≥–Η–±–Β–Μ–Η.
4. –ï―â–Β –Ψ–¥–Η–Ϋ –Γ–ö–ê ⳕ 314, –Ϋ–Ψ―¹–Η–≤―à–Η–Ι ―ç―²–Ψ―² –Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Ψ 10.12.1940 –≥., –Ζ–Α―²–Β–Φ ―¹―²–Α–≤―à–Η–Ι –€–Θ-35, –Α ―¹ 25.07.1941 –≥. ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ―É –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –ö–ë–Λ β³• 31/2–Ω–Ψ―Ö ―¹―²–Α–Μ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α―²―¨―¹―è –ö–ê–Δ–© ⳕ 1104. –û–Ϋ ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ –≤ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Β –Η –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ –Ϋ–Β–≤―Ä–Β–¥–Η–Φ―΄–Φ –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―². –£―΄–Ω–Η―¹–Κ–Α –Η–Ζ –Β–≥–Ψ –≤–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Α –Ζ–Α –¥–Ϋ–Η –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α ―²–Α–Κ–Ε–Β ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η―²―¹―è –≤ –ê–û –Π–£–€–ê. –£ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –ö–ë–Λ –Ψ―² 7.09.1941 –≥. ⳕ –ö/003 –Ψ–Ϋ ―²–Α–Κ–Ε–Β ―³–Η–≥―É―Ä–Η―Ä―É–Β―² –Ω–Ψ–¥ –Ϋ–Α–Η–Φ–Β–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –€–Θ-35 –Η –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Β―² ⳕ 804.
5. –ü–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι –ö–ê–Δ–© ⳕ 314 –±―΄–Μ –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ –≤ 1943 –≥. –Η –Ω–Ψ–≥–Η–±–Ϋ―É―²―¨ –≤ 1941 –≥., –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥.
–‰―¹―Ö–Ψ–¥―è –Η–Ζ ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤ –Ω. 1-5 –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―¹―΅–Η―²–Α―²―¨ –Ψ―΅–Β–≤–Η–¥–Ϋ―΄–Φ, ―΅―²–Ψ –≤ ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ–Β –Γ. –Γ. –ë–Β―Ä–Β–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ [238] –Ϋ–Α ―¹. 269 –Ω–Ψ–¥ ⳕ 426 –Ψ―à–Η–±–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ –ö–ê–Δ–© ⳕ 1209 –≤–Φ–Β―¹―²–Ψ –ö–ê–Δ–© ⳕ 1206. –ù–Ψ ―¹―É–¥―¨–±―É –ö–ê–Δ–© ⳕ 1206 (–¥–Ψ 25.07.1941 –≥. - –Γ–ö–ê ⳕ 314) –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è ―¹―΅–Η―²–Α―²―¨ –Ϋ–Β―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι. –û–Ϋ–Α ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Α –Α–≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Ω–Ψ –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ―É –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι 2-–≥–Ψ (–Ψ–Ϋ –Ε–Β 12-–Ι –Η 7-–Ι) –¥–Ϋ–Κ–Α―²―â –û–£–† –ö–£–€–ë (–û–£–† –™–ë –ö–ë–Λ, –û–£–† –ö–ë–Λ), –≥–¥–Β –Ψ–Ϋ ―³–Η–≥―É―Ä–Η―Ä―É–Β―² –Ω–Ψ–¥ ⳕ 31422, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ω–Ψ ¬Ϊ–û–±–Ζ–Ψ―Ä―É ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η–Ι –ö–ë–Λ –≤ –Κ–Α–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η 1941 –≥.¬Μ23 22 –ê–û –Π–£–€–ê. –Λ. 72. –î. 398. –¦. 41-48.
23 –ê–û –Π–£–€–ê. –Λ. 9. –î. 34111. –¦. 117. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α –Η–Ζ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―² ―ç―²–Ψ―² –Κ–Α―²–Β―Ä 1-8.09.1941 –≥. –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –≤ ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Β, –Α 9-24.09.1941 –≥. –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ―¹―è –±–Ψ–Β–≤―΄–Φ ―²―Ä–Α–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Η –Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –¥–Ψ–Ζ–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ 24.09.1941 –≥. –≤ ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Η–Η ―¹ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –ö–ë–Λ –Ψ―² 7.09.1941 –≥. ⳕ –ö/003 12-–Ι –¥–Ϋ–Κ–Α―²―â ―¹―²–Α–Μ 7-–Φ –¥–Ϋ–Κ–Α―²―â. –£ ―ç―²–Ψ –Ε–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –ö–ê–Δ–© ⳕ 1206 (ⳕ 314), ―Ö–Ψ―²―è –≤ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Β –Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ, –≤―¹–Β –Ε–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ β³• 716 (23.09 –Ψ–Ϋ –Ζ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ –≤ –•–ë–î –Ω–Ψ–¥ ⳕ 314, –Α 24.09 ―É–Ε–Β –Ω–Ψ–¥ ⳕ 716). –Γ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ–Φ –Μ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –ö–ê–Δ–© ⳕ 716 –±―΄–Μ –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è―² –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥ –Η –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ –Ϋ–Α –Ζ–Η–Φ–Ϋ–Β–Β ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β. –ü–Ψ–Η―¹–Κ–Ψ–Φ –¥–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Κ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ―É β³• –ö/003 –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –ö–ê–Δ–© ⳕ 1206 –Η –≤―΄―è―¹–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Β–Ι –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α―²–Β―Ä–Α –Α–≤―²–Ψ―Ä –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Β ―¹―²–Α–Μ.
–û –Κ–Α―²–Β―Ä–Α―Ö-―²―Ä–Α–Μ―¨―â–Η–Κ–Α―Ö ―²–Η–Ω–Α ¬Ϊ–ö–€¬Μ. –£ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β –ö–ê–Δ–© ⳕ 97–Ζ–Α–≤. –ü―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, ―ç―²–Ψ –ö–ê–Δ–© ⳕ 1313, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è –≤ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Β ―¹ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –Α–≤–≥―É―¹―²–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―¹―²–Ψ–Μ–Κ–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α ―Ä–Β–Ι–¥–Β ―¹ –±―É–Κ―¹–Η―Ä–Ψ–Φ –Γ-102 –Η ―¹–Α–Φ–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –±–Α―Ä–Ε–Β–Ι –Δ–Δ-1 –Η –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ϋ–Β ―¹–Φ–Ψ–≥ –Ω―Ä–Η―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Η―²―¨―¹―è –Κ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É 13-–Φ―É –¥–Ϋ–Κ–Α―²―â –≤ –±. –Δ―Ä–Η–Ι–≥–Η –Ϋ–Α –Ψ. –≠–Ζ–Β–Μ―¨.
–û –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―¹―É–¥–Α―Ö. –£ ―Ä―è–¥–Β –Α―Ä―Ö–Η–≤–Ϋ―΄―Ö –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Ψ–≤ –Η –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Ι –®–ö ¬Ϊ–£–Η―Ä–Ψ–Ϋ–Η―è¬Μ –Η –ü–€ ¬Ϊ–Γ–Β―Ä–Ω –Η –€–Ψ–Μ–Ψ―²¬Μ –Ϋ–Β–Ψ–±–Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹―΅–Η―²–Α―é―²―¹―è ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Α–Φ–Η.
–‰―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ–Η –ê.–‰.–€–Α–Ϋ–Κ–Β–≤–Η―΅, –ê.–ù.–€―É―à–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Η –£.–î.–î–Ψ―Ü–Β–Ϋ–Κ–Ψ ―΅–Η―¹–Μ―è―² ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–≤―à–Η–Φ–Η –≤ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Β ―΅–Β―²―΄―Ä–Β –ü–ë –Η ―΅–Β―²―΄―Ä–Β –™–‰–Γ–Θ, ―Ö–Ψ―²―è –Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –¥–Β–Μ–Β –≤ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Β ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Α –ü–ë ¬Ϊ–¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Ψ–≤–Β―²¬Μ –Η –¥–≤–Α –™–‰–Γ–Θ βÄî ¬Ϊ–¦–Ψ–Ψ–¥¬Μ –Η ¬Ϊ–£–Ψ―¹―²–Ψ–Κ¬Μ. –£–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –Ψ–Ϋ–Η –≤–Κ–Μ―é―΅–Η–Μ–Η –≤ ―΅–Η―¹–Μ–Ψ ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α –ü–ë ¬Ϊ–ê―ç–≥–Ϋ–Α¬Μ, –ü–ë ¬Ϊ–ê–Φ―É―Ä¬Μ –Η –£–Δ β³• 520 ¬Ϊ–≠–≤–Α–Μ―¨–¥¬Μ (–Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι, ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ―É –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –ö–ë–Λ, –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―΄–Μ –±―΄―²―¨, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –±―΄–Μ –Ω–Β―Ä–Β–Ψ–±–Ψ―Ä―É–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ –≤ –ü–ë), –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –™–‰–Γ–Θ ¬Ϊ–™–Η–¥―Ä–Ψ–≥―Ä–Α―³¬Μ –Η –™–‰–Γ–Θ ¬Ϊ–†―É–Μ–Β–≤–Ψ–Ι¬Μ. –ù–Ψ –ü–ë ¬Ϊ–ê―ç–≥–Ϋ–Α¬Μ, –£–Δ β³• 520 ¬Ϊ–≠–≤–Α–Μ―¨–¥¬Μ –Η –™–‰–Γ–Θ ¬Ϊ–™–Η–¥―Ä–Ψ–≥―Ä–Α―³¬Μ ―É―à–Μ–Η –Η–Ζ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α 24.08, –™–‰–Γ–Θ ¬Ϊ–†―É–Μ–Β–≤–Ψ–Ι¬Μ βÄî 25.08, –Α –ü–ë ¬Ϊ–ê–Φ―É―Ä¬Μ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Α ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Β, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ –±―΄–Μ–Α –Ζ–Α―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Α 28.08 –¥–Μ―è –Ζ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –≤―Ö–Ψ–¥–Α –≤ –ö–Α–±–Ψ―²–Α–Ε–Ϋ―É―é –≥–Α–≤–Α–Ϋ―¨ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α.
–£ –Ω―Ä–Η–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è―Ö 10 –Η 13 –Κ ¬Ϊ–û―²―΅–Β―²―É –Ψ –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Β ―³–Μ–Ψ―²–Α –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―² –Η ―ç–≤–Α–Κ―É–Α―Ü–Η–Η –™–ë –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ 28.08-29.08.1941¬Μ [–¥–Ψ–Κ. –£–Φ–Β―¹―²–Ψ –≤–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è] –Ψ―à–Η–±–Ψ―΅–Ϋ–Ψ ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –≤ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Β ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Ω―è―²―¨ –™–‰–Γ–Θ, ―²―Ä–Η –Γ–Γ –Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ –ü–Γ. –Γ–Κ–Ψ―Ä–Β–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ, –≤ ―΅–Η―¹–Μ–Ψ –™–‰–Γ–Θ –≤–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ –Η –Ω–Β―Ä–Β–Ψ–±–Ψ―Ä―É–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤ –½–Γ ¬Ϊ–ê–Ζ–Η–Φ―É―²¬Μ. –ö―Ä–Ψ–Φ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, ¬Ϊ–Ζ–Α–±―΄―²―΄¬Μ –Ω–Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Β –ü–Γ ¬Ϊ–°–Ω–Η―²–Β―Ä¬Μ, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Κ–Α–Κ–Ψ–Β-―²–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Γ–Γ –Η–Ζ ―΅–Β―²―΄―Ä–Β―Ö, ―³–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–≤―à–Η―Ö –≤ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Β (―¹–Κ–Ψ―Ä–Β–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ, ―ç―²–Ψ –Γ–Γ ¬Ϊ–€–Β―²–Β–Ψ―Ä¬Μ, –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –≤ ―Ä―è–¥–Β –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Ψ–≤ –Ψ–Ϋ ―΅–Η―¹–Μ–Η―²―¹―è –±―É–Κ―¹–Η―Ä–Ψ–Φ), –Η –≤–Ψ–¥–Ψ–Μ–Α–Ζ–Ϋ―΄–Ι –±–Ψ―² –£–†–î-43.
–ù–Β ―è―¹–Ϋ–Α ―¹―É–¥―¨–±–Α –≤―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Β–≥–Ψ –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ 12-–≥–Ψ –¥–Ϋ–Κ–Α―²―â –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±―É–Κ―¹–Η―Ä–Α (–Ω–Ψ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ βÄî –Ω–Ψ―¹―΄–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹―É–¥–Ϋ–Α) –û–¦–Γ-7. –ù–Η –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Β –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β ―΅–Η―¹–Μ–Η―²―¹―è ―¹―Ä–Β–¥–Η –Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Η―Ö –≤ ―Ö–Ψ–¥–Β –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄. –ü―Ä–Α–≤–¥–Α, –≤ –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Β ―É―΅–Β―²–Α –¥–Η―¹–Μ–Ψ–Κ–Α―Ü–Η–Η –Η –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –ö–ë–Λ –Η–Φ–Β–Β―²―¹―è ―¹–¥–Β–Μ–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è 9 ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä―è 1941 –≥. –Ζ–Α–Ω–Η―¹―¨ –Ψ –±–Β–Ζ –≤–Β―¹―²–Η –Ω―Ä–Ψ–Ω–Α–≤―à–Η―Ö –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è―Ö –Η ―¹―É–¥–Α―Ö, –≤ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ –û–¦–Γ-7 [–¥–Ψ–Κ. ⳕ 1344]. –½–Α―²–Ψ –≤ –•–ë–î –û–£–† –ö–£–€–ë –Η–Φ–Β–Β―²―¹―è –Ζ–Α–Ω–Η―¹―¨ –Ψ –Ω―Ä–Η–±―΄―²–Η–Η –±―É–Κ―¹–Η―Ä–Α –û–¦–Γ-7 –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―² –≤ 05.30 30.08.1941 –≥. [–¥–Ψ–Κ. ⳕ 1039]. –ü―Ä―è–Φ–Ψ –Ψ –≥–Η–±–Β–Μ–Η –û–¦–Γ-7 –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¹―è ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ ―²―Ä―É–¥–Β –‰.–ê.–ö–Η―Ä–Β–Β–≤–Α [–±–Η–±–Μ. ⳕ 45]. –£–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ ―²–Β–Φ –≤ ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ–Β –Ω–Ψ –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–Φ [–±–Η–±–Μ. ⳕ 288] –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ –Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Η–Φ –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –±―É–Κ―¹–Η―Ä ¬Ϊ–ö–Ψ–Μ―΄–Φ–Α¬Μ (–≤–Ψ–¥–Ψ–Η–Ζ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ 600 ―²), –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ϋ–Β –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Β–Ϋ –≤ ―¹–Ω–Η―¹–Κ–Α―Ö –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―¹―É–¥–Ψ–≤ –ö–ë–Λ. –£–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, ¬Ϊ–ö–Ψ–Μ―΄–Φ–Α¬Μ –Η –û–¦–Γ-7 βÄî –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η ―²–Ψ―² –Ε–Β –±―É–Κ―¹–Η―Ä.
–Γ–Ψ–Ζ–¥–Α―²–Β–Μ–Η ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ–Α –Ω–Ψ –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–Φ [–±–Η–±–Μ. ⳕ 288] –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Η–Μ–Η –Η–Ζ ―΅–Η―¹–Μ–Α –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤ ―Ö–Ψ–¥–Β –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α –Φ–Ψ―²–Ψ–±–Ψ―² ¬Ϊ–€–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―²–Ψ―Ä¬Μ, –Ω–Β―Ä–Β–Ϋ–Β―¹―è –Β–≥–Ψ –≤ ―΅–Η―¹–Μ–Ψ –Ω–Ψ―²–Β―Ä―¨ –Ω―Ä–Η ―ç–≤–Α–Κ―É–Α―Ü–Η–Η –≥–Α―Ä–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–Ϋ–Α –£–€–ë –Ξ–Α–Ϋ–Κ–Ψ. –Γ ―ç―²–Η–Φ ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η―²―¨―¹―è, –ü–û–Γ–ö–û–¦–§–ö–Θ –Η–Φ–Β–Β―²―¹―è –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Α―Ä―Ö–Η–≤–Ϋ―΄―Ö –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Ψ–≤, ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Ϋ–Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ ―¹ 22.08.1941 –≥. –€–ë ¬Ϊ–£–Β–Ι–Ϋ–Ψ¬Μ, –€–ë ¬Ϊ–ö–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ¬Μ –Η –€–ë ¬Ϊ–€–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―²–Ψ―Ä¬Μ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Β, –Α 28.08 –Ψ–Ϋ–Η –Ε–Β ¬Ϊ–±―΄―² –≤–Ζ―è―²―΄ –Ϋ–Α –±―É–Κ―¹–Η―Ä ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Α–Φ–Η –Κ–Α―Ä–Α–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤ ⳕ1–Ηⳕ2. –£―¹–Β –Φ–Ψ―²–Ψ–±–Ψ―²―΄ –Ζ–Α―²–Ψ–Ϋ―É–Μ–Η, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄ ―¹–Ϋ―è―²―΄¬Μ [–¥–Ψ–Κ. ⳕ 988]. –£―¹–Β –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Φ–Ψ―²–Ψ–±–Ψ―²―΄ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ―΄ –Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Η–Φ–Η –Η –≤ ¬Ϊ–û―²―΅–Β―²–Β –Ψ –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Β ―³–Μ–Ψ―²–Α –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―² –Η ―ç–≤–Α–Κ―É–Α―Ü–Η–Η –™–ë –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ 28.08-29.08.1941¬Μ [–¥–Ψ–Κ. –£–Φ–Β―¹―²–Ψ –≤–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è]. –ö ―²–Ψ–Φ―É –Ε–Β –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ ¬Ϊ–€–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―²–Ψ―Ä–Α¬Μ –±―΄–Μ ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ –ü–¦ –©-307 ―¹ –Κ–Α―²–Β―Ä–Α, ―²–Β―Ä–Ω―è―â–Β–≥–Ψ –±–Β–¥―¹―²–≤–Η–Β (–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –Κ–Α―²–Β―Ä–Ψ–Φ –≤ –≤–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Β –ü–¦ –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ –Φ–Ψ―²–Ψ–±–Ψ―²), –≤ 17.12 28.08, –≤―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ω–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ―²–Α –ü–¦ –Ϋ–Α –Λ–£–ö 10 –Δ–ë-–Ζ [–¥–Ψ–Κ. ⳕ 836].
–£–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –€–ë ⳕ 56 ¬Ϊ–€–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―²–Ψ―Ä¬Μ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ –≤ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β –Ζ–Α―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–Ι ―É –Ω-–Ψ–≤–Α –Ξ–Α–Ϋ–Κ–Ψ –≤ 1944 –≥. –≤ ¬Ϊ–Γ–Ω–Η―¹–Κ–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η ―¹―É–¥–Ψ–≤, –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Η –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è―²―΄―Ö –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ –±–Α―¹―¹–Β–Ι–Ϋ–Β...¬Μ24. –ü―Ä–Α–≤–¥–Α, –≤ ―ç―²–Ψ–Φ ―¹–Ω–Η―¹–Κ–Β –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤―É―é―² –¥–≤–Α –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Φ–Ψ―²–Ψ–±–Ψ―²–Α, ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–≤―à–Η―Ö –≤ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Β –Η –Ζ–Α―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α–Φ–Η –≤ ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β. 24 –ê–û –Π–£–€–ê. –Λ. 9. –î. 33354. –¦. 139. –½–Α―²–Β–Φ –€–ë ⳕ 56 ¬Ϊ–€–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―²–Ψ―Ä¬Μ –Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è –≤ ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ–Β –Ω–Ψ―²–Β―Ä―¨ [–±–Η–±–Μ. ⳕ 288] –Ϋ–Α―¹. 337, –≥–¥–Β ―΅–Η―¹–Μ–Η―²―¹―è –Ζ–Α―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ 3.12.1941 –≥. ―É –Ω-–Ψ–≤–Α –Ξ–Α–Ϋ–Κ–Ψ. –ù–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι –Ψ―²―Ä―è–¥ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι ―É―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –Η–Ζ –Ξ–Α–Ϋ–Κ–Ψ 2.12.1941 –≥.! –£ ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ–Β –¥–Α–Ϋ―΄ ―¹―¹―΄–Μ–Κ–Η –Ϋ–Α –Η―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ–Η, –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Η–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―ç―²–Ψ―² –€–ë –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β –Ϋ–Β ―É–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Β―²―¹―è, –Α –≤ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ –Ψ–±―ä―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Η–Ζ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α ―³–Μ–Ψ―²–Α –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Η–Ι, –Ϋ–Α―Ä―è–¥―É ―¹ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η–Φ–Η –¥―Ä―É–≥–Η–Φ–Η –Φ–Ψ―²–Ψ–±–Ψ―²–Α–Φ–Η, –Ϋ–Ψ –±–Β–Ζ ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―è –Φ–Β―¹―²–Α –Η –¥–Α―²―΄ –≥–Η–±–Β–Μ–Η.
–û ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Α―Ö. –£ –Ω―Ä–Η–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η 10 –Κ ¬Ϊ–û―²―΅–Β―²―É –Ψ –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Β ―³–Μ–Ψ―²–Α –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―² –Η ―ç–≤–Α–Κ―É–Α―Ü–Η–Η –™–ë –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ 28.08-29.08.1941¬Μ [–¥–Ψ–Κ. –£–Φ–Β―¹―²–Ψ –≤–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è] ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –≤ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Β ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η 25 ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–≤, –Η–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö 22 –Ω–Ψ–≥–Η–±–Μ–Η. –ê–Ϋ–Α–Μ–Η–Ζ –Α―Ä―Ö–Η–≤–Ϋ―΄―Ö –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Ψ–≤ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²:
–£ ¬Ϊ–û―²―΅–Β―²–Β...¬Μ –Ϋ–Β ―΅–Η―¹–Μ–Η―²―¹―è –Δ–† ¬Ϊ–£–Ψ―Ä–Φ―¹–Η¬Μ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –≤ ―ç―²–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―΄―²―¨ –¥–≤–Α–¥―Ü–Α―²―¨ ―à–Β―¹―²―΄–Φ. –ü–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É ―³–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –≤ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Β ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η 20 ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–≤, ―²–Ψ ¬Ϊ–Μ–Η―à–Ϋ–Η–Φ–Η¬Μ ―è–≤–Μ―è―é―²―¹―è ―à–Β―¹―²―¨ ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–≤, –≤–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤ ¬Ϊ–û―²―΅–Β―²...¬Μ.
–ü–Ψ –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é –Α–≤―²–Ψ―Ä–Α, –Η–Φ–Η ―è–≤–Μ―è―é―²―¹―è:
βÄî ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–≤―à–Η–Β –≤ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Β, –Ϋ–Ψ ―è–≤–Μ―è–≤―à–Η–Β―¹―è –£–Γ–Θ, –Α –Ϋ–Β –Δ–†.
1) –®–ö ¬Ϊ–£–Η―Ä–Ψ–Ϋ–Η―è¬Μ, –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –≤ –Ω―Ä–Η–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η 10 –Κ ¬Ϊ–û―²―΅–Β―²―É...¬Μ –Ϋ–Β ―É–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Β―²―¹―è –®–ö, –Α –≤ –Ω―Ä–Η–Μ. ⳕ 13 ―ç―²–Ψ ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Ψ –Δ–†;
2) –ü–€ ¬Ϊ–Γ–Β―Ä–Ω –Η –€–Ψ–Μ–Ψ―²¬Μ, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ –≤ –Ω―Ä–Η–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η 10 –Κ ¬Ϊ–û―²―΅–Β―²―É...¬Μ –Ϋ–Β ―É–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Β―²―¹―è –ü–€, –Α –≤ ¬Ϊ–£–Β–¥–Ψ–Φ–Ψ―¹―²–Η –Ω–Ψ―¹–Α–¥–Κ–Η –Ϋ–Α ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Α¬Μ ―ç―²–Ψ ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ ―΅–Η―¹–Μ–Η―²―¹―è –Κ–Α–Κ –Δ–†; βÄî –Ϋ–Β ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–≤―à–Η–Β –≤ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Β ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²―΄:
3) ¬Ϊ–≠―¹―²–Η―Ä–Α–Ϋ–¥¬Μ, –≤―΄―à–Β–¥―à–Η–Ι –Η–Ζ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α 25.08 –Η –≤ ―ç―²–Ψ―² –Ε–Β –¥–Β–Ϋ―¨ –≤―΄–±―Ä–Ψ―¹–Η–≤―à–Η–Ι―¹―è –Ϋ–Α –Ψ. –ü―Ä–Α–Ϋ–≥–Μ–Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Β–Ι –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α;
4) ¬Ϊ–Γ–Η–≥―É–Μ―¨–¥–Α¬Μ, –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Β–Ι –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α 27.08 –Ω―Ä–Η –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Η –Κ –Ψ. –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ϋ–Β―É–¥–Α–≤―à–Β–≥–Ψ―¹―è –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Α –≤ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ;
5) ¬Ϊ–Γ–Α―É–Μ–Β¬Μ, –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Β–Ι –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –Η –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–≤―à–Η–Ι ―Ö–Ψ–¥ 27.08 –Ω―Ä–Η –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Η –Κ –Ψ. –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ϋ–Β―É–¥–Α–≤―à–Β–≥–Ψ―¹―è –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Α –≤ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ;
6) ¬Ϊ–£–Α–Ι–Ϋ–¥–Μ–Ψ¬Μ, –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Β–Ι –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ 10.00 29.08 –Ω―Ä–Η –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Β –Η–Ζ –Γ―É―É―Ä–Κ―é–Μ―è–Ϋ-–¦–Α―Ö―²–Η –Ϋ–Α –Ψ. –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥ –¥–Μ―è –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Α –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―². –û–Ϋ –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Μ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è –Κ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤―É.
–ö―¹―²–Α―²–Η, –Η –Α–≤―²–Ψ―Ä –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–≥–Ψ ―²―Ä―É–¥–Α –≤ 2001 –≥. ―²–Ψ–Ε–Β –Ψ―à–Η–±–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –≤–Κ–Μ―é―΅–Η–Μ –®–ö ¬Ϊ–£–Η―Ä–Ψ–Ϋ–Η―è¬Μ –≤ ―΅–Η―¹–Μ–Ψ ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–≤ [–±–Η–±–Μ. ⳕ 139].
–ï―â–Β –±–Ψ–Μ―¨―à–Β ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–≤, ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–≤―à–Η―Ö –≤ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Β (26), ―É –™.–ê.–ê–Φ–Φ–Ψ–Ϋ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –≤ ―²―Ä―É–¥–Β ¬Ϊ–ù–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β ―¹–Η–Μ―΄ ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α –≤ –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Β 1941-1945 –≥–≥.¬Μ [–±–Η–±–Μ. ⳕ 3], –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ, ―É―΅–Β–Μ –Η –Δ–† ¬Ϊ–£–Ψ―Ä–Φ―¹–Η¬Μ.
–£―΄―à–Β ―É–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ψ ―²–Ψ–Φ, –Κ–Α–Κ –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―é –‰.–¦.–ë―É–Ϋ–Η―΅―É ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ¬Ϊ–Ϋ–Α–Ι―²–Η¬Μ –Η 27-–Ι ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―², –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –Ω–Ψ –Β–≥–Ψ –≤–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―é –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –£–Δ β³• 502 ¬Ϊ–≠–≤–Β―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Α¬Μ, –Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –¥–Β–Μ–Β ―É―à–Β–¥―à–Η–Ι –Η–Ζ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α 5.08.1941 –≥.
–ß―²–Ψ –Ε–Β –Κ–Α―¹–Α–Β―²―¹―è –Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Η―Ö ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–≤, ―²–Ψ ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² –Ψ–±―Ä–Α―²–Η―²―¨ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α –Ψ―à–Η–±–Κ―É –Α–≤―²–Ψ―Ä–Ψ–≤ ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ–Α ¬Ϊ–ü–Ψ―²–Β―Ä–Η –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η ―¹―É–¥–Ψ–≤ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α, ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Ϋ―΄―Ö, ―Ä―΄–±–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ϋ―΄―Ö –Η –¥―Ä―É–≥–Η―Ö ―¹―É–¥–Ψ–≤ –Γ–Γ–Γ–† –≤ –£–Β–Μ–Η–Κ―É―é –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –≤–Ψ–Ι–Ϋ―É 1941-1945 –≥–≥.¬Μ [–±–Η–±–Μ. ⳕ 288], –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ¬Ϊ–Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Η–Μ–Η¬Μ –≤ ―Ö–Ψ–¥–Β –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α –£–Δ β³• 520 ¬Ϊ–≠–≤–Α–Μ―¨–¥¬Μ. –≠―²–Ψ―² ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―², –≤–Ψ-–Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö, –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β –Ϋ–Β –±―΄–Μ –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ, –Α –≤–Ψ-–≤―²–Ψ―Ä―΄―Ö, –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Μ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è –Κ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤―É, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ ―É―à–Β–Μ –Η–Ζ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α ―¹ ―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ―΄–Φ–Η –Β―â–Β 24.08.1941 –≥., –Α 26.08 –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―², ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α―é―² –¥–Ψ–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η–Β ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Α―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥―¹―²–≤–Α [–¥–Ψ–Κ. ⳕ 1367], –Ζ–Α–Ω–Η―¹–Η –≤ –•–ë–î ―à―²–Α–±–Α –ö–£–€–ë [–¥–Ψ–Κ. ⳕ 602], ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Ψ―΅–Ϋ―΄–Β –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ―΄ –ë–™–€–ü –Ζ–Α 1944-1945 –≥–≥.25, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥ –Ϋ–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ–Α –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―é –Ω―Ä–Β–¥―¹–Ψ–≤–Ϋ–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ–Α –Γ–Γ–Γ–† –Ψ –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è―Ö ―³–Μ–Ψ―²–Α ―¹ 22.06 –Ω–Ψ 20.09.1941 –≥. [–¥–Ψ–Κ. ⳕ 1366]. 25 –†–™–ê–≠. –Λ. 8045. –û–Ω. 3. –ï–¥. ―Ö―Ä–Α–Ϋ. 1109, 1437.
–û―²–Κ―É–¥–Α –±–Β―Ä―É―²―¹―è –Ω–Ψ―²–Β―Ä–Η ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–≤, –Ω―Ä–Β–≤―΄―à–Α―é―â–Η–Β 18 –Β–¥–Η–Ϋ–Η―Ü (–¥–Ψ 28 ) –≤ –Η–Ϋ–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Η―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ–Α―Ö, ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨. –Γ–Κ–Ψ―Ä–Β–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ, ―ç―²–Η –Η―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ–Η ¬Ϊ―²–Ψ–Ω―è―²¬Μ –≤ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Β ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²―΄ –Η –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―¹―É–¥–Α, –≤ –Ϋ–Β–Φ –Ϋ–Β ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–≤―à–Η–Β. –ê –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Η–Ζ ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–≤―à–Η―Ö ¬Ϊ―²–Ψ–Ω―è―²¬Μ –Ω–Ψ –¥–≤–Α ―Ä–Α–Ζ–Α, –Κ–Α–Κ ―ç―²–Ψ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ–Η –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ –¥–Ψ–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ―É –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α –Β–≥–Ψ –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―¨ –ö–Η―Ä–Η―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ –Η ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Η –ë–™–€–ü –Ξ–Α–±–Α–Μ–Ψ–≤ –Η –†–Α―¹―¹–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι [–¥–Ψ–Κ. ⳕ 1367]. –û–Ϋ–Η –≤–Κ–Μ―é―΅–Η–Μ–Η –≤ ―¹–Ω–Η―¹–Ψ–Κ –Ω–Ψ―²–Β―Ä―¨ –Ω―Ä–Η –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Β –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≤ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Β –Β―â–Β 26-27.08 –Δ–† ¬Ϊ–¦―É–Ϋ–Α―΅–Α―Ä―¹–Κ–Η–Ι¬Μ –Η –ü–€–® ¬Ϊ–Δ–Η–Η―Ä¬Μ –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―É –Ψ. –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥ 27.08 –Δ–† ¬Ϊ–Γ–Α―É–Μ–Β¬Μ –Η –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä–Η –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Β 29 08 –Δ–† ¬Ϊ–ö–Α–Ζ–Α―Ö―¹―²–Α–Ϋ¬Μ, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –¥–≤–Α–Ε–¥―΄ ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η –≤ –Ϋ–Β–Φ –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω―Ä–Η –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Β –Δ–† ¬Ϊ–ê―É―¹–Φ–Α¬Μ, –Δ–† ¬Ϊ–Γ–Κ―Ä―É–Ϋ–¥–Α¬Μ –Η –Δ–† ¬Ϊ–≠–≤–Β―Ä–Η―²–Α¬Μ. –û–Ϋ–Η –¥–Ψ–≤–Β–Μ–Η ―²–Α–Κ–Η–Φ ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–Φ –Ω–Ψ―²–Β―Ä–Η –≤ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω–Ψ―Ä―΄–≤–Β ―¹ 18 –¥–Ψ 25 ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–≤, –Ω―Ä–Α–≤–¥–Α, –Ζ–Α–±―΄–≤ –≤–Κ–Μ―é―΅–Η―²―¨ –≤ ―¹–Ω–Η―¹–Ψ–Κ –Ω–Ψ―²–Β―Ä―¨ –Δ–† ¬Ϊ–£–Ψ―Ä–Φ―¹–Η¬Μ, –Ϋ–Ψ –Ζ–Α―¹―΅–Η―²–Α–≤ –Ζ–Α ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―² –¦–ï–î ¬Ϊ–ö―Ä–Η―à―¨―è–Ϋ–Η―¹ –£–Α–Μ―¨–¥–Β–Φ–Α―Ä―¹¬Μ. 5.4. –Δ–Α–Ι–Ϋ―΄ –Η –Ζ–Α–≥–Α–¥–Κ–Η –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α –ü–Β―Ä–≤–Ψ–Β. –£–Η–¥–Η–Φ–Ψ, ―¹―É―â–Β―¹―²–≤―É―é―² –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²―΄ –™–ö–û, –Γ―²–Α–≤–Κ–Η –£–™–ö –Η –™–Β–Ϋ―à―²–Α–±–Α –ö–ê, –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―²–Α –Η ―à―²–Α–±–Α –Γ–½–ù, ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α–Ζ–¥–≤–Η–Ϋ―É―²―¨ ―Ä–Α–Φ–Κ–Η –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ψ ―²–Ψ–Φ, –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Η ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β ―ç–≤–Α–Κ―É–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ―΄ –≥–Α―Ä–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–Ϋ―΄ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ξ–Α–Ϋ–Κ–Ψ –Η –€–Ψ–Ψ–Ϋ–Ζ―É–Ϋ–¥―¹–Κ–Η―Ö –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Ψ–≤. –‰–Μ–Η –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Α ―É―¹–Η–Μ–Β–Ϋ–Α –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Α –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α –Ζ–Α ―¹―΅–Β―² –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η―è –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Ω–Ψ–Μ―É–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –Ξ–Α–Ϋ–Κ–Ψ –Η –€–Ψ–Ψ–Ϋ–Ζ―É–Ϋ–¥―¹–Κ–Η―Ö –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Ψ–≤. –≠―²–Η –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²―΄ –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –±―΄ –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η―²―¨ –¥–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―¹–≤–Β―² –Ϋ–Α ―Ä–Ψ–Μ―¨ ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Ψ–≤ ―¹―²―Ä–Α―²–Β–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –≤ ―ç―²–Η―Ö –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Α―Ö. –ù–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² –Μ–Η –Ω–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ω–Η―²―¨―¹―è –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²―¨ –Η―Ö –¥–Μ―è –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ–Β–Ι?
–£―²–Ψ―Ä–Ψ–Β. –ü–Ψ―΅–Β–Φ―É –≤ –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Η–≤–Β –Γ–½–ù –Ψ–± ―ç–≤–Α–Κ―É–Α―Ü–Η–Η –≤–Ψ–Ι―¹–Κ, –Ζ–Α―â–Η―â–Α–≤―à–Η―Ö –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ, –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤―É–Β―² –Κ–Α–Κ–Ψ–Β-–Μ–Η–±–Ψ ―É–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Β –Ψ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Φ ―è–¥―Ä–Β –ö–ë–Λ, –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α–¥–Μ–Β–Ε–Η―² –¥–Β–Μ–Α―²―¨ –ö–†–¦, –¥–≤―É–Φ –¦–î, –¥–Β―¹―è―²–Η –≠–€, ―²―Ä–Β–Φ –ö–¦, ―²―Ä–Η–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²–Η –ü–¦, ―²―Ä–Η–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²–Η –Δ–ö–ê –Η ―²―Ä–Β–Φ –½–Γ? –€–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―² –Γ–½–ù, –Ϋ–Β –≤–Β―Ä―è –≤ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―É–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Η―è –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Α, ―Ö–Ψ―²–Β–Μ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –£.–Λ.–Δ―Ä–Η–±―É―Ü –Ζ–Α―²–Ψ–Ω–Η–Μ –≤ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Β ―ç―²–Η 46 –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι, –≤–Κ–Μ―é―΅–Α―è –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Β ―è–¥―Ä–Ψ –ö–ë–Λ, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Α―Ö–Ψ―²–Β–Μ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Ψ –Η–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨ ―ç―²―É –Φ―΄―¹–Μ―¨ –≤ –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Η–≤–Β? –‰–Μ–Η –Ε–Β –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―² –Γ–½–ù –Ω–Ψ―¹―΅–Η―²–Α–Μ, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Η –±–Ψ–Β–≤―΄–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –Φ–Ψ–≥―É―² –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è –Κ–Α–Κ ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²―΄ –Η –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²―¨ –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―² –¥–Ψ 22 ―²―΄―¹. –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Α―â–Η―Ö-–Ω–Α―¹―¹–Α–Ε–Η―Ä–Ψ–≤ (–Ω―Ä–Η–Μ. 1, ―²–Α–±–Μ. 109)? –ù–Ψ –Η –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ –≤ –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Η–≤–Β –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Ψ―¹―¨.
–‰.–¦.–ë―É–Ϋ–Η―΅ ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α–Β―² [–±–Η–±–Μ. ⳕ 15], ―΅―²–Ψ –Κ–Α–Κ–Η–Β-―²–Ψ –Ω–Η―¹―¨–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ–Α –£–€–Λ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–Φ―É –ö–ë–Λ –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä 1-–Ι –±―Ä–Ω–Μ –ù. –ü. –ï–≥–Η–Ω–Κ–Ψ, –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―²–Η–≤―à–Η–Ι―¹―è –≤ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ –Η–Ζ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Α 23.08.1941 –≥.
–Δ―Ä–Β―²―¨–Β. –ü–Ψ―΅–Β–Φ―É –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α–Φ–Η –Γ–½–ù –Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Η–Φ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Ψ–Φ –≤ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Β –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η –≤–Ζ–Α–Η–Φ–Ψ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –Φ–Β–Ε–¥―É ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Ψ–Φ –Η –ö–ë–Λ –≤ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Α―Ö –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ–Η –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö –Φ–Β―Ä –¥–Μ―è ―É–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Η―è –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α–Φ–Η ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Α –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β 27-29.08 –ö―É―Ä–≥–Α–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω-–Ψ–≤–Α ―¹ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Φ –Α―ç―Ä–Ψ–¥―Ä–Ψ–Φ–Ψ–Φ –¦–Η–Ω–Ψ–≤–Ψ? –ü–Ψ―΅–Β–Φ―É –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α–Φ–Η –Γ–½–ù –Ϋ–Β –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ ―É―¹–Η–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –£–£–Γ –ö–ë–Λ –Ϋ–Α 29.08 –Η―¹―²―Ä–Β–±–Η―²–Β–Μ―è–Φ–Η –Η –±–Ψ–Φ–±–Α―Ä–¥–Η―Ä–Ψ–≤―â–Η–Κ–Α–Φ–Η –£–£–Γ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Α –Η –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –≤―¹–Β―Ö –Η―¹―²―Ä–Β–±–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Β―¹–Ϋ―΄–Φ–Η –±–Β–Ϋ–Ζ–Η–Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ–Η –±–Α–Κ–Α–Φ–Η, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –Β–≥–Ψ –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―² –ö–ë–Λ?
–ß–Β―²–≤–Β―Ä―²–Ψ–Β. –ü–Ψ―΅–Β–Φ―É –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –ö–ë–Λ –Ϋ–Β –¥–Ψ–±–Η–Μ―¹―è –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η―è –Η–Ζ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Α –≤ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ –≤―¹–Β―Ö –Δ–Δ–© 4-–≥–Ψ –¥–Ϋ―²―â, 5-–≥–Ψ –¥–Ϋ―²―²―â –Η 7-–≥–Ψ –¥–Ϋ―²―²―â, 11-–≥–Ψ –¥–Ϋ–Κ–Α―²―â, 12-–≥–Ψ –¥–Ϋ–Κ–Α―²―â –Η –Γ–ö–ê ¬Ϊ–€–û¬Μ, –≤―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Η―Ö –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –€–û –ë–€ –Η –û–£–† –™–ë, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Β―â–Β –¥–≤―É―Ö –Δ–Δ–© –Η–Ζ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –û–£–† –ë–û –ë–†, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α–Φ–Β―΅–Α–Μ–Ψ―¹―¨? –≠―²–Ψ ―É–≤–Β–Μ–Η―΅–Η–Μ–Ψ –±―΄ (–¥–Α–Ε–Β –Ω―Ä–Η ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η–Η –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η―è –ö–£–€–ë ―à–Β―¹―²–Η –Β–Β –Δ–Δ–© –Η ―΅–Β―²―΄―Ä–Β―Ö –Γ–ö–ê ¬Ϊ–€–û¬Μ) –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –Δ–Δ–© ―¹ 16 –¥–Ψ 23, –ö–ê–Δ–©-–Γ 27 –¥–Ψ 32, –Γ–ö–ê ¬Ϊ–€–û¬Μ βÄî ―¹ 25 –¥–Ψ 35, ―΅―²–Ψ –Φ–Ψ–≥–Μ–Ψ ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–≤―΄―¹–Η―²―¨ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Β, –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–≤–Ψ–Ζ–¥―É―à–Ϋ―΄–Β –Η ―¹–Ω–Α―¹–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Β–≤, –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–≤ ―²–Β–Φ ―¹–Α–Φ―΄–Φ ―É–Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ―²–Β―Ä―¨. –£–Β–¥―¨ 27-30.08 –Ω–Ψ―΅―²–Η –≤―¹–Β –Ϋ–Β –¥–Ψ―à–Β–¥―à–Η–Β –¥–Ψ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –Η –Κ–Α―²–Β―Ä–Α ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η –≤ –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è―Ö –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β, –Ϋ–Ψ –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Β –ö–£–€–ë –Η –ë–û –ë–†.
–ü―è―²–Ψ–Β. –ü–Ψ―΅–Β–Φ―É 27.08.1941 –≥. –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Ψ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –ö–ë–Λ –Ψ –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–¥–Β –Η–Ζ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –±―É―Ö―²―΄ –≤ –±―É―Ö―²―É –ö–Ψ–Ω–Μ–Η, –≤ –†―É―¹―¹–Κ–Ψ-–ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ―É―é –Η –ë–Β–Κ–Κ–Β―Ä–Ψ–≤―¹–Κ―É―é –≥–Α–≤–Α–Ϋ–Η, –Δ–† ¬Ϊ–ê―²–Η―¹ –ö―Ä–Ψ–Ϋ–≤–Α–Μ–¥―¹¬Μ, –Δ–† ¬Ϊ–£―²–Ψ―Ä–Α―è –ü―è―²–Η–Μ–Β―²–Κ–Α¬Μ –Η –Δ–† ¬Ϊ–Δ–Ψ–±–Ψ–Μ¬Μ, –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Ψ–Β –≤ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Α –Ω–Ψ―¹–Α–¥–Κ–Η –≤–Ψ–Ι―¹–Κ –Ϋ–Α ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²―΄? –£–Β–¥―¨ –Ω–Β―Ä–Β―à–Μ–Α –Ε–Β -–≥―É–¥–Α –ö–¦ ¬Ϊ–ê–Φ–≥―É–Ϋ―¨¬Μ.
–®–Β―¹―²–Ψ–Β. –ß―²–Ψ –Η–Φ–Β–Μ –≤ –≤–Η–¥―É –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―² –ö–ë–Λ, ―¹―²–Α–≤―è –Ζ–Α–¥–Α―΅―É –™–Γ, –û–ü–† –Η –ê–† –Ϋ–Α –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²–Η–Β –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Β–≤, –Ω―Ä–Η―΅–Β–Φ –Μ–Η―à―¨ –Ϋ–Α –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―É―΅–Α―¹―²–Κ–Α―Ö –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α? –ö–Α–Κ–Η–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―Ä–Β―à–Α―²―¨ ―ç―²―É –Ζ–Α–¥–Α―΅―É, –Η–Φ–Β―è –≤ –≤–Η–¥―É, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²–Η–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Μ―è―²―¨―¹―è –≤ ―Ö–Ψ–¥–Β ―³–Ψ―Ä―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –°–€–ë? –ß―²–Ψ –Η–Φ–Β–Μ–Ψ―¹―¨ –≤ –≤–Η–¥―É –Ω―Ä–Η –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Η ―Ä―É–±–Β–Ε–Α –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²–Η―è: –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―Ä―É–±–Β–Ε–Α –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄–≤–Α―é―â–Η–Φ –û–ë–ö –Η–Μ–Η –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄–≤–Α–Β–Φ―΄–Φ –ö–û–ù?
–Γ–Β–¥―¨–Φ–Ψ–Β. –ü–Ψ―΅–Β–Φ―É –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –ö–ë–Λ, –Ζ–Ϋ–Α―è –Ψ –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Η―¹―²―Ä–Β–±–Η―²–Β–Μ―è–Φ–Η –ê–Γ –¦–Η–Ω–Ψ–≤–Ψ –Η –ê–Γ –ö―É–Ω–Μ―è, –≤ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Β ―΅–Β–≥–Ψ ―Ä―É–±–Β–Ε –Η―¹―²―Ä–Β–±–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²–Η―è ―¹–Φ–Β―¹―²–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α 100 –Κ–Φ –Κ –≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ―É, ―²–Β–Φ –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β –≤ ―Ö–Ψ–¥–Β –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–Φ―É –£–£–Γ –≤―΄―¹–Μ–Α―²―¨ –Η―¹―²―Ä–Β–±–Η―²–Β–Μ–Η –Ϋ–Α –Φ–Β―Ä–Η–¥–Η–Α–Ϋ –Ψ. –†–Ψ–¥―à–Β―Ä? –ü–Ψ―΅–Β–Φ―É –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α –Μ–Η―à―¨ –Ψ–±–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–Μ, –Ω–Ψ―¹–Μ–Α–≤ –Ψ–¥–Η–Ϋ ―Ä–Α–Ζ ―²―Ä–Η –Η―¹―²―Ä–Β–±–Η―²–Β–Μ―è –€–Η–™-3, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –≤ –±–Ψ–Ι ―¹ –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η–Φ–Η ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Α–Φ–Η –Ϋ–Β –≤―¹―²―É–Ω–Α–Μ–Η.
–£–Ψ―¹―¨–Φ–Ψ–Β. –ü–Ψ―΅–Β–Φ―É –Ω–Ψ―΅―²–Η –Ϋ–Β –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Η―¹―²―Ä–Β–±–Η―²–Β–Μ―è–Φ–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Β―¹–Ϋ―΄–Β –±–Β–Ϋ–Ζ–Η–Ϋ–Ψ–≤―΄–Β –±–Α–Κ–Η ―¹ ―Ü–Β–Μ―¨―é ―É–≤–Β–Μ–Η―΅–Β–Ϋ–Η―è ―Ä–Α–¥–Η―É―¹–Α –Ζ–Ψ–Ϋ―΄ –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²–Η―è –Η –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ω–Α―²―Ä―É–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α–¥ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α–≤―à–Η–Φ–Η―¹―è ―¹–Η–Μ–Α–Φ–Η?
–î–Β–≤―è―²–Ψ–Β. –ü–Ψ―΅–Β–Φ―É –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–≤–Μ–Β–Κ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Κ –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²–Η―é –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è ―¹–Η–Μ –Η―¹―²―Ä–Β–±–Η―²–Β–Μ–Η –‰-153 –Η–Ζ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α 12-–Ι –Κ–Ψ–Α―ç (–ê–Γ –ö–Α–≥―É–Μ –Ϋ–Α –Ψ. –Ξ–Η–Ι―É–Φ–Α–Α) –Η 13-–≥–Ψ –Η–Α–Ω (–ê–Γ –Ξ–Α–Ϋ–Κ–Ψ), –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β, –¥–Β–Ι―¹―²–≤―É―è ―¹ –ê–Γ –Ξ–Α–Ϋ–Κ–Ψ, –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²―¨ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –Η ―¹―É–¥–Α –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –°–€–ê–ü?
–î–Β―¹―è―²–Ψ–Β. –ß–Μ–Β–Ϋ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―²–Α –ö–ë–Λ –ù. –ö. –Γ–Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–≤ 6.09.1941 –≥. –¥–Ψ–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ―É –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Η―²―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –£–€–Λ –‰. –£. –†–Ψ–≥–Ψ–≤―É –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Μ –Β–Φ―É –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥ ―¹ –Ω–Ψ–¥―Ä–Ψ–±–Ϋ―΄–Φ –Η–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –≤–Η–¥–Β–Ϋ–Η―è –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ϋ–Α–Φ–Β―Ä–Β–≤–Α–Μ―¹―è –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α―²―¨ ―¹ –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–Κ–Α–Ζ–Η–Β–Ι (–≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ, –Φ–Η–Ϋ―É―è ―¹–Β–Κ―Ä–Β―²–Ϋ–Ψ–Β –¥–Β–Μ–Ψ–Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ). –£–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, ―ç―²–Ψ―² –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ–Β–Ι―à–Η–Ι –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ –Ε–¥–Β―² ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―è. –ù–Ψ –≥–¥–Β –Η –Κ―²–Ψ –Β–≥–Ψ ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η―²?
–û–¥–Η–Ϋ–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²–Ψ–Β. –‰–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ 3-–≥–Ψ –Ψ―²–¥–Β–Μ–Α –ö–ë–Λ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Α―Ä –ê. –ü. –¦–Β–±–Β–¥–Β–≤ ―Ä–Α–Ζ–≤–Η–Μ –±―É―Ä–Ϋ―É―é –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ω–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―é ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η―è –≤ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ–Η –Μ―é–¥―¹–Κ–Η–Φ–Η –Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–Φ–Η, –Ω–Ψ–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –Ω―Ä–Η –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Β. –Γ–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Β ―ç―²–Ψ, –Κ ―¹―΅–Α―¹―²―¨―é, –Ϋ–Β –Ζ–Α–≤–Β―Ä―à–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹―É–¥–Ψ–Φ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²―Ä–Η–±―É–Ϋ–Α–Μ–Α, –Ϋ–Ψ –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²―΄ –Β–≥–Ψ, ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α―â–Η–Β, –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –≤–Α–Ε–Ϋ―É―é –¥–Μ―è –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è ―ç―²–Ψ–Ι –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η –ö–ë–Λ –Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η―é, –≥–¥–Β-―²–Ψ ¬Ϊ–Ω―΄–Μ―è―²―¹―è¬Μ. –ö–Α–Κ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―²―¨ –Κ –Ϋ–Η–Φ –¥–Ψ―¹―²―É–Ω? –€–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, –Κ―²–Ψ-―²–Ψ ―Ä–Β―à–Η―²―¹―è –≤―΄―²–Α―â–Η―²―¨ –Ϋ–Α ―¹–≤–Β―² –±–Ψ–Ε–Η–Ι ―ç―²–Η –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²―΄ –Η–Ζ –Ζ–Α–Κ―Ä–Ψ–Φ–Ψ–≤ –Λ–Γ–ë?
–î–≤–Β–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²–Ψ–Β. –€–Ϋ–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ –Ζ–Α–≥–Α–¥–Ψ–Κ –Η –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤ –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Ψ –≤ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è―Ö –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ I –Γ, –û–ü–†, –ê–†, –ö–û–ù –Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –£–£–Γ –ö–ë–Λ, –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ψ–≤ –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Δ–†. –£–Ψ―² –Μ–Η―à―¨ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö:
–Α) ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Ψ–Φ –£. –ü. –î―Ä–Ψ–Ζ–¥–Ψ–Φ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―Ä–¥–Β―Ä–Α –™–Γ, –Ω―Ä–Η –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –¥–≤–Α ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Φ–Η–Ϋ–Ψ–Ϋ–Ψ―¹―Ü–Α –±―΄–Μ–Η –Ω―Ä–Η–Ϋ―É–Ε–¥–Β–Ϋ―΄ –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―è―²―¨ –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä ¬Ϊ–ö–Η―Ä–Ψ–≤¬Μ, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―è―¹―¨ –≤–Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―²―Ä–Α–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ–Ψ―¹―΄ ―³–Α―Ä–≤–Α―²–Β―Ä–Α, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η–≤–Β–Μ–Ψ –Κ –≥–Η–±–Β–Μ–Η –≠–€ ¬Ϊ–·–Κ–Ψ–≤ –Γ–≤–Β―Ä–¥–Μ–Ψ–≤¬Μ –Η ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―é –≠–€ ¬Ϊ–™–Ψ―Ä–¥―΄–Ι¬Μ;
–±) –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –°. –ê. –ü–Α–Ϋ―²–Β–Μ–Β–Β–≤–Α, –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–≤―à–Β–≥–Ψ –≠–€ ¬Ϊ–Γ–Κ–Ψ―Ä―΄–Ι¬Μ –≤–Ζ―è―²―¨ –¦–î ¬Ϊ–€–Η–Ϋ―¹–Κ¬Μ –Ϋ–Α –±―É–Κ―¹–Η―Ä –Ω―Ä–Η –Ϋ–Α―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Η –Ψ–±–Ψ–Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Ϋ–Α –Φ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ζ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Η, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η–≤–Β–Μ–Ψ –Κ –≥–Η–±–Β–Μ–Η –≠–€ ¬Ϊ–Γ–Κ–Ψ―Ä―΄–Ι¬Μ;
–≤) ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―è, –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–≤―à–Η–Β―¹―è –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Ψ–Φ –£.–Λ.–Δ―Ä–Η–±―É―Ü–Β–Φ (–Η–Μ–Η –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Ψ–Φ –£. –ü. –î―Ä–Ψ–Ζ–¥–Ψ–Φ?) –Η –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Ψ–Φ –°. –ê. –ü–Α–Ϋ―²–Β–Μ–Β–Β–≤―΄–Φ –≤ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ –≤―΄–≤–Ψ–¥–Ψ–Φ –≠–€ ¬Ϊ–Γ–≤–Η―Ä–Β–Ω―΄–Ι¬Μ, –≠–€ ¬Ϊ–Γ―É―Ä–Ψ–≤―΄–Ι¬Μ –Η –Γ–ö–† ¬Ϊ–ê–Φ–Β―²–Η―¹―²¬Μ –Η–Ζ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –ö–û–ù-1;
–≥) ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –°. –Λ. –†–Α–Μ–Μ―è –Ψ –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Η –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Α―Ä―¨–Β―Ä–≥–Α―Ä–¥–Ψ–Φ –Ζ–Α–¥–Α―΅–Η –Ω–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²–Η―é ―¹ ―²―΄–Μ–Α –ö–û–ù-3 –Η ―³–Ψ―Ä―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η –°–€–ê–ü –≤ –Ϋ–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –±–Β–Ζ –ü–€–û, –Ω―Ä–Η–≤–Β–¥―à–Β–Β –Κ –≥–Η–±–Β–Μ–Η –≠–€ ¬Ϊ–ö–Α–Μ–Η–Ϋ–Η–Ϋ¬Μ, –≠–€ ¬Ϊ–£–Ψ–Μ–Ψ–¥–Α―Ä―¹–Κ–Η–Ι¬Μ –Η –≠–€ ¬Ϊ–ê―Ä―²–Β–Φ¬Μ –Η –Ω–Ψ―²–Β―Ä–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –ê–† ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ψ―¹―²–Α–≤―à–Η–Φ–Η―¹―è –≤ ―¹―²―Ä–Ψ―é –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ–Η (–¥–≤–Α –Γ–ö–†, –¥–≤–Α –Δ–ö–ê, ―à–Β―¹―²―¨ –Γ–ö–ê). –Ξ–Ψ―²―è ¬Ϊ–û―²―΅–Β―² –Ψ –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Β ―³–Μ–Ψ―²–Α –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―² –Η ―ç–≤–Α–Κ―É–Α―Ü–Η–Η –™–ë –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ 28.08-29.08.1941¬Μ [–¥–Ψ–Κ. –£–Φ–Β―¹―²–Ψ –≤–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è] –Ω–Ψ–¥–Ω–Η―¹–Α–Ϋ –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Ψ–Φ –°. –Λ. –†–Α–Μ–Μ–Β–Φ, –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Η―Ö –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι –Ω–Ψ ―ç―²–Ψ–Φ―É –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹―É –≤ –Ϋ–Β–Φ –Ϋ–Β―²;
–¥) –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –ö–û–ù-1 –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 2 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ù. –™. –ë–Ψ–≥–¥–Α–Ϋ–Ψ–≤–Α:
βÄî –Η–Φ –Ϋ–Β –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ―΄ –Ϋ–Α –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι ―Ä–Β–Ι–¥ –Ω―Ä–Η―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Η–≤―à–Η–Β―¹―è –Κ –ö–û–ù-1 ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²―΄ –Η–Ζ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –ö–û–ù-2 (¬Ϊ–‰–≤–Α–Ϋ –ü–Α–Ω–Α–Ϋ–Η–Ϋ¬Μ, ¬Ϊ–ö–Α–Ζ–Α―Ö―¹―²–Α–Ϋ¬Μ –Η ¬Ϊ–≠―Ä–≥–Ψ–Ϋ–Α―É―²–Η―¹¬Μ);
βÄî –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Β –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ–Η–Μ, –Ϋ–Ψ –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Β ―É–Ω–Ψ–Φ―è–Ϋ―É–Μ –≤ –¥–Ψ–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η–Η –Ψ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è―Ö –ö–û–ù-1 –≤ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Β –Ψ ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è―Ö, ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹ –≤―΄–≤–Ψ–¥–Ψ–Φ –Η–Ζ –Β–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –≠–€ ¬Ϊ–Γ–≤–Η―Ä–Β–Ω―΄–Ι¬Μ, –≠–€ ¬Ϊ–Γ―É―Ä–Ψ–≤―΄–Ι¬Μ –Η –Γ–ö–† ¬Ϊ–ê–Φ–Β―²–Η―¹―²¬Μ;
βÄî –Ζ–Α –≤―¹–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ψ―² –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Α –Η–Ζ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α (22.00 27.08.1941 –≥.) –¥–Ψ –Ω―Ä–Η–±―΄―²–Η―è –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―² –Η–Φ –±―΄–Μ–Ψ –¥–Α–Ϋ–Ψ –Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―²–Ψ –Μ–Η –Ψ–Ω–Ψ–≤–Β―â–Β–Ϋ–Η–Β, ―²–Ψ –Μ–Η –¥–Ψ–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η–Β 29.08 ―¹ –±–Ψ―Ä―²–Α –Γ–ö–ê –€–û ⳕ 507: ¬Ϊ–ü–Ψ ―³–Μ–Ψ―²―É. –Γ–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²―΄ –≤―¹–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Α―²–Α–Κ―É―é―² –Κ–Α―Ä–Α–≤–Α–Η. –ü―Ä–Ψ―à―É –≤―΄―¹–Μ–Α―²―¨ –Ω–Α―à–Η ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²―΄. ⳕ0845. –ö-―Ä –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ―è¬Μ [–¥–Ψ–Κ. ⳕ 835], –Η–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β ―è―¹–Ϋ–Ψ, –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Ι –Η –≥–¥–Β –Α―²–Α–Κ―É―é―²; –≤―¹–Β –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –¥–Ψ–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η―è –¥–Α–≤–Α–Μ ―¹ –±–Ψ―Ä―²–Α –ü–ë ¬Ϊ–¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Ψ–≤–Β―²¬Μ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ ―à―²–Α–±–Α –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ―è;
βÄî –Η―²–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ–Β –¥–Ψ–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –ö–û–ù-1 –Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Β –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―² –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Β –Ϋ–Β–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Β –Η–Φ ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ ―¹ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ–Η –Η ―¹―É–¥–Α–Φ–Η –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ―è –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α;
–Β) –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –ö–û–ù-2, ¬Ϊ–Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–≤―à–Β–≥–Ψ¬Μ –Β―â–Β –¥–Ψ ―¹―ä–Β–Φ–Κ–Η ―¹ ―è–Κ–Ψ―Ä―è –≤ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Β –Ω―è―²―¨ –Η–Ζ ―à–Β―¹―²–Η ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–≤ (¬Ϊ–ö–Α–Ζ–Α―Ö―¹―²–Α–Ϋ¬Μ, ¬Ϊ–‰–≤–Α–Ϋ –ü–Α–Ω–Α–Ϋ–Η–Ϋ¬Μ, ¬Ϊ–ù–Α–Ι―¹―¹–Α–Α―ĬΜ, ¬Ϊ–≠–≤–Β―Ä–Η―²–Α¬Μ, ¬Ϊ–≠―Ä–≥–Ψ–Ϋ–Α―É―²–Η―¹¬Μ) –Η –ü–€–® ¬Ϊ–ê―²―²–Α¬Μ –Η–Ζ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ―è –Η –Ϋ–Β –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ–Η–≤―à–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Β–¥―à–Β–≥–Ψ –≤ –¥–Ψ–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η–Η –Ψ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤ –ù–Β –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ–Β–Ϋ―΄ ―ç―²–Η ¬Ϊ–Ω–Ψ―²–Β―Ä–Η¬Μ –Η –≤ ¬Ϊ–û―²―΅–Β―²–Β –Ψ –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Β ―³–Μ–Ψ―²–Α –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²...¬Μ [–¥–Ψ–Κ. –£–Φ–Β―¹―²–Ψ –≤–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è];
–Ε) –Η–≥–Ϋ–Ψ―Ä–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ 4-–≥–Ψ –¥–Ϋ―ç–Φ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –ö–ë–Λ –±―É–Κ―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –≠–€ ¬Ϊ–™–Ψ―Ä–¥―΄–Ι¬Μ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Ψ –±―É―Ö―²―΄ –Γ―É―É―Ä–Κ―é–Μ―è–Ϋ –Ϋ–Α –Ψ. –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥;
–Ζ) –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ 61-–Ι –Α–±―Ä –¥–Μ―è –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²–Η―è –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è ―¹–Η–Μ –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β–≥–Ψ –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –Η―¹―²―Ä–Β–±–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –Η –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β–≥–Ψ –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Α –Η―Ö ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Ψ-–≤―΄–Μ–Β―²–Ψ–≤, ―΅–Β–Φ –±―΄–Μ–Ψ ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ψ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Ψ–Φ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι –£–£–Γ –ö–ë–Λ;
–Η) ―Ü–Η―³―Ä―΄, ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Η–Ζ―É―é―â–Η–Β –Ω–Ψ―²–Β―Ä–Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Α―â–Η―Ö –≤ ―Ö–Ψ–¥–Β –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α, –Ω―Ä–Η–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≤ ¬Ϊ–û―²―΅–Β―²–Β –Ψ –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Β ―³–Μ–Ψ―²–Α –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―² –Η ―ç–≤–Α–Κ―É–Α―Ü–Η–Η –™–ë –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ 28.08-29.08.1941¬Μ26: 26 –ê–û –Π–£–€–ê. –Λ. 9. –î. 136. –¦. 27, 51. –Γ. 27: ¬Ϊ–£―¹–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α –Δ–† –Δ–† –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ―¹–Α–Ε–Β–Ϋ–Ψ –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ 20 400 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α ―΅–Α―¹―²–Β–Ι –ö–ë–Λ –Η 10 –Γ–ö¬Μ.
–Γ. 51: ¬Ϊ–‰–Ζ –≤―¹–Β–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤–Ψ–Ι―¹–Κ –Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –≤ ―΅–Η―¹–Μ–Β 23 000 ―΅–Β–Μ. –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―² –Η –û―Ä–Α–Ϋ–Η–Β–Ϋ–±–Α―É–Φ –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ–Ψ 18 233 ―΅–Β–Μ., ―². –Ψ. –Ω–Ψ–≥–Η–±–Μ–Ψ –≤―¹–Β–≥–Ψ 4767 ―΅–Β–Μ., –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ –Η–Ζ –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –ö–ë–Λ¬Μ.
–ù–Ψ ―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ¬Ϊ–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι¬Μ, ―²–Ψ―΅–Ϋ–Β–Β, ―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι, –£–Γ–Θ ―¹ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Α–Φ–Η –Η–Μ–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ, ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι, –Κ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–¥–Α–Ϋ―²―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥ –Δ–† –Η –£–Γ–Θ, ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–≤―à–Η―Ö –≤ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Β, ―Ä–Α―¹―¹―΅–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è –Α–≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ, ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Α 8173 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α. –Δ–Α–Κ–Α―è –Η–Μ–Η –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ–Α―è ―Ü–Η―³―Ä–Α –±―΄–Μ–Α, –±–Β–Ζ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ, –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Α –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É ―¹–Ψ–≤–Β―²―É –ö–ë–Λ. –‰–Ζ ―ç―²–Η―Ö ―Ü–Η―³―Ä –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―²―¨ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―²–Β –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ψ –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è―Ö, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω―Ä–Η–≤–Β–¥–Β–Ϋ―΄ –≤ ―²–Α–±–Μ. 95, 96 –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–Ι –≥–Μ–Α–≤―΄.
–ê–Ϋ–Α–Μ–Η–Ζ ―Ü–Η―³―Ä, –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α ―¹. 51 ¬Ϊ–û―²―΅–Β―²–Α...¬Μ, –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–Β―² –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨:
βÄî –≤ 23 ―²―΄―¹―è―΅–Η (―Ü–Η―³―Ä–Α ―è–≤–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–±–Μ–Η–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è) –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Α―â–Η―Ö –≤–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ―΄ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η ―¹―É–¥–Ψ–≤. –ü–Ψ ―Ä–Α―¹―΅–Β―²–Α–Φ –Α–≤―²–Ψ―Ä–Α, –Η―Ö ―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Α 2998 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ;
βÄî –≤ 18 233 –Ω―Ä–Η–±―΄–≤―à–Η―Ö –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Α―â–Η―Ö –≤–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ―΄ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄ –≤―¹–Β―Ö –Ω―Ä–Ψ―Ä–≤–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η ―¹―É–¥–Ψ–≤, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―΅–Μ–Β–Ϋ―΄ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥ –Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η ―¹―É–¥–Ψ–≤.
–ö–Α–Κ –Ε–Β –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―É―΅–Η―²―΄–≤–Α―²―¨ –Ω―Ä–Η –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Β –Η–Ζ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α ―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥ –Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η ―¹―É–¥–Ψ–≤, –Α –Ω–Ψ –Ω―Ä–Η–±―΄―²–Η–Η –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―² βÄî ―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥ –≤―¹–Β―Ö –Ω―Ä–Η–±―΄–≤―à–Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η ―¹―É–¥–Ψ–≤ –Ω–Μ―é―¹ ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –±–Α–Μ―²–Η–Ι―Ü–Β–≤ –Η–Ζ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥ –Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η ―¹―É–¥–Ψ–≤?
–Κ) –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Α ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –Η ―¹―É–¥–Α –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Ψ –Ω–Ψ―΅―²–Η –≤ –Ω―è―²―¨ ―Ä–Α–Ζ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Μ–Η―Ü, ―΅–Β–Φ –Ω―Ä–Β–¥―É―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―¹–Ψ–≤–Β―²–Ψ–Φ –ö–ë–Λ.
–ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β –≤―¹–Β –Ζ–Α–≥–Α–¥–Κ–Η –Η –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹―΄, –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–≤―à–Η–Β –≤–Μ–Η―è–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α –Ω–Ψ―²–Β―Ä–Η –≤ –Μ―é–¥―è―Ö, –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è―Ö –Η ―¹―É–¥–Α―Ö –≤ ―Ö–Ψ–¥–Β –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α. –Δ–Β, –Κ―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ―΅―²–Β―² –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é ―ç―²–Ψ―² ―²―Ä―É–¥, –Ϋ–Α–Ι–¥–Β―² –¥–Μ―è ―¹–Β–±―è –Β―â–Β –Ϋ–Β–Φ–Α–Μ–Ψ –Ζ–Α–≥–Α–¥–Ψ–Κ –Η, –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, ―Ä–Α–Ζ–≥–Α–¥–Α–Β―² –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö. –™–Μ–Α–≤–Α 6. –½–Α–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η–Β: –≤―΄–≤–Ψ–¥―΄ –Η ―É―Ä–Ψ–Κ–Η –Η–Ζ –Ψ–Ω―΄―²–Α –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α
6.1. –£―΄–≤–Ψ–¥―΄ –Η–Ζ –Ψ–Ω―΄―²–Α –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α –£―¹–Β –Η–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –≤―΄―à–Β –Ψ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Β –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–Β―² ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Β ―²―Ä–Η –Ψ–±―â–Η―Ö –≤―΄–≤–Ψ–¥–Α:
1. –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι ―³–Μ–Ψ―², –Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Η–≤ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤ –Η–Ζ –Ψ―¹–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤ –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Ψ–Φ ―²―΄–Μ―É –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Ι –±–Α–Ζ―΄ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α –≤ ―²―΄–Μ–Ψ–≤―É―é –±–Α–Ζ―É –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―² ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Ϋ―É―é –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ ―é–Φ–Η–Ϋ–¥―¹–Κ–Ψ-–≥–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ―É―é –Φ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Ψ-–Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―É―é –±–Μ–Ψ–Κ–Α–¥–Ϋ―É―é –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η―é, –Ϋ–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Β –Ω–Ψ―²–Β―Ä–Η –≤ –Μ―é–¥―è―Ö –Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è―Ö, –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Μ –Ζ–Α–¥–Α―΅―É –Ω–Ψ ―ç–≤–Α–Κ―É–Α―Ü–Η–Η –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―è–≤―à–Η―Ö –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ –≤–Ψ–Ι―¹–Κ –Η ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–Μ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Β ―è–¥―Ä–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α, ―¹–Ψ―Ä–≤–Α–≤ –Ω–Μ–Α–Ϋ―΄ –≤―Ä–Α–≥–Α –Ω–Ψ –Η―Ö ―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―é.
–£ ―ç―²–Ψ–Ι ―¹–≤―è–Ζ–Η –±―É–¥–Β―² ―É–Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α–¥–Α―΅ –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Α –Ϋ–Α–Ω–Α–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α –Γ–Γ–Γ–†, –Ω–Μ–Α–Ϋ–Α –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η ¬Ϊ–ë–Α―Ä–±–Α―Ä–Ψ―¹―¹–Α¬Μ, –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β–¥–Ψ–Ω―É―â–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ―²–≤–Ψ–¥–Α ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η―Ö –≤–Ψ–Ι―¹–Κ –Η ―¹–Η–Μ –≤ –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―É ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Η ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄, ―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Η―Ö –≤ –Ω―Ä–Η–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α―Ö. –ù–Ψ –ö–ë–Λ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ–Η–Μ –≥–Η―²–Μ–Β―Ä–Ψ–≤―Ü–Α–Φ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²―¨ ―ç―²―É –Ζ–Α–¥–Α―΅―É –Ϋ–Α –Φ–Ψ―Ä–Β.
2. –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤ –ö–ë–Λ βÄî –Ψ–¥–Ϋ–Α –Η–Ζ –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ–Β–Ι―à–Η―Ö –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –£–€–Λ, –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ 1941-1945 –≥–≥. –û–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Α –Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Μ–Β–Ϋ–Α –≤ –Ϋ–Α–Η–±–Ψ–Μ–Β–Β ―²―Ä―É–¥–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄, –≤ ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö ―¹―²―Ä–Α―²–Β–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η―Ö –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹–Η–Μ –Η –Ψ―²―Ö–Ψ–¥–Α ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η―Ö –≤–Ψ–Ι―¹–Κ –≤ –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―É ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄, –Κ ―¹―²–Β–Ϋ–Α–Φ –Ϋ–Α―à–Η―Ö –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄―Ö –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤ βÄî –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄ –Η –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Α.
–ö–Α–Κ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―²―¹―è, –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤, –Ϋ–Α―Ä―è–¥―É ―¹ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ–Η –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―΄–Φ–Η –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η―è–Φ–Η, –≤ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Η –Ω–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ –Η―¹―Ö–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ –Ω―É–Ϋ–Κ―²–Ψ–Φ –≤ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Α–±–Ψ―²–Κ–Β ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η –Ϋ–Ψ –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö (–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö) –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η–Κ–Α―Ü–Η–Ι, ―Ä–Α―¹―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α–Β–Φ–Ψ–Ι –≤ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ ―³–Ψ―Ä–Φ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι –Ϋ–Α –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö (–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö) –Δ–£–î.
3. –£ ―Ö–Ψ–¥–Β –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –±–Ψ–Β–≤ –≤ –≠―¹―²–Ψ–Ϋ–Η–Η –Η –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α, –Ω―Ä–Η –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Β –Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Η –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Κ–Η –≤ –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Γ–½–ù –Ω–Ψ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Φ―É ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―é –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Β–Φ―É –ö–ë–Λ, –Ω–Ψ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η –≤–Ζ–Α–Η–Φ–Ψ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –Φ–Β–Ε–¥―É –ö–ë–Λ –Η –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ (–¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Η–Φ) ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Ψ–Φ. –†―è–¥ –Ψ―à–Η–±–Ψ–Κ –±―΄–Μ –¥–Ψ–Ω―É―â–Β–Ϋ –£–Β―Ä―Ö–Ψ–≤–Ϋ―΄–Φ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –£–€–Λ, –ö–ë–Λ –Η –Β–≥–Ψ ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι.
–ü―Ä–Ψ―è–≤–Η–≤―à–Η–Β―¹―è –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Κ–Η –Η –¥–Ψ–Ω―É―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ψ―à–Η–±–Κ–Η –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –≤–Μ–Η―è–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α –≤–Β–Μ–Η―΅–Η–Ϋ―É –Ω–Ψ―²–Β―Ä―¨ –≤ –Μ―é–¥―è―Ö –Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è―Ö –≤ ―Ö–Ψ–¥–Β –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α.
–‰―¹―Ö–Ψ–¥―è –Η–Ζ ―ç―²–Η―Ö –Ψ–±―â–Η―Ö –≤―΄–≤–Ψ–¥–Ψ–≤, –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―²―¹―è ―Ü–Β–Μ–Β―¹–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Φ ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ –Η –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―΅–Α―¹―²–Ϋ―΄–Β –≤―΄–≤–Ψ–¥―΄ –Η–Ζ ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Ι –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α –¥–Μ―è ―³–Ψ―Ä–Φ―É–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è ―É―Ä–Ψ–Κ–Ψ–≤ –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö –≤ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Α―Ö ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η –±–Ψ–Β―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α –†–Ψ―¹―¹–Η–Η. –ü–Β―Ä–≤–Ψ–Β –ß―Ä–Β–Ζ–≤―΄―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ―΄ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η―Ö –Ω–Ψ―²–Β―Ä―¨ –≤ ―Ö–Ψ–¥–Β –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α ―¹ ―²–Ψ―΅–Κ–Η –Ζ―Ä–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Κ –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –±–Ψ―Ä―¨–±–Β –Ϋ–Α –Φ–Ψ―Ä–Β –≤ 1941 –≥. –£–€–Λ –≤ ―Ü–Β–Μ–Ψ–Φ –Η –ö–ë–Λ –≤ ―΅–Α―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –ü―Ä–Η–≤–Β–¥–Β–Φ –¥–Μ―è ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤―΄–¥–Β―Ä–Ε–Β–Κ –Η–Ζ ¬Ϊ–ö―Ä–Α―²–Κ–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Α –Ω–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–≤–Α―Ä–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Η―²–Ψ–≥–Α–Φ –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –Ϋ–Α –Φ–Ψ―Ä–Β 1941-1945¬Μ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –™–€–® –£–€–Λ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η–Μ 5.02.1946 –≥. –Ϋ–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ―É –£–€–Λ [–¥–Ψ–Κ.ⳕ 1412]:
¬Ϊ–Γ―²―Ä―É–Κ―²―É―Ä–Α –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö ―¹–Η–Μ –Γ–Γ–Γ–† –Κ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―É –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄, –≤ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ? –Ϋ–Β ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Α –Ζ–Α–¥–Α―΅–Α–Φ, ―¹―²–Ψ―è–≤―à–Η–Φ –Ω–Β―Ä–Β–¥ ―³–Μ–Ψ―²–Α–Φ–Η. –ö―Ä–Ψ–Φ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –Ω–Ψ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ―É ―³–Μ–Ψ―²―É –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Β ―¹–Η–Μ―΄ –Ϋ–Β ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Η–Φ –Η –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ.
< >
–Γ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ–Φ –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –Ψ―¹–Ψ–±–Ψ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ –Ω–Ψ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è (–Ϋ–Α –ö–ë–Λ. - –†.3.):
–Α) –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ–Κ –≤ ―²―Ä–Α–Μ―¨―â–Η–Κ–Α―Ö, –≤ –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≤ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Η–Φ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Φ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―Ä―É–Ε–Η―è; ―²―Ä–Α–Μ―¨―â–Η–Κ–Η –¥–Μ―è ―²―Ä–Α–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Β–Κ–Ψ–Ϋ―²–Α–Κ―²–Ϋ―΄―Ö –Φ–Η–Ϋ –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η;
–±) –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ–Κ –≤ –Φ–Η–Ϋ–Ψ–Ϋ–Ψ―¹―Ü–Α―Ö –Η ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β–≤―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è―Ö, –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄―Ö –¥–Μ―è –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α―à–Η―Ö –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η–Κ–Α―Ü–Η–Ι, –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η–Κ–Α―Ü–Η–Ι –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α, –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Κ–Η ―³–Μ–Α–Ϋ–≥–Α –Ϋ–Α―à–Η―Ö –≤–Ψ–Ι―¹–Κ; –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –Η–Φ–Β–≤―à–Η–Β―¹―è –Φ–Η–Ϋ–Ψ–Ϋ–Ψ―¹―Ü―΄ –Η ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β–≤―΄–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Η –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ―΄ ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α–Φ–Η –ü–¦–û –Η –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ―΄ ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α–Φ–Η –ü–£–û;
–≤) –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ–Κ –≤ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Φ–Η–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α–≥―Ä–Α–¥–Η―²–Β–Μ―è―Ö ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ–Η;
–≥) –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ–Κ –≤ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ–Α―²–Β―Ä–Α―Ö, ―¹ ―É ―¹–Ω–Β―Ö–Ψ–Φ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η–Κ–Α―Ü–Η–Ι –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Β –Φ–Ψ―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ–Α―²–Β―Ä–Ψ–≤ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–≥–Ψ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è;
–¥) –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ–Κ –≤ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è―Ö –Η –Κ–Α―²–Β―Ä–Α―Ö –ü–¦–û –Η, –≤ ―΅–Α―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η –Κ–Α―²–Β―Ä–Ψ–≤, –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α–Φ–Η –ü–¦–û; ―ç―²–Ψ―² –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ–Κ –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è –≤ ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ –Ψ–±–Μ–Α–¥–Α–Μ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ, ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –≤ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Φ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Η, –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ;
–Β) –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ–Κ –≤ ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α―Ö –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α;
–Ε) –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Β ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –¥–Β―¹–Α–Ϋ―²–Ϋ―΄―Ö ―¹―É–¥–Ψ–≤;
–Ζ) –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Β ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι, ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ―΄―Ö –¥–Μ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –≤–§^ –Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―²―¨ ―ç―³―³–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ―É―é –Ψ–≥–Ϋ–Β–≤―É―é –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Κ―É ―³–Μ–Α–Ϋ–≥―É –Α―Ä–Φ–Η–Η (–Φ–Ψ–Ϋ–Η―²–Ψ―Ä―΄, –Κ–Α–Ϋ–Μ–Ψ–¥–Κ–Η ―¹–Ω–Β―Ü–Η-–Α–Μ―ä–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ–Η);
–Η) –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Β –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Α ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²–Ϋ―΄―Ö –Η―¹―²―Ä–Β–±–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –Η –Ϋ–Ψ–≤ –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Β ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥―΅–Η–Κ–Ψ–≤ –Η –±–Ψ–Φ–±–Α―Ä–¥–Η―Ä–Ψ–≤―â–Η–Κ–Ψ–≤ –Η, –≤ ―΅–Α―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ω–Η–Κ–Η―Ä―É―é―â–Η―Ö –±–Ψ–Φ–±–Α―Ä–¥–Η―Ä–Ψ–≤―â–Η–Κ–Ψ–≤, –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄―Ö –¥–Μ―è ―ç―³―³–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ―΄―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η –Ω–Μ–Α–≤―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α.
–ö ―ç―²–Ψ–Φ―É ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² –¥–Ψ–±–Α–≤–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Β ―¹–Η–Μ―΄ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –Κ –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―²―É –Ϋ–Α–Ω–Α–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α –Ϋ–Α―à―É ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―É –Η–Φ–Β–Μ–Η ―É –Ε–Β –Ω–Ψ―΅―²–Η –¥–≤―É―Ö–≥–Ψ–¥–Η―΅–Ϋ―΄–Ι –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ψ–Ω―΄―², –≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Κ–Α–Κ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –ö–ë–Λ, ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–≤―à–Η–Ι –≤ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ –Η–Ζ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι, –≤―¹―²―É–Ω–Η–≤―à–Η―Ö –≤ ―¹―²―Ä–Ψ–Ι –≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Β –≥–Ψ–¥―΄, –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Μ ―³–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –±–Ψ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Ω―΄―²–Α, –Ϋ–Ψ –Η –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è ―΅–Α―¹―²―¨ ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Α ―¹–Κ–Ψ–Μ–Ψ―΅–Β–Ϋ–Α –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ.
< >
–ù–Α―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Η–Β―¹―è –≤ ―¹―²―Ä–Ψ―é –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –Ω–Ψ ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ―É ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η―é ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Ψ–≤ –Η –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ–Ψ–≤ –Η –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –±―΄–Μ–Η –≥–Ψ―²–Ψ–≤―΄ –Κ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é –Ζ–Α–¥–Α―΅ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β (―Ä–Β―΅―¨, –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ, ―à–Μ–Α –Ψ –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Κ –Ψ–¥–Η–Ϋ–Ψ―΅–Ϋ―΄–Φ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è–Φ. βÄî –†.3.)...
–û―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Β –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –≤―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Β –Φ–Α–Μ–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ω―Ä–Β–±―΄–≤–Α–Ϋ–Η―è –≤ ―¹―²―Ä–Ψ―é –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Κ –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―²―É –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –≤–Ψ ¬Ϊ–≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Μ–Η–Ϋ–Η–Η¬Μ, –Α –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –Β―â–Β –≤ ¬Ϊ–Ψ―Ä–≥–Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥–Β¬Μ.
–Δ–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄–Β –Κ–Α―²–Β―Ä–Α –Ω―Ä–Η–±―Ä–Β–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è ―²–Η–Ω–Α ¬Ϊ–™-5¬Μ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―è–≤–Μ―è–Μ–Η―¹―¨ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Φ ―²–Η–Ω–Ψ–Φ –Κ–Α―²–Β―Ä–Ψ–≤, –±―΄–≤―à–Η―Ö ―É –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Α –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Η, –≤ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β–Ι ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –≤―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Η –≤ ―¹―²―Ä–Ψ–Ι –≤ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ 1934-1935 –≥–≥. –Η –Κ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―É –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –Η–Φ–Β–Μ–Η ―É–Ε–Β –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β.
–ü―Ä–Η–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ―΄–Β ―¹―É–¥–Α (–€–Ψ―Ä―³–Μ–Ψ―²–Α, –†–Β―΅―³–Μ–Ψ―²–Α –Η –¥―Ä. –Ϋ–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ–Α―²–Ψ–≤) –Η–Φ–Β–Μ–Η –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Η–Ζ–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Η –Ζ–Α–Ω―É―â–Β–Ϋ–Ϋ―É―é ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ―É, ―΅―²–Ψ –Η―Ö –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨ –±–Β–Ζ –Ω―Ä–Β–¥–≤–Α―Ä–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Α (―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–≥–Ψ, –Α –Ω–Ψ –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ –Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ). –ü–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Α –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α ―ç―²–Η―Ö ―¹―É–¥–Ψ–≤ –¥–Μ―è –Ψ–±―¹–Μ―É–Ε–Η–≤–Α–Ϋ–Η―è –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ–Ψ–≤ –≤ –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö –Η –Κ –±–Ψ―Ä―¨–±–Β –Ζ–Α –Ε–Η–≤―É―΅–Β―¹―²―¨ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α –Ϋ–Η–Ζ–Κ–Ψ–Φ ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Β. –û―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―è ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Η –±–Ψ―Ä―¨–±―΄ –Ζ–Α –Ε–Η–≤―É―΅–Β―¹―²―¨ –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Β –Ψ―²―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Ϋ―΄. –ê–≤–Α―Ä–Η–Ι–Ϋ―΄–Β ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–Α–≤–Μ―è―é―â–Β–Φ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β ―¹―É–¥–Ψ–≤ –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η.
–û―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ–Κ –≤ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Β ―¹–Η–Μ –Κ –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―²―É –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Α–Μ―¹―è –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –≤–Ζ–Α–Η–Φ–Ψ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Β ―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö ―¹–Η–Μ –Φ–Β–Ε–¥―É ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –Η ―¹ –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α–Φ–Η –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ι –Α―Ä–Φ–Η–Η, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―²–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β –≤–Ζ–Α–Η–Φ–Ψ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Β, –Ψ―²―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ, –Α ―²–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β –≤–Ζ–Α–Η–Φ–Ψ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Β –Ψ–¥–Ϋ–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö ―¹–Η–Μ –±―΄–Μ–Ψ –Ψ―²―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Ϋ–Ψ –Β―â–Β ―¹–Μ–Α–±–Ψ.
–î―Ä―É–≥–Η–Φ –Ψ–±―â–Η–Φ –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Κ–Ψ–Φ ―è–≤–Μ―è–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Β–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Α ―à―²–Α–±–Ψ–≤ –Κ–Α–Κ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Ψ–≤ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è, –Ϋ–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α ―²–Ψ ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Ι –≤ –Ω―Ä–Β–¥–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≥–Ψ–¥―΄―É–¥–Β–Μ―è–Μ–Ψ―¹―¨ –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Β –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β. –Γ–Μ–Α–±―΄–Φ –Φ–Β―¹―²–Ψ–Φ –≤ ―¹–Η―¹―²–Β–Φ–Β –±–Ψ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è ―è–≤–Μ―è–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Β―É–Φ–Β–Ϋ–Η–Β ―à―²–Α–±–Ψ–≤ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨ ―¹–≤–Ψ―é ―Ä–Α–±–Ψ―²―É, –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –Η –≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ ―Ä–Β–Α–≥–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Α –≤―¹–Β –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Η, ―΅–Β―²–Κ–Ψ –Η –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –Ψ―²―Ä–Α–±–Α―²―΄–≤–Α―²―¨ –±–Ψ–Β–≤―΄–Β –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²―΄ –Η –Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Μ―è―²―¨ –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ―¨ –Ζ–Α ―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι –Η –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ζ–Α–¥–Α–Ϋ–Η–Ι.
–Γ–Η―¹―²–Β–Φ–Α, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –¥–Ψ 1941 –≥. ―Ü–Β–Μ–Β―É―¹―²―Ä–Β–Φ–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η –Ϋ–Β –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–≤–Α–Μ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ―²―Ä–Α–±–Ψ―²–Κ–Η –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Η –≤ ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Η–Η ―¹ ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è–Φ–Η ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄.
–Θ–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤–Α–Μ–Ψ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Ψ–¥–Α –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ―΄ –≤ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤―¨ –£–£–Γ:
–Α) –Μ–Β―²–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –Η―¹―²―Ä–Β–±–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Η –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β –±―΄–Μ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ –Κ –±–Ψ–Β–≤―΄–Φ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è–Φ –¥–Ϋ–Β–Φ –≤ –Ω―Ä–Ψ―¹―²―΄―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö, –Ϋ–Ψ –Κ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―É –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ―¹–≤–Α–Η–≤–Α–Μ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β ―²–Η–Ω―΄ –Η―¹―²―Ä–Β–±–Η―²–Β–Μ–Β–Ι. –£–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ ―²–Β–Φ –≤ ―Ü–Β–Μ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Α –Η―¹―²―Ä–Β–±–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Η –Η–Φ–Β–Μ–Α –Η ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Β –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Κ–Η:
1) –Η―¹―²―Ä–Β–±–Η―²–Β–Μ–Η –≤ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ –±―΄–Μ–Η –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ―΄ –Κ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è–Φ –Ω–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²–Η―é –±–Α–Ζ, –≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Κ–Α–Κ –≤ ―Ö–Ψ–¥–Β –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―Ä–Β―à–Α―²―¨ –Ζ–Α–¥–Α―΅–Η –Ω–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²–Η―é –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Β–≤ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Ι –§–Α-–¥–Η―É―¹ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è, –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η―è –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι ―É–¥–Α―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Η, –≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –≤–Ψ–Ζ–¥―É―à–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Η –Η ―². –Ω.-
2) –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Β –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―²―Ä–Β–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Η –≤ –≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Η –≥―Ä―É–Ω–Ω–Ψ–≤―΄―Ö –≤–Ψ–Ζ–¥―É―à–Ϋ―΄―Ö –±–Ψ–Β–≤;
3) ―¹–Μ–Α–±–Α―è –Ϋ–Α―²―Ä–Β–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤ –Ω–Ψ–Μ–Β―²–Α―Ö –Ϋ–Α–¥ –Φ–Ψ―Ä–Β–Φ...;
–≥) –Μ–Β―²–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥―΄–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Η –±―΄–Μ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ –Κ –≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―é –≤–Ψ–Ζ–¥―É―à–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Η –Ϋ–Α –Φ–Ψ―Ä–Β, –Ϋ–Ψ ―²–Η―Ö–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Ψ―¹―²―ä –Η ―¹–Μ–Α–±–Ψ–Β –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Ψ–≤, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ, –Ϋ–Β –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–≤–Α–Μ–Η ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Α–¥–Α―΅...;
–ù–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ –Ψ―²–Φ–Β―²–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Α–Φ–Η, –Ψ―²―Ä–Η―Ü–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–≤―à–Η–Φ–Η―¹―è –Ω–Α ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Η –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―¹–Η–Μ, ―è–≤–Μ―è–Μ–Η―¹―¨:
–Α) ―¹–Η―¹―²–Β–Φ–Α –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η –≤ ―É–Ω―Ä–Ψ―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö, ―¹ ―Ü–Β–Μ―΄–Φ ―Ä―è–¥–Ψ–Φ ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι –Η –Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Β–Ϋ–Η–Ι. –ü–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Α ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤ ―¹–Η–Μ –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ –≤–Ζ–Α–Η–Φ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β ―É–≤―è–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Α―¹―¨, ―¹–Η–Μ―΄ –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ –Ω―Ä–Η–Ϋ―Ü–Η–Ω―É ¬Ϊ–™–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²―¨―¹―è –≤―Ä–Ψ–Ζ―¨, –Α –≤–Ψ–Β–≤–Α―²―¨ –≤–Φ–Β―¹―²–Β¬Μ. –‰–Ϋ–Η―Ü–Η–Α―²–Η–≤–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι, ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι –Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Η–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Η–Ζ–Μ–Η―à–Ϋ–Β–Ι –Ψ–Ω–Β–Κ–Ψ–Ι. –ü–Μ–Ψ―Ö–Ψ –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –±–Ψ–Β–≤–Α―è –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Α ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ–Η ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α–Φ–Η;
–±) –±–Ψ–Μ―¨―à–Α―è ―²–Β–Κ―É―΅–Β―¹―²―¨ –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Ψ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Η –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨ –Ψ–Ω―Ä–Α–≤–¥–Α–Ϋ–Α ―Ä–Ψ―¹―²–Ψ–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Α;
–≤) ―¹–Μ–Α–±–Α―è –Ψ―¹–Ϋ–Α―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―³–Μ–Ψ―²–Α –Η–Μ–Η –Ε–Β –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Β –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Β ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤, –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –±―΄–Μ–Α –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Β–Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―à–Β–¥―à–Η–Φ–Η –Ω–Ψ–Μ―É―²–Ψ―Ä–Α –≥–Ψ–¥–Α–Φ–Η –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ (–£―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι. βÄî'–†.–½.), βÄî―Ä–Α–¥–Η–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Α―Ü–Η–Η, ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤ –Θ–½–ü–ù–Η –Θ–½–ü–Γ, ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤ –Ζ–Α―â–Η―²―΄ –Ψ―² –Ϋ–Β–Κ–Ψ–Ϋ―²–Α–Κ―²–Ϋ―΄―Ö –Φ–Η–Ϋ, –Ω―Ä–Η–±–Ψ―Ä–Ψ–≤ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Β–Ϋ–Η―²–Ϋ―΄–Φ –Ψ–≥–Ϋ–Β–Φ, –Ω―Ä–Η–±–Ψ―Ä–Ψ–≤ –±–Β―¹–Ω―É–Ζ―΄―Ä–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–±―΄ (–¥–Μ―è ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–±―΄ –ü–¦. - –†.–½.), –±–Β―¹–Ω–Μ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α―Ä―è–¥–Ψ–≤ (–¥–Μ―è –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Η. βÄî –†.3.), ―¹–Ϋ–Α―Ä―è–¥–Ψ–≤ ―¹ –Ψ–Κ―Ä–Α―à–Η–≤–Α―é―â–Η–Φ–Η―¹―è –≤―¹–Ω–Μ–Β―¹–Κ–Α–Φ–Η, –Ϋ―΄―Ä―è―é―â–Η–Φ–Η –Η –Ψ―¹–≤–Β―²–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹–Ϋ–Α―Ä―è–¥–Α–Φ–Η –Η ―². –Ω.).
<->
–ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―²
26.02.201400:4426.02.2014 00:44:05
0
25.02.201401:0425.02.2014 01:04:50
–£―΄―è―¹–Ϋ―è–Β―²―¹―è, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α –±–Α―Ä–Ε–Β –Η–Ζ –Ω―Ä–Η―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ζ–Κ–Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―à–Μ–Α–Ϋ–≥, –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, ―Ä–Α–Ζ–Α –≤ ―²―Ä–Η, ―²–Ψ–Ϋ―¨―à–Β –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ ―²–Ψ–Ω–Μ–Η–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―à–Μ–Α–Ϋ–≥–Α –Η ―Ä―É―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Α―¹–Ψ―¹ βÄî –Ω–Ψ–Φ–Ω–Α, ―²–Η–Ω–Α –Ω–Ψ–Ε–Α―Ä–Ϋ–Ψ–Ι, –¥–Μ―è ―Ä―É―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α―΅–Α–Ϋ–Η―è –¥–≤―É–Φ―è –Μ―é–¥―¨–Φ–Η. –Γ–Α–Φ–Α –±–Α―Ä–Ε–Α ―¹–Φ–Ψ–Ε–Β―² ―É–¥–Ψ–≤–Μ–Β―²–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨ –Ϋ–Α―à―É –Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤ ―²–Ψ–Ω–Μ–Η–≤–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α ―²―Ä–Β―²―¨. –€–Ψ―²–Ψ―Ä–Η―¹―²―΄ –Μ–Α–¥―è―² ¬Ϊ–Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ¬Μ –Η ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ω–Α―Ä―É ―΅–Α―¹–Ψ–≤ –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β–Φ ―Ä―É―΅–Ϋ―É―é –Ω–Β―Ä–Β–Κ–Α―΅–Κ―É ―²–Ψ–Ω–Μ–Η–≤–Α ―¹ –±–Α―Ä–Ε–Η –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ―É. ¬Ϊ–‰–Ζ–¥–Β–≤–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ –Κ–Α–Κ–Ψ–Β-―²–Ψ, βÄî –¥―É–Φ–Α―é –Ω―Ä–Ψ ―¹–Β–±―è.βÄî –≠―²–Ψ –Κ–Α–Κ –Ε–Β –Ψ–Ϋ–Η –Κ –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Β –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ ―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η?¬Μ –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ―¹ –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–¥―΅–Η–Κ–Ψ–Φ ―É―Ö–Ψ–¥―è―² –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Ψ ―²–Β–Μ–Β―³–Ψ–Ϋ―É ―¹–≤―è–Ζ–Α―²―¨―¹―è ―¹ –î–Ε–Α–Κ–Α―Ä―²–Ψ–Ι, –Κ―É–¥–Α –≤ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β ―à―²–Α–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –Ω–Β―Ä–Β―à–Μ–Α –Ϋ–Α―à–Α –Ω–Μ–Α–≤–±–Α–Ζ–Α ―¹–Ψ ―à―²–Α–±–Ψ–Φ, –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Ψ―²–¥–Β–Μ–Ψ–Φ –Η –Κ–Ψ–Φ–±―Ä–Η–≥–Ψ–Φ. –†–Β―à–Η–Μ–Η –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨ –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ―É –Ϋ–Α―à–Β–Φ―É –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―É. 
–ß–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –≤ –≥–Α–≤–Α–Ϋ―¨ –≤―Ö–Ψ–¥–Η―² –Η ―à–≤–Α―Ä―²―É–Β―²―¹―è –Κ ―¹―²–Β–Ϋ–Κ–Β ―É –Ϋ–Α―¹ –Ω–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Φ–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Α ¬Ϊ–Γ-235¬Μ. –‰–Ζ –≥–Α–≤–Α–Ϋ–Η –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α―΅―É ―Ä–Α–¥–Η–Ψ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è, –Ϋ–Β―¹–Β–Φ –Ω―Ä–Η–Β–Φ–Ϋ―É―é ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–≤–Α―Ö―²―É. –ù–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Β–Φ ―à–Η―³―Ä–Ψ–≤–Κ―É –Η–Ζ –î–Ε–Α–Κ–Α―Ä―²―΄. –ü―Ä–Β–¥–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²―¨ –Ζ–Α–Ω–Α―¹―΄ ―²–Ψ–Ω–Μ–Η–≤–Α –Ψ―² 235-–Ι, –Α –Β–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Α –±―É–¥–Β―² –Ω–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²―¨ ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Α―è –Ω―Ä–Η―à–Β–¥―à–Α―è –≤ –ë–Η―²―É–Ϋ–≥ –Μ–Ψ–¥–Κ–Α. –Δ–Α–Κ, –Ω–Ψ ―Ü–Β–Ω–Ψ―΅–Κ–Β, –Ω–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è―²―¨―¹―è. –ö –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥―É –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –≤ –Ω–Ψ―Ä―² –Ω―Ä–Η–±―É–¥–Β―² ―²–Α–Ϋ–Κ–Β―Ä, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Β–Β –Η –Ζ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Η―². –£―¹–Β-―²–Α–Κ–Η –Φ―É–¥―Ä―΄–Ι –Ϋ–Α―à –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ! –ù–Β–¥–Α―Ä–Ψ–Φ –Β–≥–Ψ –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ-–Η–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ–Β–Ζ–Η–Ι―¹–Κ–Η –Ζ–≤―É―΅–Η―² ¬Ϊ–¦–Α–Κ―¹–Ψ–Φ–Α–Ϋ–Ψ-–Φ―É–¥–Ψ¬Μ... –£ –Φ–Ψ―Ä–Β ―É –±–Β―Ä–Β–≥–Α –€–Η–Κ–Μ―É―Ö–Η-–€–Α–Κ–Μ–Α―è –ü–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–≤ –Ζ–Α–Ω–Α―¹―΄, –Ζ–Α–Ϋ―è–Μ–Η –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η―é –Η –Ω–Α―²―Ä―É–Μ–Η―Ä―É–Β–Φ –≤ –Ζ–Α–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β. –ü–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η―è –Ϋ–Α―à–Α –Ω―Ä―è–Φ–Ψ –Ϋ–Α ―ç–Κ–≤–Α―²–Ψ―Ä–Β, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ ―²–Ψ–≥–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –ë–Β―Ä–Β–≥–Α –€–Η–Κ–Μ―É―Ö–Η-–€–Α–Κ–Μ–Α―è, –≥–¥–Β –≤–Ψ–¥–Η–Μ –¥―Ä―É–Ε–±―É ―¹ –Ω–Α–Ω―É–Α―¹–Α–Φ–Η –Ϋ–Α―à –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²―΄–Ι –Ζ–Β–Φ–Μ―è–Κ. –≠―²–Ψ βÄî ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η―è –ê–≤―¹―²―Ä–Α–Μ–Η–Η –Η –Φ―΄, –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ –Ϋ–Α –≤―¹―è–Κ–Η–Ι ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι, –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ–Η―Ä―É–Β–Φ –±–Μ–Η–Ε–Α–Ι―à―É―é –Κ –Ϋ–Β–Ι –Α–Κ–≤–Α―²–Ψ―Ä–Η―é. –≠–Κ–≤–Α―²–Ψ―Ä –Ω–Β―Ä–Β―¹–Β–Κ–Α–Β–Φ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ä–Α–Ζ –≤ ―¹―É―²–Κ–Η. –ï―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –±–Β–Ζ ¬Ϊ–ü―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –ù–Β–Ω―²―É–Ϋ–Α¬Μ. –Γ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –≤ –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –Ε–Α―Ä–Κ–Ψ, ―ç―²–Ψ –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨. –î–Ϋ–Β–Φ –Ω–Ψ–¥ –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι –Φ–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è ―²–Β–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Α –≤ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β –Ψ―²―¹–Β–Κ–Ψ–≤ +45' –Γ. –£ ―à–Β―¹―²–Ψ–Φ ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ–Φ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ–Ϋ–Α –¥–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η―² –¥–Ψ 60' –Γ. –Δ–Β–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Α –Ζ–Α–±–Ψ―Ä―²–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–¥―΄ –Ϋ–Α –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Β 100 –Φ - +30' –Γ! –ù–Ψ―΅―¨―é –≤―¹―²–Α–Β–Φ –Ω–Ψ–¥ –†–î–ü, –Ϋ–Ψ ―ç―²–Ψ ―¹–Μ–Α–±–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α–Β―². –ê–Κ–Κ―É–Φ―É–Μ―è―²–Ψ―Ä–Ϋ–Α―è –±–Α―²–Α―Ä–Β―è –Ϋ–Β ―É―¹–Ω–Β–≤–Α–Β―² –Ζ–Α―Ä―è–Ε–Α―²―¨―¹―è –Ζ–Α –Ϋ–Ψ―΅―¨ –Η–Ζ-–Ζ–Α –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–Ι –Ζ–Α–±–Ψ―Ä―²–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Β–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²―É―Ä―΄. –Θ –Μ―é–¥–Β–Ι –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α―é―²―¹―è –Ψ–±–Φ–Ψ―Ä–Ψ–Κ–Η, ―²–Β–Ω–Μ–Ψ–≤―΄–Β ―É–¥–Α―Ä―΄. ¬Ϊ–î–Ψ–Κ¬Μ –Ω–Ψ–Μ–Ζ–Α–Β―² –Ω–Ψ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Α–Φ ―¹–Ψ ―à–Ω―Ä–Η―Ü–Β–Φ, –Ω―Ä–Η–≤–Ψ–¥–Η―² –≤ ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ ―²–Β―Ä―è―é―â–Η―Ö ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Β –Κ–Α–Κ–Η–Φ–Η-―²–Ψ ―É–Κ–Ψ–Μ–Α–Φ–Η. –ü―è―²―΄–Β ―¹―É―²–Κ–Η ―É―²―é–Ε–Η–Φ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ –¥–Ϋ–Β–Φ –Ω–Ψ–¥ –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι, –Ϋ–Ψ―΅―¨―é –Ω–Ψ–¥ –†–î–ü. –î–Α–Ε–Β –Η–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ–Β–Ζ–Η–Ι―Ü―΄ –≤–Β–¥―É―² ―¹–Β–±―è ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ: –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Β–¥―è―², –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–Κ–Α―¹–Α―é―²―¹―è –Κ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É ―¹ ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι ―¹―É―Ö–Ψ–Φ―É –Ω–Α–Ι–Κ―É ―¹–Η–¥―è―² –Ϋ–Α –¥–Η–≤–Α–Ϋ–Β, –Κ–Α–Κ –Κ―É―Ä―΄ –Ϋ–Α –Ϋ–Α―¹–Β―¹―²–Β, –Ω–Ψ–¥–Ε–Α–≤ –Ϋ–Ψ–≥–Η –Η –Ω–Ψ―²–Β―é―²... –ù–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α –Ε–Α―Ä―É –Ϋ–Α―à–Η –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄ ―¹ –Ζ–Α–≤–Η―¹―²―¨―é ―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è―² –Ϋ–Α –Ω–Α–Ι–Κ–Η –Η–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ–Β–Ζ–Η–Ι―Ü–Β–≤. –ß–Β―Ä–Β–Ζ –Ω―Ä–Ψ–Ζ―Ä–Α―΅–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ–Μ–Η―ç―²–Η–Μ–Β–Ϋ–Ψ–≤―΄–Β –Ω–Α–Κ–Β―²―΄ ―è―¹–Ϋ–Ψ –≤–Η–¥–Ϋ―΄ –≤–Η―¹–Κ–Η ¬Ϊ–ë–Μ―ç–Κ ―ç–Ϋ–¥ –Θ–Α–Ι―²¬Μ –Η ―³―Ä–Α–Ϋ―Ü―É–Ζ―¹–Κ–Η–Ι –Κ–Ψ–Ϋ―¨―è–Κ ¬Ϊ–ù–Α–Ω–Ψ–Μ–Β–Ψ–Ϋ¬Μ. –‰–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ–Β–Ζ–Η–Ι―Ü―΄, –Ω–Β―Ä–Β―Ö–≤–Α―²–Η–≤ –Ϋ–Α―à–Η –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥―΄, –Ω―Ä–Ψ―²―è–≥–Η–≤–Α―é―² –Ϋ–Α–Φ –±―É―²―΄–Μ–Κ–Η, –Φ―΄, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β –Ψ―²–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ―¹―è... –™–Ψ―¹―²–Η ―¹ ―É–Ε–Α―¹–Ψ–Φ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α―é―², –Κ–Α–Κ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄, –Ψ–±–Μ–Η–≤–Α―è―¹―¨ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ, –Η―¹–Ω―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α―é―² –Ω–Η―â―É, –Ω―Ä–Β–¥–≤–Α―Ä―è―è –Β–Β, –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ψ, –≥–Μ–Ψ―²–Κ–Ψ–Φ ―¹–Ω–Η―Ä―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ... –î–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η ¬Ϊ–߬Μ, –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –Ϋ–Β–Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄, –Ψ―¹―²–Α–Β―²―¹―è –Φ–Β–Ϋ–Β–Β ―¹―É―²–Ψ–Κ. –ü–Ψ–Κ–Α –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω –Κ –Ϋ–Α–Φ –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ω–Α–¥–Α–Β―². –†–Α–Ι–Ψ–Ϋ –Ω―É―¹―². –ö―Ä–Ψ–Φ–Β –Κ–Ψ―¹―è–Κ–Ψ–≤ ―Ä―΄–± –Α–Κ―É―¹―²–Η–Κ–Η –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Μ―΄―à–Α―². –£–¥―Ä―É–≥... –£ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Β–Α–Ϋ―¹ ―¹–≤―è–Ζ–Η –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Β–Φ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ –≤ –Ϋ–Α―à –Α–¥―Ä–Β―¹. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ζ–Α–Ω–Η―Ä–Α–Β―²―¹―è –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ ―à–Η―³―Ä–Ψ–≤–Α–Μ―¨―â–Η–Κ–Ψ–Φ –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Κ–Α―é―²–Β. –ß―²–Ψ –Ε–Β ―²–Α–Φ –≤ ―à–Η―³―Ä–Ψ–≤–Κ–Β? –£–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ –Φ–Η―Ä–Ϋ―΄–Φ –Ω―É―²–Β–Φ –Γ –≥―Ä–Ψ―Ö–Ψ―²–Ψ–Φ –Ψ―²–Κ―Ä―΄–≤–Α–Β―²―¹―è –¥–≤–Β―Ä―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Α―é―²―΄. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―² ―¹–Ψ–±―Ä–Α―²―¨ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ –Η –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―à–Α–Β―² –≤ –Κ–Α―é―²-–Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η―é –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤-–Η–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ–Β–Ζ–Η–Ι―Ü–Β–≤. –û–±–Μ–Η–≤–Α―è―¹―¨ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ, –Ε–¥–Β–Φ. –Γ–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ―΅–Η―²–Α–Β―² ―à–Η―³―Ä–Ψ–≤–Κ―É. –ù–Ψ ―è –Ω–Ψ –Ϋ–Β―É–Μ–Ψ–≤–Η–Φ―΄–Φ –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Α–Φ –≤–Η–Ε―É, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ ―Ä–Α–¥―É–Β―²―¹―è. ¬Ϊ–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α–Φ –Ω–Μ. ...–Γ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―¹–Β–≥–Ψ –≤―¹–Ω–Μ―΄―²―¨. –£–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―²–Η―²―¨―¹―è –≤ –ë–Η―²―É–Ϋ–≥ –≤ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η. –£ –ë–Η―²―É–Ϋ–≥–Β –Ε–¥–Α―²―¨ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Η―Ö –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η–Ι, –Ϋ–Β ―¹–Ϋ–Η–Ε–Α―è –±–Ψ–Β–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –£–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ –Ψ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –½–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –‰―Ä–Η–Α–Ϋ–Α –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ –Φ–Η―Ä–Ϋ―΄–Φ –Ω―É―²–Β–Φ. –™–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ –£–€–Λ¬Μ. –ù–Α –Μ–Η―Ü–Α―Ö –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ –Ψ–Ε–Η–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β. –£―¹–Ω–Μ―΄–≤–Α–Β–Φ –Ω–Ψ–¥ –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω. –™–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Φ –¥–Η–Ζ–Β–Μ―¨ –Κ –Ω―Ä–Ψ–¥―É–≤–Α–Ϋ–Η―é –±–Α–Μ–Μ–Α―¹―²–Α. –‰–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ–Β–Ζ–Η–Ι―Ü―΄ –≤–Ζ–≤–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ―΄. –Γ―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Φ–Α–Ι–Ψ―Ä –Ω―΄―²–Α–Β―²―¹―è ―É–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨ ―ç―²―É ―à–Η―³―Ä–Ψ–≤–Κ―É –Κ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é. –™–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―², ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ, –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –≥–Ψ–Μ–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Α―è –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Κ–Α―Ü–Η―è. –€―΄ –Η―Ö ―É―¹–Ω–Ψ–Κ–Α–Η–≤–Α–Β–Φ. –· ―Ä–Α–Ζ―ä―è―¹–Ϋ―è―é, ―΅―²–Ψ ―à–Η―³―Ä–Ψ–≤–Κ–Α –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨ ―³–Α–Μ―¨―à–Η–≤–Κ–Ψ–Ι. –Γ–Μ–Η―à–Κ–Ψ–Φ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –Ζ–Ϋ–Α―²―¨ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–¥–Η–Ψ―¹–Β―²–Η –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α―²―¨ –Ζ–Α―à–Η―³―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–≤–Β―Ä―Ö―¹–Β–Κ―Ä–Β―²–Ϋ―΄–Ι ―²–Β–Κ―¹―². –ë–Ψ―Ä–Φ–Ψ―΅–Α ¬Ϊ–™–Ψ–Μ–Μ–Α–Ϋ–¥ βÄî ―Ö–Η―²―Ä―΄–Ι¬Μ, –Η–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ–Β–Ζ–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι –Φ–Α–Ι–Ψ―Ä –Ψ―²―Ö–Ψ–¥–Η―² –Ψ―² –Φ–Β–Ϋ―è. –£–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ –Φ–Η―Ä–Ϋ―΄–Φ –Ω―É―²–Β–Φ –Γ –≥―Ä–Ψ―Ö–Ψ―²–Ψ–Φ –Ψ―²–Κ―Ä―΄–≤–Α–Β―²―¹―è –¥–≤–Β―Ä―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Α―é―²―΄. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―² ―¹–Ψ–±―Ä–Α―²―¨ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ –Η –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―à–Α–Β―² –≤ –Κ–Α―é―²-–Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η―é –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤-–Η–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ–Β–Ζ–Η–Ι―Ü–Β–≤. –û–±–Μ–Η–≤–Α―è―¹―¨ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ, –Ε–¥–Β–Φ. –Γ–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ―΅–Η―²–Α–Β―² ―à–Η―³―Ä–Ψ–≤–Κ―É. –ù–Ψ ―è –Ω–Ψ –Ϋ–Β―É–Μ–Ψ–≤–Η–Φ―΄–Φ –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Α–Φ –≤–Η–Ε―É, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ ―Ä–Α–¥―É–Β―²―¹―è. ¬Ϊ–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α–Φ –Ω–Μ. ...–Γ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―¹–Β–≥–Ψ –≤―¹–Ω–Μ―΄―²―¨. –£–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―²–Η―²―¨―¹―è –≤ –ë–Η―²―É–Ϋ–≥ –≤ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η. –£ –ë–Η―²―É–Ϋ–≥–Β –Ε–¥–Α―²―¨ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Η―Ö –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η–Ι, –Ϋ–Β ―¹–Ϋ–Η–Ε–Α―è –±–Ψ–Β–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –£–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ –Ψ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –½–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –‰―Ä–Η–Α–Ϋ–Α –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ –Φ–Η―Ä–Ϋ―΄–Φ –Ω―É―²–Β–Φ. –™–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ –£–€–Λ¬Μ. –ù–Α –Μ–Η―Ü–Α―Ö –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ –Ψ–Ε–Η–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β. –£―¹–Ω–Μ―΄–≤–Α–Β–Φ –Ω–Ψ–¥ –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω. –™–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Φ –¥–Η–Ζ–Β–Μ―¨ –Κ –Ω―Ä–Ψ–¥―É–≤–Α–Ϋ–Η―é –±–Α–Μ–Μ–Α―¹―²–Α. –‰–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ–Β–Ζ–Η–Ι―Ü―΄ –≤–Ζ–≤–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ―΄. –Γ―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Φ–Α–Ι–Ψ―Ä –Ω―΄―²–Α–Β―²―¹―è ―É–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨ ―ç―²―É ―à–Η―³―Ä–Ψ–≤–Κ―É –Κ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é. –™–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―², ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ, –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –≥–Ψ–Μ–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Α―è –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Κ–Α―Ü–Η―è. –€―΄ –Η―Ö ―É―¹–Ω–Ψ–Κ–Α–Η–≤–Α–Β–Φ. –· ―Ä–Α–Ζ―ä―è―¹–Ϋ―è―é, ―΅―²–Ψ ―à–Η―³―Ä–Ψ–≤–Κ–Α –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨ ―³–Α–Μ―¨―à–Η–≤–Κ–Ψ–Ι. –Γ–Μ–Η―à–Κ–Ψ–Φ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –Ζ–Ϋ–Α―²―¨ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–¥–Η–Ψ―¹–Β―²–Η –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α―²―¨ –Ζ–Α―à–Η―³―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–≤–Β―Ä―Ö―¹–Β–Κ―Ä–Β―²–Ϋ―΄–Ι ―²–Β–Κ―¹―². –ë–Ψ―Ä–Φ–Ψ―΅–Α ¬Ϊ–™–Ψ–Μ–Μ–Α–Ϋ–¥ βÄî ―Ö–Η―²―Ä―΄–Ι¬Μ, –Η–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ–Β–Ζ–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι –Φ–Α–Ι–Ψ―Ä –Ψ―²―Ö–Ψ–¥–Η―² –Ψ―² –Φ–Β–Ϋ―è.
–£―¹–Ω–Μ―΄–Μ–Η! –ù–Α–≤–Β―Ä―Ö―É - ―à―²–Η–Μ―¨, –Ζ–≤―ë–Ζ–¥―΄ ―¹ –Κ―É–Μ–Α–Κ, ¬Ϊ¬Μ –Η –≤―¹–Β –Ω―Ä–Ψ―΅–Η–Β –Ζ–≤–Β–Ζ–¥―΄ –°–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É―à–Α―Ä–Η―è –Ω―Ä–Η–≤–Β―²–Μ–Η–≤–Ψ –Φ–Β―Ä―Ü–Α―é―² –Ϋ–Α–Φ. –£ –Ϋ–Α―Ä―É―à–Β–Ϋ–Η–Β –≤―¹–Β―Ö –Κ–Α–Ϋ–Ψ–Ϋ–Ψ–≤, –±–Μ–Α–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä–Β –Κ–Α–Κ –Ζ–Β―Ä–Κ–Α–Μ–Ψ, –Ψ―²–¥―Ä–Α–Η–≤–Α–Β–Φ –≤―¹–Β –Μ―é–Κ–Η, –≤–Κ–Μ―é―΅–Α―è ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ψ–Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ζ–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι –Η –Μ―é–Κ ―¹–Β–¥―¨–Φ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Α. –î–Η–Ζ–Β–Μ―è –Η –≤–Β–Ϋ―²–Η–Μ―è―²–Ψ―Ä―΄ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―é―² –Ϋ–Α ¬Ϊ–Ω―Ä–Ψ―¹–Ψ―¹¬Μ. –£―΄–Ω―É―¹–Κ–Α–Β–Φ –Ϋ–Α–≤–Β―Ä―Ö –Φ–Α–Κ―¹–Η–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Β –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –Μ―é–¥–Β–Ι. ¬Ϊ–î―΄―à–Η–Φ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ω–Ψ―Ä―΄¬Μ, –Κ–Α–Κ –Μ―é–±–Η―² –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Φ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η―è―²–Β–Μ―¨-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ. –‰–¥–Β–Φ ¬Ϊ–¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι¬Μ βÄî –≤ –ë–Η―²―É–Ϋ–≥, –≤ –Ω―É–Ϋ–Κ―² –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è, –Β―â–Β –Ϋ–Β–¥–Α–≤–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―΄–Ι –Ϋ–Α–Φ, –Α ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι! –ß–Β―¹―²–Ϋ–Ψ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è, ―Ä–Α–¥―É–Β–Φ―¹―è –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η―é ―²–Β–Ω–Μ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Α–¥–Α, –Ϋ–Ψ –Η –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―è –Η–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ–Β–Ζ–Η–Ι―¹–Κ–Ψ-–≥–Ψ–Μ–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―³–Μ–Η–Κ―²–Α, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ϋ–Α―¹ –≤―²―è–Ϋ―É–Μ–Α ―¹―É–¥―¨–±–Α –≤ –Μ–Η―Ü–Β –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –±―΄ ―¹–±―΄–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α―à–Η –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–¥―΄. –™–Μ―è–¥–Η―à―¨, –Η –≤ –Γ–Ψ―é–Ζ ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ –≤–Β―Ä–Ϋ–Β–Φ―¹―è! –û–Ω―è―²―¨ ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Κ–Α –ü–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Φ―΄ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β, –≤ –ë–Η―²―É–Ϋ–≥ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Φ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Φ–Η. –£―Ö–Ψ–¥–Η–Φ –≤ –≥–Α–≤–Α–Ϋ―¨. –ï–Β –Ϋ–Β ―É–Ζ–Ϋ–Α―²―¨. –ù–Α ―Ä–Β–Ι–¥–Β –¥–≤–Α –Η ―É –Ω―Ä–Η―΅–Α–Μ–Α –Ψ–¥–Η–Ϋ –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Ι ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―² ―¹ –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Φ–Η –Κ―Ä–Β―¹―²–Α–Φ–Η –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―²–Α―Ö. –™–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―¹―É–¥–Α βÄî –¥–Μ―è ―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö. ¬Ϊ–Δ―É―² –Ψ–Ϋ–Η –Ω―Ä–Η–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Η―¹―¨¬Μ, - –¥―É–Φ–Α―é –Ω―Ä–Ψ ―¹–Β–±―è. –®–≤–Α―Ä―²―É–Β–Φ―¹―è. –£―¹–Β –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ ―É–Ε–Β ―²―É―². –ù–Α ―¹―²–Β–Ϋ–Κ–Β βÄî ―Ü―΄–≥–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι ―²–Α–±–Ψ―Ä: –Κ–Ψ–Ι–Κ–Η, –¥–Η–≤–Α–Ϋ―΄ –≤―΄―²–Α―â–Β–Ϋ―΄ –Η–Ζ –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ―΄ –Ϋ–Α –≥–Α–Μ–Β―²–Ϋ―΄–Β –Η ―¹―É―Ö–Α―Ä–Ϋ―΄–Β –±–Α–Ϋ–Κ–Η. –ü―Ä–Β–¥–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –Κ–Α–Κ –Φ―΄ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ ―É–±–Β–¥–Η–Μ–Η―¹―¨, –Ϋ–Β –Μ–Η―à–Ϋ―è―è: –Ω–Ψ –Ϋ–Ψ―΅–Α–Φ –Φ–Β–Ε–¥―É –Κ–Ψ–Β–Κ –±–Β–≥–Α―é―² –¥–Β―¹―è―²–Κ–Η –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Κ―Ä―΄―¹. –½–¥–Β―¹―¨ –Ϋ–Α–Φ –Η –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ–Η―² –Ε–¥–Α―²―¨ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―è –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Α. –û–Ω―è―²―¨ ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Κ–Α –ü–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Φ―΄ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β, –≤ –ë–Η―²―É–Ϋ–≥ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Φ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Φ–Η. –£―Ö–Ψ–¥–Η–Φ –≤ –≥–Α–≤–Α–Ϋ―¨. –ï–Β –Ϋ–Β ―É–Ζ–Ϋ–Α―²―¨. –ù–Α ―Ä–Β–Ι–¥–Β –¥–≤–Α –Η ―É –Ω―Ä–Η―΅–Α–Μ–Α –Ψ–¥–Η–Ϋ –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Ι ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―² ―¹ –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Φ–Η –Κ―Ä–Β―¹―²–Α–Φ–Η –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―²–Α―Ö. –™–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―¹―É–¥–Α βÄî –¥–Μ―è ―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö. ¬Ϊ–Δ―É―² –Ψ–Ϋ–Η –Ω―Ä–Η–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Η―¹―¨¬Μ, - –¥―É–Φ–Α―é –Ω―Ä–Ψ ―¹–Β–±―è. –®–≤–Α―Ä―²―É–Β–Φ―¹―è. –£―¹–Β –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ ―É–Ε–Β ―²―É―². –ù–Α ―¹―²–Β–Ϋ–Κ–Β βÄî ―Ü―΄–≥–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι ―²–Α–±–Ψ―Ä: –Κ–Ψ–Ι–Κ–Η, –¥–Η–≤–Α–Ϋ―΄ –≤―΄―²–Α―â–Β–Ϋ―΄ –Η–Ζ –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ―΄ –Ϋ–Α –≥–Α–Μ–Β―²–Ϋ―΄–Β –Η ―¹―É―Ö–Α―Ä–Ϋ―΄–Β –±–Α–Ϋ–Κ–Η. –ü―Ä–Β–¥–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –Κ–Α–Κ –Φ―΄ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ ―É–±–Β–¥–Η–Μ–Η―¹―¨, –Ϋ–Β –Μ–Η―à–Ϋ―è―è: –Ω–Ψ –Ϋ–Ψ―΅–Α–Φ –Φ–Β–Ε–¥―É –Κ–Ψ–Β–Κ –±–Β–≥–Α―é―² –¥–Β―¹―è―²–Κ–Η –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Κ―Ä―΄―¹. –½–¥–Β―¹―¨ –Ϋ–Α–Φ –Η –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ–Η―² –Ε–¥–Α―²―¨ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―è –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Α.
–ö–Ψ–Φ―É-―²–Ψ –Ω―Ä–Η―à–Μ–Α –≤ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―É –Φ―΄―¹–Μ―¨ –Ψ–± –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η ―¹―²–Ψ―è―â–Η―Ö –±–Β–Ζ –¥–Β–Μ–Α –≥–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―¹―É–¥–Ψ–≤ –Κ–Α–Κ –Ω–Μ–Α–≤–Κ–Α–Ζ–Α―Ä–Φ –¥–Μ―è –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Ψ―΅–Μ–Β–≥–Α ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Ι. –ü–Ψ–¥―Ö–≤–Α―²–Η–≤ ―ç―²―É –Η–¥–Β―é, –Φ―΄ ―¹ –£–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β–Ι –ö–Ψ–Μ–Β―¹–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤―΄–Φ –Ω―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Κ–Μ–Η –Ϋ–Α ―¹―²–Ψ―è―â–Β–Β ―É ―¹―²–Β–Ϋ–Κ–Η ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ-–≥–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ―¨. –£–Β―Ä–Ϋ―É–≤―à–Η―¹―¨, ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Α–Φ, –Κ–Α–Κ–Η–Β ―²–Α–Φ –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Β –Κ–Α―é―²―΄ –Η –Κ―É–±―Ä–Η–Κ–Η ―¹ –±–Β–Μ–Ψ―¹–Ϋ–Β–Ε–Ϋ―΄–Φ –±–Β–Μ―¨–Β–Φ. –Γ―²–Α―Ä―à–Η–Ι –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―¨ –Κ–Ψ–Φ–±―Ä–Η–≥–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –Γ–Η–Ϋ–Β–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ - –≤–Β―¹–Β–Μ―¨―΅–Α–Κ –Η –±–Α–Μ–Α–≥―É―Ä, –Φ–Β–Ε–¥―É –Ω―Ä–Ψ―΅–Η–Φ, –Ϋ–Α―΅–Α–Μ –¥–Μ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ω–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―΄ –Ψ –Ϋ–Α―à–Β–Φ –Ω–Β―Ä–Β―¹–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Η. –î–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Ψ–¥–Ϋ–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ –Φ–Ψ–≥–Μ–Ψ –≤–Φ–Β―¹―²–Η―²―¨ –≤―¹–Β –Ϋ–Α―à–Η ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Η. –ù–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―΄ –Ζ–Α―²―è–≥–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨, –Α –Φ―΄ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ–Η ―²–Α–±–Ψ―Ä–Ϋ―É―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨. –Δ―â–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Κ–Α –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ–Ψ–≤ –Η ―É―¹―²―Ä–Ψ–Ι―¹―²–≤ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Α, ―΅―²–Ψ ―²―Ä–Ψ–Ω–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Β –¥–Μ―è –Ϋ–Α―à–Η―Ö ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Κ ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –¥–Α―Ä–Ψ–Φ –Ϋ–Β –Ψ–±–Ψ―à–Μ–Ψ―¹―¨. –†–Β–Ζ–Κ–Ψ ―¹–Ϋ–Η–Ζ–Η–Μ–Α―¹―¨ –Η–Ζ–Ψ–Μ―è―Ü–Η―è ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ―Ü–Β–Ω–Β–Ι, ―΅–Α―¹―²―¨ ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Η–±–Ψ―Ä–Ψ–≤ –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β –≤―΄―à–Μ–Α –Η–Ζ ―¹―²―Ä–Ψ―è, –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ―΄ –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ –Κ–Ψ―Ä―Ä–Ψ–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η. –Θ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥-―¹―²–Α―Ä―É―à–Β–Κ ¬Ϊ53-39¬Μ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η –Ω–Ψ–¥―Ä―΄–≤–Α―²―¨―¹―è –≤–Ψ–Ζ–¥―É―à–Ϋ―΄–Β ―Ä–Β–Ζ–Β―Ä–≤―É–Α―Ä―΄: –≤―΄–Μ–Β―²–Α–Μ–Η –Η―Ö –Ψ–≤–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –¥–Ψ–Ϋ―΄―à–Κ–Η. –ù–Α –Ϋ–Α―à–Β–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥―Ä―΄–≤ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Β–Μ –Ϋ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Β –≤ –Α–Ω–Ω–Α―Ä–Α―²–Β –Η –Ϋ–Α –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι –Ϋ–Α ―¹―²–Β–Μ–Μ–Α–Ε–Β. –ü―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨, –±―É–Κ–≤–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Κ―É–Ω–Α―è―¹―¨ –≤ ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ―²―É, –Ω–Ψ –≤–Β―΅–Β―Ä–Α–Φ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―Ö–Ψ―²―¨ –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ω–Α–¥–Α–Μ–Α –Ε–Α―Ä–Α, –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²―¨ –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η―é –Ω–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–≥―Ä―É–Ζ–Κ–Β ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥, –Ϋ–Β –Η–Φ–Β―è –Ω–Ψ–¥ ―Ä―É–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Η―Ö –±–Α–Ζ–Ψ–≤―΄―Ö ―É―¹―²―Ä–Ψ–Ι―¹―²–≤. –ö ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Ϋ–Η―é, –Ϋ–Α―à–Α –Ω–Μ–Α–≤–±–Α–Ζ–Α ―¹―²–Ψ―è–Μ–Α –≤ –î–Ε–Α–Κ–Α―Ä―²–Β –≤ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β ―à―²–Α–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è. –½–¥–Β―¹―¨ –±―΄ –Ψ–Ϋ–Α –Ϋ–Α–Φ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ω―Ä–Η–≥–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨. –€―΄ –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Ι –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –±―΄ –Ε–Η―²―¨ –Η ―¹ –Β–Β –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨―é –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²―¨ ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―² –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ–Ψ–≤, –Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ―É ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥ –Η ―².–Ω. –ù–Ψ, –Ψ―΅–Β–≤–Η–¥–Ϋ–Ψ, –±–Β–Ζ –Ϋ–Β–Β –Κ–Ψ–Φ–±―Ä–Η–≥ –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Μ –±―΄ ―¹ –Ϋ–Α–Φ–Η –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–¥–Η–Ψ―¹–≤―è–Ζ–Η. –ï–Φ―É –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨ ¬Ϊ–ê―è―Ö―²―É¬Μ –Κ–Α–Κ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è. –‰–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α―²―¨ –Ζ–Α –≥―Ä―É–Ω–Ω–Ψ–Ι –Η–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ–Β–Ζ–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö , –Ω―Ä–Β–¥–Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Μ―è –≤―΄―¹–Α–¥–Κ–Η –Ϋ–Α –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –±–Μ–Η–Ζ–Μ–Β–Ε–Α―â–Η―Ö –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Ψ–≤, –Ζ–Α–Ϋ―è―²―΄―Ö –≥–Ψ–Μ–Μ–Α–Ϋ–¥―Ü–Α–Φ–Η, ―¹ ―Ü–Β–Μ―¨―é –≤―΄–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –Η–Ζ ―¹―²―Ä–Ψ―è ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Α–Φ –Ω―Ä–Η–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–¥–Η–Ψ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η. –≠―²–Η –Μ―é–¥–Η –±―΄–Μ–Η –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ―΄ –Μ–Β–≥–Κ–Η–Φ–Η ―΅–Β―Ö–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Α―Ü–Κ–Η–Φ–Η –Α–≤―²–Ψ–Φ–Α―²–Α–Φ–Η, –≥―Ä–Α–Ϋ–Α―²–Α–Φ–Η, –Ϋ–Ψ–Ε–Α–Φ–Η. –û–¥–Β―²―΄ –≤ –Ω–Β―¹―²―Ä―΄–Β –Φ–Α―¹–Κ–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ―΅–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ–Φ–±–Η–Ϋ–Β–Ζ–Ψ–Ϋ―΄ ¬Ϊ–Ω–Ψ–¥ –¥–Ε―É–Ϋ–≥–Μ–Η¬Μ –Η ―²–Α–Κ–Η–Β –Ε–Β –±–Β―Ä–Β―²―΄. –½–Α ―¹–Ω–Η–Ϋ–Ψ–Ι ―É –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–≥–Ψ βÄî –Ω–Ψ―Ä―²–Α―²–Η–≤–Ϋ–Α―è ―Ä–Α―Ü–Η―è. –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Η―Ö –Η–Φ–Β–Β―² –Ϋ–Α –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Α―à–Α –Φ–Η–Μ–Η―Ü–Η―è, –Ϋ–Ψ ―²–Ψ–≥–¥–Α –Φ―΄ –≤–Η–¥–Β–Μ–Η ―²–Α–Κ–Η–Β ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β. –Δ―Ä–Β–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ –Ϋ–Α―à–Η―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ. –Δ―Ä–Β–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Α –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α ―²–Α–Κ. –™―Ä―É–Ω–Ω–Α, ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Η–Ζ –¥–≤–Α–¥―Ü–Α―²–Η –Ω―è―²–Η βÄî ―²―Ä–Η–¥―Ü–Α―²–Η –≥―Ä―É–Ζ–Η–Μ–Α―¹―¨ –≤ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –Ψ―²―¹–Β–Κ –Μ–Ψ–¥–Κ–Η. –½–Α―²–Β–Φ –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Ψ―²―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α –Ψ―² ―¹―²–Β–Ϋ–Κ–Η, ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α ―è–Κ–Ψ―Ä―¨ –≤ –±―É―Ö―²–Β. –û―²–¥―Ä–Α–Η–≤–Α–Μ―¹―è ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ψ–Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ζ–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι –Μ―é–Κ. –ß–Β―Ä–Β–Ζ ―ç―²–Ψ―² –Μ―é–Κ –≤–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β –≤―΄―¹–Κ–Α–Κ–Η–≤–Α–Μ–Ψ –¥–≤–Α-―²―Ä–Η –¥–Β―¹–Α–Ϋ―²–Ϋ–Η–Κ–Α ―¹–Ψ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Α–¥―É–≤–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Β–Ζ–Η–Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Ψ–Ι. –½–Α―²–Β–Φ, ―¹ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨―é –Ω–Ψ–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Α ―à–Μ–Α–Ϋ–≥–Α, –Ψ–Ϋ–Η –±―É–Κ–≤–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤ ―¹–Β–Κ―É–Ϋ–¥―΄ –Ϋ–Α–¥―É–≤–Α–Μ–Η –Μ–Ψ–¥–Κ―É –Η ―¹–±―Ä–Α―¹―΄–≤–Α–Μ–Η –Β–Β –Ζ–Α –±–Ψ―Ä―². –ü–Ψ―²–Ψ–Φ –≤ –Ϋ–Β–Β ―à―É―¹―²―Ä–Ψ –Ω―Ä―΄–≥–Α–Μ–Η ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ ―à–Β―¹―²―¨ –Η –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η―è –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä―è–Μ–Α―¹―¨ ―¹–Ψ ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–Ι –≥―Ä―É–Ω–Ω–Ψ–Ι. –ß–Β―Ä–Β–Ζ –Ω―è―²―¨-–¥–Β―¹―è―²―¨ –Φ–Η–Ϋ―É―² –Ϋ–Α–¥―É–≤–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ―É―¹―²―Ä–Β–Φ–Μ―è–Μ–Η―¹―¨ –Κ –±–Β―Ä–Β–≥―É, –Η –¥–Β―¹–Α–Ϋ―² –≤―΄―¹–Α–Ε–Η–≤–Α–Μ―¹―è. –ù–Α –±–Β―Ä–Β–≥―É –¥–Β―¹–Α–Ϋ―²–Ϋ–Η–Κ–Η ―΅–Α―¹―²–Ψ ―É–¥–Η–≤–Μ―è–Μ–Η –Ϋ–Α―¹ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η ―²―Ä–Β–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Α–Φ–Η βÄî ―¹–Ψ―Ä–Β–≤–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è–Φ–Η –Ω–Ψ –Φ–Β―²–Α–Ϋ–Η―é –Ϋ–Ψ–Ε–Β–Ι –≤ ―Ü–Β–Μ―¨. –ù–Α –¥–Β―Ä–Β–≤―è–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ζ–Α–±–Ψ―Ä–Β ―Ä–Η―¹–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Κ―Ä―É–≥ –Η –≤ –Β–≥–Ψ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä –Φ–Β―²–Α–Μ–Η –Ϋ–Ψ–Ε–Η –Η–Ζ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Ι: ―¹―²–Ψ―è, –Μ–Β–Ε–Α, ―¹–±–Ψ–Κ―É –Η –¥–Α–Ε–Β –Η–Ζ-–Ζ–Α ―¹–Ω–Η–Ϋ―΄. –†–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²―΄ –±―΄–Μ–Η –±–Μ–Β―¹―²―è―â–Η: –Ϋ–Ψ–Ε –Ϋ–Β–Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―²–Ψ―Ä―΅–Α–Μ –≤ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Β –Κ―Ä―É–≥–Α. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ –¥–Β―¹–Α–Ϋ―²–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η –Ϋ–Β–Κ–Η–Ι –Ω–Ψ–¥–Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ, ―¹―É–¥―è –Ω–Ψ –Β–≥–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤–Α–Φ –±―΄–≤―à–Η–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η. –· –Ψ–±―Ä–Α―²–Η–Μ –Β–≥–Ψ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ ―É –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ ―¹ ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Η―Ö ―¹―ä–Β―¹―²–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Η–Ω–Α―¹–Ψ–≤. –û–Ϋ –Φ–Β–Ϋ―è ―É―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Η–Μ: ¬Ϊ–≠―²–Η –Μ―é–¥–Η –Φ–Ψ–≥―É―² –Ε–Η―²―¨ –≤ –¥–Ε―É–Ϋ–≥–Μ―è―Ö –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ, –Ω–Η―²–Α―è―¹―¨ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Μ–Ψ–¥–Α–Φ–Η –Μ–Β―¹–Α. –û–Ϋ–Η ―²–Α–Κ ¬Μ. –‰–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α―²―¨ –Ζ–Α –≥―Ä―É–Ω–Ω–Ψ–Ι –Η–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ–Β–Ζ–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö , –Ω―Ä–Β–¥–Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Μ―è –≤―΄―¹–Α–¥–Κ–Η –Ϋ–Α –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –±–Μ–Η–Ζ–Μ–Β–Ε–Α―â–Η―Ö –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Ψ–≤, –Ζ–Α–Ϋ―è―²―΄―Ö –≥–Ψ–Μ–Μ–Α–Ϋ–¥―Ü–Α–Φ–Η, ―¹ ―Ü–Β–Μ―¨―é –≤―΄–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –Η–Ζ ―¹―²―Ä–Ψ―è ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Α–Φ –Ω―Ä–Η–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–¥–Η–Ψ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η. –≠―²–Η –Μ―é–¥–Η –±―΄–Μ–Η –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ―΄ –Μ–Β–≥–Κ–Η–Φ–Η ―΅–Β―Ö–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Α―Ü–Κ–Η–Φ–Η –Α–≤―²–Ψ–Φ–Α―²–Α–Φ–Η, –≥―Ä–Α–Ϋ–Α―²–Α–Φ–Η, –Ϋ–Ψ–Ε–Α–Φ–Η. –û–¥–Β―²―΄ –≤ –Ω–Β―¹―²―Ä―΄–Β –Φ–Α―¹–Κ–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ―΅–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ–Φ–±–Η–Ϋ–Β–Ζ–Ψ–Ϋ―΄ ¬Ϊ–Ω–Ψ–¥ –¥–Ε―É–Ϋ–≥–Μ–Η¬Μ –Η ―²–Α–Κ–Η–Β –Ε–Β –±–Β―Ä–Β―²―΄. –½–Α ―¹–Ω–Η–Ϋ–Ψ–Ι ―É –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–≥–Ψ βÄî –Ω–Ψ―Ä―²–Α―²–Η–≤–Ϋ–Α―è ―Ä–Α―Ü–Η―è. –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Η―Ö –Η–Φ–Β–Β―² –Ϋ–Α –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Α―à–Α –Φ–Η–Μ–Η―Ü–Η―è, –Ϋ–Ψ ―²–Ψ–≥–¥–Α –Φ―΄ –≤–Η–¥–Β–Μ–Η ―²–Α–Κ–Η–Β ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β. –Δ―Ä–Β–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ –Ϋ–Α―à–Η―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ. –Δ―Ä–Β–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Α –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α ―²–Α–Κ. –™―Ä―É–Ω–Ω–Α, ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Η–Ζ –¥–≤–Α–¥―Ü–Α―²–Η –Ω―è―²–Η βÄî ―²―Ä–Η–¥―Ü–Α―²–Η –≥―Ä―É–Ζ–Η–Μ–Α―¹―¨ –≤ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –Ψ―²―¹–Β–Κ –Μ–Ψ–¥–Κ–Η. –½–Α―²–Β–Φ –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Ψ―²―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α –Ψ―² ―¹―²–Β–Ϋ–Κ–Η, ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α ―è–Κ–Ψ―Ä―¨ –≤ –±―É―Ö―²–Β. –û―²–¥―Ä–Α–Η–≤–Α–Μ―¹―è ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ψ–Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ζ–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι –Μ―é–Κ. –ß–Β―Ä–Β–Ζ ―ç―²–Ψ―² –Μ―é–Κ –≤–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β –≤―΄―¹–Κ–Α–Κ–Η–≤–Α–Μ–Ψ –¥–≤–Α-―²―Ä–Η –¥–Β―¹–Α–Ϋ―²–Ϋ–Η–Κ–Α ―¹–Ψ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Α–¥―É–≤–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Β–Ζ–Η–Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Ψ–Ι. –½–Α―²–Β–Φ, ―¹ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨―é –Ω–Ψ–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Α ―à–Μ–Α–Ϋ–≥–Α, –Ψ–Ϋ–Η –±―É–Κ–≤–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤ ―¹–Β–Κ―É–Ϋ–¥―΄ –Ϋ–Α–¥―É–≤–Α–Μ–Η –Μ–Ψ–¥–Κ―É –Η ―¹–±―Ä–Α―¹―΄–≤–Α–Μ–Η –Β–Β –Ζ–Α –±–Ψ―Ä―². –ü–Ψ―²–Ψ–Φ –≤ –Ϋ–Β–Β ―à―É―¹―²―Ä–Ψ –Ω―Ä―΄–≥–Α–Μ–Η ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ ―à–Β―¹―²―¨ –Η –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η―è –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä―è–Μ–Α―¹―¨ ―¹–Ψ ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–Ι –≥―Ä―É–Ω–Ω–Ψ–Ι. –ß–Β―Ä–Β–Ζ –Ω―è―²―¨-–¥–Β―¹―è―²―¨ –Φ–Η–Ϋ―É―² –Ϋ–Α–¥―É–≤–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ―É―¹―²―Ä–Β–Φ–Μ―è–Μ–Η―¹―¨ –Κ –±–Β―Ä–Β–≥―É, –Η –¥–Β―¹–Α–Ϋ―² –≤―΄―¹–Α–Ε–Η–≤–Α–Μ―¹―è. –ù–Α –±–Β―Ä–Β–≥―É –¥–Β―¹–Α–Ϋ―²–Ϋ–Η–Κ–Η ―΅–Α―¹―²–Ψ ―É–¥–Η–≤–Μ―è–Μ–Η –Ϋ–Α―¹ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η ―²―Ä–Β–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Α–Φ–Η βÄî ―¹–Ψ―Ä–Β–≤–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è–Φ–Η –Ω–Ψ –Φ–Β―²–Α–Ϋ–Η―é –Ϋ–Ψ–Ε–Β–Ι –≤ ―Ü–Β–Μ―¨. –ù–Α –¥–Β―Ä–Β–≤―è–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ζ–Α–±–Ψ―Ä–Β ―Ä–Η―¹–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Κ―Ä―É–≥ –Η –≤ –Β–≥–Ψ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä –Φ–Β―²–Α–Μ–Η –Ϋ–Ψ–Ε–Η –Η–Ζ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Ι: ―¹―²–Ψ―è, –Μ–Β–Ε–Α, ―¹–±–Ψ–Κ―É –Η –¥–Α–Ε–Β –Η–Ζ-–Ζ–Α ―¹–Ω–Η–Ϋ―΄. –†–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²―΄ –±―΄–Μ–Η –±–Μ–Β―¹―²―è―â–Η: –Ϋ–Ψ–Ε –Ϋ–Β–Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―²–Ψ―Ä―΅–Α–Μ –≤ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Β –Κ―Ä―É–≥–Α. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ –¥–Β―¹–Α–Ϋ―²–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η –Ϋ–Β–Κ–Η–Ι –Ω–Ψ–¥–Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ, ―¹―É–¥―è –Ω–Ψ –Β–≥–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤–Α–Φ –±―΄–≤―à–Η–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η. –· –Ψ–±―Ä–Α―²–Η–Μ –Β–≥–Ψ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ ―É –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ ―¹ ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Η―Ö ―¹―ä–Β―¹―²–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Η–Ω–Α―¹–Ψ–≤. –û–Ϋ –Φ–Β–Ϋ―è ―É―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Η–Μ: ¬Ϊ–≠―²–Η –Μ―é–¥–Η –Φ–Ψ–≥―É―² –Ε–Η―²―¨ –≤ –¥–Ε―É–Ϋ–≥–Μ―è―Ö –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ, –Ω–Η―²–Α―è―¹―¨ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Μ–Ψ–¥–Α–Φ–Η –Μ–Β―¹–Α. –û–Ϋ–Η ―²–Α–Κ ¬Μ.  –ü–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α βÄî –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ βÄî –Κ–Α–Κ-―²–Ψ –≤ ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Β ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Η–Φ–Β–Β―² –Ϋ–Β–Φ–Α–Μ―΄–Ι –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ψ–Ω―΄―², –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤ ―΅–Α―¹―²―è―Ö –≤–Ψ–Ι―¹–Κ –û–û–ù. –ë―΄–Μ –Ψ–Ϋ –Η –≤ –ö–Ψ–Ϋ–≥–Ψ, –Η –≤ –ê–Ϋ–≥–Ψ–Μ–Β, –Η –Β―â–Β –≥–¥–Β-―²–Ψ. ¬Ϊ–£–Ψ―² ―Ä–Ψ–¥–Η―²―¹―è ―É –Φ–Β–Ϋ―è ―¹―΄–Ϋ βÄî –Ϋ–Α–Ζ–Ψ–≤―É –Β–≥–Ψ –•―É–Κ–Ψ–≤¬Μ βÄî –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ –Ψ–Ϋ. ¬Ϊ–•―É–Κ–Ψ–≤ βÄî ―ç―²–Ψ –Ε–Β ―³–Α–Φ–Η–Μ–Η―è¬Μ βÄî ―²–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Α–Μ ―è –Β–Φ―É, –Ϋ–Ψ –Ψ–Ϋ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ –Η–Μ–Η –Ϋ–Β ―Ö–Ψ―²–Β–Μ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨. –ü―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α―é―¹―¨, ―ç―²–Ψ –≤―΄–Ζ–≤–Α–Μ–Ψ ―É –Φ–Β–Ϋ―è –≥–Ψ―Ä–¥–Ψ―¹―²―¨ –Ζ–Α –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―Ü–Α. –ü–Ψ–¥–Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ βÄî –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –¥–Β―¹–Α–Ϋ―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Κ–Α–Κ-―²–Ψ –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―¹–Η–Μ –Ϋ–Α―¹ –≤ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ –Κ–Μ―É–±, ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Β–¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –Ψ―² –Ω–Ψ―Ä―²–Α. –£ ―ç―²–Ψ–Φ –Κ–Μ―É–±–Β –Ψ–Ϋ –≤–Β–Μ ―¹–Β–±―è –Κ–Α–Κ –≥–Ψ―¹―²–Β–Ω―Ä–Η–Η–Φ–Ϋ―΄–Ι ―Ö–Ψ–Ζ―è–Η–Ϋ. –ù–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β, –¥―΄–Φ ―¹―²–Ψ―è–Μ –Κ–Ψ―Ä–Ψ–Φ―΄―¹–Μ–Ψ–Φ: –≥―Ä–Β–Φ–Β–Μ–Α –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α, ―²–Α–Ϋ―Ü–Β–≤–Α–Μ–Η –Κ–Α–Κ–Η–Β-―²–Ψ –¥–Β–≤–Η―Ü―΄, –Ϋ–Α ―¹―²–Ψ–Μ–Α―Ö ―¹―²–Ψ―è–Μ–Η –Ζ–Α–Κ―É―¹–Κ–Η, –≤―΄–Ω–Η–≤–Κ–Α. –î–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ–Α –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–Μ–Α –Ϋ–Α–Φ ―²–Α–Φ –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –Ζ–Α–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α―²―¨―¹―è, –Η –Φ―΄, –Ψ―²–¥–Α–≤ –¥–Ψ–Μ–≥ –≤–Β–Ε–Μ–Η–≤–Ψ―¹―²–Η, ―É–¥–Α–Μ–Η–Μ–Η―¹―¨. –£–Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Η –Φ―΄ ―É–Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ―É –Ω―Ä–Η–Ϋ–Α–¥–Μ–Β–Ε–Η―² –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―ç―²–Ψ―² –Κ–Μ―É–±, –Ϋ–Ψ –Η –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥―Ä―É–≥–Η―Ö, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ω―É–±–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Β –¥–Ψ–Φ–Α –≤ –Γ―É―Ä–Α–±–Α–Ι–Β, –î–Ε–Α–Κ–Α―Ä―²–Β –Η –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Φ–Β―¹―²–Α―Ö ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄. –û–Ϋ –±―΄–Μ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –±–Ψ–≥–Α―²―΄–Φ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Φ –Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è ―¹–Μ―É–Ε–±–Α –¥–Μ―è –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Α –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Φ –Η―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è. –ö–Α–Ω–Η―²–Α–Μ–Η–Ζ–Φ –Β―¹―²―¨ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Μ–Η–Ζ–Φ... –Δ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Ψ–¥–Α –≤―΄–Μ–Α–Ζ–Κ–Α –±―΄–Μ–Α –Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι. –£ –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –¥–Ϋ–Η ¬Ϊ–≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ –ë–Η―²―É–Ϋ–≥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Η–¥–Β–Ϋ–Η―è¬Μ –±―΄–Μ–Η –Ζ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ―΄ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Φ–Η, ―²―Ä–Β–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Α–Φ–Η –≤ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–±–Β –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Η–±–Ψ―Ä–Α―Ö –Η –Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Η―Ö –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥ –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Α. –ü–Ψ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ –Φ―΄ ―¹–Μ―΄―à–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –¥–Ψ–Κ―²–Ψ―Ä –Γ―É–±–Α–Ϋ–¥―Ä–Η–Ψ, –Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä –Η–Ϋ–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –¥–Β–Μ –‰–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ–Β–Ζ–Η–Η, –≤–Β–¥–Β―² –Ω–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―΄ ―¹ –≥–Ψ–Μ–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Η–Φ–Η –¥–Η–Ω–Μ–Ψ–Φ–Α―²–Α–Φ–Η –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É-―²–Ψ –≤ –Γ–®–ê. –ù–Α –¥–Β–≤―è―²―΄–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ ¬Ϊ―¹–Η–¥–Β–Ϋ–Η―è¬Μ –Ϋ–Α–Φ –Ϋ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü-―²–Ψ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Η–Μ–Η –Ω–Β―Ä–Β–Β―Ö–Α―²―¨ ―¹ –Ω―Ä–Η―΅–Α–Μ–Α –Ϋ–Α –≥–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ. –Γ–Ω–Α–Μ–Η –Φ―΄ ―ç―²–Ψ–Ι –Ϋ–Ψ―΅―¨―é –≤ –Κ–Α―é―²–Α―Ö ―¹ –Κ–Ψ–Ϋ–¥–Η―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Β―Ä–Α–Φ–Η, –Κ–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―² ―É –Ϋ–Α―¹ –≤ –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ–Ι –†–Ψ―¹―¹–Η–Η ¬Ϊ–±–Β–Ζ –Ζ–Α–¥–Ϋ–Η―Ö –Ϋ–Ψ–≥¬Μ. –Θ―²―Ä–Ψ–Φ ―¹ ―É–¥–Η–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―É–≤–Η–¥–Β–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ ―¹―É―Ä–Ψ–≤―΄–Β –¥–Β―¹–Α–Ϋ―²–Ϋ–Η–Κ–Η –±―΄–Μ–Η –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É-―²–Ψ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –≤–Β―¹–Β–Μ―΄. –û–Ϋ–Η –±―Ä–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Ω–Ψ –Ω―Ä–Η―΅–Α–Μ―É –≥―Ä―É–Ω–Ω–Κ–Α–Φ–Η, –Ψ–±–Ϋ―è–≤―à–Η―¹―¨ –Η –≥–Μ–Ψ―²–Α―è –Η–Ζ –±―É―²―΄–Μ–Ψ–Κ –Κ–Α–Κ―É―é-―²–Ψ –Φ―É―²–Ϋ―É―é –Ε–Η–¥–Κ–Ψ―¹―²―¨, –Ω–Ψ―Ö–Ψ–Ε―É―é –Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ–Ϋ. –£ ―΅–Β–Φ ―²―É―² –¥–Β–Μ–Ψ? –ü–Ψ―΅–Β–Φ―É ―É –≤―¹–Β―Ö –Η–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ–Β–Ζ–Η–Ι―Ü–Β–≤ –Ω―Ä–Η–Ω–Ψ–¥–Ϋ―è―²–Ψ–Β –Ϋ–Α―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η–Β? –£–Ω―Ä–Ψ―΅–Β–Φ ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ –≤―¹―ë ―¹―²–Α–Μ–Ψ ―è―¹–Ϋ–Ψ. –£ ―à–Η―³―Ä–Ψ–≤–Κ–Β, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Ψ―΅―¨―é, –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α―΅–Η ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Η –½–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –‰―Ä–Η–Α–Ϋ–Α –‰–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ–Β–Ζ–Η–Η ―Ä–Β―à–Β–Ϋ –Φ–Η―Ä–Ϋ―΄–Φ –Ω―É―²–Β–Φ. –ù–Α―à–Η–Φ –Μ–Ψ–¥–Κ–Α–Φ –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Η―¹―΄–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―²–Η―²―¨―¹―è –≤ –Γ―É―Ä–Α–±–Α–Ι―é –Η –Ω―Ä–Η―¹―²―É–Ω–Η―²―¨ –Κ –Ψ–±―É―΅–Β–Ϋ–Η―é –Η–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ–Β–Ζ–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Ι ―¹ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Β–Ι –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α―΅–Β–Ι –Η–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι. –û―΅–Β–≤–Η–¥–Ϋ–Ψ ¬Ϊ―Ö–Η―²―Ä―΄–Ι –≥–Ψ–Μ–Μ–Α–Ϋ–¥¬Μ –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ, ―΅―²–Ψ –Ζ–Α ―¹–Η–Μ–Η―â–Α –Β–Φ―É –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Η―². –· –Η–Φ–Β―é –≤ –≤–Η–¥―É –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, –Ϋ–Ψ –Η –Α–≤–Η–Α―Ü–Η―é, ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ―΄–Β ―΅–Α―¹―²–Η –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β ¬Ϊ–¥–Ψ–±―Ä–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―΅–Β―¹–Κ–Η–Β¬Μ –Ω–Ψ–¥―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è. –Γ―²–Α–Μ–Ψ –Ζ–Α–Φ–Β―²–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ ―¹―É―Ä–Ψ–≤―΄–Β –Η–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ–Β–Ζ–Η–Ι―Ü―΄ βÄî ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ ―¹–Β–Φ–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²–Η–Μ–Β―²–Ϋ–Η–Β ―Ä–Β–±―è―²–Α, –Η –Ψ–Ϋ–Η, ―²–Α–Κ–Ε–Β –Κ–Α–Κ –Η –≤―¹–Β –Μ―é–¥–Η –Ϋ–Α –½–Β–Φ–Μ–Β, –±–Β–Ζ―É–Φ–Ϋ–Ψ –Μ―é–±―è―² –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨. ¬Ϊ–Δ–Α–Κ-―²–Ψ, –Ϋ–Α―à –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ–Ι –ù–Η–Κ–Η―²–Α –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Η―΅, –¥–Ψ–Κ―²–Ψ―Ä –Γ―É–Κ–Α―Ä–Ϋ–Ψ, –¥–Ψ–Κ―²–Ψ―Ä –Γ―É–±–Α–Ϋ–¥―Ä–Η–Ψ –Η ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Η –€–Α–Μ–Η–Ϋ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι ―¹ –™–Ψ―Ä―à–Κ–Ψ–≤―΄–Φ, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –‰–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ–Β–Ζ–Η–Η ―É–≤–Α–Ε–Α–Β–Φ―΄–Ι –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ –ù–Α―¹―É―²–Η–Ψ–Ϋ!¬Μ βÄî –¥―É–Φ–Α–Μ ―è, –≥–Ψ―²–Ψ–≤―è –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –Κ –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥―É –≤ –Γ―É―Ä–Α–±–Α–Ι―é. –ü–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α βÄî –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ βÄî –Κ–Α–Κ-―²–Ψ –≤ ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Β ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Η–Φ–Β–Β―² –Ϋ–Β–Φ–Α–Μ―΄–Ι –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ψ–Ω―΄―², –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤ ―΅–Α―¹―²―è―Ö –≤–Ψ–Ι―¹–Κ –û–û–ù. –ë―΄–Μ –Ψ–Ϋ –Η –≤ –ö–Ψ–Ϋ–≥–Ψ, –Η –≤ –ê–Ϋ–≥–Ψ–Μ–Β, –Η –Β―â–Β –≥–¥–Β-―²–Ψ. ¬Ϊ–£–Ψ―² ―Ä–Ψ–¥–Η―²―¹―è ―É –Φ–Β–Ϋ―è ―¹―΄–Ϋ βÄî –Ϋ–Α–Ζ–Ψ–≤―É –Β–≥–Ψ –•―É–Κ–Ψ–≤¬Μ βÄî –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ –Ψ–Ϋ. ¬Ϊ–•―É–Κ–Ψ–≤ βÄî ―ç―²–Ψ –Ε–Β ―³–Α–Φ–Η–Μ–Η―è¬Μ βÄî ―²–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Α–Μ ―è –Β–Φ―É, –Ϋ–Ψ –Ψ–Ϋ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ –Η–Μ–Η –Ϋ–Β ―Ö–Ψ―²–Β–Μ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨. –ü―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α―é―¹―¨, ―ç―²–Ψ –≤―΄–Ζ–≤–Α–Μ–Ψ ―É –Φ–Β–Ϋ―è –≥–Ψ―Ä–¥–Ψ―¹―²―¨ –Ζ–Α –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―Ü–Α. –ü–Ψ–¥–Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ βÄî –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –¥–Β―¹–Α–Ϋ―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Κ–Α–Κ-―²–Ψ –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―¹–Η–Μ –Ϋ–Α―¹ –≤ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ –Κ–Μ―É–±, ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Β–¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –Ψ―² –Ω–Ψ―Ä―²–Α. –£ ―ç―²–Ψ–Φ –Κ–Μ―É–±–Β –Ψ–Ϋ –≤–Β–Μ ―¹–Β–±―è –Κ–Α–Κ –≥–Ψ―¹―²–Β–Ω―Ä–Η–Η–Φ–Ϋ―΄–Ι ―Ö–Ψ–Ζ―è–Η–Ϋ. –ù–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β, –¥―΄–Φ ―¹―²–Ψ―è–Μ –Κ–Ψ―Ä–Ψ–Φ―΄―¹–Μ–Ψ–Φ: –≥―Ä–Β–Φ–Β–Μ–Α –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α, ―²–Α–Ϋ―Ü–Β–≤–Α–Μ–Η –Κ–Α–Κ–Η–Β-―²–Ψ –¥–Β–≤–Η―Ü―΄, –Ϋ–Α ―¹―²–Ψ–Μ–Α―Ö ―¹―²–Ψ―è–Μ–Η –Ζ–Α–Κ―É―¹–Κ–Η, –≤―΄–Ω–Η–≤–Κ–Α. –î–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ–Α –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–Μ–Α –Ϋ–Α–Φ ―²–Α–Φ –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –Ζ–Α–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α―²―¨―¹―è, –Η –Φ―΄, –Ψ―²–¥–Α–≤ –¥–Ψ–Μ–≥ –≤–Β–Ε–Μ–Η–≤–Ψ―¹―²–Η, ―É–¥–Α–Μ–Η–Μ–Η―¹―¨. –£–Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Η –Φ―΄ ―É–Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ―É –Ω―Ä–Η–Ϋ–Α–¥–Μ–Β–Ε–Η―² –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―ç―²–Ψ―² –Κ–Μ―É–±, –Ϋ–Ψ –Η –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥―Ä―É–≥–Η―Ö, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ω―É–±–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Β –¥–Ψ–Φ–Α –≤ –Γ―É―Ä–Α–±–Α–Ι–Β, –î–Ε–Α–Κ–Α―Ä―²–Β –Η –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Φ–Β―¹―²–Α―Ö ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄. –û–Ϋ –±―΄–Μ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –±–Ψ–≥–Α―²―΄–Φ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Φ –Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è ―¹–Μ―É–Ε–±–Α –¥–Μ―è –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Α –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Φ –Η―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è. –ö–Α–Ω–Η―²–Α–Μ–Η–Ζ–Φ –Β―¹―²―¨ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Μ–Η–Ζ–Φ... –Δ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Ψ–¥–Α –≤―΄–Μ–Α–Ζ–Κ–Α –±―΄–Μ–Α –Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι. –£ –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –¥–Ϋ–Η ¬Ϊ–≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ –ë–Η―²―É–Ϋ–≥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Η–¥–Β–Ϋ–Η―è¬Μ –±―΄–Μ–Η –Ζ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ―΄ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Φ–Η, ―²―Ä–Β–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Α–Φ–Η –≤ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–±–Β –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Η–±–Ψ―Ä–Α―Ö –Η –Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Η―Ö –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥ –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Α. –ü–Ψ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ –Φ―΄ ―¹–Μ―΄―à–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –¥–Ψ–Κ―²–Ψ―Ä –Γ―É–±–Α–Ϋ–¥―Ä–Η–Ψ, –Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä –Η–Ϋ–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –¥–Β–Μ –‰–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ–Β–Ζ–Η–Η, –≤–Β–¥–Β―² –Ω–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―΄ ―¹ –≥–Ψ–Μ–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Η–Φ–Η –¥–Η–Ω–Μ–Ψ–Φ–Α―²–Α–Φ–Η –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É-―²–Ψ –≤ –Γ–®–ê. –ù–Α –¥–Β–≤―è―²―΄–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ ¬Ϊ―¹–Η–¥–Β–Ϋ–Η―è¬Μ –Ϋ–Α–Φ –Ϋ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü-―²–Ψ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Η–Μ–Η –Ω–Β―Ä–Β–Β―Ö–Α―²―¨ ―¹ –Ω―Ä–Η―΅–Α–Μ–Α –Ϋ–Α –≥–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ. –Γ–Ω–Α–Μ–Η –Φ―΄ ―ç―²–Ψ–Ι –Ϋ–Ψ―΅―¨―é –≤ –Κ–Α―é―²–Α―Ö ―¹ –Κ–Ψ–Ϋ–¥–Η―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Β―Ä–Α–Φ–Η, –Κ–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―² ―É –Ϋ–Α―¹ –≤ –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ–Ι –†–Ψ―¹―¹–Η–Η ¬Ϊ–±–Β–Ζ –Ζ–Α–¥–Ϋ–Η―Ö –Ϋ–Ψ–≥¬Μ. –Θ―²―Ä–Ψ–Φ ―¹ ―É–¥–Η–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―É–≤–Η–¥–Β–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ ―¹―É―Ä–Ψ–≤―΄–Β –¥–Β―¹–Α–Ϋ―²–Ϋ–Η–Κ–Η –±―΄–Μ–Η –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É-―²–Ψ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –≤–Β―¹–Β–Μ―΄. –û–Ϋ–Η –±―Ä–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Ω–Ψ –Ω―Ä–Η―΅–Α–Μ―É –≥―Ä―É–Ω–Ω–Κ–Α–Φ–Η, –Ψ–±–Ϋ―è–≤―à–Η―¹―¨ –Η –≥–Μ–Ψ―²–Α―è –Η–Ζ –±―É―²―΄–Μ–Ψ–Κ –Κ–Α–Κ―É―é-―²–Ψ –Φ―É―²–Ϋ―É―é –Ε–Η–¥–Κ–Ψ―¹―²―¨, –Ω–Ψ―Ö–Ψ–Ε―É―é –Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ–Ϋ. –£ ―΅–Β–Φ ―²―É―² –¥–Β–Μ–Ψ? –ü–Ψ―΅–Β–Φ―É ―É –≤―¹–Β―Ö –Η–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ–Β–Ζ–Η–Ι―Ü–Β–≤ –Ω―Ä–Η–Ω–Ψ–¥–Ϋ―è―²–Ψ–Β –Ϋ–Α―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η–Β? –£–Ω―Ä–Ψ―΅–Β–Φ ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ –≤―¹―ë ―¹―²–Α–Μ–Ψ ―è―¹–Ϋ–Ψ. –£ ―à–Η―³―Ä–Ψ–≤–Κ–Β, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Ψ―΅―¨―é, –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α―΅–Η ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Η –½–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –‰―Ä–Η–Α–Ϋ–Α –‰–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ–Β–Ζ–Η–Η ―Ä–Β―à–Β–Ϋ –Φ–Η―Ä–Ϋ―΄–Φ –Ω―É―²–Β–Φ. –ù–Α―à–Η–Φ –Μ–Ψ–¥–Κ–Α–Φ –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Η―¹―΄–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―²–Η―²―¨―¹―è –≤ –Γ―É―Ä–Α–±–Α–Ι―é –Η –Ω―Ä–Η―¹―²―É–Ω–Η―²―¨ –Κ –Ψ–±―É―΅–Β–Ϋ–Η―é –Η–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ–Β–Ζ–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Ι ―¹ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Β–Ι –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α―΅–Β–Ι –Η–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι. –û―΅–Β–≤–Η–¥–Ϋ–Ψ ¬Ϊ―Ö–Η―²―Ä―΄–Ι –≥–Ψ–Μ–Μ–Α–Ϋ–¥¬Μ –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ, ―΅―²–Ψ –Ζ–Α ―¹–Η–Μ–Η―â–Α –Β–Φ―É –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Η―². –· –Η–Φ–Β―é –≤ –≤–Η–¥―É –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, –Ϋ–Ψ –Η –Α–≤–Η–Α―Ü–Η―é, ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ―΄–Β ―΅–Α―¹―²–Η –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β ¬Ϊ–¥–Ψ–±―Ä–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―΅–Β―¹–Κ–Η–Β¬Μ –Ω–Ψ–¥―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è. –Γ―²–Α–Μ–Ψ –Ζ–Α–Φ–Β―²–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ ―¹―É―Ä–Ψ–≤―΄–Β –Η–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ–Β–Ζ–Η–Ι―Ü―΄ βÄî ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ ―¹–Β–Φ–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²–Η–Μ–Β―²–Ϋ–Η–Β ―Ä–Β–±―è―²–Α, –Η –Ψ–Ϋ–Η, ―²–Α–Κ–Ε–Β –Κ–Α–Κ –Η –≤―¹–Β –Μ―é–¥–Η –Ϋ–Α –½–Β–Φ–Μ–Β, –±–Β–Ζ―É–Φ–Ϋ–Ψ –Μ―é–±―è―² –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨. ¬Ϊ–Δ–Α–Κ-―²–Ψ, –Ϋ–Α―à –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ–Ι –ù–Η–Κ–Η―²–Α –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Η―΅, –¥–Ψ–Κ―²–Ψ―Ä –Γ―É–Κ–Α―Ä–Ϋ–Ψ, –¥–Ψ–Κ―²–Ψ―Ä –Γ―É–±–Α–Ϋ–¥―Ä–Η–Ψ –Η ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Η –€–Α–Μ–Η–Ϋ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι ―¹ –™–Ψ―Ä―à–Κ–Ψ–≤―΄–Φ, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –‰–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ–Β–Ζ–Η–Η ―É–≤–Α–Ε–Α–Β–Φ―΄–Ι –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ –ù–Α―¹―É―²–Η–Ψ–Ϋ!¬Μ βÄî –¥―É–Φ–Α–Μ ―è, –≥–Ψ―²–Ψ–≤―è –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –Κ –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥―É –≤ –Γ―É―Ä–Α–±–Α–Ι―é.  . –£–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –≤–Η–Ζ–Η―²–Α –≤ –‰–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ–Β–Ζ–Η―é –ù.–Ξ―Ä―É―â–Β–≤–Α –≤ ―³–Β–≤―Ä–Α–Μ–Β 1960 –≥. –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―à–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Κ–Α―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι, ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Ψ–≤, –≤–Β―Ä―²–Ψ–Μ–Β―²–Ψ–≤, ―²–Α–Ϋ–Κ–Ψ–≤ –Η –¥―Ä―É–≥–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è. –Γ–Α–Φ―΄–Φ –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ―¹―²–Ψ―è―â–Η–Φ –Ω―Ä–Η–Ψ–±―Ä–Β―²–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―¹―²–Α–Μ –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä ¬Ϊ–û―Ä–¥–Ε–Ψ–Ϋ–Η–Κ–Η–¥–Ζ–Β¬Μ, –Ω–Β―Ä–Β–Η–Φ–Β–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤ ¬Ϊ–‰―Ä–Η–Α–Ϋ¬Μ–¦―é–¥–Η –Β―¹―²―¨ –Μ―é–¥–Η –Η ―É–Φ–Η―Ä–Α―²―¨ –Η–Φ, –≤–Ψ –Η–Φ―è –Κ–Α–Κ–Η―Ö-―²–Ψ ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ψ–≤ –Η –Ω―Ä–Β―²–Β–Ϋ–Ζ–Η–Ι –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤, ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Β ―Ö–Ψ―΅–Β―²―¹―è! –®–Β–Μ ―à–Β―¹―²–Ψ–Ι –Φ–Β―¹―è―Ü –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ ¬Ϊ–¥–Ψ–±―Ä–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ¬Μ –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤–Η―è –Ϋ–Α –†–Ψ–¥–Η–Ϋ–Β. –û―²–Κ―Ä–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è, –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Ψ―¹―¨ –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι. –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Β ―¹―²–Α–Μ–Ψ ―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é. –ö–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Β–Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Η –Ϋ–Α–Ω―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Η–Β ―΅–Β–≥–Ψ-―²–Ψ –Ϋ–Β―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–≥–Ψ. –Γ–Ϋ–Ψ–≤–Α –≤ ¬Ϊ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι¬Μ –Γ―É―Ä–Α–±–Α–Ι–Β –ë–Β–Ζ –Ω―Ä–Η–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η–Ι –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Η―¹―¨ –≤ ―¹―²–Α–≤―à―É―é ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Γ―É―Ä–Α–±–Α–Ι―¹–Κ―É―é –±–Α–Ζ―É. –ü–Ψ―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η–Β ―Ä–Α―¹―¹–Β–Κ―Ä–Β―²–Η―²―¨ –≤―¹–Β –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²―΄, –Κ–Α―¹–Α―é―â–Η–Β―¹―è ―É―¹―²―Ä–Ψ–Ι―¹―²–≤–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, –±―΄–≤―à–Η–Β –¥–Ψ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―¹–Β–Κ―Ä–Β―²–Ϋ―΄–Φ–Η. –ü―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –≤―΄–Φ–Α―Ä―΄–≤–Α―²―¨ ―²―É―à―¨―é –≥―Ä–Η―³―΄ ¬Ϊ―¹–Β–Κ―Ä–Β―²–Ϋ–Ψ¬Μ –Η ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è―²―¨ ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤―É―é―â–Η–Β –Α–Κ―²―΄. –½–Α–Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―è―¹–Ϋ–Η–Μ―¹―è –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹, –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É –¥–Ψ –Ω–Ψ―Ä―΄ –¥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –±―΄–Μ–Ψ –≤–Β–Μ–Β–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Ω―É―¹–Κ–Α―²―¨ –Η–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ–Β–Ζ–Η–Ι―Ü–Β–≤ –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―². –ü―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Α –≤ ―è–Κ–Ψ–±―΄ –Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι ―¹–Β–Κ―Ä–Β―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ζ–Α–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤ –Κ–Ψ―Ä–Φ–Ψ–≤―΄–Β –Α–Ω–Ω–Α―Ä–Α―²―΄ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥ ¬Ϊ–Γ–ê–≠–Δ-50¬Μ, –Κ ―²–Ψ–Φ―É –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η ―É–Ε–Β –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ ―É―¹―²–Α―Ä–Β–≤―à–Η―Ö. –û–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è, ―ç―²–Η ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥―΄ ―Ä–Α–Ϋ–Β–Β –‰–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ–Β–Ζ–Η–Η –Ϋ–Β –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–≤–Α–Μ–Η―¹―¨. –£–Φ–Β―¹―²–Ψ –Ϋ–Η―Ö –Β–Ι –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–≤–Α–Μ–Η ―¹―²–Α―Ä―¨–Β: ―¹–Ϋ―è―²―΄–Β ―É –Ϋ–Α―¹ –¥–Α–≤–Ϋ―΄–Φ-–¥–Α–≤–Ϋ–Ψ ―¹ –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥―΄ ¬Ϊ–≠–Δ-46¬Μ. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Η ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄ –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α―΅―É ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥ ―΅―É―²―¨ –Ω–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Β–Β. –î–Ψ–Μ–≥–Ψ –Ε–Β ―²―è–Ϋ―É–Μ–Ψ―¹―¨ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Α! –£–Η–¥–Ϋ–Ψ, –Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ –Β―â–Β –™–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι ―à―²–Α–± –£–€–Λ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―é ―¹ –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α―΅–Β–Ι ―΅–Β―Ä―²–Β–Ε–Β–Ι –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥ –±―΄–≤―à–Η–Φ ―¹–Ψ―é–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ-–Α–Ϋ–≥–Μ–Η―΅–Α–Ϋ–Α–Φ, –Ζ–Α ―΅―²–Ψ, –≤ ―¹–≤–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è, –Ω–Ψ–Μ–Β―²–Β–Μ–Η ―²–Α–Κ–Η–Β –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―΄, –Κ–Α–Κ –ù.–™.–ö―É–Ζ–Ϋ–Β―Ü–Ψ–≤, –¦.–€.–™–Α–Μ–Μ–Β―Ä –Η –£.–ê.–ê–Μ–Α―³―É–Ζ–Ψ–≤. –ö–Α–Κ –≤―¹–Β–≥–¥–Α, ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –¥―É–Μ–Η –Ϋ–Α –Φ–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Ψ. . –£–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –≤–Η–Ζ–Η―²–Α –≤ –‰–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ–Β–Ζ–Η―é –ù.–Ξ―Ä―É―â–Β–≤–Α –≤ ―³–Β–≤―Ä–Α–Μ–Β 1960 –≥. –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―à–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Κ–Α―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι, ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Ψ–≤, –≤–Β―Ä―²–Ψ–Μ–Β―²–Ψ–≤, ―²–Α–Ϋ–Κ–Ψ–≤ –Η –¥―Ä―É–≥–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è. –Γ–Α–Φ―΄–Φ –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ―¹―²–Ψ―è―â–Η–Φ –Ω―Ä–Η–Ψ–±―Ä–Β―²–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―¹―²–Α–Μ –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä ¬Ϊ–û―Ä–¥–Ε–Ψ–Ϋ–Η–Κ–Η–¥–Ζ–Β¬Μ, –Ω–Β―Ä–Β–Η–Φ–Β–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤ ¬Ϊ–‰―Ä–Η–Α–Ϋ¬Μ–¦―é–¥–Η –Β―¹―²―¨ –Μ―é–¥–Η –Η ―É–Φ–Η―Ä–Α―²―¨ –Η–Φ, –≤–Ψ –Η–Φ―è –Κ–Α–Κ–Η―Ö-―²–Ψ ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ψ–≤ –Η –Ω―Ä–Β―²–Β–Ϋ–Ζ–Η–Ι –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤, ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Β ―Ö–Ψ―΅–Β―²―¹―è! –®–Β–Μ ―à–Β―¹―²–Ψ–Ι –Φ–Β―¹―è―Ü –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ ¬Ϊ–¥–Ψ–±―Ä–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ¬Μ –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤–Η―è –Ϋ–Α –†–Ψ–¥–Η–Ϋ–Β. –û―²–Κ―Ä–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è, –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Ψ―¹―¨ –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι. –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Β ―¹―²–Α–Μ–Ψ ―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é. –ö–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Β–Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Η –Ϋ–Α–Ω―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Η–Β ―΅–Β–≥–Ψ-―²–Ψ –Ϋ–Β―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–≥–Ψ. –Γ–Ϋ–Ψ–≤–Α –≤ ¬Ϊ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι¬Μ –Γ―É―Ä–Α–±–Α–Ι–Β –ë–Β–Ζ –Ω―Ä–Η–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η–Ι –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Η―¹―¨ –≤ ―¹―²–Α–≤―à―É―é ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Γ―É―Ä–Α–±–Α–Ι―¹–Κ―É―é –±–Α–Ζ―É. –ü–Ψ―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η–Β ―Ä–Α―¹―¹–Β–Κ―Ä–Β―²–Η―²―¨ –≤―¹–Β –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²―΄, –Κ–Α―¹–Α―é―â–Η–Β―¹―è ―É―¹―²―Ä–Ψ–Ι―¹―²–≤–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, –±―΄–≤―à–Η–Β –¥–Ψ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―¹–Β–Κ―Ä–Β―²–Ϋ―΄–Φ–Η. –ü―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –≤―΄–Φ–Α―Ä―΄–≤–Α―²―¨ ―²―É―à―¨―é –≥―Ä–Η―³―΄ ¬Ϊ―¹–Β–Κ―Ä–Β―²–Ϋ–Ψ¬Μ –Η ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è―²―¨ ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤―É―é―â–Η–Β –Α–Κ―²―΄. –½–Α–Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―è―¹–Ϋ–Η–Μ―¹―è –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹, –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É –¥–Ψ –Ω–Ψ―Ä―΄ –¥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –±―΄–Μ–Ψ –≤–Β–Μ–Β–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Ω―É―¹–Κ–Α―²―¨ –Η–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ–Β–Ζ–Η–Ι―Ü–Β–≤ –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―². –ü―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Α –≤ ―è–Κ–Ψ–±―΄ –Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι ―¹–Β–Κ―Ä–Β―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ζ–Α–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤ –Κ–Ψ―Ä–Φ–Ψ–≤―΄–Β –Α–Ω–Ω–Α―Ä–Α―²―΄ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥ ¬Ϊ–Γ–ê–≠–Δ-50¬Μ, –Κ ―²–Ψ–Φ―É –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η ―É–Ε–Β –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ ―É―¹―²–Α―Ä–Β–≤―à–Η―Ö. –û–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è, ―ç―²–Η ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥―΄ ―Ä–Α–Ϋ–Β–Β –‰–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ–Β–Ζ–Η–Η –Ϋ–Β –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–≤–Α–Μ–Η―¹―¨. –£–Φ–Β―¹―²–Ψ –Ϋ–Η―Ö –Β–Ι –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–≤–Α–Μ–Η ―¹―²–Α―Ä―¨–Β: ―¹–Ϋ―è―²―΄–Β ―É –Ϋ–Α―¹ –¥–Α–≤–Ϋ―΄–Φ-–¥–Α–≤–Ϋ–Ψ ―¹ –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥―΄ ¬Ϊ–≠–Δ-46¬Μ. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Η ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄ –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α―΅―É ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥ ―΅―É―²―¨ –Ω–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Β–Β. –î–Ψ–Μ–≥–Ψ –Ε–Β ―²―è–Ϋ―É–Μ–Ψ―¹―¨ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Α! –£–Η–¥–Ϋ–Ψ, –Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ –Β―â–Β –™–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι ―à―²–Α–± –£–€–Λ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―é ―¹ –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α―΅–Β–Ι ―΅–Β―Ä―²–Β–Ε–Β–Ι –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥ –±―΄–≤―à–Η–Φ ―¹–Ψ―é–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ-–Α–Ϋ–≥–Μ–Η―΅–Α–Ϋ–Α–Φ, –Ζ–Α ―΅―²–Ψ, –≤ ―¹–≤–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è, –Ω–Ψ–Μ–Β―²–Β–Μ–Η ―²–Α–Κ–Η–Β –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―΄, –Κ–Α–Κ –ù.–™.–ö―É–Ζ–Ϋ–Β―Ü–Ψ–≤, –¦.–€.–™–Α–Μ–Μ–Β―Ä –Η –£.–ê.–ê–Μ–Α―³―É–Ζ–Ψ–≤. –ö–Α–Κ –≤―¹–Β–≥–¥–Α, ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –¥―É–Μ–Η –Ϋ–Α –Φ–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Ψ.
–ù–Α―΅–Α–Μ–Η –Ψ–±―É―΅–Α―²―¨ –Η–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ–Β–Ζ–Η–Ι―¹–Κ–Η–Β ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Η. –£ –Μ–Ψ–¥–Κ–Β ―¹―²–Α–Μ–Ψ –Β―â–Β ―²–Β―¹–Ϋ–Β–Β: –Β–Ε–Β–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ–Ψ ―¹ –Ω―è―²–Η –¥–Ψ ―²―Ä–Η–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²–Η –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β ―²–Β―Ä–Μ–Η―¹―¨ –¥―Ä―É–≥ –Ψ –¥―Ä―É–≥–Α –Η–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ–Β–Ζ–Η–Ι―Ü―΄ –Η ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–Β. –€―΄ ―¹ –Η–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ–Β–Ζ–Η–Ι―¹–Κ–Η–Φ ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Η ¬Ϊ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ―Ä–Α―΅–Η–≤–Α–Ϋ–Η–Η¬Μ –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ–Ψ–≤ ―Ä–Α–¥–Η ―Ä–Α–Ζ–≤–Μ–Β―΅–Β–Ϋ–Η―è –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ―²–¥–Α–≤–Α–Μ–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄ βÄî –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ-―Ä―É―¹―¹–Κ–Η, ―è –Ω–Ψ-–Η–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ–Β–Ζ–Η–Ι―¹–Κ–Η. –û―²―²–Α―΅–Η–≤–Α–Μ–Η, ―²–Α–Κ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―¹–≤–Ψ–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ϋ―΄–Β ―è–Ζ―΄–Κ–Η. –î–Β–Μ–Ψ –¥–≤–Η–≥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–Ω–Ψ―Ä–Ψ. –· ―É–Ε–Β –Ω–Η―¹–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Η–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ–Β–Ζ–Η–Ι―Ü―΄ ―¹―Ö–≤–Α―²―΄–≤–Α–Μ–Η –≤―¹–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –±―΄―¹―²―Ä–Ψ. –Θ–¥―Ä―É―΅–Α–Μ–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –≤ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Η–Η ―¹ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Μ–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ–Η –Κ–Α–Ϋ–Ψ–Ϋ–Α–Φ–Η –Η–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ–Β–Ζ–Η–Ι―¹–Κ–Η–Β ―¹–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ―²―΄ –Ϋ–Β ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Η –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–≤–Α―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Η –Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Α–Φ. –£–Η–¥–Η–Φ–Ψ –±–Ψ―è–Μ–Η―¹―¨, ―΅―²–Ψ –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹―΄ –Η―Ö –Ω–Ψ–¥―¹–Η–¥―è―² –Η ―¹–Φ–Ψ–≥―É―² –Ζ–Α–Ϋ―è―²―¨ –Η―Ö ―Ö–Μ–Β–±–Ϋ―΄–Β –Φ–Β―¹―²–Α. –î–Μ―è –Ϋ–Α―¹ ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η–≤―΄―΅–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Ψ –Η –Κ ―ç―²–Ψ–Φ―É –Φ―΄ –Ω–Ψ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–≤―΄–Κ–Μ–Η. –ù–Α―à–Η ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ―΄ ―É–Ε–Β ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ω–Α―Ä―É –Ϋ–Β–¥–Β–Μ―¨ –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –±–Ψ–Ι–Κ–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η –Η–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ–Β–Ζ–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤ –Ϋ–Α ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –¥–Μ―è –Ϋ–Η―Ö ―è–Ζ―΄–Κ–Β. –ë–Β―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Η–Μ–Ψ –Ϋ–Α―¹, ―¹―²–Α―Ä―à–Η―Ö –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β –≤―¹–Β –Η–Ζ –Ϋ–Α―¹ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―¹–Κ–Η–Β –Κ–Μ–Α―¹―¹―΄. –£―Ä–Β–Φ―è –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ –Κ –Ϋ–Ψ―è–±―Ä―é, –Α ―¹ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Ψ―è–±―Ä―è –Φ―΄ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Η –±―΄―²―¨ –Ϋ–Α –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η―è―Ö –£―΄―¹―à–Η―Ö –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Μ–Α―¹―¹–Ψ–≤ –£–€–Λ. –Γ―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ, –Ϋ–Β –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–≤―à–Η–Ι ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è, ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¹―è –±–Β―¹–Ω–Β―Ä―¹–Ω–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ―΄–Φ –Η –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β ―¹–Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ. –£–Η–¥―è, ―΅―²–Ψ –¥–Β–Μ–Ψ –Ζ–Α―²―è–≥–Η–≤–Α–Β―²―¹―è –Η –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―¹ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α–Φ–Η –Ω―Ä–Ψ–Μ–Β―²–Β―²―¨, –Φ―΄, –Α –Ϋ–Α―¹ –±―΄–Μ–Ψ –Ω―è―²–Β―Ä–Ψ –Η–Ζ ―à–Β―¹―²–Η, –Ϋ–Β–Ψ–±―É―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö, ―Ä–Β―à–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –Γ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Η–Β–Ι, ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Α, ―É–Β–Ζ–Ε–Α–≤―à–Β–≥–Ψ –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤―É, –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η –Ω–Η―¹―¨–Φ–Ψ –≤ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ψ―²–¥–Β–Μ –Π–ö –ö–ü–Γ–Γ. –ü–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Η –Ψ―²–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Α –Κ–Μ–Α―¹―¹―΄, –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –≤―¹–Β –≤ –Γ–Ψ―é–Ζ–Β –±―΄–Μ–Η ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Β–Ϋ―΄ –Κ ―É―΅–Β–±–Β. –ë–Β–Ζ –Ϋ–Α―¹, –Ω–Ψ –Ϋ–Α―à–Β–Φ―É ―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Β–Ϋ–Η―é, –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β―¹―¹ –Ψ–±―É―΅–Β–Ϋ–Η―è –Η–Ϋ–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Ι –Ϋ–Β –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Α–¥–Α–Β―²: –≤ –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Φ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β –±―΄–Μ–Η –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄, ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Α―¹ –Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²―¨. –û―²–≤–Β―² –Π–ö –±―΄–Μ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ –Κ–Ψ–Φ–±―Ä–Η–≥–Ψ–Φ. –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ–Η–Ι –ê–Ϋ―²–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –±―΄–Μ –≤ ―è―Ä–Ψ―¹―²–Η: –Κ–Α–Κ ―ç―²–Ψ –±–Β–Ζ –Β–≥–Ψ –≤–Β–¥–Ψ–Φ–Α –Η ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Β–≥–Ψ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―É –Φ―΄ –Ω–Ψ―¹–Φ–Β–Μ–Η –Ψ–±―Ä–Α―²–Η―²―¨―¹―è –≤ ¬Ϊ–Η–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―é¬Μ, ―²–Α–Κ –≤ ―²–Β –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Ψ –Ζ–Α―à–Η―³―Ä–Ψ–≤―΄–≤–Α―²―¨ –Ζ–Α―΅–Β–Φ-―²–Ψ –≤―΄―¹―à–Η–Β –Ω–Α―Ä―²–Η–Ι–Ϋ―΄–Β –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ―΄ (–Ϋ–Β –Η–Ϋ–Α―΅–Β ―ç―²–Ψ –Ψ―²―Ä―΄–Ε–Κ–Α ―à–Ω–Η–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–Η–Η). –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ ¬Ϊ–≤–Ψ–¥–Η–Μ –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Ψ―¹–Α–Φ–Η –Ω–Ψ –Κ–Ψ–≤―Ä―É¬Μ. –û–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è, –Π–ö ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Η–Μ –Β―Ö–Α―²―¨ –Ϋ–Α –Κ–Μ–Α―¹―¹―΄ –Η–Ζ ―à–Β―¹―²–Η ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Ψ–≤ ―²―Ä–Ψ–Η–Φ. –Δ―Ä–Η –Ψ―¹―²–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è ―Ä–Α―¹–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―è–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ϋ–Α –¥–≤–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η. –ö–Ψ–Φ–±―Ä–Η–≥ ―Ä–Β―à–Η–Μ –Ψ―²–Ω―É―¹―²–Η―²―¨ –Ϋ–Α ―É―΅–Β–±―É –€–Η―à―É –î–Β–Ϋ―¨―à–Η–Ϋ–Α, –£–Ψ–Μ–Ψ–¥―é –¦―é–±–Η–Φ–Ψ–≤–Α –Η –™–Β–Ϋ―É –€–Β–Μ–Κ–Ψ–≤–Α. –€–Η―à–Β ―¹ –£–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β–Ι –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ ―²―Ä–Η–¥―Ü–Α―²–Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ―É –≥–Ψ–¥―É, –Α –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―² –¥–Μ―è –Ψ–±―É―΅–Β–Ϋ–Η―è βÄî 32 –≥–Ψ–¥–Α.  –ü–Ψ–¥―Ä–Ψ–±–Ϋ–Ψ –Ψ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Α –Γ–Β―Ä–Α―³–Η–Φ–Ψ–≤–Η―΅–Α –¦―é–±–Η–Φ–Ψ–≤–Α –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―΅–Η―²–Α―²―¨ ―É –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² –ü–Ψ–¥―Ä–Ψ–±–Ϋ–Ψ –Ψ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Α –Γ–Β―Ä–Α―³–Η–Φ–Ψ–≤–Η―΅–Α –¦―é–±–Η–Φ–Ψ–≤–Α –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―΅–Η―²–Α―²―¨ ―É –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―²
25.02.201401:0425.02.2014 01:04:50
0
24.02.201400:5424.02.2014 00:54:59
–ö–Α–Ϋ–Η–Κ―É–Μ―΄ –Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α―é―²―¹―è. –Γ ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Φ―΄ ―Ä–Α―¹―¹―²–Α–Β–Φ―¹―è ―¹ –¥–Β–¥–Ψ–Φ –Η ―¹ –±–Α–±–Ψ–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Ι βÄî –Ψ–Ϋ–Η –Ψ―¹―²–Α―é―²―¹―è –≤ –ö–Η–≤–Η―Ä–Α–Ϋ–¥–Β –¥–Ψ –Ψ–Κ―²―è–±―Ä―è. –Γ–≤–Β―Ä―²―΄–≤–Α–Β–Φ –Ω–Α–Μ–Α―²–Κ―É. –Γ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –≤ –Φ–Α–≥–Α–Ζ–Η–Ϋ –≤–Ζ–≤–Β―¹–Η―²―¨ –û–Μ–Β–Ε–Κ―É. –û–Ϋ, –Κ–Α–Κ –Κ―É–Μ―¨, ―¹–Κ–Α―²–Η–Μ―¹―è ―¹ –≤–Β―¹–Ψ–≤: –Ω―Ä–Η–±–Α–≤–Η–Μ –Ω–Ψ–Μ―²–Ψ―Ä–Α –Κ–Η–Μ–Ψ! –Θ–Ε–Α―¹! –€―΄ ―É―²–Β―à–Η–Μ–Η –Β–≥–Ψ –Μ–Η–Φ–Ψ–Ϋ–Α–¥–Ψ–Φ:
βÄî –ü–Β–Ι, –û–Μ–Β–Ε–Κ–Α, ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –≤―¹–Β ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ!
–‰–¥–Β–Φ –≤ –Μ–Β―¹ –Ω–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨ –Ω–Β―â–Β―Ä―É: –Ϋ–Α –Ψ–±―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ–Φ –Ω―É―²–Η –Ζ–Α–±–Β–≥–Α–Β–Φ –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―â–Α―²―¨―¹―è –Κ –·–Α–Ϋ―É―¹―É –Ξ–Α–Α―¹―É. –û–Ϋ ―É–≥–Ψ―â–Α–Β―² –Ϋ–Α―¹ ―è–±–Μ–Ψ–Κ–Α–Φ–Η.
–Γ–Ω–Β―à–Η–Φ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Η―΅–Α–Μ –Κ ¬Ϊ–Ψ―Ö–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ―É¬Μ. –ë―É–¥―É―â–Β–Ι –≤–Β―¹–Ϋ–Ψ–Ι –Β–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Ϋ–Β―¹―É―² –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥ –Η –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤―è―² –Φ–Β–Ε–¥―É –¥–≤―É–Φ―è –≤–Α–Μ―É–Ϋ–Α–Φ–Η.
–ü―Ä–Ψ―â–Α–Β–Φ―¹―è ―¹ –Ϋ–Α―à–Β–Ι ¬Ϊ–ë–Β–≥―É―â–Β–Ι¬Μ. –½–Η–Φ―É–Ι –±–Β–Ζ –Ϋ–Α―¹, –Φ–Η–Μ–Α―è!
–î–Ψ–Φ–Α –°―Ö–Α–Ϋ –†–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ―É ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―² –¥–Β–¥―É, –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ ―à―²–Ψ―Ä–Φ–Ψ–≤–Α–Μ –≤ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Β.
–ù–Α–Φ –Ϋ–Β ―É–¥–Α–Β―²―¹―è –¥–Ψ―¹–Μ―É―à–Α―²―¨ βÄî –Ω–Ψ―Ä–Α! –ê–≤―²–Ψ–±―É―¹ –Η–Ζ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α ―É–Ε–Β –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ. –ë–Α–±–Α –ù–Η–Κ–Α ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–Β―² –Ϋ–Α–Φ ―Ö–Α―Ä―΅–Η –Ϋ–Α –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥―É. –î–Β–¥ –Ω―Ä–Ψ―â–Α–Β―²―¹―è ―¹ –Ϋ–Α–Φ–Η:
βÄî –ê –≤–Β–¥―¨ –Φ–Ϋ–Β, –Φ–Α―Ä―¹–Ψ―³–Μ–Ψ―²―΄, –±–Β–Ζ –≤–Α―¹ –±―É–¥–Β―² ―¹–Κ―É―΅–Ϋ–Ψ...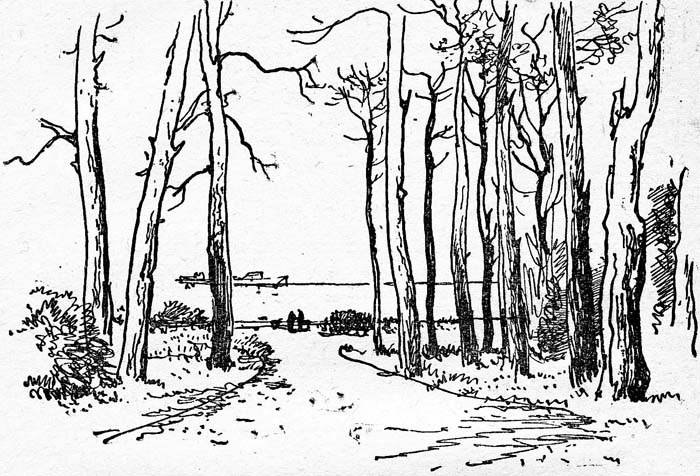 –û–Ϋ –Κ―Ä–Β–Ω–Κ–Ψ ―Ü–Β–Μ―É–Β―² –Φ–Α―²―¨ –Η –Ψ―²―Ü–Α. –‰–Ϋ–≥―Ä–Η–¥ –Ϋ–Β –Ψ―²―¹―²–Α–Β―² –Ψ―² –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Η –Ϋ–Α ―à–Α–≥: –±–Ψ–Η―²―¹―è, –Κ–Α–Κ –±―΄ –Β–Β –Ϋ–Β –Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Η. –û–Ϋ –Κ―Ä–Β–Ω–Κ–Ψ ―Ü–Β–Μ―É–Β―² –Φ–Α―²―¨ –Η –Ψ―²―Ü–Α. –‰–Ϋ–≥―Ä–Η–¥ –Ϋ–Β –Ψ―²―¹―²–Α–Β―² –Ψ―² –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Η –Ϋ–Α ―à–Α–≥: –±–Ψ–Η―²―¹―è, –Κ–Α–Κ –±―΄ –Β–Β –Ϋ–Β –Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Η.
–£ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι ―Ä–Α–Ζ –Ψ―²–¥–Α–Β–Φ –Φ―΄ ―΅–Β―¹―²―¨ ―³–Μ–Α–≥―É –Ϋ–Α –Φ–Α―΅―²–Β. –û–Ϋ ―²―Ä–Β–Ω–Β―â–Β―² –Ϋ–Α –Ψ―¹–Β–Ϋ–Ϋ–Β–Φ –≤–Β―²―Ä―É βÄî –Ζ–Ψ–≤–Β―² –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β.
–ê –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, –Η –≤ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ! –Δ–Β―²―Ä–Α–¥―¨ ―²―Ä–Β―²―¨―è
–Δ–†–ï–£–û–™–‰ –‰ –†–ê–î–û–Γ–Δ–‰
–£ –™–û–†–û–î–ï –û–Μ–Β–Ε–Κ–Α ―Ä–Α–Ζ–Ζ–≤–Ψ–Ϋ–Η–Μ –Ϋ–Α –≤―¹―é ―à–Κ–Ψ–Μ―É, ―΅―²–Ψ –Φ―΄ –≤―²―Ä–Ψ–Β–Φ –Η–Ζ –≤–Ψ―¹―¨–Φ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α ―É–Ι–¥–Β–Φ –≤ –¥–Β–≤―è―²―΄–Ι –≤ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Β. –Δ–Ψ–Μ―¹―²―è–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ ―²–Α–Κ, –±―É–¥―²–Ψ –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Η―Ö –Ϋ–Β―² ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι, –¥–Β–Μ–Ψ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β. –î–Ψ ―²–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ―¹―è, ―΅―²–Ψ ―Ä–Β–±―è―²–Α βÄî –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö ―²–Ψ–Ε–Β –Φ–Β―΅―²–Α―é―² ―¹―²–Α―²―¨ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Α–Φ–Η βÄî –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η –Ω–Ψ―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Α –Ϋ–Α―¹ ―¹ –Ζ–Α–≤–Η―¹―²―¨―é, –Α –≠–Μ–Η–≥–Η–Ι –®–Η–Μ–Μ–Β―Ä βÄî ―²–Ψ―² –Ω―Ä―è–Φ–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Φ―΄ –Ϋ–Α–¥–Β–Β–Φ―¹―è –Ϋ–Α –¥–Β–¥–Α –Φ–Ψ–Β–≥–Ψ βÄî –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α: –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Ψ―²–Ψ–Μ–Κ–Ϋ–Β―² –≤―¹–Β―Ö ―²―Ä–Ψ–Η―Ö. –î―É―Ä–Α–Κ! –î–Β–¥ –Ω–Α–Μ–Β―Ü –Ψ –Ω–Α–Μ–Β―Ü –Ϋ–Β ―É–¥–Α―Ä–Η―², ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Α―¹ ¬Ϊ–Ω―Ä–Ψ―²–Ψ–Μ–Κ–Ϋ―É―²―¨¬Μ. –Γ ―²–Β―Ö –Ω–Ψ―Ä –Κ–Α–Κ ―è ―²–≤–Β―Ä–¥–Ψ ―Ä–Β―à–Η–Μ –Ω―Ä–Ψ–±–Η―²―¨―¹―è –≤ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Β, ―è ―¹―²–Α–Μ ―¹–Μ–Β–¥–Η―²―¨ –Ζ–Α ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι. –Γ―²–Α–Μ –Ψ―²–≤–Β―΅–Α―²―¨ –Ϋ–Α –Ω―è―²–Β―Ä–Κ–Η (―è –±―΄ ―¹–≥―Ä―΄–Ζ ―¹–Β–±–Β –Μ–Ψ–Κ―²–Η, –Β―¹–Μ–Η –±―΄ ―¹―Ö–≤–Α―²–Η–Μ ―΅–Β―²–≤–Β―Ä–Κ―É –Η–Μ–Η, –Β―â–Β ―Ö―É–Ε–Β, ―²―Ä–Ψ–Ι–Κ―É!). –£–Β–¥―¨ –±–Β–Ζ –Ω―è―²–Β―Ä–Ψ–Κ –Φ–Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–Ω–Α–¥–Α―²―¨! –‰ –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ–Η –Ω–Ψ―΅―²–Η –≤―¹–Β –Ψ–±–Ψ–¥―Ä―è–Μ–Η –Η –Φ–Β–Ϋ―è, –Η –£–Α–¥–Η–Φ–Α, –Η –¥–Α–Ε–Β –û–Μ–Β–Ε–Κ―É –Ω―΄―²–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ–¥―²―è–Ϋ―É―²―¨, ―Ö–Ψ―²―è ―ç―²–Ψ ―É–¥–Α–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Η–Φ –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ. –ü―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ–Η –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Α―¹ ¬Ϊ–±―É–¥―É―â–Η–Φ–Η –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Α–Φ–Η¬Μ. –€–Ϋ–Β –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è, ―΅―²–Ψ –Η –Η–Φ –±―΄–Μ–Ψ –±―΄ –Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ ―É–≤–Η–¥–Β―²―¨ –Ϋ–Α―¹ –≤–Ψ ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–Ι ―³–Ψ―Ä–Φ–Β, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Φ―΄ –Ω―Ä–Η–¥–Β–Φ –Ϋ–Α–≤–Β―¹―²–Η―²―¨ ―à–Κ–Ψ–Μ―É. –Γ ―²–Β―Ö –Ω–Ψ―Ä –Κ–Α–Κ ―è ―²–≤–Β―Ä–¥–Ψ ―Ä–Β―à–Η–Μ –Ω―Ä–Ψ–±–Η―²―¨―¹―è –≤ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Β, ―è ―¹―²–Α–Μ ―¹–Μ–Β–¥–Η―²―¨ –Ζ–Α ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι. –Γ―²–Α–Μ –Ψ―²–≤–Β―΅–Α―²―¨ –Ϋ–Α –Ω―è―²–Β―Ä–Κ–Η (―è –±―΄ ―¹–≥―Ä―΄–Ζ ―¹–Β–±–Β –Μ–Ψ–Κ―²–Η, –Β―¹–Μ–Η –±―΄ ―¹―Ö–≤–Α―²–Η–Μ ―΅–Β―²–≤–Β―Ä–Κ―É –Η–Μ–Η, –Β―â–Β ―Ö―É–Ε–Β, ―²―Ä–Ψ–Ι–Κ―É!). –£–Β–¥―¨ –±–Β–Ζ –Ω―è―²–Β―Ä–Ψ–Κ –Φ–Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–Ω–Α–¥–Α―²―¨! –‰ –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ–Η –Ω–Ψ―΅―²–Η –≤―¹–Β –Ψ–±–Ψ–¥―Ä―è–Μ–Η –Η –Φ–Β–Ϋ―è, –Η –£–Α–¥–Η–Φ–Α, –Η –¥–Α–Ε–Β –û–Μ–Β–Ε–Κ―É –Ω―΄―²–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ–¥―²―è–Ϋ―É―²―¨, ―Ö–Ψ―²―è ―ç―²–Ψ ―É–¥–Α–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Η–Φ –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ. –ü―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ–Η –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Α―¹ ¬Ϊ–±―É–¥―É―â–Η–Φ–Η –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Α–Φ–Η¬Μ. –€–Ϋ–Β –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è, ―΅―²–Ψ –Η –Η–Φ –±―΄–Μ–Ψ –±―΄ –Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ ―É–≤–Η–¥–Β―²―¨ –Ϋ–Α―¹ –≤–Ψ ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–Ι ―³–Ψ―Ä–Φ–Β, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Φ―΄ –Ω―Ä–Η–¥–Β–Φ –Ϋ–Α–≤–Β―¹―²–Η―²―¨ ―à–Κ–Ψ–Μ―É.
–ù–Β –Ω–Ψ–≤–Β–Ζ–Μ–Ψ –Φ–Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹ –€–Α―Ä–Η–Ϋ–Ψ–Ι –Λ–Η–Μ–Η–Ω–Ω–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι –ö–Α―Ä―²–Ψ–Ϋ–Κ–Η–Ϋ–Ψ–Ι. –· ―É–Ε–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Α –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α–Μ–Α –Ϋ–Α–Φ ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–Ι ―è–Ζ―΄–Κ –Η –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Α –ö.–Γ.–Γ―²–Α–Ϋ―é–Κ–Ψ–≤–Η―΅―É –Ζ–Α ―¹–Ψ―΅–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –¥–≤–Ψ–Ι–Κ―É. –ë–Β–Μ–Ψ–±―Ä―΄―¹–Β–Ϋ―¨–Κ–Α―è, ―¹ –Ψ―¹―²―Ä–Β–Ϋ―¨–Κ–Η–Φ –Ϋ–Ψ―¹–Η–Κ–Ψ–Φ, ―¹ –±–Β–Μ―΄–Φ–Η ―Ä–Β―¹–Ϋ–Η―Ü–Α–Φ–Η –Η –≥–Μ–Α–Ζ–Α–Φ–Η, –Κ–Α–Κ ―É –Κ―Ä–Ψ–Μ–Η–Κ–Α, –Ψ–Ϋ–Α –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α―à–Β–Ι –Μ―é–±–Ψ–≤―¨―é. –™–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Α –Ψ–Ϋ–Α –≤―¹–Β–≥–¥–Α ―Ä–Β–Ζ–Κ–Ψ, ―²–Α–Κ –Η –Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Α –Ϋ–Α―¹ ―²–Β―Ä–Ω–Β―²―¨ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―². –ê –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β βÄî –≤–Φ–Β―à–Η–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤–Ψ –≤―¹–Β –¥–Β–Μ–Α –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α. –‰ –≤–Ψ―² –Ψ–Ϋ–Α –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α –Ϋ–Α–Φ –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α―²―¨ ―¹–Ψ―΅–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β ¬Ϊ–ö–Ψ–≥–Ψ ―è –±–Β―Ä―É –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ψ–Φ –≤ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η¬Μ.
–· –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –¥–Μ―è –Φ–Β–Ϋ―è –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä βÄî –ù–Η–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–≤; –≤–Β–¥―¨, –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –Ω―Ä–Η–¥–Β―²―¹―è –Η –Φ–Ϋ–Β –≤–Ψ–Β–≤–Α―²―¨, ―³–Α―à–Η―¹―²–Ψ–≤ –Β―â–Β ―¹–Μ–Η―à–Κ–Ψ–Φ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α ―¹–≤–Β―²–Β, –Η ―è ―Ö–Ψ―΅―É –±―΄―²―¨ ―²–Α–Κ–Η–Φ –Ε–Β ―¹―²–Ψ–Ι–Κ–Η–Φ, –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ.
–€–Α―Ä–Η–Ϋ–Α –Λ–Η–Μ–Η–Ω–Ω–Ψ–≤–Ϋ–Α –Ψ–¥–Ψ–±―Ä–Η–Μ–Α ―¹–Ψ―΅–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –≠–Μ–Η–≥–Η―è (–≤ ―¹―²–Η―Ö–Α―Ö –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Μ!), –Α –Φ–Ϋ–Β ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α:
βÄî –ü–Μ–Ψ―Ö–Ψ, –ö–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η–Ϋ! –î―É–Φ–Α–Β―à―¨, –Φ―΄ –±―É–¥–Β–Φ ―²–Β–±–Β –Ω–Ψ―²–Α–Κ–Α―²―¨, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ ―²―΄ ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Μ―¹―è –≤ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Β? –ù–Β –¥―É–Φ–Α–Ι, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―à―¨ ―¹–Κ–Η–¥–Κ―É –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ.
–· –≤–Ζ–Ψ―Ä–≤–Α–Μ―¹―è:
βÄî –£―΄ –¥–≤–Ψ–Ι–Κ―É –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Η –¥–Α–Ε–Β –ö.–Γ.–Γ―²–Α–Ϋ―é–Κ–Ψ–≤–Η―΅―É!.. –û–Ϋ–Α –Ω–Ψ–±–Β–Μ–Β–Μ–Α –Ψ―² . –û–Ϋ–Α –Ω–Ψ–±–Β–Μ–Β–Μ–Α –Ψ―² .
–€–Β–Ϋ―è –Ω–Ψ–Ϋ–Β―¹–Μ–Ψ. –£–Α–¥–Η–Φ―É –Ψ―² ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―Ö―É–Ε–Β –Ϋ–Β ―¹―²–Α–Μ–Ψ βÄî –≤–Β–¥―¨ –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β ―΅–Β–Φ –¥–≤–Ψ–Ι–Κ―É –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è ―É–Ε–Β –Ζ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Ψ–±–Ψ–¥―Ä–Α–Μ –ö.–Γ.–Γ―²–Α–Ϋ―é–Κ–Ψ–≤–Η―΅–Α. –‰ –Φ–Ϋ–Β –Ϋ–Β ―Ä–Β―à–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –Ψ–Ϋ–Α –¥–≤–Ψ–Ι–Κ―É. –£―¹–Β –Ε–Β ―¹–Ψ―΅–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ, –Ϋ–Α ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Β. –ù–Ψ ―è –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ, ―΅―²–Ψ –Ζ–Α―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ –≤―Ä–Α–≥–Α –Ϋ–Α –≤―¹―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨.***–ù–Α –≤―΄―¹―²–Α–≤–Κ–Β ―¹–Μ―É–Ε–Β–±–Ϋ―΄―Ö ―¹–Ψ–±–Α–Κ, –Κ―É–¥–Α –Φ―΄ –Ω–Ψ―à–Μ–Η ―¹ –Φ–Ψ–Β–Ι –‰–Ϋ–≥―Ä–Η–¥, ―è ―É–≤–Η–¥–Β–Μ –ö–Α―Ä–Η–Ϋ―É. –†–Α–¥–Η–Ψ –Ψ–±―ä―è–≤–Η–Μ–Ψ:
βÄî –£―΄―¹―²―É–Ω–Α–Β―² –≤–Ψ–¥–Ψ–Μ–Α–Ζ –¦–Α―Ä―¹–Β–ΫβÄî –¥―Ä–Β―¹―¹–Η―Ä–Ψ–≤―â–Η―Ü–Α –ö–Α―Ä–Η–Ϋ–Α –ö–Α―Ä–Α–Φ―΄―à–Β–≤–Α.
βÄî –™–Μ―è–¥–Η―²–Β-–Κ–Α! –Γ–Ψ–±–Α–Κ–Α –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –¥–Β–≤―΅―É―à–Κ–Η! βÄî ―É–¥–Η–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ–Α –≤ –Ζ–Β–Μ–Β–Ϋ–Ψ–Ι ―à–Μ―è–Ω–Β, –Ζ–Α–¥―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Α –Ζ–Α―²―΄–Μ–Ψ–Κ.
–ö–Α―Ä–Η–Ϋ–Α –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Ψ–Ι ―Ä―è–¥–Ψ–Φ ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –≤–Ψ–¥–Ψ–Μ–Α–Ζ–Ψ–Φ! –û–Ϋ–Α ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –≤ –¥–Ε–Η–Ϋ―¹–Α―Ö –Η –≤ –≥–Ψ–Μ―É–±–Ψ–Ι –Φ–Α–Ι–Κ–Β, ―¹ –Κ–Ψ―¹–Η―΅–Κ–Α–Φ–Η, –Κ–Α–Κ –≤―¹–Β–≥–¥–Α. –ü–Β―¹ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Β―² –±–Β–Ζ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥, –Ω–Ψ–¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹–Ψ–Φ. –û–Ϋ –Ω–Ψ–Μ–Ζ–Β―² –Ω–Ψ-–Ω–Μ–Α―¹―²―É–Ϋ―¹–Κ–Η, ―¹–Α–¥–Η―²―¹―è, –Μ–Ψ–Ε–Η―²―¹―è, –≤―¹―²–Α–Β―². –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Β–Μ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–Μ–Β―²–Α–Β―² ―¹–Κ–≤–Ψ–Ζ―¨ ―Ä–Α―¹―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ –Ω–Ψ–Μ―é –Κ–Ψ–Μ―¨―Ü–Α, –Κ–Η–¥–Α–Β―²―¹―è –≤ –Ω―Ä―É–¥ –Η –≤―΄―²–Α―¹–Κ–Η–≤–Α–Β―² ¬Ϊ―É―²–Ψ–Ω–Α―é―â–Β–≥–Ψ¬Μ βÄî –±–Ψ–Μ―¨―à―É―é –Κ―É–Κ–Μ―É.
–£–Ψ–¥–Ψ–Μ–Α–Ζ―É ―Ö–Μ–Ψ–Ω–Α―é―². –ö–Α―Ä–Η–Ϋ–Α ―É–≥–Ψ―â–Α–Β―² –¦–Α―Ä―¹–Β–Ϋ–Α –±―É–Μ–Κ–Ψ–Ι.
–ê ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥―É –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥! –‰ ―à–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Η, –Η –Ψ―²―¹―²–Α–≤–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ–Η, –Η –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ―΄, –Η ―¹―²–Α―Ä–Η–Κ–Η!
–î–Α, –Ζ–¥–Β―¹―¨ ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –≤–Β―¹―¨ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥!
–ï―â–Β –±―΄! –Θ –Ϋ–Α―¹ –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β ―¹–Ψ–±–Α–Κ ―É–≤–Α–Ε–Α―é―². –û–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ –Κ–Α–Κ–Α―è-―²–Ψ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Α―è –Φ–Α–Φ–Α―à–Α –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ–Α –Κ–Α–Φ–Β―à–Β–Κ –Η –Ω–Ψ–¥–Α–Μ–Α ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É ―¹―΄–Ϋ―É: ¬Ϊ–£–Η―²–Β–Ϋ―¨–Κ–Α, –±―Ä–Ψ―¹―¨ –≤ ―¹–Ψ–±–Α―΅–Κ―É¬Μ. –ï–Ι ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Φ–Η–Μ–Η―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Β―Ä ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ –≤―΄–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä. –ü―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ!
–ö―²–Ψ –≤―΄–Ϋ―é―Ö–Η–≤–Α–Μ –Φ–Η–Ϋ―΄, ―¹–Ω–Α―¹–Α―è ―²―΄―¹―è―΅–Η ―¹–Ψ–Μ–¥–Α―²? –Γ–Ψ–±–Α–Κ–Η. –ö―²–Ψ –±―Ä–Ψ―¹–Α–Μ―¹―è –Ω–Ψ–¥ ―²–Α–Ϋ–Κ–Η ―¹ –≥―Ä―É–Ζ–Ψ–Φ –≤–Ζ―Ä―΄–≤―΅–Α―²–Κ–Η? –ö―²–Ψ –Ψ―²―΄―¹–Κ–Η–≤–Α–Μ ―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ―΄―Ö –Η –Ω―Ä–Η–≤–Ψ–¥–Η–Μ ―¹–Α–Ϋ–Η―²–Α―Ä–Ψ–≤? –Δ–Ψ–Ε–Β ―¹–Ψ–±–Α–Κ–Η. 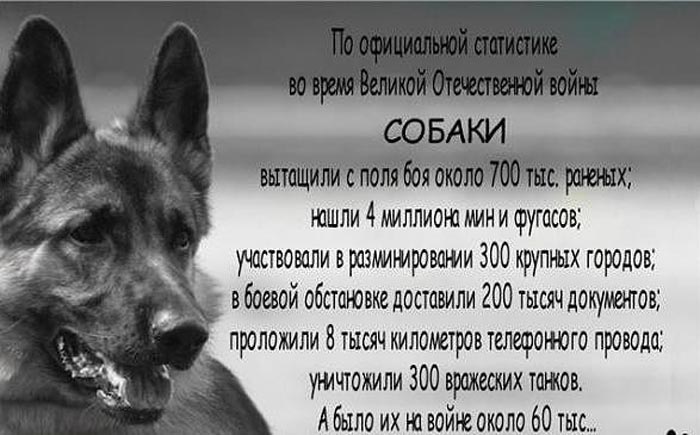
–ö―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –Κ–Ψ―¹–Φ–Ψ–Ϋ–Α–≤―²–Α–Φ –Ω―É―²―¨ –≤ –Κ–Ψ―¹–Φ–Ψ―¹? –¦–Α–Ι–Κ–Α, –ë–Β–Μ–Κ–Α –Η –Γ―²―Ä–Β–Μ–Κ–Α. –ê –Κ―²–Ψ –Ϋ–Α –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü–Β –Μ–Ψ–≤–Η―² ―à–Ω–Η–Ψ–Ϋ–Ψ–≤? –û―¹―²―Ä–Ψ―É―Ö–Η–Β –Ϋ–Α―à–Η –¥―Ä―É–Ζ―¨―è. –‰ –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è―Ö –Β―¹―²―¨ ―¹–Ψ–±–Α–Κ–Η. –€–Α―²―Ä–Ψ―¹―΄ –Η―Ö –Μ―é–±―è―² –Η –≤ ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ψ–±―É―΅–Α―é―² –Ϋ–Α―É–Κ–Α–Φ. –ê –Κ―²–Ψ –Ω–Ψ―¹–Ψ―΅―É–≤―¹―²–≤―É–Β―², –Β―¹–Μ–Η ―è ―¹―Ö–≤–Α―΅―É ―²―Ä–Ψ–Ι–Κ―É? –‰–Ϋ–≥―Ä–Η–¥. –û–Ϋ–Α –±―É–¥–Β―² –Μ–Α―¹―²–Η―²―¨―¹―è –Η –Ζ–Α–≥–Μ―è–¥―΄–≤–Α―²―¨ –Φ–Ϋ–Β –≤ –≥–Μ–Α–Ζ–Α: ¬Ϊ–ù–Η―΅–Β–≥–Ψ, –€–Α–Κ―¹–Η–Φ, –Ϋ–Β –Ψ―²―΅–Α–Η–≤–Α–Ι―¹―è, –Ζ–Α–≤―²―Ä–Α –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―à―¨ –Ω―è―²–Β―Ä–Κ―É¬Μ. –‰ –Ϋ–Α –¥―É―à–Β ―¹―²–Α–Ϋ–Β―² –Μ–Β–≥―΅–Β.
–ù–Α―à–Η –Ψ–≤―΅–Α―Ä–Κ–Η βÄî –Ω―Ä–Η–Ζ―΄–≤–Ϋ–Η–Κ–Η. –‰―Ö –Φ–Ψ–≥―É―² –Ω―Ä–Η–Ζ–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Α –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É. –Θ –‰–Ϋ–≥―Ä–Η–¥ –Β―¹―²―¨ –Ω–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―² ―¹–Μ―É–Ε–Β–±–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Ψ–±–Α–Κ–Η. –· –≤–Κ–Μ–Β–Η–Μ –≤ –Ϋ–Β–≥–Ψ –Β–Β ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―é. –· βÄî ―΅–Μ–Β–Ϋ –î–û–Γ–ê–ê–Λ–Α –Η –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―ç―²–Η–Φ –≥–Ψ―Ä–Ε―É―¹―¨. –ù–Α –Ω–Ψ–Μ–Β ―Ä–Α―¹―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ―΄ –Μ–Β―¹―²–Ϋ–Η―Ü―΄, –±–Α―Ä―¨–Β―Ä―΄ –Η –±―É–Φ―΄. –‰ ―Ö–Ψ–Ζ―è–Β–≤–Α –Η ―¹–Ψ–±–Α–Κ–Η –≤–Ψ–Μ–Ϋ―É―é―²―¹―è, –Ϋ–Ψ ―¹―²–Α―Ä–Α―é―²―¹―è, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η–Μ. –†–Α–Ζ―ä–Β–≤―à–Η–Ι―¹―è –±–Ψ–Κ―¹–Β―Ä, –≤―Ü–Β–Ω–Η–≤―à–Η―¹―¨ –Ω–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Η–Φ–Η –Μ–Α–Ω–Α–Φ–Η –≤ –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η–Ι –±–Α―Ä―¨–Β―Ä, ―¹ ―²―Ä―É–¥–Ψ–Φ –Ω–Ψ–¥―²―è–≥–Η–≤–Α–Β―² ―¹–≤–Ψ–Ι ―²–Ψ–Μ―¹―²―΄–Ι, ―¹ –Ψ–±―Ä―É–±–Κ–Ψ–Φ-―Ö–≤–Ψ―¹―²–Η–Κ–Ψ–Φ –Ζ–Α–¥. –ë–Ψ–Μ–Β–Μ―¨―â–Η–Κ–Η –Κ―Ä–Η―΅–Α―²:
βÄî –î–Α–≤–Α–Ι, –¥–Α–≤–Α–Ι –Ϋ–Α–Ε–Η–Φ–Α–Ι!..
–î―Ä―É–≥–Ψ–Ι ―¹―Ä―΄–≤–Α–Β―²―¹―è βÄî –Η –Ϋ–Α ―²―Ä–Η–±―É–Ϋ–Α―Ö ―¹–≤–Η―¹―²―è―². –≠―²–Ψ –Ω–Ψ―΅–Η―â–Β ―³―É―²–±–Ψ–Μ–Α!
–ù–Α―à–Α –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥―¨. –‰–Ϋ–≥―Ä–Η–¥ –Μ–Ψ–≤–Κ–Ψ –Η–¥–Β―² –Ω–Ψ –±―É–Φ―É (―¹ –Ϋ–Β–≥–Ψ ―É–Ε–Β –¥–≤–Β –Ψ–≤―΅–Α―Ä–Κ–Η ―¹–Ψ―Ä–≤–Α–Μ–Η―¹―¨), –Μ–Β–≥–Κ–Ψ –±–Β―Ä–Β―² –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η–Ι –±–Α―Ä―¨–Β―Ä, –≤–Ζ–±–Η―Ä–Α–Β―²―¹―è –Ϋ–Α –Κ―Ä―É―²―É―é –Μ–Β―¹―²–Ϋ–Η―Ü―É. –ù–Α–Φ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ö–Μ–Ψ–Ω–Α―é―² –Η –Κ―Ä–Η―΅–Α―², –Κ–Α–Κ –≤ ―²–Β–Α―²―Ä–Β:
βÄî –ë―Ä–Α–≤–Ψ!..
–Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –≤ –≤–Α―²–Ϋ–Η–Κ–Β ―¹ –¥–Μ–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ―Ä―É–Κ–Α–≤–Α–Φ–Η –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Α–Β―² ―à–Ω–Η–Ψ–Ϋ–Α. –û–Ϋ –Ω―Ä―è―΅–Β―²―¹―è –≤ –≥―É―¹―²–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Μ―é―΅–Β–Φ –Κ―É―¹―²–Α―Ä–Ϋ–Η–Κ–Β.
βÄî –Λ–Α―¹! βÄî –Ω–Ψ–¥–Α―é ―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É.
–‰–Ϋ–≥―Ä–Η–¥ –Μ–Β―²–Η―², –Β–¥–≤–Α –Μ–Α–Ω–Α–Φ–Η –Κ–Α―¹–Α―è―¹―¨ –Ζ–Β–Φ–Μ–Η. ¬Ϊ–®–Ω–Η–Ψ–Ϋ¬Μ –Ψ―²–Φ–Α―Ö–Η–≤–Α–Β―²―¹―è –¥–Μ–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ―Ä―É–Κ–Α–≤–Α–Φ–Η. –ö―É–¥–Α ―²–Α–Φ! –û–Ϋ–Α ―Ä–≤–Β―² –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Φ –≤–Α―²–Ϋ–Η–Κ –Η –Μ–Η―à―¨ –Ω–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Β: ¬Ϊ–Λ―É!¬Μ βÄî –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Α–Β―² ¬Ϊ–Ζ–Α–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ¬Μ.
βÄî –ù―É –Η –Ψ–≤―΅–Α―Ä–Κ–Α! βÄî –≤–Ψ―¹―Ö–Η―â–Α–Β―²―¹―è ¬Ϊ¬Μ, ―Ö–Ψ―²―è –Β–Φ―É –Η –Κ―Ä–Β–Ω–Κ–Ψ –¥–Ψ―¹―²–Α–Μ–Ψ―¹―¨.βÄî –û―² ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Ϋ–Β ―É–Ι–¥–Β―²! –ö–Α―Ä–Η–Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Α –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Η―² –Κ –Ϋ–Α–Φ ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –¦–Α―Ä―¹–Β–Ϋ–Ψ–Φ. –ö–Α―Ä–Η–Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Α –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Η―² –Κ –Ϋ–Α–Φ ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –¦–Α―Ä―¹–Β–Ϋ–Ψ–Φ.
βÄî –ö–Α–Κ–Α―è ―É–Φ–Ϋ–Η―Ü–Α ―²–≤–Ψ―è –‰–Ϋ–≥―Ä–Η–¥! βÄî ―Ö–≤–Α–Μ–Η―² –Ψ–Ϋ–Α.
βÄî –ê –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι ―É–Φ–Ϋ―΄–Ι ―²–≤–Ψ–Ι –¦–Α―Ä―¹–Β–Ϋ!βÄî–Ψ―²–≤–Β―΅–Α―é ―è –Β–Ι.
βÄî –ö–Α–Κ ―²―΄ –¥―É–Φ–Α–Β―à―¨, –Ψ–Ϋ–Η –¥―Ä–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Β –±―É–¥―É―², –Β―¹–Μ–Η –Η―Ö ―¹–Ω―É―¹―²–Η―²―¨ ―¹ –Ω–Ψ–≤–Ψ–¥–Κ–Ψ–≤?
–¦–Α―Ä―¹–Β–Ϋ –Η –‰–Ϋ–≥―Ä–Η–¥ –Ψ–±–Ϋ―é―Ö–Η–≤–Α―é―² –¥―Ä―É–≥ –¥―Ä―É–≥–Α, –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―è―²―¹―è –Η ―¹ –Μ–Α–Β–Φ –Ϋ–Ψ―¹―è―²―¹―è –Ω–Ψ –≤―΄―²–Ψ–Ω―²–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―²―Ä–Α–≤–Β. –· ―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α―é –ö–Α―Ä–Η–Ϋ―É, –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É –Β–Β –Ψ―²–Β―Ü –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―à–Β–Μ –Ω–Ψ–Μ―é–±–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –¦–Α―Ä―¹–Β–Ϋ–Α.
βÄî –û, –Ψ–Ϋ –≤ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Η! –‰ ―è –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α―é, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ –≤–Β―Ä–Ϋ–Β―²―¹―è. –€―΄ –Ε–Η–≤–Β–Φ –≤–¥–≤–Ψ–Β–Φ ―¹ –¦–Α―Ä―¹–Β–Ϋ–Ψ–Φ, –Η ―è –Ϋ–Α –Ϋ–Α―¹ –Ψ–±–Ψ–Η―Ö –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ―é –Ψ–±–Β–¥. –ê ―¹―²–Α―Ä―É―Ö–Α –Ψ–¥–Ϋ–Α, –£–Α―¹–Η–Μ–Η―¹–Α, ―É–±–Η―Ä–Α–Β―² –Κ–≤–Α―Ä―²–Η―Ä―É.
–· –Ζ–Ϋ–Α―é –Ψ―² –¥–Β–¥–Α, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ―΅–Α―¹―²–Ψ ―É―Ö–Ψ–¥―è―² –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ. –ü–Ψ–¥–Ψ –Μ―¨–¥–Ψ–Φ –¥–Ψ–±–Η―Ä–Α―é―²―¹―è –¥–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ―é―¹–Α.
βÄî –ê ―²―΄ –Ϋ–Β ―¹–Κ―É―΅–Α–Β―à―¨?
βÄî –Θ–Ε–Α―¹–Ϋ–Ψ! –‰ –¦–Α―Ä―¹–Β–Ϋ ―¹–Κ―É―΅–Α–Β―². –£―¹–Β –Ω―Ä–Η―¹–Μ―É―à–Η–≤–Α–Β―²―¹―è βÄî –Ϋ–Β –Η–¥–Β―² –Μ–Η –Ω–Α–Ω–Α –Ω–Ψ –Μ–Β―¹―²–Ϋ–Η―Ü–Β.
–ü–Ψ–¥–±–Β–≥–Α―é―² –û–Μ–Β–Ε–Κ–Α ―¹ –£–Α–¥–Η–Φ–Ψ–Φ.
βÄî –ê-–Α, –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –™―Ä–Β–Ι! βÄî ―¹–Φ–Β–Β―²―¹―è –ö–Α―Ä–Η–Ϋ–Α. βÄî –‰ –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α–Ϋ―² –Π–Η–Φ–Φ–Β―Ä! –ù―É –Κ–Α–Κ –≤–Α―à–Η –Α–Μ―΄–Β –Ω–Α―Ä―É―¹–Α?
βÄî –ê ―è –Ϋ–Α –Ϋ–Η―Ö ―¹–Ω–Μ―é, –≤ –Ϋ–Α–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η–Β, βÄî ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Α–Β―² –£–Α–¥–Η–Φ. βÄî –€–Α–Φ–Α –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―Ä–Α―¹―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ–Α―¹―¨, ―΅―²–Ψ –Η―¹–Ω–Ψ―Ä―΅–Β–Ϋ―΄ –Ω―Ä–Ψ―¹―²―΄–Ϋ–Η.
βÄî –‰ –Κ–Α–Κ–Η–Β –Ϋ–Α –Ϋ–Η―Ö –≤–Η–¥–Η―à―¨ ―¹–Ϋ―΄?
βÄî –Γ–Α–Φ―΄–Β –Μ―É―΅―à–Η–Β. –ù–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –≤―΅–Β―Ä–Α –≤–Η–¥–Β–Μ ―²–Β–±―è.
βÄî –ù―É, ―΅–Β–≥–Ψ –Ε–Β ―²―É―² –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ? βÄî –Ω―Ä–Ψ―²―è–Ϋ―É–Μ–Α –ö–Α―Ä–Η–Ϋ–Α. –€–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β―Ü! –Δ–Α–Κ –Η –Ϋ–Α–¥–Ψ –Β–Φ―É, –Ω―É―¹–Κ–Α–Ι –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–Φ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è!
βÄî –û–≤―΅–Α―Ä–Κ–Η, –Ϋ–Α ! βÄî –Κ―Ä–Η―΅–Η―² ―Ä–Α–¥–Η–Ψ. βÄî –‰–Ϋ–≥―Ä–Η–¥, –Κ–Ψ –Φ–Ϋ–Β! –û–Ϋ–Α –Ϋ–Β–Ψ―Ö–Ψ―²–Ϋ–Ψ –Ψ―²–±–Β–≥–Α–Β―² –Ψ―² –¦–Α―Ä―¹–Β–Ϋ–Α. βÄî –‰–Ϋ–≥―Ä–Η–¥, –Κ–Ψ –Φ–Ϋ–Β! –û–Ϋ–Α –Ϋ–Β–Ψ―Ö–Ψ―²–Ϋ–Ψ –Ψ―²–±–Β–≥–Α–Β―² –Ψ―² –¦–Α―Ä―¹–Β–Ϋ–Α.
–ü–Ψ –Κ―Ä―É–≥―É ―à–Α–≥–Α―é―² –Ψ–≤―΅–Α―Ä–Κ–Η, –Η ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Η–Β ―¹―É–¥―¨–Η ―Ä–Α–Ζ–±–Η―Ä–Α―é―² –Η―Ö ―¹―²–Α―²–Η. –€―΄ –Η–¥–Β–Φ –Ϋ–Α –Ω―è―²–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²–Ψ–Φ –Φ–Β―¹―²–Β. –ù–Ψ ―¹―É–¥―¨–Η –Ω–Β―Ä–Β–¥–≤–Η–≥–Α―é―² –Ϋ–Α―¹ –±–Μ–Η–Ε–Β. –£–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Α―é―² –≥–Ψ―Ä―è―΅–Η–Β ―¹–Ω–Ψ―Ä―΄. –ù–Α –Ϋ–Α―¹ ―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è―² –±–Ψ–Μ–Β–Μ―¨―â–Η–Κ–Η, ―²–Β―¹–Ϋ–Ψ –Ψ–±―¹―²―É–Ω–Η–≤―à–Η–Β ―Ä–Η–Ϋ–≥. –Γ―É–Β―²―è―²―¹―è ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³―΄. –£ ―²–Ψ–Μ–Ω–Β ―è –≤–Η–Ε―É ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ–Μ–Α―¹―¹–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤. –û–Ϋ–Η –±–Ψ–Μ–Β―é―² –Ζ–Α –‰–Ϋ–≥―Ä–Η–¥. –‰ –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―¹―É–¥―¨–Η –≤―΄–≤–Ψ–¥―è―² –Ψ–≤―΅–Α―Ä–Κ―É, ―à–Α–≥–Α–≤―à―É―é –Ω–Ψ–Ζ–Α–¥–Η –Ϋ–Α―¹, –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥, –Κ―Ä–Η―΅–Α―²:
βÄî –ù–Β–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ! –Γ―É–¥―¨―é –Ϋ–Α –Φ―΄–Μ–Ψ!..
–ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ! –ù–Η ―É –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–≤―΅–Α―Ä–Κ–Η –Ϋ–Β―² ―²–Α–Κ–Η―Ö ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ―΄―Ö ―è–Ϋ―²–Α―Ä–Ϋ―΄―Ö –≥–Μ–Α–Ζ, –Κ–Α–Κ ―É –‰–Ϋ–≥―Ä–Η–¥. –ù–Η ―É –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Α–Κ –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ―Ä–Η―¹–Ψ–≤–Α–Ϋ–Α –Φ–Ψ―Ä–¥–Α. –Γ–Ψ–Ω–Β―Ä–Ϋ–Η―Ü–Α ―Ö―É–Ε–Β –Ϋ–Α―¹. –Γ–Ψ–±–Α–Κ–Η ―²–Ψ–Ε–Β –Φ–Β―΅―²–Α―é―² –±―΄―²―¨ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Φ–Η. –‰–Ϋ–≥―Ä–Η–¥ ―¹–Β―Ä–¥–Η―²―¹―è –Η, ―Ö–Ψ―²―è –Η ―É―¹―²–Α–Μ–Α, –Ω―Ä–Η–Ψ―¹–Α–Ϋ–Η–≤–Α–Β―²―¹―è –Η –≤–Β–¥–Β―² –Φ–Β–Ϋ―è, –≥–Ψ―Ä–¥–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–≤ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ―É―Ö―É―é –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―É. –Γ―É–¥―¨–Η –≤―¹–Β –Ε–Β –Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é―²―¹―è ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Μ–Η–≤―΄–Φ–Η. –ö―Ä―É–≥ –Ζ–Α –Κ―Ä―É–≥–Ψ–Φ –Φ―΄ –Ω―Ä–Η–±–Μ–Η–Ε–Α–Β–Φ―¹―è –Κ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Φ―É –Φ–Β―¹―²―É. –û–≤―΅–Α―Ä–Κ–Η ―Ä―΄―΅–Α―² –Ϋ–Α–Φ –≤―¹–Μ–Β–¥. –Ξ–Ψ–Ζ―è–Β–≤–Α –Ζ–Μ―è―²―¹―è. –û–¥–Ϋ–Α –¥–Α–Φ–Ψ―΅–Κ–Α –¥–Α–Ε–Β –Ζ–Α–Κ–Α―²―΄–≤–Α–Β―² –Η―¹―²–Β―Ä–Η–Κ―É. –û–Ϋ–Α –Κ―Ä–Η―΅–Η―² –Ϋ–Α –≤–Β―¹―¨ ―Ä–Η–Ϋ–≥, ―΅―²–Ψ –Ψ–±–Η–¥–Β–Μ–Η –Β–Β –€―É–Μ–Β―΅–Κ―É –Η –Ω–Ψ–Ϋ–Ψ―¹–Η―² ―¹―É–¥–Β–Ι ¬Ϊ–Ω―Ä–Ψ–¥–Α–Ε–Ϋ―΄–Φ–Η –¥―É―à–Α–Φ–Η¬Μ. –î–Α–Φ–Ψ―΅–Κ―É –≤―΄–≤–Ψ–¥―è―² –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –€―É–Μ–Β―΅–Κ–Ψ–Ι ―¹ ―Ä–Η–Ϋ–≥–Α –Η –Ψ―²–Ω–Α–Η–≤–Α―é―² –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι...
–Θ―Ä–Α! –€―΄ βÄî –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β! –ü–Β―Ä–≤―΄–Ι –Ω―Ä–Η–Ζ! –‰–Ϋ–≥―Ä–Η–¥ –Ψ–±–Ψ―Ä–Α―΅–Η–≤–Α–Β―² –Κ–Ψ –Φ–Ϋ–Β ―¹–Η―è―é―â―É―é –Φ–Ψ―Ä–¥―É, –Η –Ψ–Ζ–Ψ―Ä–Ϋ―΄–Β –Β–Β –≥–Μ–Α–Ζ–Α –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―²: ¬Ϊ–ß―²–Ψ, –≤–Ζ―è–Μ–Η, –≤–Ζ―è–Μ–Η?¬Μ –ù–Α―¹ –Ζ–Ψ–≤―É―² –Κ ―¹―É–¥―¨―è–Φ; –Ω–Ψ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ –Ψ–±―ä―è–≤–Μ―è―é―² –Ψ –Ϋ–Α―à–Β–Ι –Ω–Ψ–±–Β–¥–Β. –ù–Α―¹ –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Μ―è–Β―² –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ βÄî –Ω―Ä–Β–¥―¹–Β–¥–Α―²–Β–Μ―¨ –î–û–Γ–ê–ê–Λ–Α.
–™–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι ―¹―É–¥―¨―è –≤―Ä―É―΅–Α–Β―² –Ϋ–Α–Φ –Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²―É―é –Φ–Β–¥–Α–Μ―¨ –Η –Ε–Β―²–Ψ–Ϋ βÄî ―ç―²–Ψ –Ζ–Α―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Α –‰–Ϋ–≥―Ä–Η–¥, –Α ―è, –¥―Ä–Β―¹―¹–Η―Ä–Ψ–≤―â–Η–Κ, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α―é ―à–Η–Κ–Α―Ä–Ϋ―΄–Ι, –≤ –Κ–Ψ–Ε–Α–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Β―Ä–Β–Ω–Μ–Β―²–Β –Α–Μ―¨–±–Ψ–Φ.
–£–Α–¥–Η–Φ –Η –û–Μ–Β–≥ –Ζ–Ψ–≤―É―² –Β―¹―²―¨ –Φ–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ψ–Β. –ë–Β―Ä–Β–Φ –≤–Ψ―¹–Β–Φ―¨ –Ω–Ψ―Ä―Ü–Η–Ι, –Ω–Ψ –¥–≤–Β –Ϋ–Α –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–≥–Ψ. –‰–Ϋ–≥―Ä–Η–¥ ―¹ –Ϋ–Β―²–Β―Ä–Ω–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ε–¥–Β―², –Ω–Ψ–Κ–Α ―è –Ψ―΅–Η―â―É –±―É–Φ–Α–≥―É. –ü―΄―²–Α―é―²―¹―è –Β–Β ―É–≥–Ψ―â–Α―²―¨ –Η –±–Ψ–Μ–Β–Μ―¨―â–Η–Κ–Η, –Ϋ–Ψ –Ψ–Ϋ–Α –Ϋ–Β –±–Β―Ä–Β―² –Β–¥―É ―É ―΅―É–Ε–Η―Ö.
–Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ϋ–Α ―Ä–Η–Ϋ–≥–Β –Ψ–≤―΅–Α―Ä–Κ–Η-–Φ–Α–Μ―¨―΅–Η–Κ–Η. –ù–Α –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η―² –®―²–Ψ―Ä–Φ, –Ψ–Ϋ –≥–Ψ―Ä–¥–Ψ ―à–Α–≥–Α–Β―² ―É –Ϋ–Ψ–≥–Η –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–≥–Ψ –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Α. –£–Μ–Α–¥–Β–Μ–Β―Ü –®―²–Ψ―Ä–Φ–Α βÄî –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Α ―ç―¹–Φ–Η–Ϋ―Ü–Α ¬Ϊ–Γ–≤–Β―²–Μ―΄–Ι¬Μ. –ö–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ω–Β―¹ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Β―² –Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²―É―é –Φ–Β–¥–Α–Μ―¨. –û–Ϋ –≤–Β―¹―¨ ―É–≤–Β―à–Α–Ϋ –Ε–Β―²–Ψ–Ϋ–Α–Φ–Η. –€–Α―²―Ä–Ψ―¹―΄ ―¹ –Ϋ–Η–Φ ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―Ä―É―é―²―¹―è βÄî –Ψ–Ϋ–Η –Β–≥–Ψ –≤―΄―Ä–Α―¹―²–Η–Μ–Η, –Β–≥–Ψ –Ψ–±―É―΅–Η–Μ–Η, –Η –Ψ–Ϋ ―¹–Μ―É–Ε–Η―² ―³–Μ–Ψ―²―É... –ê –≥–¥–Β –Ε–Β –ö–Α―Ä–Η–Ϋ–Α?.. –Θ―à–Μ–Α. –Θ―à–Μ–Α ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ . –£–Η–¥–Β–Μ–Α –Ψ–Ϋ–Α –Η–Μ–Η –Ϋ–Β –≤–Η–¥–Β–Μ–Α? –ù–Β –Ζ–Ϋ–Α―é. –ê ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –±―΄, ―΅―²–Ψ–± –≤–Η–¥–Β–Μ–Α, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Μ–Η –Ω―Ä–Η–Ζ–Α–Φ–Η. –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―². –ê –≥–¥–Β –Ε–Β –ö–Α―Ä–Η–Ϋ–Α?.. –Θ―à–Μ–Α. –Θ―à–Μ–Α ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ . –£–Η–¥–Β–Μ–Α –Ψ–Ϋ–Α –Η–Μ–Η –Ϋ–Β –≤–Η–¥–Β–Μ–Α? –ù–Β –Ζ–Ϋ–Α―é. –ê ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –±―΄, ―΅―²–Ψ–± –≤–Η–¥–Β–Μ–Α, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Μ–Η –Ω―Ä–Η–Ζ–Α–Φ–Η. –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―².

–£–Β―Ä―é–Ε―¹–Κ–Η–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–£–ù–ê), –™–Ψ―Ä–Μ–Ψ–≤ –û–Μ–Β–≥ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–û–ê–™), –€–Α–Κ―¹–Η–Φ–Ψ–≤ –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–€–£–£), –ö–Γ–£.
198188. –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥, ―É–Μ. –€–Α―Ä―à–Α–Μ–Α –™–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α, –¥–Ψ–Φ 11/3, –Κ–≤. 70. –ö–Α―Ä–Α―¹–Β–≤ –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅, –Α―Ä―Ö–Η–≤–Α―Ä–Η―É―¹.
24.02.201400:5424.02.2014 00:54:59
0
23.02.201400:5523.02.2014 00:55:22

–£–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ–Α–Φ –£–€–Λ–î–Ψ―Ä–Ψ–≥–Η–Β –±–Ψ–Β–≤―΄–Β –¥―Ä―É–Ζ―¨―è !–û―² –Η–Φ–Β–Ϋ–Η –Γ–Ψ–≤–Β―²–Α –ê―¹―¹–Ψ―Ü–Η–Α―Ü–Η–Η –Ψ―² –≤―¹–Β–Ι –¥―É―à–Η –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Μ―è―é –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤ –Η –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ–Ψ–≤ ―¹ –Ϋ–Α―à–Η–Φ –Ψ–±―â–Η–Φ –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ - –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Μ―é–¥–Β–Ι, –Ω–Ψ―¹–≤―è―²–Η–≤―à–Η―Ö ―¹–≤–Ψ―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ ―¹–Μ―É–Ε–Β–Ϋ–Η―é –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤―É –Ϋ–Α –Ζ–Β–Φ–Μ–Β, –≤ –Ϋ–Β–±–Β―¹–Α―Ö –Η –Ϋ–Α –Φ–Ψ―Ä–Β !
–£―΄―Ä–Α–Ε–Α―é ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, ―΅―²–Ψ –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι ―΅–Μ–Β–Ϋ –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –±―Ä–Α―²―¹―²–≤–Α –≤–Ϋ–Β―¹–Β―² ―¹–≤–Ψ―é –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ―É―é –Μ–Β–Ω―²―É –≤ –Ϋ–Α―΅–Α–≤―à–Η–Ι―¹―è –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β―¹―¹ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Φ–Ψ―â–Η –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α.
–ö―Ä–Β–Ω–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤―¹–Β–Φ ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―¨―è, ―¹―΅–Α―¹―²―¨―è –Η –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―è –≤–Α―à–Η–Φ ―¹–Β–Φ―¨―è–Φ! –ü―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Β–Ϋ―² –ê―¹―¹–Ψ―Ü–Η–Α―Ü–Η–Η –î–Ψ―Ä–Ψ–≥–Η–Β –¥―Ä―É–Ζ―¨―è!–Γ –î–ù–ï–€ –½–ê–©–‰–Δ–ù–‰–ö–û–£ –û–Δ–ï–ß–ï–Γ–Δ–£–ê, –î–Ψ―Ä–Ψ–≥–Η–Β –¥―Ä―É–Ζ―¨―è!–Γ –î–ù–ï–€ –½–ê–©–‰–Δ–ù–‰–ö–û–£ –û–Δ–ï–ß–ï–Γ–Δ–£–ê,
–Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Γ–û–£–ï–Δ–Γ–ö–û–ô –ê–†–€–‰–‰ –‰ –£–û–ï–ù–ù–û-–€–û–†–Γ–ö–û–™–û –Λ–¦–û–Δ–ê!!!
–‰–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―²–Ψ―¹―² –±―É–¥–Β―² –Ζ–≤―É―΅–Α―²―¨ –≤ –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―¹–Β–Φ―¨–Β, –≥–¥–Β –¥–≤–Ψ–Β ―¹―²–Α–Μ–Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α–Φ–Η 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α, –Ψ–¥–Η–Ϋ - –Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ, –Α ―¹–Α–Φ―΄–Ι –Φ–Μ–Α–¥―à–Η–Ι βÄ™ ―¹–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ―²–Ψ–Φ –Ζ–Α–Ω–Α―¹–Α!
–•–ï–¦–ê–° –£–Γ–ï–€ –Γ–¦–Θ–•–‰–£–®–‰–€ βÄ™ –½–î–û–†–û–£–§–·, –£–Γ–ï–€ –¦–°–ë–·–©–‰–€ –Γ–¦–Θ–•–‰–£–Ϊ–Ξ βÄ™ –½–î–û–†–û–£–§–· –‰ –Γ–ß–ê–Γ–Δ–§–·!!!
–ß–ï–Γ–Δ–§ –‰–€–ï–°, –ö–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –≤ –Ψ―²―¹―²–Α–≤–Κ–Β –ö–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –≤ –Ψ―²―¹―²–Α–≤–Κ–Β
–ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –ö―É–Ζ–Η–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–î―Ä―É–Ζ―¨―è!
–û–¥–Ϋ–Ψ–Κ–Α―à–Ϋ–Η–Κ–Η!
–†–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Η –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Η–Β!
–Γ –ü―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –£–Α―¹, ―¹ –Ϋ–Α―à–Η–Φ –ü―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ!
–‰ –Κ–Α–Κ –±―΄ –Ψ–Ϋ ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ϋ–Β –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ―¹―è, –Φ―΄ –Ψ―²–Φ–Β―΅–Α–Β–Φ –ù–ê–® –ü―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ: - –î–ï–ù–§ –Γ–û–£–ï–Δ–Γ–ö–û–ô –ê–†–€–‰–‰ –‰ –£–û–ï–ù–ù–û-–€–û–†–Γ–ö–û–™–û –Λ–¦–û–Δ–ê!
–‰ –Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Φ, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α―à –ü―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ, –Ϋ–Ψ –Η –Ϋ–Α―à–Η―Ö –Ε―ë–Ϋ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―¹–≤–Ψ–Η–Φ ―²―Ä―É–¥–Ψ–Φ, –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―²―Ä―É–¥–Ψ–Φ –Ω–Ψ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η―é ―¹–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É―é―²–Α, - –Ω–Ψ–¥―΅–Α―¹ –≤ ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö, –Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –±―΄, –Ϋ–Β―¹–Ψ–≤–Φ–Β―¹―²–Η–Φ―΄–Φ–Η –¥–Μ―è ―ç―²–Ψ–≥–Ψ, - ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Α–Φ –Κ―Ä–Β–Ω–Κ–Η–Ι ―²―΄–Μ –Η ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ω―Ä–Β–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Η –Μ―é–±–Ψ–≤―¨―é, –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α–Μ–Η –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±–Β!
–½–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―¨―è –≤―¹–Β–Φ –£–Α–Φ, –¥―Ä―É–Ζ―¨―è –Η –Ε―ë–Ϋ―΄, –û–ü–Δ–‰–€–‰–½–€–ê, –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―è –Η –Κ―Ä–Β–Ω–Κ–Ψ–Ι –Μ―é–±–≤–Η!
–Γ –ü―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –£–Α―¹! –Γ –ù–ê–®–‰–€ –ü–†–ê–½–î–ù–‰–ö–û–€ !
–‰ –Β―â―ë!
–ù–Α―à–Η –Φ–Η–Μ―΄–Β, –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Η–Β –Η ―¹–Α–Φ―΄–Β –Κ―Ä–Α―¹–Η–≤―΄–Β –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ―΄!
–ü–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―¨―²–Β ―É–Ε–Β ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Η―²―¨ –£–Α―¹ ―¹ –£–Α―à–Η–Φ –≥―Ä―è–¥―É―â–Η–Φ –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –ü―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ! –ë―É–¥―¨―²–Β –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Α–Φ―΄–Φ–Η –Κ―Ä–Α―¹–Η–≤―΄–Φ–Η, –Ϋ–Ψ –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Ι―²–Β―¹―¨, –Κ–Α–Κ –Η ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹, ―¹–Α–Φ―΄–Φ–Η –Ψ–±–Α―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η! –£―΄ - –Ϋ–Α―à–Β –≤―¹―ë!!! –Γ –Η―¹–Κ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Φ ―É–≤–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –£–Η―²–Α–Μ–Η–Ι –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ―Ü–Β–≤ –Η, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ –Ε–Β, –Ω―Ä–Β–¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Λ–Μ–Ψ―²―É –Η –≤–Μ―é–±–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤ –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ, –Φ–Ψ–Ι –Λ–¦–ï–ô –Γ –Η―¹–Κ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Φ ―É–≤–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –£–Η―²–Α–Μ–Η–Ι –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ―Ü–Β–≤ –Η, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ –Ε–Β, –Ω―Ä–Β–¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Λ–Μ–Ψ―²―É –Η –≤–Μ―é–±–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤ –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ, –Φ–Ψ–Ι –Λ–¦–ï–ô
23 ―³–Β–≤―Ä–Α–Μ―è 2014 –≥–Ψ–¥–Α
–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²
–î–Ψ―Ä–Ψ–≥–Η–Β –¥―Ä―É–Ζ―¨―è, ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Η, ―¹ –î–Ϋ–Β–Φ –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–Ι –ê―Ä–Φ–Η–Η –Η –£–€–Λ!–¦―É―΅―à–Β, ―΅–Β–Φ –£–Α–Μ–Β―Ä–Η–Ι –Γ―²–Β–≥–Α―΅―ë–≤, –Ϋ–Β ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨:–ö―²–Ψ ―¹–Β–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –≤―¹–Β–≥–¥–Α ―΅―²–Η―² ―¹–≤―è―²–Ψ,
–ü―É―¹―²―¨ –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ―¨–Β –Ω―Ä–Η ―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ–Β
–Γ–Μ―É–Ε–Η―², –Η–Μ―¨ ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ –Κ–Ψ–≥–¥–Α-―²–Ψ
–£―¹–Β –Ε–Β –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Η―²―¨ –Ω–Ψ―¹–Φ–Β–Μ–Η,
–£ –Φ–Ψ―Ä–Β, –≤ –Ϋ–Β–±–Β, –Ϋ–Α –Ζ–Β–Φ–Μ–Β
–ù–Ψ –Ψ―¹―²–Α–Μ―¹―è –Ψ–Ϋ –¥–Μ―è –≤―¹–Β―Ö:
–£ ―ç―²–Ψ―² –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ –≤ ―³–Β–≤―Ä–Α–Μ–Β,
–î–Β–Ϋ―¨ –Γ–ê –Η –£–€–Λ.
–†–Α―²–Ϋ―΄–Ι ―²―Ä―É–¥ ―Ö–Ψ―²–Η–Φ –≤–Ψ―¹―¹–Μ–Α–≤–Η―²―¨
–‰ –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β, –Ϋ–Β –±–Β–Ζ –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ―΄,
–‰ –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ –≤―¹–Β―Ö-–≤―¹–Β―Ö –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Η―²―¨,
–€―΄ –Ε–Β–Μ–Α–Β–Φ –≤―¹–Β–Φ –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ–Α–Φ,
–™–Ψ―Ä–¥–Ψ―¹―²―¨ –Ψ–±―â―É―é –¥–Β–Μ―è,
–û―² –¥―É―à–Η –±–Β–Ζ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤―¨―è,
–Γ –¥–≤–Α–¥―Ü–Α―²―¨ ―²―Ä–Β―²―¨–Η–Φ ―³–Β–≤―Ä–Α–Μ―è.
–€–Η―Ä–Α, ―¹―΅–Α―¹―²―¨―è –Η –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―¨―è.–Γ ―É–≤–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ, ―¹–Β–Φ―¨―è –ö–Α–Μ–Η–Ϋ–Η–Ϋ―΄―Ö.–û―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β, –Ω–Β―Ä―¹–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä―É –£–Β–Ϋ–Η–Α–Φ–Η–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅―É –ë―Ä―΄―¹–Κ–Η–Ϋ―É –Γ―΅–Α―¹―²―¨―è, –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―¨―è, –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―è –£–Α–Φ, –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ–Ι ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –ü–û–î–™–û–Δ (–Η–Ζ –Ω–Μ–Β―è–¥―΄ –Μ–Β–≥–Β–Ϋ–¥–Α―Ä–Ϋ―΄―Ö "46-49-53" )! –Γ―΅–Α―¹―²―¨―è, –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―¨―è, –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―è –£–Α–Φ, –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ–Ι ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –ü–û–î–™–û–Δ (–Η–Ζ –Ω–Μ–Β―è–¥―΄ –Μ–Β–≥–Β–Ϋ–¥–Α―Ä–Ϋ―΄―Ö "46-49-53" )! 
–£–Β―Ä―é–Ε―¹–Κ–Η–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–£–ù–ê), –™–Ψ―Ä–Μ–Ψ–≤ –û–Μ–Β–≥ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–û–ê–™), –€–Α–Κ―¹–Η–Φ–Ψ–≤ –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–€–£–£), –ö–Γ–£.
198188. –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥, ―É–Μ. –€–Α―Ä―à–Α–Μ–Α –™–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α, –¥–Ψ–Φ 11/3, –Κ–≤. 70. –ö–Α―Ä–Α―¹–Β–≤ –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅, –Α―Ä―Ö–Η–≤–Α―Ä–Η―É―¹.
23.02.201400:5523.02.2014 00:55:22
–Γ―²―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü―΄:
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
–Γ–Μ–Β–¥.
|
|
–™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β –Ζ–Α –Ϋ–Β–¥–Β–Μ―é
|



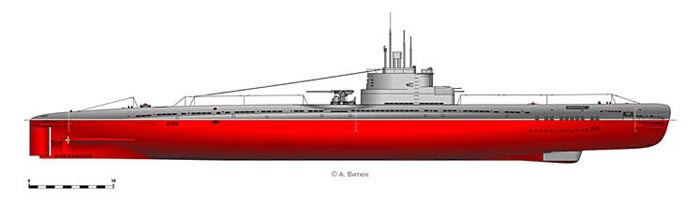


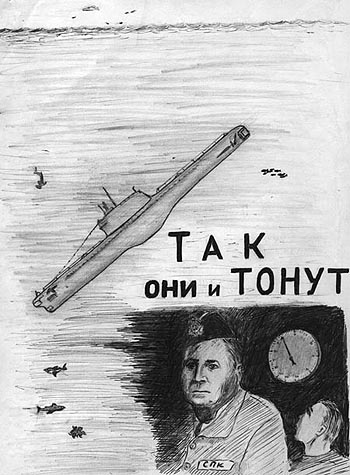

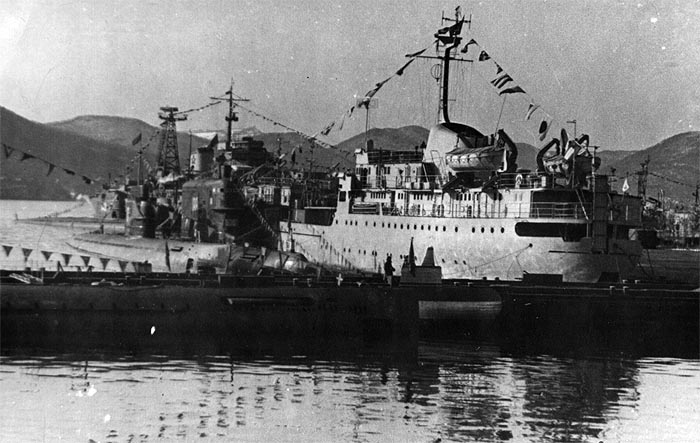
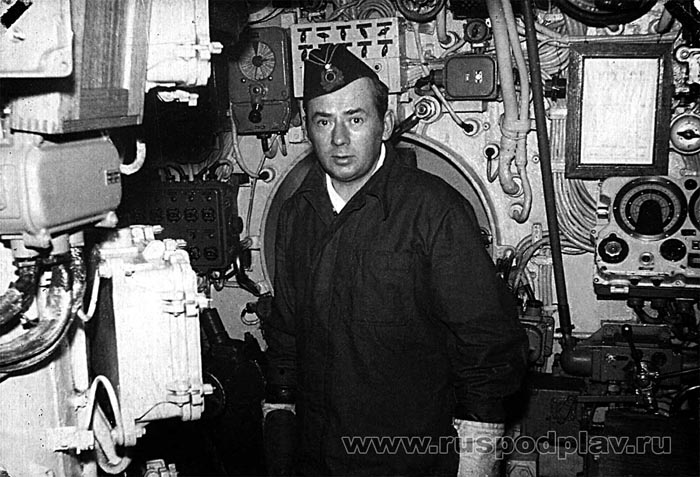


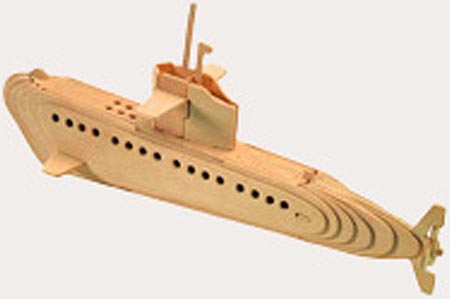



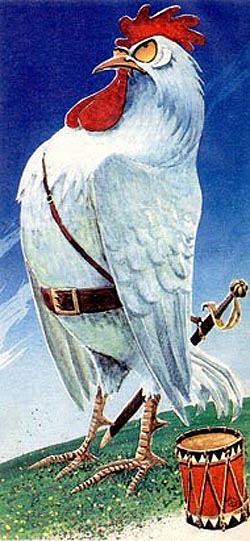










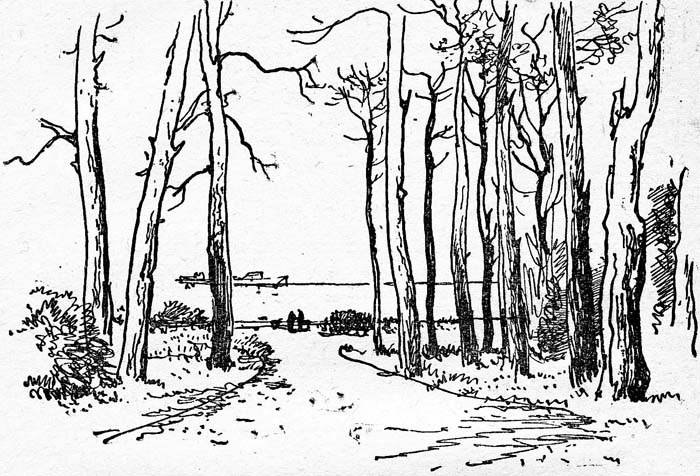


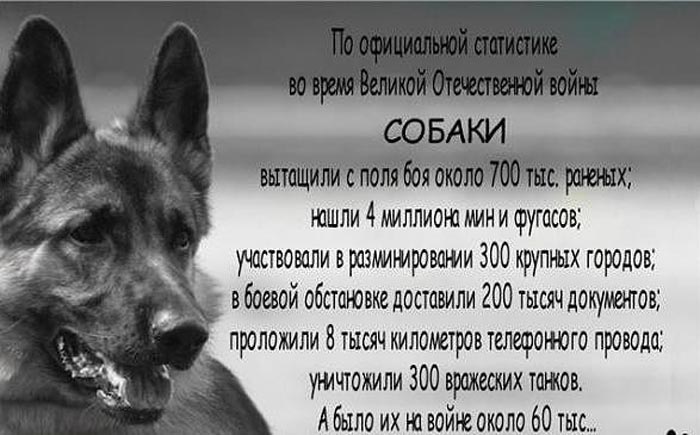











.jpg)


