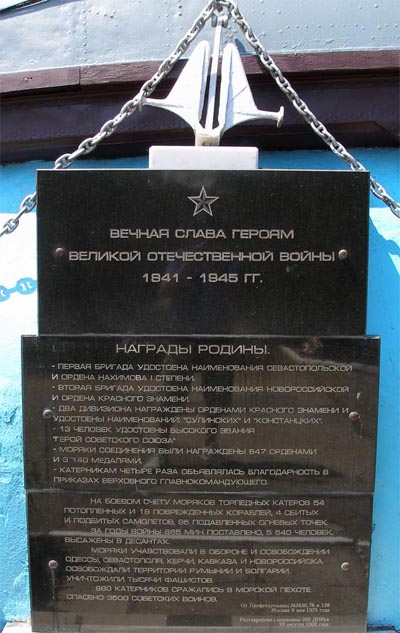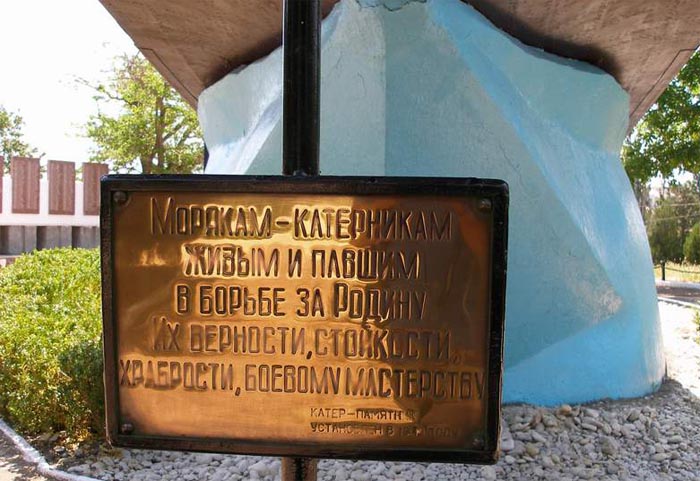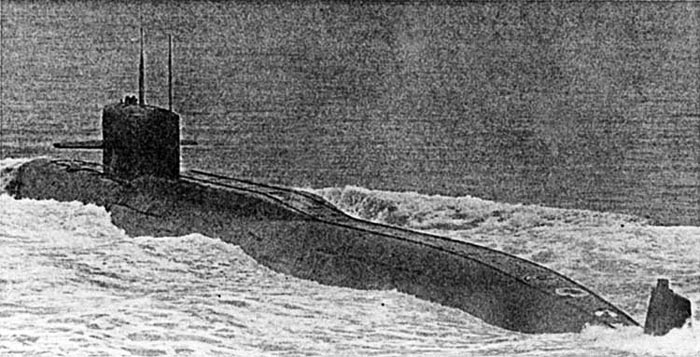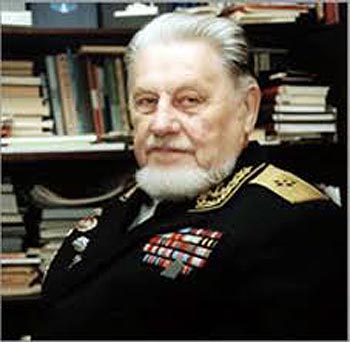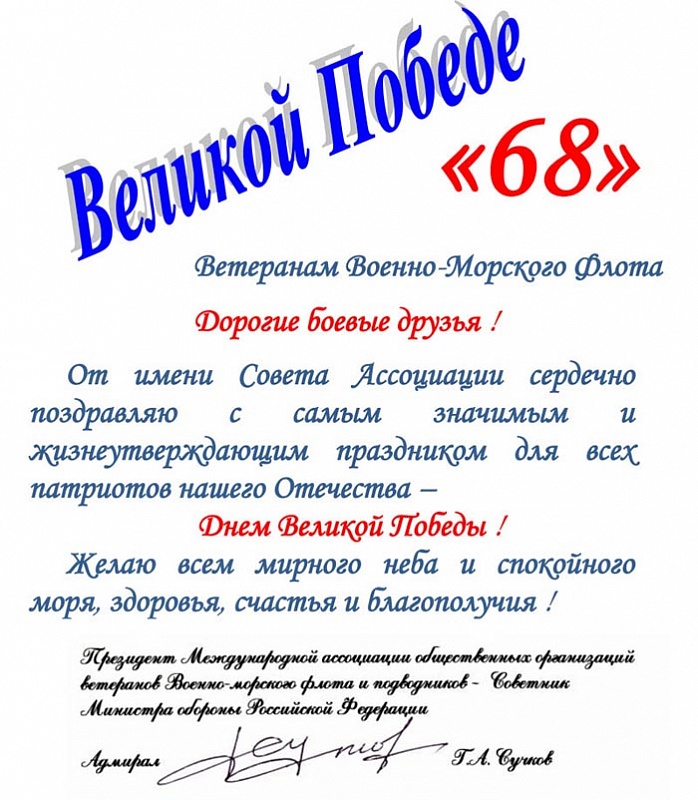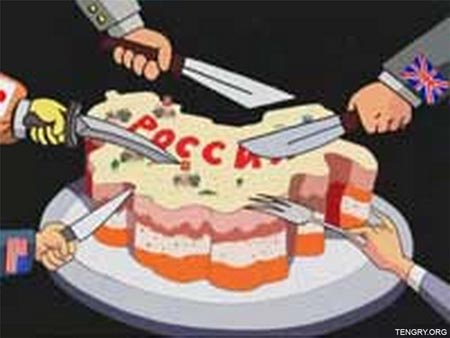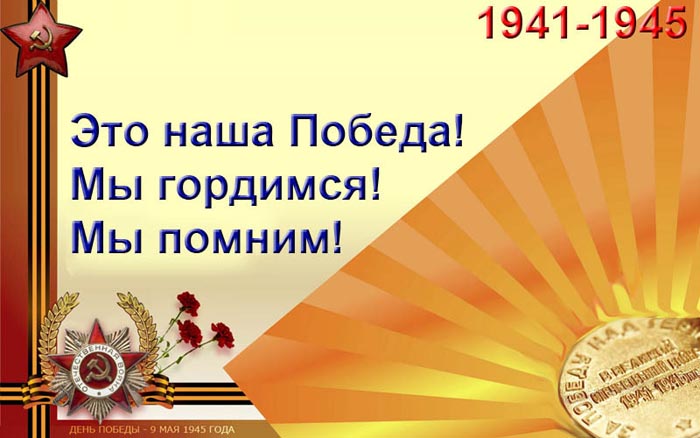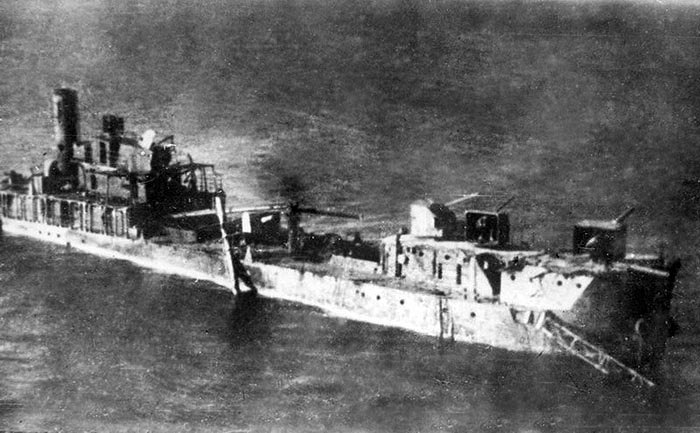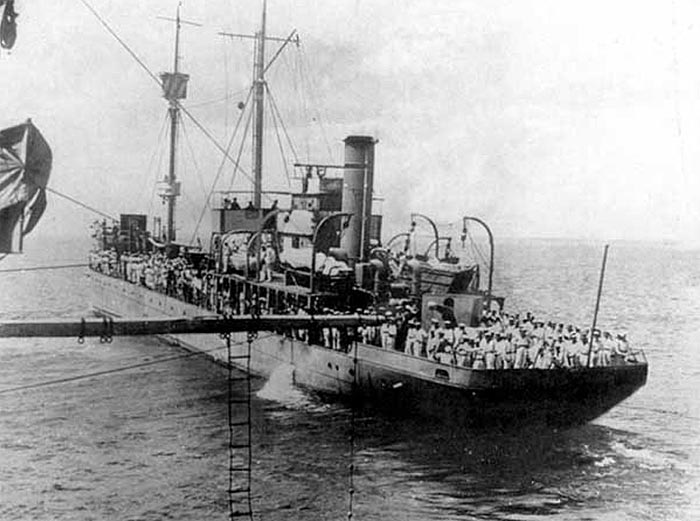–ë–∞–Ω–Ω–µ—Ä

–ö–∞–∫ —Å–æ–≤–º–µ—Å—Ç–∏—Ç—å –º–µ—Ö–∞–Ω–æ–æ–±—Ä–∞–±–æ—Ç–∫—É –∏ –∞–≤—Ç–æ–º–∞—Ç–∏–∑–∞—Ü–∏—é –ø—Ä–æ–∏–∑–≤–æ–¥—Å—Ç–≤–∞
|
–í—Å–∫–æ—Ä–º–ª—ë–Ω–Ω—ã–µ —Å –∫–æ–ø—å—è - –°–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏—è –∑–∞ –º–∞–π 2013 –≥–æ–¥–∞
0
11.05.201309:3211.05.2013 09:32:35
 –≠—Ç–æ –±—ã–ª–∏ –¥–Ω–∏, –Ω–µ–¥–µ–ª–∏ –∏ –º–µ—Å—è—Ü—ã –Ω–µ–ø—Ä–µ—Ä—ã–≤–Ω—ã—Ö –±–æ–µ–≤, –∫–æ–≥–¥–∞ –ø–æ –≤–æ–∑–≤—Ä–∞—â–µ–Ω–∏–∏ —É–¥–∏–≤–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–º–∏ –∫–∞–∑–∞–ª–∏—Å—å —Ä—ã–±–∞–∫–∏, –º–∏—Ä–Ω–æ –ª–æ–≤–∏–≤—à–∏–µ —Ä—ã–±—É. –§—Ä–æ–ª —Å –ø—Ä–µ–≤–æ—Å—Ö–æ–¥—Å—Ç–≤–æ–º –ø–æ–≥–ª—è–¥—ã–≤–∞–ª –Ω–∞ –≥–æ—Ä–ª–∞–Ω–∏–≤—à–∏—Ö —á–µ—Ä–Ω–æ–±—Ä–æ–≤—ã—Ö –º–∞–ª—å—á–∏—à–µ–∫, —Å—É—à–∏–≤—à–∏—Ö —Å–µ—Ç–∏. ¬´–û–Ω–∏ –∏ –ø–æ–Ω—è—Ç–∏—è –Ω–µ –∏–º–µ—é—Ç, –≥–¥–µ —è –ø–æ–±—ã–≤–∞–ª, –∏ –æ—Ç–¥–∞–ª–∏ –±—ã, –ø–æ–∂–∞–ª—É–π, –≤—Å—é —Å–≤–æ—é —Ä—ã–±—É –∏ –≤—Å–µ —Å–≤–æ–∏ —Å–µ—Ç–∏, —á—Ç–æ–±—ã —Ö–æ—Ç—å —Ä–∞–∑ –≤—ã–π—Ç–∏ –≤ –º–æ—Ä–µ –Ω–∞ –∫–∞—Ç–µ—Ä–µ¬ª. –°–ª—É—á–∏–ª–æ—Å—å –∏ —Ç–æ, –æ —á–µ–º –≤–ø–æ—Å–ª–µ–¥—Å—Ç–≤–∏–∏ –§—Ä–æ–ª –Ω–µ –ª—é–±–∏–ª –≤—Å–ø–æ–º–∏–Ω–∞—Ç—å, —Ö–æ—Ç—è —Å–Ω–∞—á–∞–ª–∞ –≤—Å–ø–æ–º–∏–Ω–∞–ª –≤—Å–ª—É—Ö –Ω–∞ –∫–∞–∂–¥–æ–º —à–∞–≥—É: –∫–∞—Ç–µ—Ä –∏—Ö –ø–æ–ø–∞–ª –≤ ¬´–≤–∏–ª–∫—ɬª. –§—Ä–æ–ª —É–≤–∏–¥–µ–ª –æ–±–ª–∏–≤–∞—é—â–µ–≥–æ—Å—è –∫—Ä–æ–≤—å—é –§–æ–∫–∏—è –ü–∞–≤–ª–æ–≤–∏—á–∞ –∏ –ø–æ–Ω–∏–∫—à–µ–≥–æ –Ω–∞ —à—Ç—É—Ä–≤–∞–ª–µ –Ý—É—Å—å–µ–≤–∞; –æ–Ω –æ—Å—Ç–æ—Ä–æ–∂–Ω–æ –æ—Ç—Å—Ç—Ä–∞–Ω–∏–ª –∫–æ–º–∞–Ω–¥–∏—Ä–∞ –∏ ‚Äî —Ç–µ–ø–µ—Ä—å –æ–Ω –±—ã –∏ —Å–∞–º –Ω–µ –º–æ–≥ —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑–∞—Ç—å –ø–æ–¥—Ä–æ–±–Ω–æ, –∫–∞–∫ –≤—Å–µ –ø—Ä–æ–∏–∑–æ—à–ª–æ, —Ç–æ–≥–¥–∞ –æ–Ω –¥–µ–π—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª –±—É–¥—Ç–æ –≤–æ —Å–Ω–µ,‚Äî —Å—Ç–∞–ª –∫ —à—Ç—É—Ä–≤–∞–ª—É, –≤—ã–≤–µ–ª –∫–∞—Ç–µ—Ä –∏–∑-–ø–æ–¥ –æ–≥–Ω—è –∏ –ø—Ä–∏–≤–µ–ª –µ–≥–æ –≤ –±–∞–∑—É. –ò –∫–∞–∫ –≤–æ —Å–Ω–µ –ø–æ—à–µ–ª, —à–∞—Ç–∞—è—Å—å, –ø–æ –±–æ–ª–æ—Ç–∏—Å—Ç—ã–º –∫–æ—á–∫–∞–º, –ø–æ–∫–∞ –∑–∞ –µ–≥–æ —Å–ø–∏–Ω–æ–π —É–Ω–æ—Å–∏–ª–∏ –≤ –ª–∞–∑–∞—Ä–µ—Ç —Ä–∞–Ω–µ–Ω—ã—Ö –∫–æ–º–∞–Ω–¥–∏—Ä–∞ –∏ –±–æ—Ü–º–∞–Ω–∞. –ï–≥–æ –≤—ã—Ä–≤–∞–ª–æ –≥–¥–µ-—Ç–æ –Ω–∞ –∫–ª–∞–¥–±–∏—â–µ, –∏ –ª–∏—à—å —Å–ø—É—Å—Ç—è —á–∞—Å –∏–ª–∏ –¥–≤–∞ –æ–Ω –ø—Ä–∏—à–µ–ª –≤ —Å–µ–±—è –∏ —Å–º–æ–≥ –±–æ–ª–µ–µ –∏–ª–∏ –º–µ–Ω–µ–µ —Å–≤—è–∑–Ω–æ –¥–æ–ª–æ–∂–∏—Ç—å –æ —Å–ª—É—á–∏–≤—à–µ–º—Å—è. –í–æ –≤—Å—è–∫–æ–º —Å–ª—É—á–∞–µ, –ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–∏–µ –µ–≥–æ —É–ø—Ä–æ—á–∏–ª–æ—Å—å, –∏ –≤—Å–∫–æ—Ä–µ —Å—Ä–µ–¥–∏ –Ω–∞–≥—Ä–∞–∂–¥–µ–Ω–Ω—ã—Ö –æ—Ä–¥–µ–Ω–∞–º–∏ —Å—Ç–æ—è–ª –≤ —Å—Ç—Ä–æ—é –∏ –≤–æ—Å–ø–∏—Ç–∞–Ω–Ω–∏–∫ –§—Ä–æ–ª –ñ–∏–≤—Ü–æ–≤. –ê–¥–º–∏—Ä–∞–ª –ø–µ—Ä–µ–¥–∞–ª –µ–º—É –∫—Ä–∞—Å–Ω—É—é –∫–æ—Ä–æ–±–æ—á–∫—É —Å –æ—Ä–¥–µ–Ω–æ–º –∏ –ø–æ–∂–∞–ª –µ–≥–æ —à–µ—Ä—à–∞–≤—É—é —Ä—É–∫—É. –ù–æ —Ç–∞–∫ –∫–∞–∫ –∞–¥–º–∏—Ä–∞–ª —Ç—É—Ç –∂–µ –ø–æ—Ä–µ–∫–æ–º–µ–Ω–¥–æ–≤–∞–ª –∫–æ–º–∞–Ω–¥–∏—Ä—É —Å–æ–µ–¥–∏–Ω–µ–Ω–∏—è –±–æ–ª—å—à–µ –Ω–µ –ø—É—Å–∫–∞—Ç—å –§—Ä–æ–ª–∞ –≤ –º–æ—Ä–µ, –§—Ä–æ–ª –ø—Ä–∏–Ω—è–ª—Å—è –≥–ª–æ—Ç–∞—Ç—å —Å–ª–µ–∑—ã, –∏ –∞–¥–º–∏—Ä–∞–ª —Å –µ–≥–æ –Ω–∞—Å–º–µ—à–ª–∏–≤—ã–º–∏ –≥–ª–∞–∑–∞–º–∏ —Å—Ä–∞–∑—É –µ–º—É —Ä–∞–∑–æ–Ω—Ä–∞–≤–∏–ª—Å—è. –ó–∞—Ç–æ –≤–µ—á–µ—Ä–æ–º –§—Ä–æ–ª –≤–æ–∑–Ω–∞–≥—Ä–∞–¥–∏–ª —Å–µ–±—è ¬´—Ç—Ä–∞–≤–ª–µ–𬪠–Ω–∞ –±–∞–∫–µ ‚Äî –æ–Ω –æ—á–µ–Ω—å –∫—Ä–∞—Å–æ—á–Ω–æ, —Å–º–µ—à–∞–≤ –ø—Ä–∞–≤–¥—É —Å –≤—ã–º—ã—Å–ª–æ–º, —Ä–∞–∑–≥–ª–∞–≥–æ–ª—å—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª –æ ¬´–≤–∏–ª–∫–µ¬ª, –æ —Ç–æ–º, –∫–∞–∫ –Ý—É—Å—å–µ–≤ –∫—Ä–∏–∫–Ω—É–ª –µ–º—É: ¬´–í—ã—Ä—É—á–∞–π, –§—Ä–æ–ª –ñ–∏–≤—Ü–æ–≤, –∫–∞—Ç–µ—Ä –≤–æ —Å–ª–∞–≤—É –Ý–æ–¥–∏–Ω—ã!¬ª –ò –∫–∞–∫ –≥–Ω–∞–ª–∏—Å—å –∑–∞ –Ω–∏–º –∫–∞—Ç–µ—Ä–∞ –≤—Ä–∞–≥–∞ –∏ –∫–∞–∫ –æ—Å—Ç–∞–≤–∏–ª –§—Ä–æ–ª –∏—Ö –≤ –¥—É—Ä–∞–∫–∞—Ö. –ò –∫–∞—Ç–µ—Ä–Ω–∏–∫–∏ –≤–µ—Ä–∏–ª–∏ –µ–º—É –∏, —Å–æ—á—Ç—è –∑–∞ –≤–∑—Ä–æ—Å–ª–æ–≥–æ, –±—Ä–∞–ª–∏ –µ–≥–æ –Ω–∞ –≤–µ—á–µ—Ä–∏–Ω–∫–∏ –∫ —á–µ—Ä–Ω–æ–±—Ä–æ–≤—ã–º —Å–º—É–≥–ª—è–Ω–∫–∞–º –≤ –¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—é. –§—Ä–æ–ª —Å–º–æ—Ç—Ä–µ–ª, –∫–∞–∫ —Ç–∞–Ω—Ü—É—é—Ç –ø–æ–¥ –∞–∫–∫–æ—Ä–¥–µ–æ–Ω –∏ –≥–∏—Ç–∞—Ä—É –∏ —Ç–æ –æ–¥–Ω–∞, —Ç–æ –¥—Ä—É–≥–∞—è –ø–∞—Ä–æ—á–∫–∞ –≤—ã—Ö–æ–¥–∏—Ç –∏–∑ –∫—Ä—É–≥–∞, —á—Ç–æ–±—ã –ø–æ—Ü–µ–ª–æ–≤–∞—Ç—å—Å—è –≤ —Ç–µ–Ω–∏ —Å—Ç–∞—Ä–æ–π —á–∏–Ω–∞—Ä—ã. –û–Ω –æ—Ç–æ—Ä–æ–ø–µ–ª, –∫–æ–≥–¥–∞ –æ–¥–Ω–∞ –∏–∑ –ø—Ä–æ–∫–∞–∑–Ω–∏—Ü –ø–æ–¥–æ—à–ª–∞ –∏, —Å–∫–∞–∑–∞–≤: ¬´–í–æ—Ç –∫–∞–∫–æ–π, –≥–æ–≤–æ—Ä—è—Ç, —Ç—ã –≥–µ—Ä–æ–π¬ª, ‚Äî –∑–≤–æ–Ω–∫–æ –ø–æ—Ü–µ–ª–æ–≤–∞–ª–∞. –û–Ω –æ—Ç—Ç–æ–ª–∫–Ω—É–ª –µ–µ: ¬´–ù—É, –µ—â–µ —á–µ–≥–æ –≤—ã–¥—É–º–∞–ª–∞, –ª–∏–∑–∞—Ç—å—Å—è!¬ª –ò –≤—Å–µ –≤–æ–∫—Ä—É–≥ –∑–∞—Å–º–µ—è–ª–∏—Å—å, –≥–ª—è–¥—è, –∫–∞–∫ –æ–Ω —Ç—Ä–µ—Ç —Ä—É–∫–æ–π –≥—É–±—ã. –ó–∞—Å–º–µ—è–ª–∞—Å—å –∏ –¥–µ–≤—É—à–∫–∞, —Ö–æ—Ç—è –æ–Ω —Å–¥–µ–ª–∞–ª –µ–π –±–æ–ª—å–Ω–æ. –û–Ω –æ–ø—Ä–∞–≤–¥—ã–≤–∞–ª —Å–µ–±—è ‚Äî –Ω–µ –æ–Ω, –º–æ–ª, –≤–∏–Ω–æ–≤–∞—Ç, –≤ –¥—Ä—É–≥–æ–π —Ä–∞–∑ –Ω–µ –ø–æ–ª–µ–∑–µ—Ç. –ò –Ω–∏—á—É—Ç—å –Ω–µ –æ–≥–æ—Ä—á–∏–ª—Å—è, —É–≤–∏–¥–µ–≤, —á—Ç–æ —Å–º—É–≥–ª—è–Ω–∫–∞ —Ü–µ–ª—É–µ—Ç—Å—è —Å –≤–µ—Å–µ–ª—å—á–∞–∫–æ–º –í–∞—Å—å–∫–æ–π –Ý–æ–≥–æ–≤—ã–º. –ù–∞ –¥—Ä—É–≥–æ–π –¥–µ–Ω—å –¥–≤—É—Ö —É—á–∞—Å—Ç–Ω–∏–∫–æ–≤ –≤–µ—á–µ—Ä–∏–Ω–∫–∏ –Ω–µ –±—ã–ª–æ –±–æ–ª—å—à–µ –≤ –∂–∏–≤—ã—Ö ‚Äî —Å –º–æ—Ä—è –æ–Ω–∏ –Ω–µ –≤–µ—Ä–Ω—É–ª–∏—Å—å. –ò –±—Ä–µ–Ω—á–∞–≤—à–∏–π –Ω–∞ –≥–∏—Ç–∞—Ä–µ –º–æ—Ç–æ—Ä–∏—Å—Ç –ì—É—Å—å–∫–æ–≤ –≤–∑–¥–æ—Ö–Ω—É–ª: ¬´–ü—Ä–µ–≤—Ä–∞—Ç–Ω–æ—Å—Ç—å —Å—É–¥—å–±—㬪. –ê —Å–º—É–≥–ª—è–Ω–∫–∞ –≤—Å–µ —Å–ø—Ä–∞—à–∏–≤–∞–ª–∞, –≥–¥–µ –í–∞—Å—è, –∏ –Ω–∏–∫—Ç–æ –µ–π –Ω–∏—á–µ–≥–æ –Ω–µ –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª... –§—Ä–æ–ª –æ–≥—Ä—É–±–µ–ª, —Ö–æ–¥–∏–ª –≤ —Ä–∞–∑–≤–∞–ª–∫—É ‚Äî –µ–º—É –∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å, –∏–Ω–∞—á–µ –∏ –Ω–µ –º–æ–∂–µ—Ç —Ö–æ–¥–∏—Ç—å –Ω–∞—Å—Ç–æ—è—â–∏–π –º–æ—Ä—è–∫, ‚Äî –∏ —Å—Ç–∞–ª —Ä–∞–∑–≥–æ–≤–∞—Ä–∏–≤–∞—Ç—å –Ω–∞ –∂–∞—Ä–≥–æ–Ω–µ, —Å–æ—Å—Ç–∞–≤–ª–µ–Ω–Ω–æ–º –∏–∑ —Å–ª–æ–≤–µ—á–µ–∫, —É—Å–ª—ã—à–∞–Ω–Ω—ã—Ö –≤ —Ä–∞–∑–Ω—ã—Ö –º–µ—Å—Ç–∞—Ö. –¢–æ–ª—å–∫–æ –Ý—É—Å—å–µ–≤, –≤—ã–π–¥—è –∏–∑ –≥–æ—Å–ø–∏—Ç–∞–ª—è, –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª, —á—Ç–æ –§—Ä–æ–ª –≥–æ–≤–æ—Ä–∏—Ç —É—Ä–æ–¥–ª–∏–≤—ã–º —è–∑—ã–∫–æ–º. –î—Ä—É–≥–∏–µ –ø–æ–æ—â—Ä—è–ª–∏ –º–∞–ª—å—á–∏—à–∫—É, –∏ –æ–Ω —Å—ã–ø–∞–ª —Å–ª–æ–≤–µ—á–∫–∞–º–∏, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö –Ω–µ—Ç –Ω–∏ –≤ –æ–¥–Ω–æ–º —Å–ª–æ–≤–∞—Ä–µ. –í–Ω—É—à–µ–Ω–∏–µ –ª—é–±–∏–º–æ–≥–æ –∫–æ–º–∞–Ω–¥–∏—Ä–∞ –ø–æ—à–ª–æ –§—Ä–æ–ª—É –Ω–∞ –ø–æ–ª—å–∑—É. –û–Ω —Å—Ç–∞–ª –≤–æ–∑–¥–µ—Ä–∂–∏–≤–∞—Ç—å—Å—è –æ—Ç –ø–æ–ª—é–±–∏–≤—à–∏—Ö—Å—è –µ–º—É –≤—ã—Ä–∞–∂–µ–Ω–∏–π.  –ø–æ—Å–ª—É–∂–∏–ª –ø—Ä–æ–æ–±—Ä–∞–∑–æ–º –Ý—É—Å—å–µ–≤–∞. –ö–æ–≥–¥–∞ –Ý—É—Å—å–µ–≤ —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª –æ–¥–Ω–∞–∂–¥—ã: ¬´–§—Ä–æ–ª, —Ç—ã —Ö–æ—á–µ—à—å –±—ã—Ç—å –º–æ–∏–º —Å—ã–Ω–æ–º?¬ª ‚Äî –§—Ä–æ–ª —Å–Ω–∞—á–∞–ª–∞ –æ—Ç–æ—Ä–æ–ø–µ–ª, –∞ –ø–æ—Ç–æ–º –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª, —á—Ç–æ —Å–≤–æ–µ–≥–æ –æ—Ç—Ü–∞ –æ–Ω –Ω–∏ –Ω–∞ –∫–æ–≥–æ –¥—Ä—É–≥–æ–≥–æ –º–µ–Ω—è—Ç—å –Ω–µ –Ω–∞–º–µ—Ä–µ–Ω. –Ý—É—Å—å–µ–≤ –æ–±—ä—è—Å–Ω–∏–ª, —á—Ç–æ –æ–Ω —Å–æ–≤—Å–µ–º –æ–¥–∏–Ω–æ–∫ –∏ –∂–µ–Ω–∏—Ç—å—Å—è –Ω–µ —Å–æ–±–∏—Ä–∞–µ—Ç—Å—è —Ä–∞–Ω—å—à–µ –ø–æ–±–µ–¥—ã, –∞ –ø–æ—Ç–æ–º—É —Ö–æ—á–µ—Ç —Å–¥–µ–ª–∞—Ç—å —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫–∞ –∏–∑ –§—Ä–æ–ª–∞. ‚Äî –≠—Ç–æ –∫–∞–∫ –∂–µ –≤—ã –º–µ–Ω—è —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫–æ–º-—Ç–æ –±—É–¥–µ—Ç–µ –¥–µ–ª–∞—Ç—å?‚Äî —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª –Ω–µ–∑–∞–≤–∏—Å–∏–º–æ –§—Ä–æ–ª. ‚Äî –¢—ã —Ö–æ—á–µ—à—å —Å—Ç–∞—Ç—å –º–æ—Ä—è–∫–æ–º? ‚Äî –°–æ–±–∏—Ä–∞—é—Å—å. ‚Äî –ù—É –≤–æ—Ç –∏ –æ—Ç–ª–∏—á–Ω–æ, –ø–æ–π–¥–µ—à—å —É—á–∏—Ç—å—Å—è, –∫–∞–∫ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –≤–æ–µ–≤–∞—Ç—å –∫–æ–Ω—á–∏–º. –í –º–µ—Å—Ç–Ω–æ–º –∑–∞–≥—Å–µ –Ý—É—Å—å–µ–≤ –æ—Ñ–æ—Ä–º–∏–ª —É—Å—ã–Ω–æ–≤–ª–µ–Ω–∏–µ. –§—Ä–æ–ª –ø–æ–∂–µ–ª–∞–ª –æ—Å—Ç–∞—Ç—å—Å—è –ñ–∏–≤—Ü–æ–≤—ã–º. –Ý—É—Å—å–µ–≤–∞ –æ–Ω –∑–∞ –≥–ª–∞–∑–∞ –Ω–∞–∑—ã–≤–∞–ª ¬´—É—Å—ã–Ω–æ–≤–∏—Ç–µ–ª–µ–º¬ª. –û—Ç–Ω–æ—à–µ–Ω–∏—è –∏—Ö –Ω–µ –∏–∑–º–µ–Ω–∏–ª–∏—Å—å, —Ö–æ—Ç—è –Ý—É—Å—å–µ–≤ –≤—Å–µ –±–æ–ª—å—à–µ –∏ –±–æ–ª—å—à–µ –ø—Ä–∏–≤—è–∑—ã–≤–∞–ª—Å—è –∫ —Å–≤–æ–µ–º—É –ø—Ä–∏–µ–º–Ω–æ–º—É —Å—ã–Ω—É. –û–Ω–∏ –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∞–ª–∏ —É—Ö–æ–¥–∏—Ç—å –Ω–∞ —Å–≤–æ–µ–º –∑–∞–ª–∞—Ç–∞–Ω–Ω–æ–º –∫–∞—Ç–µ—Ä–µ –≤ –º–æ—Ä–µ ‚Äî —Ç–µ–ø–µ—Ä—å –§—Ä–æ–ª —Å—Ç–∞–ª –ø–æ–ª–Ω–æ–ø—Ä–∞–≤–Ω—ã–º —á–ª–µ–Ω–æ–º –µ–≥–æ —ç–∫–∏–ø–∞–∂–∞. –í–ø–æ—Å–ª–µ–¥—Å—Ç–≤–∏–∏ –≤—Å–µ –±–æ–∏ –≤—Å–ø–æ–º–∏–Ω–∞–ª–∏—Å—å –µ–º—É –∫–∞–∫ –æ–¥–∏–Ω —Å–ø–ª–æ—à–Ω–æ–π, –Ω–µ–ø—Ä–µ—Ä—ã–≤–Ω—ã–π –±–æ–π. 4 –ê –≤ —Ç–µ –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∞ ‚Äî –≤ —Ç—ã—Å—è—á–∞ –¥–µ–≤—è—Ç—å—Å–æ—Ç —Å–æ—Ä–æ–∫ —Ç—Ä–µ—Ç—å–µ–º –≥–æ–¥—É ‚Äî –§—Ä–æ–ª –ø–æ—Ä—è–¥–∫–æ–º-—Ç–∞–∫–∏ –∑–∞–∑–Ω–∞–≤–∞–ª—Å—è. –û–Ω –±—ã–ª —É–ø–æ–µ–Ω —Å–≤–æ–µ–π —Å–ª–∞–≤–æ–π. –ï–≥–æ –ø–æ—Ä—Ç—Ä–µ—Ç –ø–æ–º–µ—Å—Ç–∏–ª–∏ –≤–æ —Ñ–ª–æ—Ç—Å–∫–æ–π –≥–∞–∑–µ—Ç–µ. –ï—Å–ª–∏ –∫—Ç–æ-–Ω–∏–±—É–¥—å —É–ø–æ–º–∏–Ω–∞–ª: ¬´–Ω–∞—à –≥–µ—Ä–æ–π¬ª, –§—Ä–æ–ª –Ω–µ–º–µ–¥–ª–µ–Ω–Ω–æ –ø—Ä–∏–Ω–∏–º–∞–ª —ç—Ç–æ –Ω–∞ —Å–≤–æ–π —Å—á–µ—Ç –∏ –ø—Ä—è–º–æ-—Ç–∞–∫–∏ —Ä–∞–∑–¥—É–≤–∞–ª—Å—è –æ—Ç —Å–∞–º–æ–¥–æ–≤–æ–ª—å—Å—Ç–≤–∞. –ö–æ–≥–¥–∞ –ø–æ —Ä–∞—Å–ø–æ—Ä—è–∂–µ–Ω–∏—é –∫–∞–ø–∏—Ç–∞–Ω–∞ –ø–µ—Ä–≤–æ–≥–æ —Ä–∞–Ω–≥–∞ –µ–≥–æ –∏–∑ –º–∞—Ç—Ä–æ—Å—Å–∫–æ–≥–æ –∫—É–±—Ä–∏–∫–∞ –ø–µ—Ä–µ–º–µ—Å—Ç–∏–ª–∏ –≤ –æ—Ç–¥–µ–ª—å–Ω—É—é –∫—Ä–æ—Ö–æ—Ç–Ω—É—é –∫–∞—é—Ç—É, –æ–Ω –≤–æ–æ–±—Ä–∞–∑–∏–ª, —á—Ç–æ –ø–µ—Ä–µ–≤–æ–¥—è—Ç –µ–≥–æ –∑–∞ –±–æ–µ–≤—ã–µ –∑–∞—Å–ª—É–≥–∏. –û–Ω –Ω–µ –∑–Ω–∞–ª, —á—Ç–æ –∫–∞–ø–∏—Ç–∞–Ω –ø–µ—Ä–≤–æ–≥–æ —Ä–∞–Ω–≥–∞ –ø–æ–ø—Ä–æ—Å—Ç—É —Ä–µ—à–∏–ª –æ—Ç–¥–µ–ª–∏—Ç—å –µ–≥–æ –æ—Ç –≤–∑—Ä–æ—Å–ª—ã—Ö, –æ–≥—Ä—É–±–µ–≤—à–∏—Ö –≤ –±–æ—è—Ö. –Ý–∞–¥—É–∂–Ω–æ–µ –Ω–∞—Å—Ç—Ä–æ–µ–Ω–∏–µ –§—Ä–æ–ª–∞ –±—ã–ª–æ –æ–º—Ä–∞—á–µ–Ω–æ, –ø—Ä–∞–≤–¥–∞, –æ–¥–Ω–∏–º —Ç—è–∂–µ–ª—ã–º —Å–æ–±—ã—Ç–∏–µ–º. –í –æ–¥–Ω–æ–π –æ–ø–µ—Ä–∞—Ü–∏–∏, –≤ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π –¥–µ–π—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª –∏ –∏—Ö –∫–∞—Ç–µ—Ä, –≤—Ä–∞–≥ –ø–æ–¥–±–∏–ª –∫–∞—Ç–µ—Ä–∞ –ì—É—Ä–∞–º–∏—à–≤–∏–ª–∏ –∏ –Ý—ã–Ω–¥–∏–Ω–∞, –ª—É—á—à–∏—Ö –≤ —Å–æ–µ–¥–∏–Ω–µ–Ω–∏–∏ –æ—Ñ–∏—Ü–µ—Ä–æ–≤. –ö–∞—Ç–µ—Ä–∞ –ø–æ—à–ª–∏ –∫–æ –¥–Ω—É. –§—Ä–æ–ª —É–≤–∏–¥–µ–ª –ø–ª—ã–≤—É—â–∏—Ö –≤ –±–∞–≥—Ä–æ–≤—ã—Ö –≤–æ–ª–Ω–∞—Ö –º–æ—Ä—è–∫–æ–≤. –ü—ã—Ç–∞–ª–∏—Å—å –∏—Ö –ø–æ–¥–æ–±—Ä–∞—Ç—å, –Ω–æ –≤—Ä–∞–≥ –æ—Ç–∫—Ä—ã–ª —Å—É–º–∞—Å—à–µ–¥—à–∏–π –æ–≥–æ–Ω—å, –∏ –∫–∞—Ç–µ—Ä –Ý—É—Å—å–µ–≤–∞ —Å–∞–º –µ–¥–≤–∞ –¥–æ—Ç—è–Ω—É–ª –¥–æ –±–∞–∑—ã. –ù–∞ –¥—Ä—É–≥—É—é –Ω–æ—á—å –Ý—É—Å—å–µ–≤, –æ—Ç—Ä–µ–º–æ–Ω—Ç–∏—Ä–æ–≤–∞–≤ –∫–∞—Ç–µ—Ä, —Å–Ω–æ–≤–∞ –ø–æ—à–µ–ª –≤ –º–æ—Ä–µ –Ω–∞ –ø–æ–∏—Å–∫–∏ –ø—Ä–æ–ø–∞–≤—à–∏—Ö –ª—é–¥–µ–π. –ù–∞ —ç—Ç–æ—Ç —Ä–∞–∑ –ø–æ–¥–æ–π—Ç–∏ –∫ –±–µ—Ä–µ–≥—É –µ–º—É –Ω–µ —É–¥–∞–ª–æ—Å—å. –î–≤—É—Ö –º–∞—Ç—Ä–æ—Å–æ–≤ —Ç—è–∂–µ–ª–æ —Ä–∞–Ω–∏–ª–æ. –Ý—É—Å—å–µ–≤, –ø–æ—Ç–µ–º–Ω–µ–≤ –æ—Ç –æ—Ç—á–∞—è–Ω–∏—è, –¥–æ–ª–æ–∂–∏–ª –æ –Ω–µ—É–¥–∞—á–µ. –ö–∞–ø–∏—Ç–∞–Ω –ø–µ—Ä–≤–æ–≥–æ —Ä–∞–Ω–≥–∞, –∫–æ–º–∞–Ω–¥–∏—Ä —Å–æ–µ–¥–∏–Ω–µ–Ω–∏—è, –≤—ã—Å–ª—É—à–∞–≤ –Ý—É—Å—å–µ–≤–∞, –≤ –∑–∞–∫–ª—é—á–µ–Ω–∏–µ —Ä–∞–∑–≥–æ–≤–æ—Ä–∞ —Å–∫–∞–∑–∞–ª: ‚Äî –ü–æ–ø—Ä–∏–¥–µ—Ä–∂–∏-–∫–∞ —Ç—ã –ø–æ–∫–∞ –≤ –±–∞–∑–µ –ñ–∏–≤—Ü–æ–≤–∞. –ü—Ä–æ–ø–∞–¥–µ—Ç –Ω–∏ –∑–∞ –≥—Ä–æ—à. –í–æ–µ–≤–∞—Ç—å ‚Äî –¥–µ–ª–æ –≤–∑—Ä–æ—Å–ª—ã—Ö, –∞ —É –º–∞–ª—å—á–∏—à–∫–∏ –≤—Å—è –∂–∏–∑–Ω—å –≤–ø–µ—Ä–µ–¥–∏. –ú–æ—Ä—è–∫–æ–º –≤—ã—Ä–∞—Å—Ç–µ—Ç... –í–æ—Ç, –≥–ª—è–¥–∏... –ò –ø–æ–∫–∞–∑–∞–ª —Ç–æ–ª—å–∫–æ —á—Ç–æ –ø–æ–ª—É—á–µ–Ω–Ω—ã–π —Ü–∏—Ä–∫—É–ª—è—Ä: –≤ –¢–±–∏–ª–∏—Å–∏ –æ—Ç–∫—Ä—ã–≤–∞–µ—Ç—Å—è –ø–µ—Ä–≤–æ–µ –≤ –°–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–æ–º –°–æ—é–∑–µ –Ω–∞—Ö–∏–º–æ–≤—Å–∫–æ–µ —É—á–∏–ª–∏—â–µ, –∏ –≤—Å–µ–º –∫–æ—Ä–∞–±–ª—è–º –∏ —Å–æ–µ–¥–∏–Ω–µ–Ω–∏—è–º –Ω–∞–¥–ª–µ–∂–∏—Ç –æ—Ç–∫–æ–º–∞–Ω–¥–∏—Ä–æ–≤–∞—Ç—å —Ç—É–¥–∞ –º–∞–ª–æ–ª–µ—Ç–Ω–∏—Ö –≤–æ—Å–ø–∏—Ç–∞–Ω–Ω–∏–∫–æ–≤. –í —Ç–æ—Ç –∂–µ –¥–µ–Ω—å –≤ —Ç–µ—Å–Ω—É—é –∫–∞—é—Ç–∫—É –§—Ä–æ–ª–∞ –º–∞—Ç—Ä–æ—Å –ø—Ä–∏–≤–µ–ª –µ—â–µ –æ–¥–Ω–æ–≥–æ –∂–∏–ª—å—Ü–∞, –∫ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–º—É –§—Ä–æ–ª –æ—Ç–Ω–µ—Å—Å—è —Å –ø—Ä–µ–∑—Ä–µ–Ω–∏–µ–º –∏ —Å –ø–æ–ª–Ω—ã–º —Å–æ–∑–Ω–∞–Ω–∏–µ–º —Å–æ–≤–µ—Ä—à–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –Ω–∞–¥ –Ω–∏–º –ø—Ä–µ–≤–æ—Å—Ö–æ–¥—Å—Ç–≤–∞. –≠—Ç–æ –±—ã–ª —Ç–∏–ø–∏—á–Ω—ã–π ¬´–º–∞–º–µ–Ω—å–∫–∏–Ω —Å—ã–Ω–æ–∫¬ª, —Ç–µ–º–Ω–æ–≤–æ–ª–æ—Å—ã–π –∏ —Å–µ—Ä–æ–≥–ª–∞–∑—ã–π, –≤ –∫—É—Ü–µ–º –ø–∞–ª—å—Ç–∏—à–∫–µ –∏ –≤ –ø—Ä–µ—Å–º–µ—à–Ω–æ–π –¥–µ—Ç—Å–∫–æ–π –∫—É—Ä—Ç–æ—á–∫–µ —Å –º–∞—Ç—Ä–æ—Å—Å–∫–∏–º –≤–æ—Ä–æ—Ç–Ω–∏–∫–æ–º. –ú–∞–ª—å—á–∏–∫ –±—ã–ª —Ö—É–¥–µ–Ω—å–∫–∏–π ‚Äî –Ω–∞–≤–µ—Ä–Ω–æ–µ, –Ω–∞–≥–æ–ª–æ–¥–∞–ª—Å—è –≤ —Ç—ã–ª—É. –§—Ä–æ–ª –º–∏–ª–æ—Å—Ç–∏–≤–æ —Ä–∞–∑—Ä–µ—à–∏–ª –µ–º—É –ø—Ä–∏—Å–µ—Å—Ç—å –Ω–∞ –∫—Ä–∞–π –∫–æ–π–∫–∏ –∏ —Å–≤—ã—Å–æ–∫–∞ —É—Å–º–µ—Ö–Ω—É–ª—Å—è, –ø–µ—Ä–µ—Ö–≤–∞—Ç–∏–≤ –≤–∑–≥–ª—è–¥ ¬´–º–∞–º–µ–Ω—å–∫–∏–Ω–æ–≥–æ —Å—ã–Ω–∫–∞¬ª –Ω–∞ —Ç—Ä–æ—Ñ–µ–π–Ω—ã–π –µ–≥–æ –∞–≤—Ç–æ–º–∞—Ç. 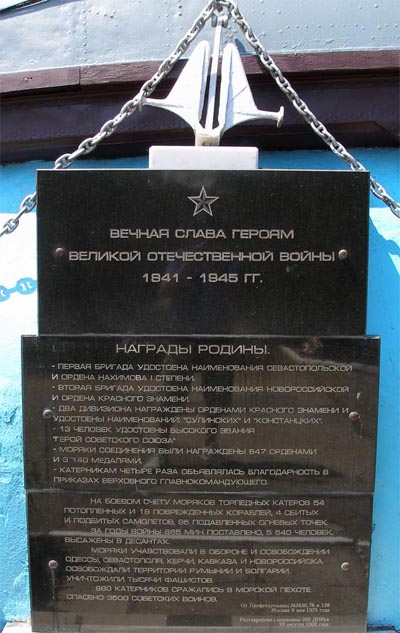 ¬´–ú–∞–º–µ–Ω—å–∫–∏–Ω —Å—ã–Ω–æ–∫¬ª —É—Å—Ç–∞–≤–∏–ª—Å—è –Ω–∞ –≥—Ä—É–¥—å –§—Ä–æ–ª–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä—É—é —É–∫—Ä–∞—à–∞–ª–∏ –º–µ–¥–∞–ª–∏ –∏ –æ—Ä–¥–µ–Ω, –∏ –§—Ä–æ–ª —É–¥–æ–≤–ª–µ—Ç–≤–æ—Ä–∏–ª –µ–≥–æ –ª—é–±–æ–ø—ã—Ç—Å—Ç–≤–æ, —Å —É–¥–æ–≤–æ–ª—å—Å—Ç–≤–∏–µ–º, –æ—á–µ–Ω—å –∫—Ä–∞—Å–æ—á–Ω–æ –æ–ø–∏—Å–∞–≤, –∫–∞–∫ –∏ –≥–¥–µ –æ–Ω –∑–∞—Ä–∞–±–æ—Ç–∞–ª –æ—Ç–ª–∏—á–∏—è. –°–∞–º–æ–¥–æ–≤–æ–ª—å–Ω–æ —É—Ö–º—ã–ª—å–Ω—É–ª—Å—è, –∑–∞–º–µ—Ç–∏–≤, —Å –∫–∞–∫–∏–º —É–≤–∞–∂–µ–Ω–∏–µ–º ¬´—Å–æ–ø–ª—è–∫¬ª –ø–æ–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —Ä–∞–∑—Ä–µ—à–µ–Ω–∏—è –ø—Ä–∏–ª–µ—á—å –Ω–∞ –≤–µ—Ä—Ö–Ω—é—é –∫–æ–π–∫—É. –£–º—ã—à–ª–µ–Ω–Ω–æ —Å–≤–µ—Ä–Ω—É–ª –æ—á–µ–Ω—å —Ç–æ–ª—Å—Ç—É—é —Å–∞–º–æ–∫—Ä—É—Ç–∫—É –∏ –∑–∞–≤–æ–ª–æ–∫ –≤—Å—é –∫–∞—é—Ç—É —É–¥—É—à–ª–∏–≤—ã–º –¥—ã–º–æ–º. –ê –∫–æ–≥–¥–∞ ¬´–º–∞–º–µ–Ω—å–∫–∏–Ω —Å—ã–Ω–æ–∫¬ª –ø—Ä–∏–Ω—è–ª—Å—è –≤–∑–¥—ã—Ö–∞—Ç—å –∏ –≤—Å—Ö–ª–∏–ø—ã–≤–∞—Ç—å —É –Ω–µ–≥–æ –Ω–∞–¥ –≥–æ–ª–æ–≤–æ–π, –ø—Ä–∏–∫—Ä–∏–∫–Ω—É–ª, –ø—Ä–∏–∫–∞–∑–∞–≤ –µ–º—É —Å–ø–∞—Ç—å –∏ –Ω–µ –Ω–∞–¥—Ä—ã–≤–∞—Ç—å –¥—É—à—É. –ò —Å–æ—Å–µ–¥ –ø—Ä–∏—Ç–∏—Ö, –∞ —É—Ç—Ä–æ–º –§—Ä–æ–ª –ø–æ–¥–µ—Ä–≥–∞–ª —Å–≤–æ–µ–≥–æ –∂–∏–ª—å—Ü–∞ –∑–∞ –Ω–æ–≥—É –∏ —Å–æ–æ–±—â–∏–ª, —á—Ç–æ –∏–¥–µ—Ç –≤–æ–µ–≤–∞—Ç—å, –≤ –º–æ—Ä–µ, –≤ –±–æ–π, –∏ –Ω–∞—Å–ª–∞–¥–∏–ª—Å—è, –≤–∏–¥—è, –∫–∞–∫ —à–∏—Ä–æ–∫–æ —Ä–∞—Å–∫—Ä—ã–ª–∏—Å—å –≥–ª–∞–∑–∞ —ç—Ç–æ–≥–æ –Ω–µ–¥–æ—Ç–µ–ø—ã –∏ –∫–∞–∫ –æ–Ω –∑–∞–≤–∏–¥—É–µ—Ç... –° –∫–∞–∫–∏–º —á—É–≤—Å—Ç–≤–æ–º –ø–æ–ª–Ω–æ–≥–æ –ø—Ä–µ–≤–æ—Å—Ö–æ–¥—Å—Ç–≤–∞ –Ω–∞–¥ –≤—Å–µ–º–∏ —Å–≤–æ–∏–º–∏ —Å–≤–µ—Ä—Å—Ç–Ω–∏–∫–∞–º–∏ –±–µ–∂–∞–ª –§—Ä–æ–ª –≤ —ç—Ç–æ —É—Ç—Ä–æ –Ω–∞ –∫–∞—Ç–µ—Ä: –æ–Ω ‚Äî –±–æ–µ–≤–æ–π –º–∞—Ç—Ä–æ—Å –ß–µ—Ä–Ω–æ–º–æ—Ä—Å–∫–æ–≥–æ —Ñ–ª–æ—Ç–∞! 5–ù–æ –µ–≥–æ –∂–¥–∞–ª —Ç—è–∂–µ–ª—ã–π –∏ –Ω–µ–ø–æ–ø—Ä–∞–≤–∏–º—ã–π —É–¥–∞—Ä. –Ý—É—Å—å–µ–≤, –º—Ä–∞—á–Ω—ã–π, —É—à–µ–¥—à–∏–π –≤ —Å–µ–±—è, –æ—Ç–æ—Å–ª–∞–ª –µ–≥–æ: ¬´–ù–µ –ø–æ–π–¥–µ—à—å –±–æ–ª—å—à–µ –≤ –º–æ—Ä–µ¬ª. –§—Ä–æ–ª –æ—Ç–æ—Ä–æ–ø–µ–ª. –ê –Ý—É—Å—å–µ–≤ —É–∂–µ –ø—Ä–∏–∫–∞–∑–∞–ª –æ—Ç–¥–∞–≤–∞—Ç—å —à–≤–∞—Ä—Ç–æ–≤—ã. –§—Ä–æ–ª —Å—Ç–æ—è–ª –∫–∞–∫ –ø—Ä–∏—à–∏–±–ª–µ–Ω–Ω—ã–π, –≥–ª—è–¥—è –Ω–∞ —Å—Ç—Ä–µ–º–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ —É—Ö–æ–¥–∏–≤—à–∏–π –∫–∞—Ç–µ—Ä. –ù–æ–≥–∏ –µ–≥–æ –ø–æ–¥–ª–æ–º–∏–ª–∏—Å—å. –û–Ω —Å–µ–ª –Ω–∞ –º–æ–∫—Ä—É—é –∫–æ—á–∫—É. –ü–æ—Ç–µ—Ä–µ–≤ —Ä—É–∫–æ–π —â–µ–∫—É, –æ–Ω –ø–æ–Ω—è–ª, —á—Ç–æ —Ä–µ–≤–µ—Ç, –∫–∞–∫ –¥–µ–≤—á–æ–Ω–∫–∞. –û–≥–ª—è–Ω—É–ª—Å—è, –Ω–µ –≤–∏–¥–∏—Ç –ª–∏ –∫—Ç–æ, —á—Ç–æ –Ω–µ–∑–∞–±—ã–≤–∞–µ–º—ã–π –≥–µ—Ä–æ–π –ø–ª–∞—á–µ—Ç, –∏ –≤—Å—Ç—Ä–µ—Ç–∏–ª—Å—è –≤–∑–≥–ª—è–¥–æ–º —Å–æ —Å–ø–µ—à–∏–≤—à–∏–º –ø—Ä–æ–≤–æ–¥–∏—Ç—å –µ–≥–æ –≤ –±–æ–π ¬´—Å–æ–ø–ª—è–∫–æ–º¬ª. ¬´–°–æ–ø–ª—è–∫¬ª —Å–º–æ—Ç—Ä–µ–ª –Ω–∞ –Ω–µ–≥–æ —Å —Å–∞–º—ã–º —è–≤–Ω—ã–º —Å–æ—á—É–≤—Å—Ç–≤–∏–µ–º. ‚Äî –¢–µ–±—è –∫–∞–∫ –∑–æ–≤—É—Ç? ‚Äî –¥–æ–≥–∞–¥–∞–ª—Å—è, –Ω–∞–∫–æ–Ω–µ—Ü, —Å–ø—Ä–æ—Å–∏—Ç—å –§—Ä–æ–ª. ‚Äî –ù–∏–∫–∏—Ç–æ–π, ‚Äî –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª —Ç–æ—Ç. ‚Äî –ê —Ñ–∞–º–∏–ª–∏—è —Ç–≤–æ—è? ‚Äî –Ý—ã–Ω–¥–∏–Ω. –Ý—ã–Ω–¥–∏–Ω! –ê—Ö, –≤–æ—Ç –æ–Ω —á–µ–π —Å—ã–Ω! –ü–æ—á–µ–º—É –§—Ä–æ–ª –≤—á–µ—Ä–∞ –Ω–µ —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —Ñ–∞–º–∏–ª–∏–∏ ¬´–º–∞–º–µ–Ω—å–∫–∏–Ω–æ–≥–æ —Å—ã–Ω–∫–∞¬ª? –ï–º—É —è—Ä–∫–æ –≤—Å–ø–æ–º–Ω–∏–ª—Å—è –ø–ª—ã–≤—É—â–∏–π –∫ –±–µ—Ä–µ–≥—É –∫–æ–º–∞–Ω–¥–∏—Ä –∫–∞—Ç–µ—Ä–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–≥–æ –Ω–µ —Å–º–æ–≥–ª–∏ –æ–Ω–∏ –ø–æ–¥–æ–±—Ä–∞—Ç—å, –∫–æ–º–∞–Ω–¥–∏—Ä –∫–∞—Ç–µ—Ä–∞ –Ý—ã–Ω–¥–∏–Ω, –æ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–º –Ω–∞ –∫–æ—Ä–∞–±–ª–µ —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑—ã–≤–∞–ª–∏ –∏ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–≥–æ –§—Ä–æ–ª —É–≤–∞–∂–∞–ª –≤—Å–µ–π –¥—É—à–æ–π. 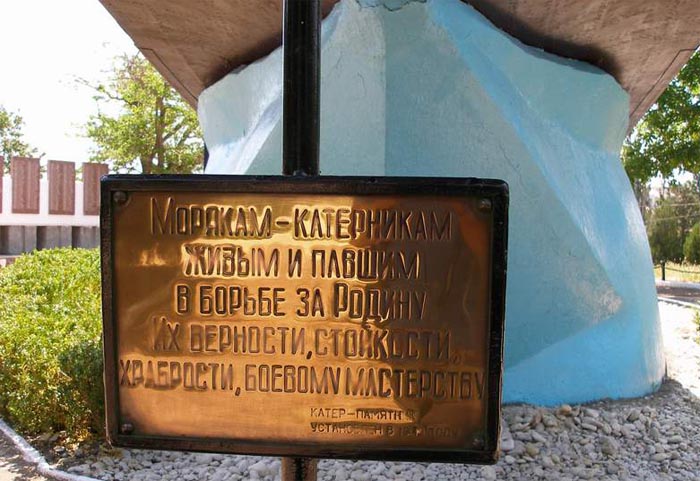 ‚Äî –¢—ã ‚Äî –Ý—ã–Ω–¥–∏–Ω? ‚Äî –ø–æ—Å–ø–µ—à–∏–ª –ø–µ—Ä–µ—Å–ø—Ä–æ—Å–∏—Ç—å –§—Ä–æ–ª. ‚Äî –ù—É –¥–∞, —è –∂–µ —Å–∫–∞–∑–∞–ª —Ç–µ–±–µ. ‚Äî –¢—ã —á—Ç–æ –∂–µ, –ø—Ä–∏–µ—Ö–∞–ª –∫ –æ—Ç—Ü—É? ‚Äî –î–∞... ‚Äî –¢–≤–æ–π –æ—Ç–µ—Ü –≤ –º–æ—Ä–µ. ‚Äî –Ø –∑–Ω–∞—é. –ú–Ω–µ —Å–∫–∞–∑–∞–ª –∫–∞–ø–∏—Ç–∞–Ω –ø–µ—Ä–≤–æ–≥–æ —Ä–∞–Ω–≥–∞... –£ –§—Ä–æ–ª–∞ –ø–µ—Ä–µ—Å–æ—Ö–ª–æ –≤ –≥–æ—Ä–ª–µ. –î–∞–≤–Ω–æ –ª–∏ –æ–Ω —Å–∞–º –ø—Ä–æ–≤–æ–¥–∏–ª –æ—Ç—Ü–∞ –≤ –º–æ—Ä–µ, –∂–¥–∞–ª –µ–≥–æ –∏ —É—Å–ª—ã—à–∞–ª —Ç–æ—Ç –≤–∑—Ä—ã–≤, –æ–¥–∏–Ω —Å—Ä–µ–¥–∏ –º–Ω–æ–≥–∏—Ö –≤–∑—Ä—ã–≤–æ–≤, –∑–∞—Å—Ç–∞–≤–∏–≤—à–∏–π —Å—Ä–∞–∑—É –∑–∞–±–∏—Ç—å—Å—è —Å–µ—Ä–¥—Ü–µ? –ò —Ç–µ–ø–µ—Ä—å –æ–Ω –∑–Ω–∞–µ—Ç, —á—Ç–æ –Ω–∏–∫–æ–≥–¥–∞ –Ω–µ —É–≤–∏–¥–∏—Ç –æ—Ç—Ü–∞, –Ω–∏–∫–æ–≥–¥–∞! –û–Ω —Å–æ–≥–ª–∞—Å–µ–Ω –Ω–∞ –µ–∂–µ–¥–Ω–µ–≤–Ω—É—é –≤—Å—Ç—Ä–µ—á—É —Å —Ä–µ–º–Ω–µ–º, –ª–∏—à—å –±—ã –æ—Ç–µ—Ü –≤–µ—Ä–Ω—É–ª—Å—è. –ù–æ –æ–Ω –Ω–∏–∫–æ–≥–¥–∞ –Ω–µ –≤–µ—Ä–Ω–µ—Ç—Å—è. –§—Ä–æ–ª —Ä–∞—Å—Å–º–∞—Ç—Ä–∏–≤–∞–ª –ù–∏–∫–∏—Ç—É, —Å–ª–æ–≤–Ω–æ –≤–∏–¥–µ–ª –µ–≥–æ –≤ –ø–µ—Ä–≤—ã–π —Ä–∞–∑. –û—á–µ–Ω—å –ø–æ—Ö–æ–∂! –ù—É, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, –∫–∞–∫ –∂–µ —Å—Ä–∞–∑—É –æ–Ω –Ω–µ –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª? –ò –≥–ª–∞–∑–∞, –∏ –≥—É–±—ã, –∏ –≤–æ–ª–æ—Å—ã... —Ä—ã–Ω–¥–∏–Ω—Å–∫–∏–µ. –û—á–µ–Ω—å –ø–æ—Ö–æ–∂! –ò –æ—Ç–µ—Ü –µ–≥–æ —Ç–æ–∂–µ –Ω–∏–∫–æ–≥–¥–∞ –Ω–µ –≤–µ—Ä–Ω–µ—Ç—Å—è. –ê –æ–Ω –∏ –Ω–µ –∑–Ω–∞–µ—Ç –Ω–∏—á–µ–≥–æ... –í–æ—Ç –±–µ–¥–Ω—è–≥–∞! –§—Ä–æ–ª –æ—Ç –≤—Å–µ–π –¥—É—à–∏ –ø—Ä–æ—Ç—è–Ω—É–ª –±—ã–≤—à–µ–º—É —Å–æ–ø–ª—è–∫—É —à–µ—Ä—à–∞–≤—É—é —Ä—É–∫—É –∏ —Å–∫–∞–∑–∞–ª –≥—Ä—É–±–æ–≤–∞—Ç–æ, –Ω–æ —Å–æ –≤—Å–µ–π –ª–∞—Å–∫–æ–π, –Ω–∞ –∫–∞–∫—É—é –±—ã–ª —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Å–ø–æ—Å–æ–±–µ–Ω: ‚Äî –ß—Ç–æ –∂–µ —Ç—ã –≤—á–µ—Ä–∞ –Ω–µ —Å–∫–∞–∑–∞–ª, —á—Ç–æ —Ç—ã ‚Äî –Ý—ã–Ω–¥–∏–Ω? –Ø —Å —Ç–æ–±–æ–π –¥—Ä—É–∂—É. –ù–∏–∫–∏—Ç–∞ –∑–∞–ø—ã–ª–∞–ª –¥–æ —Å–∞–º—ã—Ö —É—à–µ–π. –í —Ç–∞–∫–æ–º –æ–Ω –≤–æ—Å—Ç–æ—Ä–≥–µ –±—ã–ª –æ—Ç –ø—Ä–µ–¥–ª–æ–∂–µ–Ω–Ω–æ–π –¥—Ä—É–∂–±—ã. 6–£–∑–Ω–∞–≤, —á—Ç–æ –µ–≥–æ –æ—Ç–ø—Ä–∞–≤–ª—è—é—Ç –≤ –Ω–∞—Ö–∏–º–æ–≤—Å–∫–æ–µ, –§—Ä–æ–ª —Ç–≤–µ—Ä–¥–æ —Ä–µ—à–∏–ª: ¬´–°–±–µ–≥—É –Ω–∞ –ú–∞–ª—É—é –∑–µ–º–ª—é, —Ç—É–¥–∞, –≥–¥–µ –≤–æ—é—é—Ǭª. –ü—Ä–∞–≤–¥–∞, —Å—Ä–æ–∫–∞ –ø–æ–±–µ–≥–∞ –æ–Ω —Å–µ–±–µ –Ω–µ –ø–æ—Å—Ç–∞–≤–∏–ª. –°–Ω–∞—á–∞–ª–∞ —Ä–µ—à–∏–ª –ø–æ—Å–º–æ—Ç—Ä–µ—Ç—å, —á—Ç–æ –∑–∞ —à—Ç—É–∫–∞ —É—á–∏–ª–∏—â–µ. –°–±–µ–∂–∞—Ç—å –≤—Å–µ–≥–¥–∞ –º–æ–∂–Ω–æ.  –ü—Ä–∏–µ—Ö–∞–≤ —Å –ù–∏–∫–∏—Ç–æ–π –≤ –¢–±–∏–ª–∏—Å–∏, –≤ –Ω–µ–ø—Ä–∏—é—Ç–Ω–æ–µ –∑–¥–∞–Ω–∏–µ —Ü–≤–µ—Ç–∞ –±—ã—á—å–µ–π –∫—Ä–æ–≤–∏, –≤–æ—è–∫–∞ —Å—Ä–∞–∑—É –≤—ã–ø—è—Ç–∏–ª –≥—Ä—É–¥—å —Å –æ—Ä–¥–µ–Ω–æ–º –∏ –º–µ–¥–∞–ª—è–º–∏. –û–Ω —É–ø–∏–≤–∞–ª—Å—è —Å–≤–æ–∏–º –ø—Ä–µ–≤–æ—Å—Ö–æ–¥—Å—Ç–≤–æ–º –Ω–∞–¥ ¬´–º–∞–º–µ–Ω—å–∫–∏–Ω—ã–º–∏ —Å—ã–Ω–∫–∞–º–∏¬ª –∏ –ø—Ä–∏–Ω—è–ª—Å—è —É—á–∏—Ç—å –∏—Ö —É–º—É-—Ä–∞–∑—É–º—É. –£—á–∏–ª–∏—â–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –æ—Ä–≥–∞–Ω–∏–∑–æ–≤—ã–≤–∞–ª–æ—Å—å, –∏ –≤—Å–µ –ø—Ä–∏—à–ª–æ—Å—å –¥–µ–ª–∞—Ç—å —Å–≤–æ–∏–º–∏ —Ä—É–∫–∞–º–∏: –≤—Ç–∞—Å–∫–∏–≤–∞—Ç—å –≤ –∫—É–±—Ä–∏–∫–∏ –∫–æ–π–∫–∏, –∞ –≤ –∫–ª–∞—Å—Å—ã ‚Äî –ø–∞—Ä—Ç—ã, –Ω–æ—Å–∏—Ç—å –≤ —Å—Ç–æ–ª–æ–≤—É—é —Å—Ç–æ–ª—ã –∏ –±–∞—á–∫–∏, –∞ –≤ –∫–∞–º–±—É–∑ ‚Äî –Ω–∞–∫–æ–ª–æ—Ç—ã–µ –¥—Ä–æ–≤–∞. –§—Ä–æ–ª –Ω–µ –±–æ—è–ª—Å—è —Ä–∞–±–æ—Ç—ã. –ò –µ–º—É –æ—á–µ–Ω—å –Ω—Ä–∞–≤–∏–ª–æ—Å—å –ø–æ–¥–≥–æ–Ω—è—Ç—å –Ω–µ—Ä–∞—Å—Ç–æ—Ä–æ–ø–Ω—ã—Ö –∏ —É—á–∏—Ç—å, –∫–∞–∫ –Ω–∞–¥–æ —Ä–∞–±–æ—Ç–∞—Ç—å. –ù–æ –∫–æ–≥–¥–∞ –¥–µ–ª–æ –¥–æ—à–ª–æ –¥–æ –∑–∞–Ω—è—Ç–∏–π, –≤—ã—è—Å–Ω–∏–ª–æ—Å—å, —á—Ç–æ –§—Ä–æ–ª –∑–Ω–∞–µ—Ç –∫—É–¥–∞ –º–µ–Ω—å—à–µ ¬´–º–∞–º–µ–Ω—å–∫–∏–Ω—ã—Ö —Å—ã–Ω–∫–æ–≤¬ª: —Ç–æ, —á—Ç–æ –æ–Ω —É—á–∏–ª –≤ —Å–µ–≤–∞—Å—Ç–æ–ø–æ–ª—å—Å–∫–æ–π —à–∫–æ–ª–µ, –¥–∞–≤–Ω–æ –≤—ã–≤–µ—Ç—Ä–∏–ª–æ—Å—å –∏–∑ –±—É–π–Ω–æ–π –µ–≥–æ –≥–æ–ª–æ–≤—ã. –§—Ä–æ–ª –æ–±–ª–∞–¥–∞–ª –≤—Å–µ –∂–µ —Ç—Ä–µ–∑–≤—ã–º —É–º–æ–º. –û–Ω –≤–æ–≤—Ä–µ–º—è –ø–æ–Ω—è–ª, —á—Ç–æ –¥–∞–∂–µ ¬´–º–∞–º–µ–Ω—å–∫–∏–Ω—ã —Å—ã–Ω–∫–∏¬ª –ø–æ–¥–∫–æ–≤–∞–Ω—ã –∫—É–¥–∞ –ª—É—á—à–µ –µ–≥–æ. –û–Ω —Å–æ–æ–±—Ä–∞–∑–∏–ª, —á—Ç–æ –ø–µ—Ä–µ–¥ –Ω–∏–º –ø—Ä–µ–∫–ª–æ–Ω—è—é—Ç—Å—è —Å–≤–µ—Ä—Å—Ç–Ω–∏–∫–∏ –∑–∞ –µ–≥–æ –±–æ–µ–≤–æ–µ –ø—Ä–æ—à–ª–æ–µ, —Å–∞–º–æ—Å—Ç–æ—è—Ç–µ–ª—å–Ω–æ—Å—Ç—å, —É–º–µ–Ω–∏–µ –Ω–µ —Ç–µ—Ä—è—Ç—å—Å—è –∏ –Ω–µ —Å–∫–∏—Å–∞—Ç—å –Ω–∏ –ø—Ä–∏ –∫–∞–∫–∏—Ö –æ–±—Å—Ç–æ—è—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–∞—Ö –∏ ‚Äî –Ω—É, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ –∂–µ, ‚Äî –∑–∞ –µ–≥–æ –≤—Ä–∞–Ω—å–µ. –ö–∞–∫ –º—ã —É–∂–µ –∑–Ω–∞–µ–º, –µ–≥–æ –¥–µ–π—Å—Ç–≤–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–π –ø–æ–¥–≤–∏–≥ —Å —Ç–µ—á–µ–Ω–∏–µ–º –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∏ –æ–±—Ä–æ—Å –ø–æ–¥—Ä–æ–±–Ω–æ—Å—Ç—è–º–∏, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö –Ω–∞ —Å–∞–º–æ–º –¥–µ–ª–µ –Ω–µ –±—ã–ª–æ –∏ –≤ –ø–æ–º–∏–Ω–µ. –§—Ä–æ–ª —á–∞—Å—Ç–æ —Ö–≤–∞—Å—Ç–∞–ª—Å—è —Ç–µ–º, —á—Ç–æ –æ–Ω –º–æ–∂–µ—Ç —Å–∞–º –∑–∞–∫–∞–∑—ã–≤–∞—Ç—å —Å–Ω—ã ‚Äî —Å–µ–≥–æ–¥–Ω—è –≤–∏–¥–∏—Ç –ò–Ω–¥–∏—é –∏ —Ñ–∞–∫–∏—Ä–æ–≤ —Å–æ –∑–º–µ—è–º–∏, –∑–∞–≤—Ç—Ä–∞ ‚Äî –∏–Ω–¥–µ–π—Ü–µ–≤ –≤ –ê–º–µ—Ä–∏–∫–µ, –∞ –ø–æ—Å–ª–µ–∑–∞–≤—Ç—Ä–∞‚Äî—Ç–∏–≥—Ä–æ–≤ –∏ –ª—å–≤–æ–≤. –í –æ–¥–Ω–æ–º –∏–∑ –∫–∏–Ω–µ–º–∞—Ç–æ–≥—Ä–∞—Ñ–æ–≤ –°–µ–≤–∞—Å—Ç–æ–ø–æ–ª—è (—ç—Ç–æ—Ç —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑ –∏–º–µ–ª –Ω–∞–∏–±–æ–ª—å—à–∏–π —É—Å–ø–µ—Ö) –æ–Ω –±—É–¥—Ç–æ –±—ã –≤–∏–¥–µ–ª ¬´–ß–∞–ø–∞–µ–≤–∞¬ª, –≥–¥–µ –ü–µ—Ç—å–∫–∞, –∞ –Ω–µ –ß–∞–ø–∞–µ–≤ –ø–æ–≥–∏–±, –∞ –ß–∞–ø–∞–µ–≤ –≤—ã–ø–ª—ã–ª. –§—Ä–æ–ª –≤—Ä–∞–ª –≤–ø–æ–ª–Ω–µ –≤–¥–æ—Ö–Ω–æ–≤–µ–Ω–Ω–æ –∏ —Å–∞–º –∫—Ä–µ–ø–∫–æ –≤–µ—Ä–∏–ª, —á—Ç–æ –º–æ–∂–µ—Ç –≤–∏–¥–µ—Ç—å –≤–æ —Å–Ω–µ, —á—Ç–æ –∑–∞—Ö–æ—á–µ—Ç, –∏ —á—Ç–æ –Ω–∞ –æ–±—ã—á–Ω–æ–º –ø–æ–ª–æ—Ç–Ω—è–Ω–æ–º —ç–∫—Ä–∞–Ω–µ –í–∞—Å–∏–ª–∏–π –ò–≤–∞–Ω–æ–≤–∏—á –ß–∞–ø–∞–µ–≤ –≤—ã–ø–ª—ã–≤–∞–ª, —Å–∏–ª—å–Ω–æ —Ä–∞–Ω–µ–Ω–Ω—ã–π, –∏ –∫–∞—Ä–∞–±–∫–∞–ª—Å—è –Ω–∞ –±–µ—Ä–µ–≥... –ü—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–µ–Ω–∏–µ —Å–ª–µ–¥—É–µ—Ç.  –í–µ—Ä—é–∂—Å–∫–∏–π –ù–∏–∫–æ–ª–∞–π –ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä–æ–≤–∏—á (–í–ù–ê), –ì–æ—Ä–ª–æ–≤ –û–ª–µ–≥ –ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä–æ–≤–∏—á (–û–ê–ì), –ú–∞–∫—Å–∏–º–æ–≤ –í–∞–ª–µ–Ω—Ç–∏–Ω –í–ª–∞–¥–∏–º–∏—Ä–æ–≤–∏—á (–ú–í–í), –ö–°–í. 198188. –°–∞–Ω–∫—Ç-–ü–µ—Ç–µ—Ä–±—É—Ä–≥, —É–ª. –ú–∞—Ä—à–∞–ª–∞ –ì–æ–≤–æ—Ä–æ–≤–∞, –¥–æ–º 11/3, –∫–≤. 70. –ö–∞—Ä–∞—Å–µ–≤ –°–µ—Ä–≥–µ–π –í–ª–∞–¥–∏–º–∏—Ä–æ–≤–∏—á, –∞—Ä—Ö–∏–≤–∞—Ä–∏—É—Å. karasevserg@yandex.ru
11.05.201309:3211.05.2013 09:32:35
0
10.05.201309:5410.05.2013 09:54:43
–ù–∞–º, –æ–ø–∏—Ä–∞—è—Å—å –Ω–∞ –≤—Å–µ –≤—ã—à–µ—Å–∫–∞–∑–∞–Ω–Ω–æ–µ –æ–± –æ—Å–æ–±–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç—è—Ö –Ω–∞—à–µ–≥–æ —ç–∫–∏–ø–∞–∂–∞, —É–¥–∞–ª–æ—Å—å —É–±–µ–¥–∏—Ç—å —Å–Ω–∞—á–∞–ª–∞ —Ñ–ª–∞–≥–º–∞–Ω—Å–∫–∏—Ö —Å–ø–µ—Ü–∏–∞–ª–∏—Å—Ç–æ–≤ –±—Ä–∏–≥–∞–¥—ã, –∑–∞—Ç–µ–º –≥–µ–Ω–¥–∏—Ä–µ–∫—Ç–æ—Ä–∞ –≤ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ –º—ã —Å–∞–º–∏ —Å–ø–æ—Å–æ–±–Ω—ã —Å–ø—Ä–∞–≤–∏—Ç—å—Å—è —Å —ç—Ç–æ–π –∑–∞–¥–∞—á–µ–π. –ü–æ–≤–µ—Ä–∏–ª–∏ –∏ –Ω–∞–ø—Ä–∞–≤–∏–ª–∏ —Å–æ–æ—Ç–≤–µ—Ç—Å—Ç–≤—É—é—â–µ–µ —Ö–æ–¥–∞—Ç–∞–π—Å—Ç–≤–æ –ø—Ä—è–º–æ –≥–ª–∞–≤–∫–æ–º—É –í–ú–§. –Ý–∞–∑—Ä–µ—à–∏–ª–∏. –ö –¥–Ω—é —Å–ø–ª–∞–≤–∞ –ø–æ –ê–º—É—Ä—É —Å –Ω–µ–±–æ–ª—å—à–∏–º –ø–æ—Ö–æ–¥–Ω—ã–º —à—Ç–∞–±–æ–º –Ω–∞ –±–æ—Ä—Ç —Ç—Ä–∞–Ω—Å–ø–æ—Ä—Ç–Ω–æ–≥–æ –¥–æ–∫–∞, –≤ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–º –≤ –∑–∞—á–µ—Ö–ª–µ–Ω–Ω–æ–º –∑–∞–º–∞—Å–∫–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–Ω–æ–º –≤–∏–¥–µ —É–∂–µ —Å—Ç–æ—è–ª–∞ –Ω–∞ –∫–∏–ª—å–±–ª–æ–∫–∞—Ö –ª–æ–¥–∫–∞, –ø—Ä–∏–±—ã–ª –∫–æ–º–∞–Ω–¥–∏—Ä –±—Ä–∏–≥–∞–¥—ã —Å—Ç—Ä–æ—è—â–∏—Ö—Å—è –∏ —Ä–µ–º–æ–Ω—Ç–∏—Ä—É—é—â–∏—Ö—Å—è –Ω–∞ –∑–∞–≤–æ–¥–∞—Ö –ë–æ–ª—å—à–æ–≥–æ –ö–∞–º–Ω—è –ø–æ–¥–≤–æ–¥–Ω—ã—Ö –ª–æ–¥–æ–∫ –∫–∞–ø–∏—Ç–∞–Ω 1 —Ä–∞–Ω–≥–∞ –î–∂–∞–Ω–µ–ª–∏–¥–∑–µ.  –ì—Ä—É–ø–ø–∞ –æ—Ñ–∏—Ü–µ—Ä–æ–≤ –∏ –º–∏—á–º–∞–Ω–æ–≤ –Ý–ü–ö–°–ù ¬´–ö-258¬ª. –ö–æ–º—Å–æ–º–æ–ª—å—Å–∫-–Ω–∞-–ê–º—É—Ä–µ. 1972 –≥–æ–¥ –ó–ê–í–û–î–°–ö–ò–ï –ò –ì–û–°–´–ß–µ—Ä–µ–∑ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –¥–Ω–µ–π –∫ –≤–µ—á–µ—Ä—É –≤—ã—à–ª–∏ –∏–∑ –¥–æ–∫–∞ –∏ –≤—Å—Ç–∞–ª–∏ –Ω–∞ —è–∫–æ—Ä—å –≤ –æ–¥–Ω–æ–π –∏–∑ –±—É—Ö—Ç –¢–∞—Ç–∞—Ä—Å–∫–æ–≥–æ –ø—Ä–æ–ª–∏–≤–∞ –Ω–µ–¥–∞–ª–µ–∫–æ –æ—Ç —É—Å—Ç—å—è –ê–º—É—Ä–∞. –Ý—è–¥–æ–º –Ω–∞ —è–∫–æ—Ä–µ –∑–∞–≤–æ–¥—Å–∫–æ–π –º–æ—Ä—Å–∫–æ–π –±—É–∫—Å–∏—Ä, –Ω–∞ –Ω–µ–º –≥—Ä—É–ø–ø–∞ –∑–∞–≤–æ–¥—Å–∫–∏—Ö —Ä–∞–±–æ—á–∏—Ö, –∫–æ—Ç–æ—Ä–∞—è –±—É–¥–µ—Ç –Ω–∞—Å —Å–æ–ø—Ä–æ–≤–æ–∂–¥–∞—Ç—å –≤ —Ö–æ–¥–µ –∑–∞–≤–æ–¥—Å–∫–∏—Ö –∏—Å–ø—ã—Ç–∞–Ω–∏–π. –£ –Ω–∞—Å –Ω–∞ –±–æ—Ä—Ç—É –Ω–µ–±–æ–ª—å—à–∞—è —á–∞—Å—Ç—å –∑–∞–≤–æ–¥—Å–∫–æ–π —Å–¥–∞—Ç–æ—á–Ω–æ–π –∫–æ–º–∞–Ω–¥—ã –≤–æ –≥–ª–∞–≤–µ —Å –æ—Ç–≤–µ—Ç—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–º —Å–¥–∞—Ç—á–∏–∫–æ–º. –í –Ω–æ—á—å –Ω–∞—á–∞–ª–∏ –≤–≤–æ–¥ –ì–≠–£. –ù–∞ –≤—Å–µ—Ö –æ—Å–Ω–æ–≤–Ω—ã—Ö –ë–ü –∏ –ö–ü (–±–æ–µ–≤—ã—Ö –ø–æ—Å—Ç–∞—Ö –∏ –∫–æ–º–∞–Ω–¥–Ω—ã—Ö –ø—É–Ω–∫—Ç–∞—Ö), –∫—Ä–æ–º–µ –Ω–∞—à–∏—Ö, –∑–∞–≤–æ–¥—Å–∫–∏–µ —Å–ø–µ—Ü–∏–∞–ª–∏—Å—Ç—ã, —Å—Ç—Ä–∞—Ö—É—é—Ç. –ö —É—Ç—Ä—É –±–ª–∞–≥–æ–ø–æ–ª—É—á–Ω–æ –≤–≤–µ–ª–∏—Å—å, –≤—ã—à–ª–∏ –Ω–∞ –ú–ö–£ (–º–∏–Ω–∏–º–∞–ª—å–Ω–æ –∫–æ–Ω—Ç—Ä–æ–ª–∏—Ä—É–µ–º—ã–π —É—Ä–æ–≤–µ–Ω—å –º–æ—â–Ω–æ—Å—Ç–∏ —è–¥–µ—Ä–Ω–æ–π —É—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∫–∏), –ø–µ—Ä–µ—à–ª–∏ –Ω–∞ —ç–ª–µ–∫—Ç—Ä–æ–ø–∏—Ç–∞–Ω–∏–µ –æ—Ç –ø–∞—Ä–æ–≥–µ–Ω–µ—Ä–∞—Ç–æ—Ä–æ–≤. –ü—Ä–æ–≥—Ä–µ–ª–∏ —Ç—É—Ä–±–∏–Ω—ã –∏, –Ω–∞–∫–æ–Ω–µ—Ü-—Ç–æ: ¬´–ü–æ –º–µ—Å—Ç–∞–º —Å—Ç–æ—è—Ç—å —Å —è–∫–æ—Ä—è —Å–Ω–∏–º–∞—Ç—å—Å—è!¬ª. –ö–∞–∂–µ—Ç—Å—è, –Ω–µ —Å–¥–µ—Ä–∂–∞–ª –≤–æ–ª–Ω–µ–Ω–∏—è –≤ –≥–æ–ª–æ—Å–µ. –®—É—Ç–∫–∞ –ª–∏, —á–µ—Ç—ã—Ä–µ –≥–æ–¥–∞ –ø—Ä–æ—à–ª–æ —Å —Ç–µ—Ö –ø–æ—Ä, –∫–∞–∫ —è –∫–æ–º–∞–Ω–¥–æ–≤–∞–ª —Å –º–æ—Å—Ç–∏–∫–∞ –¥–∏–∑–µ–ª—å–Ω–æ–π —Å—É–±–º–∞—Ä–∏–Ω—ã –≤–æ–¥–æ–∏–∑–º–µ—â–µ–Ω–∏–µ–º –≤—Å–µ–≥–æ –ª–∏—à—å 1350 —Ç! –ê —Ç–µ–ø–µ—Ä—å –ø–æ–¥ –Ω–æ–≥–∞–º–∏ –æ–≥—Ä–æ–º–Ω—ã–π –∞—Ç–æ–º–æ—Ö–æ–¥ –≤–æ–¥–æ–∏–∑–º–µ—â–µ–Ω–∏–µ–º –ø–æ—á—Ç–∏ –≤ 10 —Ä–∞–∑ –±–æ–ª—å—à–µ! –¢–∞ –¥–∏–∑–µ–ª—é—Ö–∞ –±—ã–ª–∞ –ø–æ—Å–ª—É—à–Ω–∞, –∫–∞–∫ –≤–µ–ª–æ—Å–∏–ø–µ–¥! –í–∞–ª—å—Å —Ç–∞–Ω—Ü–µ–≤–∞—Ç—å –º–æ–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ! –ê –Ω–∞ —á—Ç–æ —Å–ø–æ—Å–æ–±–µ–Ω —ç—Ç–æ—Ç? –ò–¥–µ–º. –ò–¥–µ—Ç –∫—Ä–∞—Å–∏–≤–æ! –ù–µ–ø—Ä–∏–≤—ã—á–Ω–∞—è —Ç–∏—à–∏–Ω–∞, –¥–∏–∑–µ–ª—è –∂–µ –Ω–µ –≥—Ä–µ–º—è—Ç, —Ç—É—Ä–±–∏–Ω—ã —Ä–∞–±–æ—Ç–∞—é—Ç –±–µ—Å—à—É–º–Ω–æ. –ó–∞ –±–æ—Ä—Ç–æ–º —Ç–æ–ª—å–∫–æ —à–µ–ª–µ—Å—Ç –ø–µ–Ω–Ω—ã—Ö —É—Å–æ–≤ –æ—Ç –æ–≤–∞–ª—å–Ω–æ–≥–æ –Ω–æ—Å–∞, –ø–µ–Ω–∞ –≤–¥–æ–ª—å –±–æ—Ä—Ç–∞ –¥–∞ —à–∏—Ä–æ–∫–∏–π –ø–µ–Ω–Ω—ã–π –∫–∏–ª—å–≤–∞—Ç–µ—Ä–Ω—ã–π —Å–ª–µ–¥ –∑–∞ –∫–æ—Ä–º–æ–π! –ü–æ–≥–æ–¥–∞ –±–ª–∞–≥–æ–ø—Ä–∏—è—Ç–Ω–∞, –æ—Å–µ–Ω—å –≤ –ü—Ä–∏–º–æ—Ä—å–µ –≤—Å–µ–≥–¥–∞ –ª—É—á—à–µ –ª–µ—Ç–∞. –ó–∞–≤–æ–¥—Å–∫–∏–µ –∏—Å–ø—ã—Ç–∞–Ω–∏—è –∏–¥—É—Ç –ø–æ –ø–ª–∞–Ω—É. –ù–∞ —Ç—Ä–µ—Ç—å–∏ —Å—É—Ç–∫–∏ –ø–ª–∞–≤–∞–Ω–∏—è –ø–æ—è–≤–∏–ª–æ—Å—å –æ—â—É—â–µ–Ω–∏–µ, —á—Ç–æ –≤–ø–æ–ª–Ω–µ –≤–ª–∞–¥–µ—é –æ–±—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∫–æ–π –∏ –º–æ–≥—É –ø–æ–∫–∏–Ω—É—Ç—å –ì–ö–ü, –ø—Ä–æ–π—Ç–∏ –ø–æ –ª–æ–¥–∫–µ, –ø–æ—Å–º–æ—Ç—Ä–µ—Ç—å, –≥–¥–µ –∏ —á—Ç–æ –¥–µ–ª–∞–µ—Ç—Å—è, –ø–æ–≥–æ–≤–æ—Ä–∏—Ç—å —Å –ª—é–¥—å–º–∏, –ø–æ—Å–ø—Ä–æ—à–∞—Ç—å —Ä–∞–±–æ—Ç—è–≥: ¬´–ö–∞–∫ —Å–ø—Ä–∞–≤–ª—è—é—Ç—Å—è –ø—Ä–∞–∫—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏ –Ω–∞—à–∏ –º–∏—á–º–∞–Ω–∞?¬ª. –ù–æ —á—Ç–æ —ç—Ç–æ? –ù–∏ –Ω–∞ –æ–¥–Ω–æ–º –ë–ü –Ω–µ—Ç –Ω–∏ –æ–¥–Ω–æ–≥–æ —Ä–∞–±–æ—Ç—è–≥–∏, –æ–Ω–∏ –≤—Å–µ –∏–ª–∏ –¥—Ä—ã—Ö–Ω—É—Ç –≤ –∫–∞—é—Ç–∞—Ö, –∏–ª–∏ –∑–∞–±–∏–≤–∞—é—Ç ¬´–∫–æ–∑–ª–∞¬ª! –û—Ç–≤–µ—Ç—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ —Å–¥–∞—Ç—á–∏–∫–∞ –∏ —Å—Ç–∞—Ä–ø–æ–º–∞ –∫ –æ—Ç–≤–µ—Ç—É! ‚Äî –î–∞ —É—Å–ø–æ–∫–æ–π—Ç–µ—Å—å –≤—ã. –û–Ω–∏ –∑–Ω–∞—é—Ç, —á—Ç–æ –¥–µ–ª–∞—é—Ç. –ú–æ–∂–µ—Ç–µ –±—ã—Ç—å —É–≤–µ—Ä–µ–Ω—ã, –µ—Å–ª–∏ –æ–Ω–∏ —Å–ø—è—Ç, —Ç–æ –∑–Ω–∞—á–∏—Ç –Ω–∞ 100% —É–≤–µ—Ä–µ–Ω—ã –≤ –≤–∞—à–∏—Ö —Ä–µ–±—è—Ç–∞—Ö, —Ç–∞–∫–∏—Ö –µ—â–µ –Ω–µ –≤–∏–¥–µ–ª–∏. –Ø —Å–∞–º —É–±–µ–¥–∏–ª—Å—è.  –°—Ç–∞—Ä–ø–æ–º –µ–≥–æ –ø–æ–¥–¥–µ—Ä–∂–∞–ª: ‚Äî –í—Å–µ –Ω–æ—Ä–º–∞–ª—å–Ω–æ, –±—É–¥—å—Ç–µ —Å–ø–æ–∫–æ–π–Ω—ã. –ù–æ –∑–∞–º–ø–æ–ª–∏—Ç—É, –í–∏–∫—Ç–æ—Ä—É –ê–Ω—Ç–æ–Ω–æ–≤–∏—á—É, —è –≤—Å–µ –∂–µ —Å–∫–∞–∑–∞–ª: ¬´–ë–¥–∏!.¬ª –ó–∞–≤–æ–¥—Å–∫–∏–µ –∏—Å–ø—ã—Ç–∞–Ω–∏—è –ø—Ä–æ—à–ª–∏ –≤ —Å—Ä–æ–∫, –±–µ–∑ –∑–∞—Ö–æ–¥–∞ –≤ –±–∞–∑—É. –ù–∏ –æ–¥–∏–Ω –º–µ—Ö–∞–Ω–∏–∑–º —Å–µ—Ä—å–µ–∑–Ω–æ –Ω–µ –±–∞—Ä–∞—Ö–ª–∏–ª. –£–ø—Ä–∞–≤–ª—è–µ–º–æ—Å—Ç—å –ª–æ–¥–∫–∏ –º–µ–Ω—è –ø–æ—Ä–∞–∑–∏–ª–∞! –ü–æ—á—É–≤—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª —è –µ–µ —Ö–æ—Ä–æ—à–æ. –î–∞–∂–µ –ø—Ä–∏ —à–≤–∞—Ä—Ç–æ–≤–∫–µ –≤ —Å—Ç–µ—Å–Ω–µ–Ω–Ω–æ–π –≥–∞–≤–∞–Ω–∏ –¥–æ—Å—Ç—Ä–æ–µ—á–Ω–æ–π –±–∞–∑—ã –≤ –ë–æ–ª—å—à–æ–º –ö–∞–º–Ω–µ –æ–Ω–∞ –Ω–µ –ø—Ä–µ–ø–æ–¥–Ω–µ—Å–ª–∞ –Ω–∏–∫–∞–∫–∏—Ö —Å—é—Ä–ø—Ä–∏–∑–æ–≤. –ù–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –¥–Ω–µ–π –æ—Ç—Å—Ç–æ—è, —É—Å—Ç—Ä–∞–Ω–µ–Ω–∏–µ –º–µ–ª–∫–∏—Ö –∑–∞–º–µ—á–∞–Ω–∏–π, —Å–±–æ—Ä –≥–æ—Å–∫–æ–º–∏—Å—Å–∏–∏, –∏–∑—É—á–µ–Ω–∏–µ –∏ –ø–æ–¥–≥–æ—Ç–æ–≤–∫–∞ –¥–æ–∫—É–º–µ–Ω—Ç–∞—Ü–∏–∏ –≥–æ—Å–∫–æ–º–∏—Å—Å–∏–∏. –ó–∞ —ç—Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è —É–¥–∞–ª–æ—Å—å –≤—Å—Ç—Ä–µ—Ç–∏—Ç—å –∏ —Ä–∞–∑–º–µ—Å—Ç–∏—Ç—å —Å–µ–º—å—é, ¬´–±–æ–ª—å—à–æ–π –∫—Ä—É–≥¬ª –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∞–ª—Å—è. –ì–æ—Å—É–¥–∞—Ä—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–µ –∏—Å–ø—ã—Ç–∞–Ω–∏—è, –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤ –æ–∂–∏–¥–∞–Ω–∏—è, –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –∑–∞—Ç—è–Ω—É–ª–∏—Å—å. –ù–µ –ø–æ–º–Ω—é —É–∂–µ –ø–æ—á–µ–º—É, –Ω–æ –ø—Ä–∏—à–ª–æ—Å—å –¥–µ–ª–∞—Ç—å –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –≤—ã—Ö–æ–¥–æ–≤. –•–æ—Ä–æ—à–æ –∑–∞–ø–æ–º–Ω–∏–ª—Å—è —Ç–æ–ª—å–∫–æ –æ–¥–∏–Ω. –ü–æ–≤—Ç–æ—Ä–Ω–æ –ø—Ä–∏—à–ª–æ—Å—å –≤—ã—Ö–æ–¥–∏—Ç—å –Ω–∞ –∑–∞–º–µ—Ä –ø–æ–¥–≤–æ–¥–Ω–æ–π —à—É–º–Ω–æ—Å—Ç–∏ –∫–æ—Ä–∞–±–ª—è. –î–µ–ª–æ –≤ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ —Ä–µ–∑—É–ª—å—Ç–∞—Ç–∞–º –ø–µ—Ä–≤–æ–≥–æ –∑–∞–º–µ—Ä–∞ –Ω–µ –ø–æ–≤–µ—Ä–∏–ª–∏, –ø–æ–¥—É–º–∞–ª–∏, —á—Ç–æ –æ—à–∏–±–∫–∞: —à—É–º–Ω–æ—Å—Ç—å –æ–∫–∞–∑–∞–ª–∞—Å—å –º–Ω–æ–≥–æ –º–µ–Ω—å—à–µ, —á–µ–º –æ–∂–∏–¥–∞–ª–∞—Å—å, –ø–æ—á—Ç–∏ —Ç–∞–∫–∞—è –∂–µ, –∫–∞–∫ —É –∞–º–µ—Ä–∏–∫–∞–Ω—Å–∫–∏—Ö –ª–æ–¥–æ–∫. –ö—Ç–æ-—Ç–æ —Å–∫–∞–∑–∞–ª: ¬´–ù–µ –º–æ–∂–µ—Ç –±—ã—Ç—å!¬ª. –ü–æ–¥–≥–æ—Ç–æ–≤–∏–ª–∏ —Å–ø–µ—Ü–∞–ø–ø–∞—Ä–∞—Ç—É—Ä—É, —Å—É–¥–Ω–æ-–∏–∑–º–µ—Ä–∏—Ç–µ–ª—å –≤—ã–≤–µ—Å–∏–ª–æ –µ–µ –Ω–∞ –æ–ø—Ä–µ–¥–µ–ª–µ–Ω–Ω–æ–π –≥–ª—É–±–∏–Ω–µ, –∏ –º—ã –ø—Ä–æ—à–ª–∏ –ø–æ–¥ –Ω–µ–π –ø–∞—Ä—É —Ä–∞–∑. –ù—É –∏ —á—Ç–æ? –ü–æ–¥—Ç–≤–µ—Ä–¥–∏–ª–∏ –ø–µ—Ä–≤—ã–π —Ä–µ–∑—É–ª—å—Ç–∞—Ç. –ö–æ–Ω—Å—Ç—Ä—É–∫—Ç–æ—Ä—ã –∏ —Å—É–¥–æ—Å—Ç—Ä–æ–∏—Ç–µ–ª–∏ –ø–æ–ª–æ–º–∞–ª–∏ –≥–æ–ª–æ–≤—ã –Ω–∞–¥ —Ñ–µ–Ω–æ–º–µ–Ω–æ–º, –Ω–æ –æ–±—ä—è—Å–Ω–∏—Ç—å –Ω–µ —Å–º–æ–≥–ª–∏. –ê —è –≤–∑—è–ª —ç—Ç–æ —Å–µ–±–µ –Ω–∞ –∑–∞–º–µ—Ç–∫—É –∏ –µ—â–µ –±–æ–ª–µ–µ —Ç—Ä–µ–±–æ–≤–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ —Å—Ç–∞–ª –æ—Ç–Ω–æ—Å–∏—Ç—å—Å—è –∫ –æ–±–µ—Å–ø–µ—á–µ–Ω–∏—é –º–∞–ª–æ—à—É–º–Ω–æ—Å—Ç–∏. –ì–ª–∞–≤–Ω–æ–µ ‚Äî —Å–æ–±–ª—é–¥–∞–π –º–æ—Ä—Å–∫—É—é –∫—É–ª—å—Ç—É—Ä—É. –ü–µ—Ä–µ–±–æ—Ä–æ—á–Ω—ã–º–∏ –¥–≤–µ—Ä—å–º–∏ –Ω–µ —Ö–ª–æ–ø–∞–π, –≤—Å–µ –ø–∞–π–æ–ª—ã –≤ —ç–Ω–µ—Ä–≥–µ—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏—Ö –æ—Ç—Å–µ–∫–∞—Ö –¥–æ–ª–∂–Ω—ã –±—ã—Ç—å –∂–µ—Å—Ç–∫–æ –∑–∞–∫—Ä–µ–ø–ª–µ–Ω—ã, –≤—Å–µ –≤–∏–±—Ä–∏—Ä—É—é—â–∏–µ –∫–∞–±–µ–ª–∏, —Ç—Ä—É–±–æ–ø—Ä–æ–≤–æ–¥—ã –∏ —Ç. –¥. –∫–∞–∫ –≤ –ª–µ–≥–∫–æ–º –∫–æ—Ä–ø—É—Å–µ, —Ç–∞–∫ –∏ –≤–Ω—É—Ç—Ä–∏ –ø—Ä–æ—á–Ω–æ–≥–æ –∫–æ—Ä–ø—É—Å–∞ –∑–∞–∫—Ä–µ–ø–ª–µ–Ω—ã —á–µ—Ä–µ–∑ —Ä–µ–∑–∏–Ω–æ–≤—ã–µ –ø—Ä–æ–∫–ª–∞–¥–∫–∏. –ó–∞ –≤—Ä–µ–º—è –≤—ã—Ö–æ–¥–æ–≤ –≤ –º–æ—Ä–µ –Ω–∞ –≥–æ—Å–∏—Å–ø—ã—Ç–∞–Ω–∏—è —ç–∫–∏–ø–∞–∂ –µ—â–µ –±–æ–ª–µ–µ —É—Å–æ–≤–µ—Ä—à–µ–Ω—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª—Å—è –≤ —ç–∫—Å–ø–ª—É–∞—Ç–∞—Ü–∏–∏ –∏ –æ–±—Å–ª—É–∂–∏–≤–∞–Ω–∏–∏ —Å–≤–æ–µ–π –º–∞—Ç–µ—Ä–∏–∞–ª—å–Ω–æ–π —á–∞—Å—Ç–∏, –∞ —è —Ö–æ—Ä–æ—à–æ –ø—Ä–æ—á—É–≤—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª —É–ø—Ä–∞–≤–ª—è–µ–º–æ—Å—Ç—å –∏ –Ω–∞–¥–µ–∂–Ω–æ—Å—Ç—å .  –î–∞, –ª–æ–¥–∫–∞ –ø—Ä–µ–∫—Ä–∞—Å–Ω–æ —É–ø—Ä–∞–≤–ª—è–ª–∞—Å—å –∫–∞–∫ –≤ –ø–æ–¥–≤–æ–¥–Ω–æ–º, —Ç–∞–∫ –∏ –≤ –Ω–∞–¥–≤–æ–¥–Ω–æ–º –ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–∏–∏. –ë—ã–ª —Ç–∞–∫–æ–π —Å–ª—É—á–∞–π. –í–¥—Ä—É–≥ –∑–∞–±–æ–ª–µ–ª –ø—Ä–µ–¥—Å–µ–¥–∞—Ç–µ–ª—å –≥–æ—Å–∫–æ–º–∏—Å—Å–∏–∏ ‚Äî –ø—Ä–∏—Ö–≤–∞—Ç–∏–ª–∞ –∫–∞–∫–∞—è-—Ç–æ —Å—Ç–∞—Ä–∞—è –±–æ–ª—è—á–∫–∞. –î–æ–Ω–µ—Å –Ω–∞ –±–µ—Ä–µ–≥. –ü–æ–ª—É—á–∞—é –∫–æ–º–∞–Ω–¥—É: ¬´–ë–æ–ª—å–Ω–æ–≥–æ –æ—Ç–ø—Ä–∞–≤–∏—Ç –≤ –≥–æ—Å–ø–∏—Ç–∞–ª—å. –í—ã—Å—ã–ª–∞–µ–º —Ç–æ—Ä–ø–µ–¥–Ω—ã–π –∫–∞—Ç–µ—Ä. –û–±–µ—Å–ø–µ—á—å –±–µ–∑–æ–ø–∞—Å–Ω–æ—Å—Ç—å –ø–µ—Ä–µ–¥–∞—á–∏ –±–æ–ª—å–Ω–æ–≥–æ –Ω–∞ –∫–∞—Ç–µ—Ĭª. –ú–æ—Ä–µ, —Ö–æ—Ç—å –∏ –Ω–µ–º–Ω–æ–≥–æ, –Ω–æ –≤–æ–ª–Ω—É–µ—Ç—Å—è, —á—É—Ç—å –±–æ–ª–µ–µ 3 –±–∞–ª–ª–æ–≤. –õ–æ–¥–∫—É –∫–∞—á–∞–µ—Ç –Ω–µ –æ—Å–æ–±–µ–Ω–Ω–æ, –Ω–æ –∫–∞—Ç–µ—Ä —É –±–æ—Ä—Ç–∞ –Ω–µ —É–¥–µ—Ä–∂–∏—Ç—Å—è. –ù–∞–¥–æ –≥–¥–µ-—Ç–æ —É–∫—Ä—ã—Ç—å—Å—è –æ—Ç –ø—Ä—è–º–æ–π –≤–æ–ª–Ω—ã, –∑–∞–π—Ç–∏ –≤ –±–ª–∏–∂–∞–π—à—É—é –±—É—Ö—Ç—É. –ë–ª–∏–∂–∞–π—à–∞—è –º–∞–ª–µ–Ω—å–∫–∞—è –±—É—Ö—Ç–æ—á–∫–∞ –Ω–∞ —é–∂–Ω–æ–º –±–µ—Ä–µ–≥—É –æ—Å—Ç—Ä–æ–≤–∞ –ê—Å–∫–æ–ª—å–¥. –°–º–æ—Ç—Ä—é –Ω–∞ –∫–∞—Ä—Ç—É. –ì–ª—É–±–∏–Ω—ã –ø–æ–∑–≤–æ–ª—è—é—Ç, –Ω–æ –æ—á–µ–Ω—å —É–∂ —Ç–µ—Å–Ω–æ–≤–∞—Ç–æ, —Å–ø—Ä–∞–≤–∞ –∫–∞–º–Ω–∏. –®—Ç—É—Ä–º–∞–Ω —Å–æ–º–Ω–µ–≤–∞–µ—Ç—Å—è... –ê —Å–≤–µ—Ä—Ö—É –¥–æ–∫–ª–∞–¥—ã–≤–∞—é—Ç, —á—Ç–æ –Ω–∞ –≥–æ—Ä–∏–∑–æ–Ω—Ç–µ –æ—Ç –í–ª–∞–¥–∏–≤–æ—Å—Ç–æ–∫–∞ –ø–æ–ª–Ω—ã–º —Ö–æ–¥–æ–º –∏–¥–µ—Ç —Ç–æ—Ä–ø–µ–¥–Ω—ã–π –∫–∞—Ç–µ—Ä. –£–∂–µ –≤—ã—à–µ–ª –Ω–∞ —Å–≤—è–∑—å: ¬´–ì–¥–µ –±—É–¥–µ–º –ø–µ—Ä–µ–¥–∞–≤–∞—Ç—å –±–æ–ª—å–Ω–æ–≥–æ?¬ª. –ê-–∞, –ª–∞–¥–Ω–æ! –Ý–µ—à–∏–ª—Å—è. –í–æ—à–ª–∏ –≤ –±—É—Ö—Ç—É, –∫–∞—Ç–µ—Ä –ø–æ–¥–æ—à–µ–ª, –±–æ–ª—å–Ω–æ–≥–æ –ø–µ—Ä–µ–¥–∞–ª–∏... –°–Ω–æ—Å–∏—Ç –∫ –±–µ—Ä–µ–≥—É, —Å–ø—Ä–∞–≤–∞ —É–≥—Ä–æ–∂–∞—é—â–µ –ø–µ–Ω—è—Ç –∫–∞–º–Ω–∏... –¢—É—Ä–±–∏–Ω—ã –≤—Ä–∞–∑–¥—Ä–∞–π –Ω–∞ –ø–æ–ª–Ω—É—é... –ú–µ–¥–ª–µ–Ω–Ω–æ, –º–µ–¥–ª–µ–Ω–Ω–æ —Ä–∞–∑–≤–µ—Ä–Ω—É–ª–∏—Å—å –∏, –Ω–∞–∫–æ–Ω–µ—Ü, —Ä–≤–∞–Ω—É–ª–∏ –Ω–∞ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ—Ä. –ü–µ—Ä–µ–≤–µ–ª–∏ –¥—É—Ö! –ù–æ –ª–æ–¥–∫–∞ –º–æ–ª–æ–¥–µ—Ü, –∫–∞–∫ –≤–µ–ª–æ—Å–∏–ø–µ–¥! –í–æ–∑–≤—Ä–∞—â–∞–µ–º—Å—è –≤ –ë–æ–ª—å—à–æ–π –ö–∞–º–µ–Ω—å. –ï—Å—Ç—å ¬´–¥–æ–±—Ė欪 –Ω–∞ –≤—Ö–æ–¥. –í–æ—à–ª–∏ –Ω–∞ –≤–Ω—É—Ç—Ä–µ–Ω–Ω–∏–π —Ä–µ–π–¥, –ø–æ–≤–æ—Ä–æ—Ç –≤–ª–µ–≤–æ –∫ –ø–∏—Ä—Å—É –¥–æ—Å—Ç—Ä–æ–µ—á–Ω–æ–π –±–∞–∑—ã... –í–¥—Ä—É–≥ –æ—Ç –û–î: ¬´–ó–∞–¥–µ—Ä–∂–∞—Ç—å—Å—è –Ω–∞ —Ä–µ–π–¥–µ!¬ª. –û—Ç—Ä–∞–±–æ—Ç–∞–ª–∏ ¬´—Ä–µ–≤–µ—ėŬª, –æ–¥–µ—Ä–∂–∞–ª–∏ –∏–Ω–µ—Ä—Ü–∏—é, –∂–¥–µ–º. –í–µ—Ç–µ—Ä–∫–æ–º –ª–æ–¥–∫—É —Ä–∞–∑–≤–æ—Ä–∞—á–∏–≤–∞–µ—Ç, —á—É—Ç—å-—á—É—Ç—å, –Ω–æ —Å–Ω–æ—Å–∏—Ç –∫ –±–µ—Ä–µ–≥—É, –±—É—Ö—Ç–∞ —É–∑–∫–∞—è. –ó–∞–ø—Ä–æ—Å–∏–ª–∏ –û–î: ¬´–í —á–µ–º –¥–µ–ª–æ?¬ª. –û–∫–∞–∑—ã–≤–∞–µ—Ç—Å—è, –≤—ã—à–µ–ª –∏–∑ —Å—Ç—Ä–æ—è –±—É–∫—Å–∏—Ä, –¥–æ–≥–æ–≤–∞—Ä–∏–≤–∞—é—Ç—Å—è —Å —Å–æ—Å–µ–¥–Ω–∏–º –∑–∞–≤–æ–¥–æ–º ¬´–ó–≤–µ–∑–¥–∞¬ª –Ω–∞—Å—á–µ—Ç –±—É–∫—Å–∏—Ä–∞. –î–µ–ª–æ –≤ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ —à–≤–∞—Ä—Ç–æ–≤–∞—Ç—å—Å—è –Ω—É–∂–Ω–æ –∫–æ—Ä–º–æ–π –∫ —Å—Ç–µ–Ω–∫–µ –∑–∞–≤–æ–¥–∞, –∞ –ø—Ä–∞–≤—ã–º –±–æ—Ä—Ç–æ–º –∫ –ø—Ä–∏—á–∞–ª—å–Ω–æ–π —Å—Ç–µ–Ω–∫–µ. –ü—Ä–∏ —ç—Ç–æ–º –æ—Ç —Å—Ç—É–ø–∏—Ü –≤–∏–Ω—Ç–æ–≤ –¥–æ —Å—Ç–µ–Ω–∫–∏ –ø–æ –∫–æ—Ä–º–µ –¥–æ–ª–∂–Ω–æ –±—ã—Ç—å –æ–∫–æ–ª–æ —Ç—Ä–µ—Ö –º–µ—Ç—Ä–æ–≤, –∞ –Ω–æ—Å –ª–æ–¥–∫–∏ —Ç–æ—Ä—á–∏—Ç –∑–∞ —Å—Ä–µ–∑ –ø—Ä–∏—á–∞–ª–∞ –ø–æ—á—Ç–∏ –¥–æ —Ä—É–±–∫–∏. –ß–∏—Å—Ç–æ–π –≤–æ–¥—ã –≤–ø–µ—Ä–µ–¥–∏ –ø–æ –Ω–æ—Å—É –æ—Å—Ç–∞–µ—Ç—Å—è –º–µ—Ç—Ä–æ–≤ 100-120, –Ω–µ –±–æ–ª—å—à–µ, —Ç.–µ. –Ω–∞ –ø–æ–¥—Ö–æ–¥–µ –∫ –ø—Ä–∏—á–∞–ª—É –Ω—É–∂–Ω–æ —Ä–∞–∑–≤–µ—Ä–Ω—É—Ç—å—Å—è –ø–æ—á—Ç–∏ –Ω–∞ –º–µ—Å—Ç–µ –≤–ª–µ–≤–æ –≥—Ä–∞–¥—É—Å–æ–≤ —ç–¥–∞–∫ –Ω–∞ 100-110 –∏ –ª–∞–≥–æ–º —Å–º–µ—Å—Ç–∏—Ç—å—Å—è –∫ –ø—Ä–∏—á–∞–ª—É. –¢–∞–∫–æ–π –º–∞–Ω–µ–≤—Ä –æ–±–µ—Å–ø–µ—á–∏–≤–∞–ª—Å—è, –∫–∞–∫ –ø—Ä–∞–≤–∏–ª–æ, –¥–≤—É–º—è –±—É–∫—Å–∏—Ä–∞–º–∏, –≤ –∫—Ä–∞–π–Ω–µ–º —Å–ª—É—á–∞–µ, –æ–¥–Ω–∏–º. –í –¥–∞–Ω–Ω–æ–º —Å–ª—É—á–∞–µ –Ω–∞–º –Ω–µ –ø–æ–≤–µ–∑–ª–æ, –∑–∞–≤–æ–¥—Å–∫–æ–π –±—É–∫—Å–∏—Ä —Å –∫—Ä—ã–ª—å—á–∞—Ç—ã–º –¥–≤–∏–∂–∏—Ç–µ–ª–µ–º –≤—ã—à–µ–ª –∏–∑ —Å—Ç—Ä–æ—è, –∏ –º–∞–ª–µ–Ω—å–∫–∏–π ¬´–±—ã—á–æ–∫¬ª –≥–¥–µ-—Ç–æ –ø—Ä–æ–ø–∞–ª. –û–∂–∏–¥–∞–Ω–∏–µ –∑–∞—Ç—è–Ω—É–ª–æ—Å—å. –¢–µ–º –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–µ–º, –ø–µ—Ä–∏–æ–¥–∏—á–µ—Å–∫–∏ —Ä–∞–±–æ—Ç–∞—è —Ç—É—Ä–±–∏–Ω–∞–º–∏ –¥–ª—è —É–¥–µ—Ä–∂–∞–Ω–∏—è –Ω–∞ —Å–µ—Ä–µ–¥–∏–Ω–µ –±—É—Ö—Ç—ã, –ø–æ—á—É–≤—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª, —á—Ç–æ –∏ –Ω–∞ –º–µ–ª–∫–æ–≤–æ–¥—å–µ –ª–æ–¥–∫–∞ –¥–æ–≤–æ–ª—å–Ω–æ —Ö–æ—Ä–æ—à–æ —Å–ª—É—à–∞–µ—Ç—Å—è –∏ —Ä—É–ª—è, –∏ —É–ø–æ—Ä–∞ –≤–∏–Ω—Ç–æ–≤. –û–î –≤—Å–µ –¥–∞–µ—Ç: ¬´–ñ–¥–∞—Ç—å, –∂–¥–∞—Ç—å –∏ –∂–¥–∞—Ǘ嬪. –ê —è —Ä–µ—à–∏–ª—Å—è –∏ –ø–æ—à–µ–ª –∫ –ø–∏—Ä—Å—É. –ù–∞ —Å—Ç–µ–Ω–∫–µ –∑–∞–≤–æ–¥–∞ –¥–∞–≤–Ω–æ —É–∂–µ —Å–æ–±—Ä–∞–ª–∏—Å—å —Å–ø–µ—Ü–∏–∞–ª–∏—Å—Ç—ã –∏ —Ä–∞–±–æ—á–∏–µ –≤–æ –≥–ª–∞–≤–µ —Å –æ—Ç–≤–µ—Ç—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–º —Å—Ç—Ä–æ–∏—Ç–µ–ª–µ–º, –≤—ã–¥–µ–ª—è–µ—Ç—Å—è –∏ –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–∞—è —Ñ–∏–≥—É—Ä–∞ –≥–µ–Ω–¥–∏—Ä–µ–∫—Ç–æ—Ä–∞ –î–µ–µ–≤–∞. . 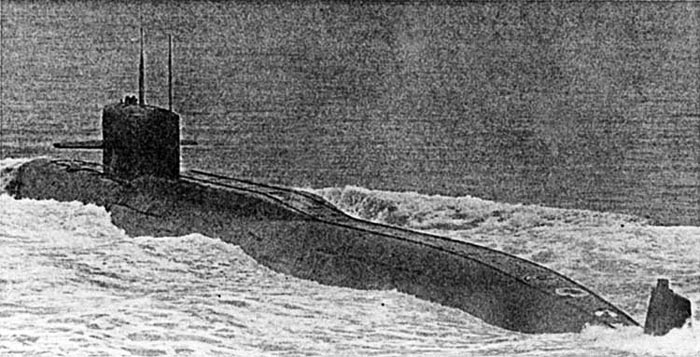 –¢–æ–ª–ø–∞ –Ω–∞ –ø—Ä–∏—á–∞–ª–µ –ø—Ä–∏–º–æ–ª–∫–ª–∞, —á—É–≤—Å—Ç–≤—É—é—Ç—Å—è —Ç—Ä–µ–≤–æ–≥–∞ –∏ –Ω–∞–ø—Ä—è–∂–µ–Ω–∏–µ. –ö–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, –≥–æ—Å—ã, —Ö–æ—Ç—å –∏ –∑–∞—Ç—è–Ω—É–ª–∏—Å—å, –Ω–æ –∑–∞–∫–æ–Ω—á–∏–ª–∏—Å—å —É—Å–ø–µ—à–Ω–æ –∏ –¥–æ—Å—Ä–æ—á–Ω–æ, –∞ –≤–¥—Ä—É–≥ —á—Ç–æ –Ω–∞ —à–≤–∞—Ä—Ç–æ–≤–∫–µ? –Ø –∂–µ —É–∂–µ –≥–ª—É–±–æ–∫–æ –ø–æ–≤–µ—Ä–∏–ª –≤ –Ω–∞–¥–µ–∂–Ω–æ—Å—Ç—å –∏ –ª–æ–¥–∫–∏, –∏ —ç–∫–∏–ø–∞–∂–∞, –∫–æ–º–∞–Ω–¥—ã –≤—ã–ø–æ–ª–Ω—è–ª–∏—Å—å —á–µ—Ç–∫–æ. –í—Ä–∞–∑–¥—Ä–∞–π —Ä–∞–∑–≤–µ—Ä–Ω—É–ª–∏—Å—å –Ω–æ—Ä–º–∞–ª—å–Ω–æ, –ª–µ–≤–æ–π –æ–±–æ—Ä–æ—Ç—ã –Ω–∞–∑–∞–¥ ‚Äî —Ç–æ —á—É—Ç—å –±–æ–ª—å—à–µ, —Ç–æ —á—É—Ç—å –º–µ–Ω—å—à–µ... –¢–∞–∫, —Ç–µ–ø–µ—Ä—å –Ω–æ—Å–æ–º –≤–ø–µ—Ä–µ–¥... –ß–∏—Å—Ç–∞—è –≤–æ–¥–∞ –≤–ø–µ—Ä–µ–¥–∏ –µ—â–µ... –ï—Å—Ç—å... ‚Äî –û—Ç–¥–∞—Ç—å —è–∫–æ—Ä—å! –õ–µ–≤–∞—è —Ç—É—Ä–±–∏–Ω–∞ –Ω–∞–∑–∞–¥ –º–∞–ª—ã–π... –°—Ç–æ–ø –ª–µ–≤–∞—è! –¢–∞-–∞-–∫, —Ç–µ–ø–µ—Ä—å –æ–ø—è—Ç—å –≤—Ä–∞–∑–¥—Ä–∞–π... –ü—Ä–∏–∂–∏–º–∞–µ–º—Å—è... ‚Äî –í –∫–æ—Ä–º–µ, –¥–æ–∫–ª–∞–¥—ã–≤–∞—Ç—å —Ä–∞—Å—Å—Ç–æ—è–Ω–∏–µ –¥–æ —Å—Ç–µ–Ω–∫–∏! –ü—Ä–∞–≤–∞—è –≤–ø–µ—Ä–µ–¥ –º–∞–ª—ã–π! –°—Ç–æ–ø –ø—Ä–∞–≤–∞—è! –°—Ç–∞—Ä–ø–æ–º, –ø–æ–¥–∞–≤–∞–π —à–≤–∞—Ä—Ç–æ–≤—ã. –ü–æ–¥–∞–Ω–∞ —Å—Ö–æ–¥–Ω—è, —Å—Ö–æ–∂—É –Ω–∞ –ø—Ä–∏—á–∞–ª. –£ —Ç—Ä–∞–ø–∞ –Ω–∞—á–∞–ª—å–Ω–∏–∫ —à—Ç–∞–±–∞ –ë–Ý–°–ü–õ (–±—Ä–∏–≥–∞–¥–∞ —Å—Ç—Ä–æ—è—â–∏—Ö—Å—è –∏ —Ä–µ–º–æ–Ω—Ç–∏—Ä—É—é—â–∏—Ö—Å—è –ü–õ) –∫–∞–ø–∏—Ç–∞–Ω 1 —Ä–∞–Ω–≥–∞ –®–µ–±–∞–Ω–∏–Ω, –º–æ–π –æ–¥–Ω–æ–∫–∞—à–Ω–∏–∫ –ø–æ –∞–∫–∞–¥–µ–º–∏–∏. ‚Äî –¢—ã —á—Ç–æ? –ö—É-–∫—É! –ù–µ –º–æ–≥ –¥–æ–∂–¥–∞—Ç—å—Å—è –±—É–∫—Å–∏—Ä–∞? ‚Äî –¢–∞–∫ –µ–≥–æ –∏ –¥–æ —Å–∏—Ö –ø–æ—Ä –Ω–µ—Ç. –ù–∞–¥–æ –±—ã–ª–æ –∑–∞–¥–µ—Ä–∂–∞—Ç—å –ª–æ–¥–∫—É –Ω–∞ –≤–Ω–µ—à–Ω–µ–º —Ä–µ–π–¥–µ. –ê —Ç—É—Ç –∫–∞–∫ –≤–µ—Ä—Ç–µ—Ç—å—Å—è? –°–º–æ—Ç—Ä–∏, —Å–∫–æ–ª—å–∫–æ —è–∫–æ—Ä—å-—Ü–µ–ø–µ–π –∏ —Ç—Ä–æ—Å–æ–≤ —Å–æ –≤—Å–µ—Ö —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω –æ—Ç ¬´–º–µ—Ä—Ç–≤—è–∫–æ–≤¬ª, –∏ –≤—Å–µ –ø–æ–¥ –º–µ–Ω—è. –ü–æ–¥–æ—à–µ–ª –î–µ–µ–≤. ‚Äî –ù—É, —Ç—ã –¥–∞–µ—à—å! –í–∏–Ω—Ç—ã –æ—Ç —Å—Ç–µ–Ω–∫–∏ –º–µ—Ç—Ä–∞—Ö –≤ –¥–≤—É—Ö! –£ –º–µ–Ω—è —Å–µ—Ä–¥—Ü–µ —Ç—Ä–µ–ø–µ—Ç–∞–ª–æ –≤ —Ç–æ–º –∂–µ —Ç–µ–º–ø–µ, —á—Ç–æ –∏ –≤–∏–Ω—Ç—ã. –¢—ã –∑–Ω–∞–µ—à—å, —Å–∫–æ–ª—å–∫–æ —Å—Ç–æ–∏—Ç –æ–¥–∏–Ω –≤–∏–Ω—Ç? –ï–≥–æ –∂–µ —Ç–æ—á–∞—Ç –Ω–∞ —Å–ø–µ—Ü–∏–∞–ª—å–Ω–æ–º –∏–º–ø–æ—Ä—Ç–Ω–æ–º —Å—Ç–∞–Ω–∫–µ! ‚Äî ..? ‚Äî ... –º–∏–ª–ª–∏–æ–Ω–æ–≤! ‚Äî –ë–æ–ª—å—à–µ –Ω–µ –±—É–¥—É. ‚Äî –ö–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, –±–æ–ª—å—à–µ –Ω–µ –±—É–¥–µ—à—å. –¢–µ–ø–µ—Ä—å –ø–æ—Å–ª–µ —Ä–µ–≤–∏–∑–∏–∏ –∏ –æ—Ç–¥–µ–ª–∫–∏ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –Ω–∞ –≤—ã—Ö–æ–¥. –ü–æ—Å–ª–µ —Ä–∞—Å—Ö–æ–ª–∞–∂–∏–≤–∞–Ω–∏—è –Ø–≠–£ –Ω–∞ –ª–æ–¥–∫—É –Ω–∞–≤–∞–ª–∏–ª–∞—Å—å, –Ω–∞–≤–µ—Ä–Ω–æ, —Ü–µ–ª–∞—è —Ä–æ—Ç–∞ –º–∞–ª—è—Ä—à. –û–∫–æ–Ω—á–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–∞—è –ø–æ–∫—Ä–∞—Å–∫–∞, –æ—Ç–¥–µ–ª–∫–∞, –º–∞—Ä–∞—Ñ–µ—Ç. –¢–æ—Ä–æ–ø—è—Ç—Å—è. –¢–æ—Ä–æ–ø—è—Ç—Å—è –∑–∞–∫—Ä–µ–ø–∏—Ç—å –¥–æ—Å—Ä–æ—á–Ω—É—é —Å–¥–∞—á—É –∑–∞–∫–∞–∑–∞. –ö–∞–∫ –∂–µ, –ø—Ä–∞–∑–¥–Ω–∏–∫–∏ –Ω–∞ –Ω–æ—Å—É! –ö–∞–∫-—Ç–æ –ø—Ä–∏–≥–ª–∞—à–∞—é—Ç –∫ –¥–∏—Ä–µ–∫—Ç–æ—Ä—É –¥–æ—Å—Ç—Ä–æ–µ—á–Ω–æ–π –±–∞–∑—ã. –í –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ—Ä–Ω–æ–º –∫–∞–±–∏–Ω–µ—Ç–µ –≥–µ–Ω–¥–∏—Ä–µ–∫—Ç–æ—Ä, —á–ª–µ–Ω—ã –≥–æ—Å–∫–æ–º–∏—Å—Å–∏–∏, –æ—Ç–≤–µ—Ç—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–µ —Å–¥–∞—Ç—á–∏–∫–∏. ‚Äî –ù—É —á—Ç–æ, –∫–æ–º–∞–Ω–¥–∏—Ä, —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Ç–≤–æ—è –ø–æ–¥–ø–∏—Å—å –æ—Å—Ç–∞–ª–∞—Å—å. ‚Äî –ö–∞–∫ —ç—Ç–æ? –£ –º–µ–Ω—è –≤ —Ü–µ–Ω—Ç—Ä–∞–ª—å–Ω–æ–º –ø–æ—Å—Ç—É —Ü–µ–ª—ã–π –∂—É—Ä–Ω–∞–ª –∑–∞–º–µ—á–∞–Ω–∏–π –∏ –Ω–µ–¥–æ–¥–µ–ª–æ–∫.  ‚Äî –î–∞ –≤—Å–µ —Å–¥–µ–ª–∞–µ–º! –ù–µ –≤–æ–ª–Ω—É–π—Å—è, –ø–æ–¥–ø–∏—Å—ã–≤–∞–π! ‚Äî –ù–µ—Ç, —ç–∫–∏–ø–∞–∂ –º–µ–Ω—è –Ω–µ –ø–æ–π–º–µ—Ç. –ö –∫–æ–Ω—Ü—É –¥–Ω—è –æ–ø—è—Ç—å –ø—Ä–∏–≥–ª–∞—à–∞—é—Ç. –û–∫–∞–∑—ã–≤–∞–µ—Ç—Å—è –∑–≤–æ–Ω–∏–ª–∏ –≤ –ú–æ—Å–∫–≤—É, –≥–æ–≤–æ—Ä—è—Ç, –º–æ–ª, –≥–ª–∞–≤–∫–æ–º —Ä–µ–∫–æ–º–µ–Ω–¥–æ–≤–∞–ª –ø–æ–¥–ø–∏—Å–∞—Ç—å. ‚Äî –ß—Ç–æ, –µ—Å—Ç—å –∏ –µ–≥–æ —Ç–µ–ª–µ–≥—Ä–∞–º–º–∞? ‚Äî –¢–µ–ª–µ–≥—Ä–∞–º–º—ã –Ω–µ—Ç, –Ω–æ –ø–µ—Ä–µ–¥–∞–ª–∏, —á—Ç–æ –æ–Ω —Å–æ–≥–ª–∞—Å–µ–Ω. ‚Äî –í—ã–ø–æ–ª–Ω–∏—Ç—å –º–æ–≥—É —Ç–æ–ª—å–∫–æ –ø–∏—Å—å–º–µ–Ω–Ω–æ–µ –ø—Ä–∏–∫–∞–∑–∞–Ω–∏–µ. –í –Ω–æ—á—å –î–µ–µ–≤ —Å–æ–±—Ä–∞–ª –Ω–∞—á–∞–ª—å–Ω–∏–∫–æ–≤ —Ü–µ—Ö–æ–≤, –æ—Ç–≤–µ—Ç—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã—Ö —Å–¥–∞—Ç—á–∏–∫–æ–≤, —Ä—É–∫–æ–≤–æ–¥—Å—Ç–≤–æ –∑–∞–≤–æ–¥–∞. –ö–æ–≥–æ-—Ç–æ —Å–Ω—è–ª, –∫–æ–≥–æ-—Ç–æ –ø—Ä–∏–≥—Ä–æ–∑–∏–ª —Å–Ω—è—Ç—å. –Ý–≤–∞–ª –∏ –º–µ—Ç–∞–ª. –í –Ω–æ—á—å –∂–µ –Ω–∞ –ª–æ–¥–∫—É –∑–∞–¥–≤–∏–Ω—É–ª–∏ —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫ 150 —Ä–∞–±–æ—Ç—è–≥, –±—Ä–∏–≥–∞–¥–∏—Ä–æ–≤ –∏ –º–∞–ª—è—Ä—à. –û—Ç –Ω–∞—Å –ø–æ—Ç—Ä–µ–±–æ–≤–∞–ª–∏ –æ–±–µ—Å–ø–µ—á–∏—Ç—å –ø—Ä–∏—Å—É—Ç—Å—Ç–≤–∏–µ –æ—Ç–≤–µ—Ç—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã—Ö –ø—Ä–∏–µ–º—â–∏–∫–æ–≤ –≤—Å–µ—Ö –∑–∞–º–µ—á–∞–Ω–∏–π –∏ –Ω–µ–¥–æ–¥–µ–ª–æ–∫. –ò —Ç–∞–∫ –¥–Ω—è —Ç—Ä–∏. –í—ã—á–∏—Å—Ç–∏–ª–∏, –≤—ã–∫—Ä–∞—Å–∏–ª–∏, –ø–µ—Ä–µ–¥–µ–ª–∞–ª–∏, —á—Ç–æ –Ω–∞–¥–æ, –≤—Å–µ –¥–æ–≤–µ–ª–∏ –¥–æ —É–º–∞. –≠–∫–∏–ø–∞–∂, –ø–æ–Ω—è—Ç–Ω–æ–µ –¥–µ–ª–æ, —Ç–æ–∂–µ –Ω–µ —Å–æ–∑–µ—Ä—Ü–∞–ª, –ø–æ–¥—á–∏—â–∞–ª, –ø–æ–¥–∫—Ä–∞—à–∏–≤–∞–ª, –º–∞—Ä–∫–∏—Ä–æ–≤–∞–ª ‚Äî –≥–æ—Ç–æ–≤–∏–ª–∏—Å—å –ø—Ä–µ–¥—ä—è–≤–∏—Ç—å—Å—è –ø–æ –∑–∞–¥–∞—á–∞–º ‚Ññ 1 –∏ ‚Ññ 2, –Ω–æ —É–∂–µ –±–µ–∑ –±—É–∫–≤ ¬´–∞¬ª. –ù–∞–¥–æ –∂–µ –¥–æ–±–∏—Ç—å—Å—è –ø—Ä–∞–≤–∞ –Ω–∞ –ø–µ—Ä–µ—Ö–æ–¥ –Ω–∞ –ö–∞–º—á–∞—Ç–∫—É! –ö—Ä–æ–º–µ —Ç–æ–≥–æ, —Ç—Ä—É–¥–æ–µ–º–∫–∞—è —Ä–∞–±–æ—Ç–∞ ‚Äî –ø–æ–≥—Ä—É–∑–∏—Ç—å, —Ä–∞–∑–Ω–µ—Å—Ç–∏ –ø–æ –æ—Ç—Å–µ–∫–∞–º –∏ —Ä–∞–∑–º–µ—Å—Ç–∏—Ç—å –ø–æ —à—Ç–∞—Ç–Ω—ã–º –º–µ—Å—Ç–∞–º –∫–æ—Ä–∞–±–µ–ª—å–Ω–æ–µ –∏–º—É—â–µ—Å—Ç–≤–æ, —è—â–∏–∫–∏ –ó–ò–ü–∞, —É—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∫–∏ –Ý–î–£, –∫–æ–º–ø–ª–µ–∫—Ç—ã –í-64 –∫ –Ω–∏–º, —Å—Ä–µ–¥—Å—Ç–≤–∞ –≤—ã—Ö–æ–¥–∞ –∏–∑ –∞–≤–∞—Ä–∏–π–Ω–æ–π –ü–õ (–∞–ø–ø–∞—Ä–∞—Ç—ã –ò–î–ê, –≥–∏–¥—Ä–æ–∫–æ–º–±–∏–Ω–µ–∑–æ–Ω—ã –∏ —à–µ—Ä—Å—Ç—è–Ω–æ–µ –≤–æ–¥–æ–ª–∞–∑–Ω–æ–µ –±–µ–ª—å–µ). –ê –µ—â–µ: —Å–æ–±—Ä–∞—Ç—å, —É–ø–∞–∫–æ–≤–∞—Ç—å –∏ ¬´—Ä–∞—Å—Ç–æ–ª–∫–∞—Ǘ嬪 —Ü–µ–ª–µ—Å–æ–æ–±—Ä–∞–∑–Ω—ã–º –æ–±—Ä–∞–∑–æ–º –∑–∞–≤–æ–¥—Å–∫–æ–µ –ø—Ä–∏–¥–∞–Ω–æ–µ: –∫—Ä–∞—Å–∫–∏, –ª–∞–∫–∏, –∫–∏—Å—Ç–∏, —Å–∫—Ä–µ–±–∫–∏, –∫–∞—Ä—â–µ—Ç–∫–∏... –ê –µ—â–µ –ø–æ—Å—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–µ –ø—Ä–∏–Ω–∞–¥–ª–µ–∂–Ω–æ—Å—Ç–∏ –∏ –ø–æ–ª–æ—Ç–µ–Ω—Ü–∞ —Å–¥–∞—Ç–æ—á–Ω–æ–π –∫–æ–º–∞–Ω–¥—ã (—ç—Ç–æ –ø–æ–¥–ª–µ–∂–∞–ª–æ —Å–ø–∏—Å–∞–Ω–∏—é –∏ —É—Ç–∏–ª–∏–∑–∞—Ü–∏–∏ –∫–∞–∫ –±/—É, –Ω–æ —É –Ω–∞—Å –∂–µ –æ–Ω–æ –Ω–µ –∏—Å–ø–æ–ª—å–∑–æ–≤–∞–ª–æ—Å—å, —Ç–∞–∫ –∫–∞–∫ –∑–∞–≤–æ–¥—Å–∫–∏—Ö —Å–¥–∞—Ç—á–∏–∫–æ–≤ –Ω–∞ –±–æ—Ä—Ç—É –±—ã–ª–æ –º–∞–ª–æ) –∏ —Ç. –ø., —Ç. –µ. –≤—Å–µ —Ç–æ, —á—Ç–æ –º–æ–≥–ª–æ –ø—Ä–∏–≥–æ–¥–∏—Ç—å—Å—è –≤ –±—É–¥—É—â–µ–º –¥–ª—è —Ñ–ª–æ—Ç—Å–∫–æ–π –∂–∏–∑–Ω–∏ –∏ —Å–ª—É–∂–±—ã. –ù–∞–¥–æ –æ—Ç–¥–∞—Ç—å –¥–æ–ª–∂–Ω–æ–µ —Ö–æ–∑—è–π—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç–∏ –∏ –ø—Ä–µ–¥—É—Å–º–æ—Ç—Ä–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ—Å—Ç–∏ –ø–æ–º–æ—â–Ω–∏–∫–∞ –∫–∞–ø–∏—Ç–∞–Ω-–ª–µ–π—Ç–µ–Ω–∞–Ω—Ç–∞ –ë–µ–ª–æ–∑–µ—Ä–æ–≤–∞ –∏ –±–∞—Ç–∞–ª–µ—Ä–∞ –î—É–¥—á–µ–Ω–∫–æ. –ù–µ—Å–º–æ—Ç—Ä—è –Ω–∞ –≤–æ—Ä—á–∞–Ω–∏–µ –∏ –≤–æ–∑—Ä–∞–∂–µ–Ω–∏—è –Ω–µ–∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö (–∏ —è –±—ã–ª —Å—Ä–µ–¥–∏ –Ω–∏—Ö, –º–æ–ª ¬´–∑–∞—Ö–ª–∞–º–ª—è–µ—Ç–µ¬ª), –≤—Å–µ —ç—Ç–æ (–∏ –∫–∞–∫!) –ø—Ä–∏–≥–æ–¥–∏–ª–æ—Å—å –Ω–∞–º –ø–æ—Ç–æ–º. –Ý–∞–∑–º–µ—Å—Ç–∏—Ç—å –Ω–∞ —Ç–∞–∫–æ–º –æ–≥—Ä–æ–º–Ω–æ–º –∫–æ—Ä–∞–±–ª–µ –±—ã–ª–æ –≥–¥–µ, –∑–∞–ø–æ–ª–Ω–∏–ª–∏ –∏ –ø—É—Å—Ç—ã–µ —Ç–æ—Ä–ø–µ–¥–Ω—ã–µ –∞–ø–ø–∞—Ä–∞—Ç—ã, –∫–æ–µ-—á—Ç–æ –ø–æ—à–ª–æ –∏ –≤ –ø—É—Å—Ç—ã–µ —Ä–∞–∫–µ—Ç–Ω—ã–µ —à–∞—Ö—Ç—ã, –æ—Ä—É–∂–∏–µ –∂–µ –ø—Ä–∏–Ω–∏–º–∞—Ç—å –±—É–¥–µ–º –Ω–∞ –ö–∞–º—á–∞—Ç–∫–µ.  –ü—Ä–∏—à–ª–æ –≤—Ä–µ–º—è –∏, –ø–æ–¥–Ω—è–≤ –í–æ–µ–Ω–Ω–æ-–ú–æ—Ä—Å–∫–æ–π —Ñ–ª–∞–≥ –°–°–°–Ý –∏ –æ—Ç–º–µ—Ç–∏–≤ —ç—Ç–æ —Å–æ–±—ã—Ç–∏–µ —Å–æ–æ—Ç–≤–µ—Ç—Å—Ç–≤—É—é—â–∏–º –æ–±—Ä–∞–∑–æ–º, –º—ã –ø–µ—Ä–µ—à–ª–∏ –∫ –ø–∏—Ä—Å—É –¥–∏–≤–∏–∑–∏–∏ –ê–ü–õ –≤ –ö–£–Ý–° –ù–ê –ö–ê–ú–ß–ê–¢–ö–£–ó–¥–µ—Å—å –º—ã —É–∂–µ –±—ã–ª–∏, —Å—Ç–∞–∂–∏—Ä–æ–≤–∞–ª–∏—Å—å –ø–µ—Ä–µ–¥ –æ—Ç–ø—Ä–∞–≤–∫–æ–π –≤ –ö–æ–º—Å–æ–º–æ–ª—å—Å–∫. –Ý–∞–∑–º–µ—Å—Ç–∏–ª–∏—Å—å –≤ —Ç–æ–º –∂–µ –∫—É–±—Ä–∏–∫–µ. –¢–µ–ø–µ—Ä—å –≤—Å–µ —Å–∏–ª—ã –Ω–∞ —Å–∫–æ—Ä–µ–π—à–µ–µ –ø—Ä–µ–¥—ä—è–≤–ª–µ–Ω–∏–µ –ø–æ –∑–∞–¥–∞—á–∞–º ‚Ññ 1 –∏ ‚Ññ 2 ‚Äî –∏ –≤–ø–µ—Ä–µ–¥, —Ç–æ—á–Ω–µ–µ –Ω–∞ —Å–µ–≤–µ—Ä, –Ω–∞ –ö–∞–º—á–∞—Ç–∫—É! –ü–µ—Ä–≤—É—é –∑–∞–¥–∞—á—É –ø–æ–¥–≥–æ—Ç–æ–≤–∏–ª–∏ –∏ —Å–¥–∞–ª–∏ –±–µ–∑ –ø—Ä–æ–±–ª–µ–º. –ü—Ä–æ–±–ª–µ–º—ã –≤–æ–∑–Ω–∏–∫–ª–∏ —Å —É—Ç–≤–µ—Ä–∂–¥–µ–Ω–∏–µ–º –ø–ª–∞–Ω–∞ –ø–µ—Ä–µ—Ö–æ–¥–∞ –Ω–∞ –ö–∞–º—á–∞—Ç–∫—É. –ù–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ —Ä–∞–∑ –ø—Ä–∏—à–ª–æ—Å—å –ª–∏—á–Ω–æ –µ–∑–¥–∏—Ç—å –≤ —à—Ç–∞–± —Ñ–ª–æ—Ç–∞. –ù–µ–∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ ¬´–±–µ–ø–µ—à–Ω–∏–∫–∏¬ª (–æ—Ñ–∏—Ü–µ—Ä—ã —É–ø—Ä–∞–≤–ª–µ–Ω–∏—è –±–æ–µ–≤–æ–π –ø–æ–¥–≥–æ—Ç–æ–≤–∫–∏ —Ñ–ª–æ—Ç–∞) –≤—ã—Å–∫–∞–∑—ã–≤–∞–ª–∏ —Å–æ–º–Ω–µ–Ω–∏—è –≤ –≥–æ—Ç–æ–≤–Ω–æ—Å—Ç–∏ —ç–∫–∏–ø–∞–∂–∞ –∫ —Å–∞–º–æ—Å—Ç–æ—è—Ç–µ–ª—å–Ω–æ–º—É –ø–µ—Ä–µ—Ö–æ–¥—É, –Ω–∞—á–∞–ª–∏ –ø–æ–≥–æ–≤–∞—Ä–∏–≤–∞—Ç—å –æ –Ω–µ–æ–±—Ö–æ–¥–∏–º–æ—Å—Ç–∏ –≤—ã–∑–≤–∞—Ç—å —Å –ö–∞–º—á–∞—Ç–∫–∏ –ø–µ—Ä–≤–æ–ª–∏–Ω–µ–π–Ω—ã–π —ç–∫–∏–ø–∞–∂ –¥–ª—è –ø–µ—Ä–µ–≤–æ–¥–∞ –Ω–∞—à–µ–≥–æ ¬´–∂–µ–ª–µ–∑–∞¬ª –∫ –º–µ—Å—Ç—É –ø–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–Ω–æ–≥–æ –±–∞–∑–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–∏—è, –∞ –Ω–∞—Å, ¬´–Ω–µ—Å–º—ã—à–ª–µ–Ω—ã—à–µ–π¬ª, –¥–æ—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç—å ¬´–º–∞–ª–æ–π —Å–∫–æ—Ä–æ—Å—Ç—å—鬪 —Ä–µ–π—Å–æ–≤—ã–º —Ç–µ–ø–ª–æ—Ö–æ–¥–æ–º. –¢–∞–∫–æ–≥–æ —É–Ω–∏–∂–µ–Ω–∏—è —è, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, –¥–æ–ø—É—Å—Ç–∏—Ç—å –Ω–µ –º–æ–≥. –ü–∞—Ä—É —Ä–∞–∑ –∑–≤–æ–Ω–∏–ª –Ω–∞ –ö–∞–º—á–∞—Ç–∫—É –∫–æ–º–¥–∏–≤—É –ì—Ä–æ–º–æ–≤—É, —É–±–µ–∂–¥–∞–ª –∏ –ø—Ä–æ—Å–∏–ª –≤—ã—Ä—É—á–∏—Ç—å. –ù–∞–∫–æ–Ω–µ—Ü, –ë–æ—Ä–∏—Å –ò–≤–∞–Ω–æ–≤–∏—á –ø—Ä–∏–ª–µ—Ç–µ–ª. –û–¥–Ω–æ–≥–æ –∫–æ—Ä–æ—Ç–µ–Ω—å–∫–æ–≥–æ –≤—ã—Ö–æ–¥–∞ –≤ –º–æ—Ä–µ –æ–∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å –¥–æ—Å—Ç–∞—Ç–æ—á–Ω–æ, —á—Ç–æ–±—ã —É–±–µ–¥–∏—Ç—å –µ–≥–æ –≤ –Ω–∞—à–µ–π –≥–æ—Ç–æ–≤–Ω–æ—Å—Ç–∏ –∫ —Å–∞–º–æ—Å—Ç–æ—è—Ç–µ–ª—å–Ω–æ–º—É –¥–ª–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ–º—É –ø–ª–∞–≤–∞–Ω–∏—é. –û–¥–Ω–∞–∫–æ –ø—Ä–µ–æ–¥–æ–ª–µ—Ç—å –≤—Å–µ –∏–Ω—Å—Ç–∞–Ω—Ü–∏–∏ –≤ —à—Ç–∞–±–µ —Ñ–ª–æ—Ç–∞ –∏ –µ–º—É —É–¥–∞–ª–æ—Å—å —Å —Ç—Ä—É–¥–æ–º. ¬´–¢–æ–ª—å–∫–æ –ø–æ–¥ –ª–∏—á–Ω—É—é –æ—Ç–≤–µ—Ç—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç—å!¬ª. –ê –∫–∞–∫ –∂–µ –∏–Ω–∞—á–µ? ¬´–í –õ–∞–ø–µ—Ä—É–∑–∞ –∏ –≤ –û—Ö–æ—Ç—Å–∫–æ–º –º–æ—Ä–µ —É–∂–µ –ª–µ–¥! –ü—Ä–∏–¥–µ—Ç—Å—è –Ω—ã—Ä—è—Ç—å –ø–æ–¥ –ª–µ–¥!¬ª –ù—É –∏ —á—Ç–æ? –ú—ã –∏ —Ç–∞–∫ —Å–æ–±–∏—Ä–∞–µ–º—Å—è –∏–¥—Ç–∏ –ø–æ–¥ –≤–æ–¥–æ–π. ¬´–î–∞, –Ω–æ –æ–Ω–∏ –∂–µ –µ—â–µ –Ω–µ –æ—Ç—Ä–∞–±–æ—Ç–∞–Ω—ã?¬ª –ö–∞–∫ —ç—Ç–æ, –∫–∞–∫ —ç—Ç–æ? –ü–æ—á—Ç–∏ –¥–≤–∞ –º–µ—Å—è—Ü–∞ –Ω–∞ –∑–∞–≤–æ–¥—Å–∫–∏—Ö –∏ –≥–æ—Å–∞—Ö —Å–∞–º–æ—Å—Ç–æ—è—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –æ—Ç–ø–ª–∞–≤–∞–ª–∏ –∏ –Ω–µ –≥–æ—Ç–æ–≤—ã?!.. ¬´–¢–æ–ª—å–∫–æ –ø–æ–¥ –ª–∏—á–Ω—É—é –æ—Ç–≤–µ—Ç—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç—å!¬ª  –ù–∞–∫–æ–Ω–µ—Ü, –ø–ª–∞–Ω –ø–µ—Ä–µ—Ö–æ–¥–∞ —É—Ç–≤–µ—Ä–∂–¥–µ–Ω. –ü–µ—Ä–µ–¥ –≤—ã—Ö–æ–¥–æ–º –≤ —Ä–∞–∫–µ—Ç–Ω—ã–µ —à–∞—Ö—Ç—ã –∑–∞–≥—Ä—É–∑–∏–ª–∏ —Ä–∞–∫–µ—Ç—ã –≤ —Ç—Ä–∞–Ω—Å–ø–æ—Ä—Ç–Ω–æ–º –≤–∞—Ä–∏–∞–Ω—Ç–µ, —Ç. –µ. –±–µ–∑ –±–æ–µ–≥–æ–ª–æ–≤–æ–∫. –•–æ—Ç—å –±–µ–∑ –±–æ–µ–≥–æ–ª–æ–≤–æ–∫, –Ω–æ —Ç–æ–∂–µ –ø–æ–¥ –ª–∏—á–Ω—É—é –æ—Ç–≤–µ—Ç—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç—å. –ê –∫–∞–∫ –∂–µ! –¢–∞–∫ –∏ –ø–æ—à–ª–∏. –ü—Ä–æ–Ω–∏–∑–∞–Ω–Ω—ã–µ –ª–∏—á–Ω–æ–π –æ—Ç–≤–µ—Ç—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç—å—é, —Å –∫–æ–º–¥–∏–≤–æ–º –ì—Ä–æ–º–æ–≤—ã–º –Ω–∞ –±–æ—Ä—Ç—É –±—ã—Å—Ç—Ä–µ–Ω—å–∫–æ, –±–µ–∑ –∑–∞–º–µ—á–∞–Ω–∏–π –∏ –ø—Ä–æ–∏—Å—à–µ—Å—Ç–≤–∏–π –¥–æ–±–µ–∂–∞–ª–∏ –¥–æ –ö–∞–º—á–∞—Ç–∫–∏. –í –ø–æ–¥—Ö–æ–¥–Ω–æ–π —Ç–æ—á–∫–µ –≤—Å–ø–ª—ã–ª–∏, –≤—ã—à–ª–∏ –Ω–∞ –º–æ—Å—Ç–∏–∫... –ö—Ç–æ –±—ã –Ω–∏ –ø–æ–¥–Ω—è–ª—Å—è –Ω–∞ –º–æ—Å—Ç–∏–∫, –Ω–µ –º–æ–≥ –Ω–µ –∑–∞–º–µ—Ä–µ—Ç—å –æ—Ç –≤–µ–ª–∏—á–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–π –∫–∞—Ä—Ç–∏–Ω—ã: –∑–∞—Å–Ω–µ–∂–µ–Ω–Ω—ã–µ —Å–æ–ø–∫–∏ –Ω–∞ —Ñ–æ–Ω–µ –≥–æ–ª—É–±–æ–≥–æ –Ω–µ–±–∞, –æ–ø—Ä–æ–∫–∏–Ω—É—Ç—ã–µ –≤ –∑–µ—Ä–∫–∞–ª—å–Ω—ã–µ –≤–æ–¥—ã, —á—É—Ç—å –∫–æ–ª—ã—à–∏–º—ã–µ –º–µ—Ä—Ç–≤–æ–π –æ–∫–µ–∞–Ω—Å–∫–æ–π –∑—ã–±—å—é, –≤–¥–∞–ª–∏ —Å–∫–∞–ª–∏—Å—Ç—ã–µ –≥–∏–≥–∞–Ω—Ç—ã, –∑–∞ –≤–µ—Ä—à–∏–Ω—ã –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö –∑–∞—Ü–µ–ø–∏–ª–æ—Å—å —Ç–æ –ª–∏ –æ–±–ª–∞–∫–æ, —Ç–æ –ª–∏ –∏—Å–ø–∞—Ä–µ–Ω–∏—è –∂–µ—Ä–ª–∞ –≤—É–ª–∫–∞–Ω–∞... –ù–µ—Ç —Å–ª–æ–≤! 12 –¥–µ–∫–∞–±—Ä—è 1972 –≥–æ–¥–∞ –Ý–ü–ö–°–ù ¬´–ö-258¬ª –æ—à–≤–∞—Ä—Ç–æ–≤–∞–ª–∞—Å—å —É –ø–∏—Ä—Å–∞ –≤ –±—É—Ö—Ç–µ –ö—Ä–∞—à–µ–Ω–∏–Ω–Ω–∏–∫–æ–≤–∞. –í—Å–∫–æ—Ä–µ –ø—Ä–∏–ª–µ—Ç–µ–ª–∏ –∏ —Å–µ–º—å–∏. ¬´–ë–æ–ª—å—à–æ–π –∫—Ä—É–≥¬ª –∑–∞–≤–µ—Ä—à–µ–Ω. –Ý–æ–¥–Ω–æ–µ —Å–æ–µ–¥–∏–Ω–µ–Ω–∏–µ –≤—Å—Ç—Ä–µ—Ç–∏–ª–æ —Ö–æ—Ä–æ—à–æ. –°—Ä–∞–∑—É –ø–æ–ª—É—á–∏–ª–∏ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –∫–≤–∞—Ä—Ç–∏—Ä. –ü–æ–∫–∞ –Ω–µ –ø—Ä–∏—à–ª–∏ –∫–æ–Ω—Ç–µ–π–Ω–µ—Ä—ã —Å –≤–µ—â–∞–º–∏, —Å–µ–º—å–∏ —Ä–∞–∑–º–µ—Å—Ç–∏–ª–∏—Å—å –Ω–∞ –∫–∞–∑–µ–Ω–Ω–æ–º –∏–º—É—â–µ—Å—Ç–≤–µ. –í–ª–∞–¥–∏–º–∏—Ä –ò–≤–∞–Ω–æ–≤–∏—á –ë–µ–ª–æ–∑–µ—Ä–æ–≤ –∏ –î—É–¥—á–µ–Ω–∫–æ –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω–æ ¬´–æ—Ç–æ–≤–∞—Ä–∏–ª–∏¬ª –º–∞—Ç—Ä–∞—Ü–∞–º–∏, –æ–¥–µ—è–ª–∞–º–∏ –∏ —Ä–∞–∑–æ–≤—ã–º –ø–æ—Å—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–º –±–µ–ª—å–µ–º, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –Ω–∞–º –ø—Ä–µ–∑–µ–Ω—Ç–æ–≤–∞–ª –∑–∞–≤–æ–¥. –í –∫–∞–∂–¥–æ–π –∫–≤–∞—Ä—Ç–∏—Ä–µ —Ä–∞–∑–º–µ—Å—Ç–∏–ª–∏ –ø–æ 2-3 —Å–µ–º—å–∏. –£ –º–µ–Ω—è –≤ 3-–∫–æ–º–Ω–∞—Ç–Ω–æ–π –∫–≤–∞—Ä—Ç–∏—Ä–µ —Ä–∞–∑–º–µ—Å—Ç–∏–ª–∏—Å—å, –∫—Ä–æ–º–µ –º–æ–∏—Ö, —Å–µ–º–µ–π—Å—Ç–≤–∞ –ö–∞–π—Å–∏–Ω—ã—Ö –∏ –ë–µ–ª–æ–∑–µ—Ä–æ–≤—ã—Ö, –≤ ¬´–¢–µ—Ä–µ–º–∫–µ¬ª –ø–æ–º–µ—Å—Ç–∏–ª–∏—Å—å 11 —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫, –∏–∑ –Ω–∏—Ö –ø—è—Ç–µ—Ä–æ –¥–µ—Ç–µ–π. –ö–æ—Ä–æ—á–µ, –±—ã—Ç –≤—Å–∫–æ—Ä–µ –Ω–∞–ª–∞–¥–∏–ª—Å—è. –ê —É—Å—Ç—Ä–æ–µ–Ω–Ω—ã–π –±—ã—Ç ‚Äî –ø—Ä–æ—á–Ω—ã–π —Ç—ã–ª –¥–ª—è —É—Å–ø–µ—à–Ω–æ–π –±–æ–µ–≤–æ–π –ø–æ–¥–≥–æ—Ç–æ–≤–∫–∏. –ë–∞–Ω–∞–ª—å–Ω–æ? –ö–∞–∑–∞—Ä–º–µ–Ω–Ω—ã–π —Å–ª–µ–Ω–≥? –ù–æ —Ñ–∞–∫—Ç!  –ï–©–ï –Ý–ê–ó –û ¬´–ö–£–Ý–°–ö–שׁ –ï–©–ï –Ý–ê–ó –û ¬´–ö–£–Ý–°–ö–שׁ–ù–∞ –¥–Ω—è—Ö –≤ —Ç–µ–ª–µ–ø—Ä–æ–≥—Ä–∞–º–º–µ –ü–æ–∑–Ω–µ—Ä–∞ ¬´–í—Ä–µ–º–µ–Ω–∞¬ª –æ–ø—è—Ç—å –≤–µ—Ä–Ω—É–ª–∏ –æ–±—â–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç—å –∫ –ø—Ä–æ–±–ª–µ–º–µ ¬´–ö—É—Ä—Å–∫–∞¬ª. –ù–∏—á–µ–≥–æ –Ω–æ–≤–æ–≥–æ. –ü—Ä–µ–¥—Å–µ–¥–∞—Ç–µ–ª—å –≥–æ—Å–∫–æ–º–∏—Å—Å–∏–∏ –ö–ª–µ–±–∞–Ω–æ–≤, –∫–æ–º—Ñ–ª–æ—Ç–∞ –í—è—á–µ—Å–ª–∞–≤ –ü–æ–ø–æ–≤, –Ω–∞—á–∞–ª—å–Ω–∏–∫ –ê–°–° –í–ú–§ (—Ñ–∞–º–∏–ª–∏—é –Ω–µ –∑–∞–ø–æ–º–Ω–∏–ª) –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∞–ª–∏ –æ—Ç—Å—Ç–∞–∏–≤–∞—Ç—å –≤—Å–µ —Ç–µ –∂–µ —Ç—Ä–∏ –≤–µ—Ä—Å–∏–∏, –Ω–æ —Å –ø—Ä–µ–∏–º—É—â–µ—Å—Ç–≤–æ–º –≤–µ—Ä—Å–∏–∏ —Å—Ç–æ–ª–∫–Ω–æ–≤–µ–Ω–∏—è —Å –∏–Ω–æ—Å—Ç—Ä–∞–Ω–Ω–æ–π –ü–õ–ê, —É—Ç–≤–µ—Ä–∂–¥–∞–ª–∏, —á—Ç–æ –≤—Å–µ –¥–µ–ª–∞–ª–∏ –ø—Ä–∞–≤–∏–ª—å–Ω–æ –∏ –Ω–∏–∫—Ç–æ –±—ã –ª—É—á—à–µ –∏ –±—ã—Å—Ç—Ä–µ–µ —Å–¥–µ–ª–∞—Ç—å –Ω–µ –º–æ–≥, –∏–Ω—Ñ–æ—Ä–º–∞—Ü–∏—é-–¥–µ –≤—ã–¥–∞–≤–∞–ª–∏ –ø–æ–ª–Ω—É—é –∏ –ø—Ä—è–º–æ ¬´—Å –∫–æ–ª–µ—Ŭª, –º–æ–ª, —ç—Ç–æ –°–ú–ò, —Å—Å—ã–ª–∞—è—Å—å –Ω–∞ –∫–æ–º–º–µ–Ω—Ç–∞—Ä–∏–∏ –Ω–µ–∫–æ–º–ø–µ—Ç–µ–Ω—Ç–Ω—ã—Ö —ç–∫—Å–ø–µ—Ä—Ç–æ–≤ (–∞ –ª—É—á—à–∏–π —ç–∫—Å–ø–µ—Ä—Ç ‚Äî —Å–∞–º –ü–æ–ø–æ–≤), –∑–∞–º–æ—Ä–æ—á–∏–ª–∏ –≥–æ–ª–æ–≤—É –ª—é–¥—è–º, —Ç—Ä–∞–≤–º–∏—Ä–æ–≤–∞–ª–∏ —Ä–æ–¥—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–∏–∫–æ–≤ –∏ —Ç.–¥. –ö —Å–æ–∂–∞–ª–µ–Ω–∏—é, –≤–æ–ø—Ä–æ—Å—ã, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –≤ —Å–∏–ª—É –¥–µ–π—Å—Ç–≤–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ–π –Ω–µ–∫–æ–º–ø–µ—Ç–µ–Ω—Ç–Ω–æ—Å—Ç–∏ –∑–∞–¥–∞–≤–∞–ª–∏ –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç–µ–ª–∏ –æ–±—â–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç–∏, —Å–∞–º –ü–æ–∑–Ω–µ—Ä –∏ –≤–µ–¥—É—â–∞—è –ø—Ä–æ–≥—Ä–∞–º–º—ã ¬´–í—Ä–µ–º—謪, –±—ã–ª–∏ –Ω–µ–¥–æ—Å—Ç–∞—Ç–æ—á–Ω–æ —Ç–æ—á–Ω—ã –∏ –æ—Å—Ç—Ä—ã –∏ –ø–æ–∑–≤–æ–ª–∏–ª–∏ –æ—Ç–≤–µ—Ç—á–∏–∫–∞–º –ª–æ–≤–∫–æ —É—Ö–æ–¥–∏—Ç—å –æ—Ç –ø—Ä—è–º–æ–≥–æ –æ—Ç–≤–µ—Ç–∞ –∏–ª–∏ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ –ø–æ–≤—Ç–æ—Ä—è—Ç—å—Å—è. –ö–æ–≥–¥–∞ –∂–µ –æ–¥–∏–Ω –∏–∑ –±—ã–≤—à–∏—Ö —Å–ø–µ—Ü–∏–∞–ª–∏—Å—Ç–æ–≤ –¶–ö–ë ¬´–Ý—É–±–∏–Ω¬ª –¥–µ–π—Å—Ç–≤–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ —Ç–æ–ª–∫–æ–≤–æ –Ω–∞—á–∞–ª —Ñ–æ—Ä–º—É–ª–∏—Ä–æ–≤–∞—Ç—å –≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω—É—é —Å–∏—Ç—É–∞—Ü–∏—é –ø–µ—Ä–µ–¥ –∫–∞—Ç–∞—Å—Ç—Ä–æ—Ñ–æ–π, –Ω–∞–≤–µ—Ä–Ω–æ, –≥–æ—Ç–æ–≤—è –∫–∞–∫–æ–π-—Ç–æ –Ω–µ–æ—Å—Ç–æ—Ä–æ–∂–Ω—ã–π –≤–æ–ø—Ä–æ—Å, —Å–≤—è–∑–∞–Ω–Ω—ã–π —Å –æ—Ä–≥–∞–Ω–∏–∑–∞—Ü–∏–µ–π –º–µ—Ä –±–µ–∑–æ–ø–∞—Å–Ω–æ—Å—Ç–∏ –Ω–∞ —É—á–µ–Ω–∏—è—Ö, –µ–≥–æ –≥—Ä—É–±–æ –æ–±–æ—Ä–≤–∞–ª–∏ (–∫–æ–º—Ñ–ª–æ—Ç–∞ –ü–æ–ø–æ–≤) –∏ —Ç—É—Ç –∂–µ –æ–±–≤–∏–Ω–∏–ª–∏ –≤ –Ω–µ–∫–æ–º–ø–µ—Ç–µ–Ω—Ç–Ω–æ—Å—Ç–∏. –°—Ä–µ–¥–∏ –ø—Ä–∏—Å—É—Ç—Å—Ç–≤—É—é—â–∏—Ö —è –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª –±—ã–≤—à–µ–≥–æ –≥–ª–∞–≤–Ω–æ–≥–æ –∏–Ω–∂–µ–Ω–µ—Ä–∞ –ê–°–° –í–ú–§ –∫–æ–Ω—Ç—Ä-–∞–¥–º–∏—Ä–∞–ª–∞ –∑–∞–ø–∞—Å–∞ –°–µ–Ω–∞—Ç—Å–∫–æ–≥–æ. –û–Ω –æ—Ç–º–æ–ª—á–∞–ª—Å—è. –ê —è, –¥—É–º–∞—é, –æ–Ω –º–æ–≥ –±—ã –∑–∞–¥–∞—Ç—å –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –æ—á–µ–Ω—å —Ç—Ä—É–¥–Ω—ã—Ö –≤–æ–ø—Ä–æ—Å–æ–≤. –ö—Å—Ç–∞—Ç–∏, –æ–Ω —Ç–æ–∂–µ —Ä–∞–Ω–µ–µ –≤—ã—Å—Ç—É–ø–∞–ª —Å —Ç–µ–ª–µ—ç–∫—Ä–∞–Ω–∞, –∫–∞–∫ —ç–∫—Å–ø–µ—Ä—Ç-–∫–æ–º–º–µ–Ω—Ç–∞—Ç–æ—Ä. –Ø –µ–≥–æ –∑–Ω–∞—é, —Ä–∞–±–æ—Ç–∞–ª–∏ —Å –Ω–∏–º –≤–º–µ—Å—Ç–µ –Ω–∞ –ø–æ–¥—ä–µ–º–µ ¬´–ö-429¬ª. 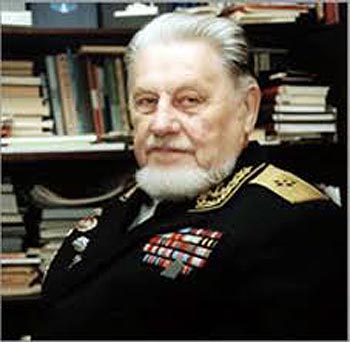 –ü—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–µ–Ω–∏–µ —Å–ª–µ–¥—É–µ—Ç.  –í–µ—Ä—é–∂—Å–∫–∏–π –ù–∏–∫–æ–ª–∞–π –ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä–æ–≤–∏—á (–í–ù–ê), –ì–æ—Ä–ª–æ–≤ –û–ª–µ–≥ –ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä–æ–≤–∏—á (–û–ê–ì), –ú–∞–∫—Å–∏–º–æ–≤ –í–∞–ª–µ–Ω—Ç–∏–Ω –í–ª–∞–¥–∏–º–∏—Ä–æ–≤–∏—á (–ú–í–í), –ö–°–í. 198188. –°–∞–Ω–∫—Ç-–ü–µ—Ç–µ—Ä–±—É—Ä–≥, —É–ª. –ú–∞—Ä—à–∞–ª–∞ –ì–æ–≤–æ—Ä–æ–≤–∞, –¥–æ–º 11/3, –∫–≤. 70. –ö–∞—Ä–∞—Å–µ–≤ –°–µ—Ä–≥–µ–π –í–ª–∞–¥–∏–º–∏—Ä–æ–≤–∏—á, –∞—Ä—Ö–∏–≤–∞—Ä–∏—É—Å. karasevserg@yandex.ru
10.05.201309:5410.05.2013 09:54:43
0
09.05.201300:3609.05.2013 00:36:14
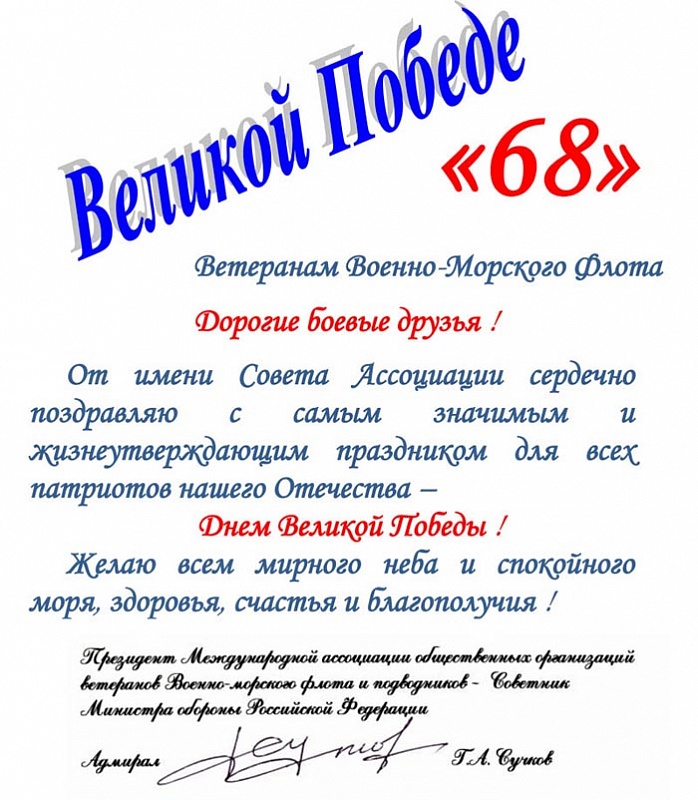 –° –≤–µ–ª–∏–∫–∏–º –ø—Ä–∞–∑–¥–Ω–∏–∫–æ–º –ü–æ–±–µ–¥—ã! –° –≤–µ–ª–∏–∫–∏–º –ø—Ä–∞–∑–¥–Ω–∏–∫–æ–º –ü–æ–±–µ–¥—ã!–£ –Ω–∞—à–µ–≥–æ –ø—Ä–∞–∑–¥–Ω–∏–∫–∞ —Å—á–∞—Å—Ç–ª–∏–≤–∞—è —Å—É–¥—å–±–∞ ‚Äî –∏–∑ –æ–±—ã—á–Ω–æ–≥–æ —Ä–∞–±–æ—á–µ–≥–æ –¥–Ω—è, –∫–æ–≥–¥–∞ —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Ñ—Ä–æ–Ω—Ç–æ–≤–∏–∫–∏ —Å–∫—Ä–æ–º–Ω–æ —Å–µ–±—è –ø–æ–∑–¥—Ä–∞–≤–ª—è–ª–∏ —Å –ø–æ–±–µ–¥–æ–π, –æ–Ω –ø—Ä–µ–≤—Ä–∞—Ç–∏–ª—Å—è –≤ –≤–µ–ª–∏—á–∞–π—à–∏–π –ø—Ä–∞–∑–¥–Ω–∏–∫, –µ–¥–∏–Ω—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ —Å–ø–æ—Å–æ–±–Ω—ã–π –æ–±—ä–µ–¥–∏–Ω–∏—Ç—å –≤—Å–µ—Ö –∏ –≤—Å—è –≤ –Ω–∞—à–µ–º –≥–æ—Å—É–¥–∞—Ä—Å—Ç–≤–µ. –ü–æ–º–Ω—é, –∫–∞–∫ –≤ 1965 –≥–æ–¥—É –º—ã –æ–∫–∞–∑–∞–ª–∏—Å—å –≤ –ú–æ—Å–∫–≤–µ –∏ –≥–æ—Ç–æ–≤–∏–ª–∏—Å—å –∫ –ø–∞—Ä–∞–¥—É, –∫–æ–≥–¥–∞ —ç—Ç–æ—Ç –¥–µ–Ω—å –≤–ø–µ—Ä–≤—ã–µ —Å–¥–µ–ª–∞–ª–∏ –Ω–µ—Ä–∞–±–æ—á–∏–º –ø—Ä–∞–∑–¥–Ω–∏—á–Ω—ã–º –¥–Ω–µ–º. –ú–æ—Å–∫–≤–∏—á–∏ –±—ã–ª–∏ –ø–æ–ª–Ω—ã —Ç–∞–∫–æ–π –ª—é–±–≤–∏ –∫ –≤–æ–µ–Ω–Ω—ã–º, —á—Ç–æ —Ä–µ–¥–∫–æ–µ –∑–∞—Å—Ç–æ–ª—å–µ –æ–±—Ö–æ–¥–∏–ª–æ—Å—å –±–µ–∑ —Ç–æ–≥–æ, —á—Ç–æ–±—ã –≤ –≤–µ—Å–µ–ª–æ–π –∫–æ–º–ø–∞–Ω–∏–∏ –Ω–µ –æ–∫–∞–∑–∞–ª—Å—è –≤–æ–µ–Ω–Ω—ã–π, —Å–ª—É—á–∞–π–Ω–æ –≤—Å—Ç—Ä–µ—á–µ–Ω–Ω—ã–π –Ω–∞ —É–ª–∏—Ü–µ –∏ –ø—Ä–∏–≥–ª–∞—à–µ–Ω–Ω—ã–π –∫ —Å–µ–º–µ–π–Ω–æ–º—É —Å—Ç–æ–ª—É. –ü–æ—Ç–æ–º –≤—Å–µ –¥—Ä—É–≥ –ø–µ—Ä–µ–¥ –¥—Ä—É–≥–æ–º —Ö–≤–∞—Å—Ç–∞–ª–∏—Å—å, –∫–æ–º—É –∫–æ–≥–æ —É–¥–∞–ª–æ—Å—å –ø—Ä–∏–≥–ª–∞—Å–∏—Ç—å –≤ –≤–µ–ª–∏–∫–∏–π –¥–ª—è –Ω–∞—à–µ–≥–æ –Ω–∞—Ä–æ–¥–∞ –¥–µ–Ω—å. –ò —Ö–æ—Ç—è –ø—Ä–∞–∑–¥–Ω–æ–≤–∞–Ω–∏–µ —ç—Ç–æ–≥–æ –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏—á–µ—Å–∫–æ–≥–æ —Å–æ–±—ã—Ç–∏—è –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∞–µ—Ç—Å—è, –Ω–æ –º–Ω–µ –ø–æ—á–µ–º—É-—Ç–æ –ø–æ–¥—É–º–∞–ª–æ—Å—å, —á—Ç–æ —Ç–æ–≥–¥–∞ –º—ã –±—ã–ª–∏ –≤–µ–ª–∏–∫–∏–º –Ω–∞—Ä–æ–¥–æ–º, –∞ —Å–µ–≥–æ–¥–Ω—è —Å—Ç–∞–ª–∏ —Å—Ä–µ–¥–Ω–µ—Å—Ç–∞—Ç–∏—Å—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–π –Ω–∞—Ü–∏–µ–π.  –ü–æ—á—Ç–∏ —Å—Ç–æ –ª–µ—Ç –Ω–∞–∑–∞–¥ –û—Å–∫–∞—Ä –£–∞–π–ª—å–¥ –ø—Ä–æ—Ä–æ—á–µ—Å–∫–∏ —Å–∫–∞–∑–∞–ª: ¬´–£ –Ω–∞—Å –ø–µ—Ä–µ–¥ –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏–µ–π –æ–¥–∏–Ω –¥–æ–ª–≥ ‚Äî –ø–µ—Ä–µ–ø–∏—Å–∞—Ç—å –µ–µ –∑–∞–Ω–æ–≤–欪. –ò —Å–µ–≥–æ–¥–Ω—è –ø–æ–Ω—è—Ç–Ω–æ, –ø–æ—á–µ–º—É –Ω–µ –±—ã–≤–∞–µ—Ç –≤–µ—á–Ω—ã—Ö –ø–æ–±–µ–¥. –ü–æ—á–µ–º—É –≤–µ–ª–∏–∫—É—é –º—ã –¥–æ–ª–∂–Ω—ã –æ—Ç—Å—Ç–∞–∏–≤–∞—Ç—å –∑–∞–Ω–æ–≤–æ ‚Äî –¥–ª—è —Å–µ–±—è –∏ –¥–ª—è –Ω–∞—à–∏—Ö –ø–æ—Ç–æ–º–∫–æ–≤. –ö–æ–µ-–≥–¥–µ —É–∂–µ –∑–∞–ø—Ä–µ—â–µ–Ω—ã –Ω–æ—à–µ–Ω–∏–µ —Å–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–∏—Ö –Ω–∞–≥—Ä–∞–¥ –∏ –¥—Ä—É–≥–∞—è —Å–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–∞—è —Å–∏–º–≤–æ–ª–∏–∫–∞, –∫ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π –æ—Ç–Ω–µ—Å–ª–∏ –¥–∞–∂–µ –≥–µ–æ—Ä–≥–∏–µ–≤—Å–∫—É—é –ª–µ–Ω—Ç–æ—á–∫—É. –í—Å–ª–µ–¥ –∑–∞ –ì–∞–≤—Ä–∏–∏–ª–æ–º –ü–æ–ø–æ–≤—ã–º —Å—Ç–∞–ª–∏ –ø–æ–≤—Ç–æ—Ä—è—Ç—å, —á—Ç–æ –°–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–∞—è –ê—Ä–º–∏—è –Ω–∏–∫–æ–≥–æ –Ω–µ –æ—Å–≤–æ–±–æ–∂–¥–∞–ª–∞, –∞, –Ω–∞–æ–±–æ—Ä–æ—Ç ‚Äî –ø–æ—Ä–∞–±–æ—Ç–∏–ª–∞ –Ω–∞—Ä–æ–¥—ã –ï–≤—Ä–æ–ø—ã, –ø—Ä–µ–¥–≤–∞—Ä–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –∏–∑–Ω–∞—Å–∏–ª–æ–≤–∞–≤ –≤—Å–µ—Ö –∂–µ–Ω—â–∏–Ω. –ê–ª–ª–∞ –ì–µ—Ä–±–µ—Ä —É—Ç–≤–µ—Ä–∂–¥–∞–µ—Ç, —á—Ç–æ –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç–µ–ª–∏ –≤–µ–ª–∏–∫–æ–π –≥–µ—Ä–º–∞–Ω—Å–∫–æ–π –∫—É–ª—å—Ç—É—Ä—ã –Ω–µ –º–æ–≥–ª–∏ —É–Ω–∏—á—Ç–æ–∂–∞—Ç—å –µ–≤—Ä–µ–µ–≤ –Ω–∞ —Ç–µ—Ä—Ä–∏—Ç–æ—Ä–∏–∏ –°–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–æ–≥–æ –°–æ—é–∑–∞, —á—Ç–æ —ç—Ç–æ –¥–µ–ª–æ —Ä—É–∫ –∫–æ–ª–ª–∞–±–æ—Ä–∞—Ü–∏–æ–Ω–∏—Å—Ç–æ–≤, –≤–æ–∑–Ω–µ–Ω–∞–≤–∏–¥–µ–≤—à–∏—Ö –µ–≤—Ä–µ–µ–≤ –∑–∞ ¬´–∂–∏–¥–æ-–±–æ–ª—å—à–µ–≤–∏—Å—Ç—Å–∫—É—é —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏—é 1917 –≥–æ–¥–∞¬ª. –°–æ–≤—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω—ã–π –∞–Ω–≥–ª–∏–π—Å–∫–∏–π –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏–∫ –ø–∏—à–µ—Ç, —á—Ç–æ –ø–æ–±–µ–¥–∞ –ø–æ–¥ –°—Ç–∞–ª–∏–Ω–≥—Ä–∞–¥–æ–º –æ–∫–∞–∑–∞–ª–∞—Å—å –≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ–π —Ç–æ–ª—å–∫–æ –±–ª–∞–≥–æ–¥–∞—Ä—è —Ç–æ–º—É, —á—Ç–æ –≤ —Ä—è–¥–∞—Ö –Ω–µ–º–µ—Ü–∫–æ–π –∞—Ä–º–∏–∏ –æ–∫–∞–∑–∞–ª–∏—Å—å 30 —Ç—ã—Å—è—á —Ä—É—Å—Å–∫–∏—Ö, –Ω–æ—Å–∏–≤—à–∏—Ö –Ω–µ–º–µ—Ü–∫—É—é —Ñ–æ—Ä–º—É, –Ω–æ –Ω–µ –∂–µ–ª–∞–≤—à–∏—Ö –≤–æ–µ–≤–∞—Ç—å. –°–æ–≤—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω—ã–π –Ω–µ–º–µ—Ü–∫–∏–π –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏–∫, —Ä–∞—Å—Ç–∏—Ä–∞–∂–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–Ω—ã–π –Ω–µ–¥–∞–≤–Ω–æ –Ω–∞—à–∏–º–∏ —Ç–µ–ª–µ–∫–∞–Ω–∞–ª–∞–º–∏, —É—Ç–≤–µ—Ä–∂–¥–∞–ª, —á—Ç–æ –≤ –±–∏—Ç–≤–µ –ø–æ–¥ –ü—Ä–æ—Ö–æ—Ä–æ–≤–∫–æ–π –ø–æ–±–µ–¥—É –æ–¥–µ—Ä–∂–∞–ª–∏ –Ω–µ–º—Ü—ã, –ø–æ—Å–∫–æ–ª—å–∫—É —Å —Å–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–æ–π —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã –±—ã–ª–æ –ø–æ—Ç–µ—Ä—è–Ω–æ –±–æ–ª–µ–µ 250 —Ç–∞–Ω–∫–æ–≤, –∞ —Å –Ω–µ–º–µ—Ü–∫–æ–π ‚Äî —Ç–æ–ª—å–∫–æ 5. –í –æ–¥–Ω–æ–π –∏–∑ –Ω–µ–¥–∞–≤–Ω–∏—Ö —Ç–µ–ª–µ–ø–µ—Ä–µ–¥–∞—á —Å—Ç–∞—Ä–∏—á–æ–∫-–≤–µ—Ç–µ—Ä–∞–Ω –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª, —á—Ç–æ –Ω–∞ –°—Ç–∞–ª–∏–Ω–≥—Ä–∞–¥ –Ω–µ–º—Ü—ã –±—Ä–æ—Å–∏–ª–∏ 2000 —Å–∞–º–æ–ª–µ—Ç–æ–≤, –∞ –≤—Å—Ç—Ä–µ—Ç–∏–ª–æ –∏—Ö —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Å–µ–º—å –Ω–∞—à–∏—Ö –∏—Å—Ç—Ä–µ–±–∏—Ç–µ–ª–µ–π. ¬´–ú—ã –¥—É–º–∞–ª–∏, —á—Ç–æ —Å—Ä–∞–∂–∞–µ–º—Å—è –≥–µ—Ä–æ–π—Å–∫–∏¬ª, –Ω–æ –ñ—É–∫–æ–≤ —Å–∫–∞–∑–∞–ª, —á—Ç–æ –¥–µ—Ä–µ–º—Å—è –ø–ª–æ—Ö–æ –∏ ¬´–Ω–∞—Å –∑–∞ —ç—Ç–æ —Ä–∞—Å—Å—Ç—Ä–µ–ª–∏–≤–∞–ª–∏¬ª. –ñ—É–∫–æ–≤—É –≤–æ–æ–±—â–µ –¥–æ—Å—Ç–∞–µ—Ç—Å—è –±–æ–ª—å—à–µ –≤—Å–µ—Ö ‚Äî –æ–Ω, –æ–∫–∞–∑—ã–≤–∞–µ—Ç—Å—è, —Ç–µ—Ä–ø–µ–ª –ø–æ—Ä–∞–∂–µ–Ω–∏–µ –æ—Ç –Ω–µ–º—Ü–µ–≤ –ø–æ–¥ –Ý–∂–µ–≤–æ–º, –∏—Å—Ç—Ä–µ–±–∏–ª –≤—Å—é –º–æ—Ä—Å–∫—É—é –ø–µ—Ö–æ—Ç—É –ø–æ–¥ –õ–µ–Ω–∏–Ω–≥—Ä–∞–¥–æ–º, –æ–¥–µ—Ä–∂–∏–≤–∞–ª –ø–æ–±–µ–¥—ã –Ω–∞–¥ –Ω–µ–º—Ü–∞–º–∏ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –ø–æ—Ç–æ–º—É, —á—Ç–æ –∑–∞—Å—ã–ø–∞–ª –∏—Ö –≥–æ—Ä–∞–º–∏ —Ç—Ä—É–ø–æ–≤. –ê –≥–ª–∞–≤–Ω–æ–µ ‚Äî –æ–¥–∏–Ω —Ç–æ—Ç–∞–ª–∏—Ç–∞—Ä–Ω—ã–π —Ä–µ–∂–∏–º —Å—Ä–∞–∂–∞–ª—Å—è —Å –¥—Ä—É–≥–∏–º —Ç–æ—Ç–∞–ª–∏—Ç–∞—Ä–Ω—ã–º —Ä–µ–∂–∏–º–æ–º, –∏ —Ç–µ–ø–µ—Ä—å –æ–±–∞ –¥–æ–ª–∂–Ω—ã –∫–∞—è—Ç—å—Å—è –ø–µ—Ä–µ–¥ –Ω–∞—Ä–æ–¥–∞–º–∏ –ï–≤—Ä–æ–ø—ã. –í –®–≤–µ—Ü–∏–∏ –Ω–∞—á–∞–ª–∏—Å—å —Å—ä–µ–º–∫–∏ —Ñ–∏–ª—å–º–∞ ¬´–û–∫–∫—É–ø–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–Ω–∞—謪, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∂–µ—Ç –æ —Ç–æ–º, –∫–∞–∫ –≤ –±—É–¥—É—â–µ–º —Ä–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–∞—è –∞—Ä–º–∏—è –æ–∫–∫—É–ø–∏—Ä—É–µ—Ç –ù–æ—Ä–≤–µ–≥–∏—é. –¢–∞–∫–æ–π –≤–æ—Ç –Ω–µ–∑–∞—Ç–µ–π–ª–∏–≤—ã–π —Ñ–∞–Ω—Ç–∞—Å—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏–π –±–æ–µ–≤–∏—á–æ–∫. –í–æ –º–Ω–æ–≥–∏—Ö –º–µ—Å—Ç–∞—Ö –≤ –ó–∞–ø–∞–¥–Ω–æ–π –ï–≤—Ä–æ–ø–µ –ø–æ–≥–∞—à–µ–Ω –≤–µ—á–Ω—ã–π –æ–≥–æ–Ω—å, –∑–∞–∂–∂–µ–Ω–Ω—ã–π –≤–æ —Å–ª–∞–≤—É –≤–æ–∏–Ω–∞-–æ—Å–≤–æ–±–æ–¥–∏—Ç–µ–ª—è. –î–∞–∂–µ –≤ –ë–æ–ª–≥–∞—Ä–∏–∏ –∑–Ω–∞–º–µ–Ω–∏—Ç—ã–π ¬´–ø–∞–º—è—Ç–Ω–∏–∫ –ê–ª–µ—à–µ¬ª —Ö–æ—Ç–µ–ª–∏ –±—ã–ª–æ —Å–Ω–µ—Å—Ç–∏. –°–µ–≥–æ–¥–Ω—è –º–Ω–æ–≥–∏–µ –º–æ–ª–æ–¥—ã–µ –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏–∫–∏ —Å—á–∏—Ç–∞—é—Ç —Ö–æ—Ä–æ—à–∏–º —Ç–æ–Ω–æ–º –ø–µ—Ä–µ—Å–∫–∞–∑–∞—Ç—å –ø–æ-—Å–≤–æ–µ–º—É –≤–µ–ª–∏–∫—É—é –±–µ–¥—É –•–∞—Ç—ã–Ω–∏, –∑–∞–Ω–æ–≤–æ –ø–µ—Ä–µ–ø–∏—Å–∞—Ç—å —Ç—Ä–∞–≥–∏—á–µ—Å–∫–∏–µ –¥–Ω–∏ –Ω–∞—á–∞–ª–∞ –≤–æ–π–Ω—ã. –ï—Å—Ç—å –ª—é–¥–∏, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –≤–Ω—É—à–∞—é—Ç –º–æ–ª–æ–¥–µ–∂–∏, —á—Ç–æ –≤—Å—è –±–æ—Ä—å–±–∞ –±—ã–ª–∞ –±–µ—Å—Å–º—ã—Å–ª–µ–Ω–Ω–∞ –∏ –ø–æ–±–µ–¥–∞ –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏—á–µ—Å–∫–∏ –Ω–µ—Ü–µ–ª–µ—Å–æ–æ–±—Ä–∞–∑–Ω–∞. –ù–µ–∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ ¬´–±–µ–ª–æ–ª–µ–Ω—Ç–æ—á–Ω–∏–∫–∏¬ª —Ç—Ä–µ–±–æ–≤–∞–ª–∏, —á—Ç–æ–±—ã –∫–æ–º–º—É–Ω–∞–ª—å—â–∏–∫–∏ –ú–æ—Å–∫–≤—ã –ø–æ–¥–∞–ª–∏ –≤ —Å—É–¥ –Ω–∞ –ú–∏–Ω–∏—Å—Ç–µ—Ä—Å—Ç–≤–æ –æ–±–æ—Ä–æ–Ω—ã –∑–∞ –Ω–∞–Ω–µ—Å–µ–Ω–∏–µ —É—â–µ—Ä–±–∞ –≥–æ—Ä–æ–¥—É –∏ —Å–æ–∑–¥–∞–Ω–∏–µ –∞–≤—Ç–æ–º–æ–±–∏–ª—å–Ω—ã—Ö ¬´–ø—Ä–æ–±–æ–∫¬ª –≤–æ –≤—Ä–µ–º—è —Ä–µ–ø–µ—Ç–∏—Ü–∏–π –ø—Ä–∞–∑–¥–Ω–∏—á–Ω–æ–≥–æ –ø–∞—Ä–∞–¥–∞. –°–æ–º–Ω–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—É—é —É—Å–ª—É–≥—É –≤–æ—Å–ø–∏—Ç–∞–Ω–∏—é –ø–æ–¥—Ä–∞—Å—Ç–∞—é—â–µ–≥–æ –ø–æ–∫–æ–ª–µ–Ω–∏—è –æ–∫–∞–∑—ã–≤–∞—é—Ç —Ç–µ–ª–µ–≤–∏–∑–∏–æ–Ω–Ω—ã–µ –∫–∞–Ω–∞–ª—ã, –ø–æ–∫–∞–∑—ã–≤–∞—é—â–∏–µ –≥–ª—É–ø—ã–µ –ø–æ–¥–µ–ª–∫–∏ ¬´–æ –≤–æ–π–Ω–µ¬ª, –Ω–µ —Å–ø–æ—Å–æ–±–Ω—ã–µ –≤—ã–∑–≤–∞—Ç—å –≤—ã—Å–æ–∫–æ–≥–æ –ø–∞—Ç—Ä–∏–æ—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–≥–æ —á—É–≤—Å—Ç–≤–∞. –ß–∞—Å—Ç–æ –∏–∑ —É—Å—Ç —Ä–µ–∂–∏—Å—Å–µ—Ä–æ–≤ –∏ —Å—Ü–µ–Ω–∞—Ä–∏—Å—Ç–æ–≤ –º–æ–∂–Ω–æ —É—Å–ª—ã—à–∞—Ç—å: ¬´–ú—ã, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, –ø–æ—Å—Ç—É–ø–∏–ª–∏—Å—å –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏—á–µ—Å–∫–æ–π –ø—Ä–∞–≤–¥–æ–π, –Ω–æ –∑–∞—Ç–æ –±—ã–ª–∏ –≤–µ—Ä–Ω—ã –ø—Ä–∞–≤–¥–µ —Ö—É–¥–æ–∂–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–π¬ª. –≠—Ç–æ –ª–æ–∂—å, –ø–æ—Ç–æ–º—É —á—Ç–æ —Ö—É–¥–æ–∂–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–∞—è –ø—Ä–∞–≤–¥–∞ ‚Äî —ç—Ç–æ –≤—Å–µ–≥–¥–∞ –≤—ã–º—ã—Å–µ–ª, –∞ –ø–µ—Ä–µ–ø–∏—Å—ã–≤–∞–Ω–∏–µ –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏–∏ –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∞–µ—Ç—Å—è. –ù–æ –Ω–µ—Å–º–æ—Ç—Ä—è –Ω–∞ –≤—Å–µ –º–µ—Ä–∑–æ—Å—Ç–∏ —Ç–µ—Ö, –∫–æ–≥–æ –¥–æ —Å–∏—Ö –ø–æ—Ä –∫–æ—Ä—á–∏—Ç –æ—Ç –Ω–∞—à–µ–π –ü–æ–±–µ–¥—ã, –∑–∞–≤—Ç—Ä–∞ –≤ –ú–æ—Å–∫–≤–µ –∏ –¥—Ä—É–≥–∏—Ö –≥–æ—Ä–æ–¥–∞—Ö —Å–æ—Å—Ç–æ–∏—Ç—Å—è –≤–æ–µ–Ω–Ω—ã–π –ø–∞—Ä–∞–¥. –£–≤–µ—Ä–µ–Ω, —á—Ç–æ –Ω–µ –æ—Å—Ç–∞–Ω—É—Ç—Å—è –∑–∞–±—ã—Ç—ã–º–∏ –º–Ω–æ–≥–æ—á–∏—Å–ª–µ–Ω–Ω—ã–µ –º–æ–≥–∏–ª—ã, –≥–¥–µ –ª–µ–∂–∞—Ç –ø–∞–≤—à–∏–µ —Å–º–µ—Ä—Ç—å—é —Ö—Ä–∞–±—Ä—ã—Ö –≤–µ–ª–∏–∫–∏–µ –∑–∞—â–∏—Ç–Ω–∏–∫–∏ –Ω–∞—à–µ–π —Ä–æ–¥–∏–Ω—ã, –º–∏–ª—ã–µ –º–∞–ª—å—á–∏—à–∫–∏, –≥—Ä—É–¥—å—é —Å–≤–æ–µ–π –∑–∞—Å–ª–æ–Ω–∏–≤—à–∏–µ –Ý–æ–¥–∏–Ω—É –æ—Ç —Å—Ç—Ä–∞—à–Ω–æ–π –±–µ–¥—ã. –ß—Ç–æ –¥–µ—Ç—Å–∫–∏–µ —Ä—É—á–∫–∏ –ø–æ–ª–æ–∂–∞—Ç —Ü–≤–µ—Ç—ã –∏ —É –ø–æ–∫–ª–æ–Ω–Ω—ã—Ö –∫—Ä–µ—Å—Ç–æ–≤, –∏ —É –±—Ä–∞—Ç—Å–∫–∏—Ö –º–æ–≥–∏–ª, —Ä–∞–∑–±—Ä–æ—Å–∞–Ω–Ω—ã—Ö –Ω–∞ –≤—Å–µ–º –ø—Ä–æ—Å—Ç—Ä–∞–Ω—Å—Ç–≤–µ –æ—Ç –í–æ–ª–≥–∏ –¥–æ –û–¥–µ—Ä–∞ –∏ –®–ø—Ä–µ–µ. –ß—Ç–æ, –ª—é–±—É—è—Å—å –≤–µ–ª–∏–∫–æ–ª–µ–ø–∏–µ–º –ø—Ä–∞–∑–¥–Ω–∏—á–Ω–æ–≥–æ —Å–∞–ª—é—Ç–∞, –º–æ–ª–æ–¥–µ–∂—å –≤—Å–ø–æ–º–Ω–∏—Ç –æ —Å–≤–æ–∏—Ö —Å—Ç–∞—Ä–∏–∫–∞—Ö, —á—å—é –º–æ–ª–æ–¥–æ—Å—Ç—å –æ–ø–∞–ª–∏–ª–∞ –≤–æ–π–Ω–∞. –ß—Ç–æ, –≥–ª—è–¥—è –Ω–∞ –ø–ª–∞–º—è –≤–µ—á–Ω–æ–≥–æ –æ–≥–Ω—è, –Ω–µ—Ç-–Ω–µ—Ç –¥–∞ –∏ —Å–º–∞—Ö–Ω—É—Ç —Å–ª–µ–∑—É –Ω–∞—à–∏ –¥–µ–≤—á–æ–Ω–∫–∏ –∏ –º–∞–ª—å—á–∏—à–∫–∏, —É –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö —Ö–æ—Ç—è—Ç —É–∫—Ä–∞—Å—Ç—å –ü–æ–±–µ–¥—É. –° –≤–µ–ª–∏–∫–∏–º –ü—Ä–∞–∑–¥–Ω–∏–∫–æ–º –ü–æ–±–µ–¥—ã, –¥–æ—Ä–æ–≥–∏–µ –º–æ–∏ –¥—Ä—É–∑—å—è –∏ —Ç–æ–≤–∞—Ä–∏—â–∏, –æ–¥–Ω–æ–∫–∞—à–Ω–∏–∫–∏ –∏ —Å—Ç–∞—Ä–∏–∫–∏, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–º –ø–æ—Å—á–∞—Å—Ç–ª–∏–≤–∏–ª–æ—Å—å –¥–æ–∂–∏—Ç—å –¥–æ –Ω–∞—à–∏—Ö –¥–Ω–µ–π –∏ –∑–Ω–∞—Ç—å, —á—Ç–æ –º—ã –ø–æ–º–Ω–∏–º –æ–± –∏—Ö –ø–æ–¥–≤–∏–≥–µ! –ü—É—Å—Ç—å –≤–µ—á–Ω–æ –∂–∏–≤–µ—Ç –≤ —Å–µ—Ä–¥—Ü–∞—Ö –ª—é–¥–µ–π –±–ª–∞–≥–æ–¥–∞—Ä–Ω–æ—Å—Ç—å —Ç–æ–º—É –ø–æ–∫–æ–ª–µ–Ω–∏—é, –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–µ –Ω–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –≤—ã—Å—Ç–æ—è–ª–æ, –Ω–æ –∏ —Å–ª–æ–º–∞–ª–æ —Ö—Ä–µ–±–µ—Ç —Å–∞–º–æ–π –∂–µ—Å—Ç–æ–∫–æ–π —Å–∏–ª–µ –≤ –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏–∏ —á–µ–ª–æ–≤–µ—á–µ—Å—Ç–≤–∞. –° –ü—Ä–∞–∑–¥–Ω–∏–∫–æ–º! –°–ª–∞–≤–∞ –Ý–æ—Å—Å–∏–∏!
–û–¥–∏–Ω –∏–∑ –≥–µ—Ä–æ–µ–≤ —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑–∞ –í—è—á–µ—Å–ª–∞–≤–∞ –ö–æ–Ω–¥—Ä–∞—Ç—å–µ–≤–∞ "–î–µ–Ω—å –ü–æ–±–µ–¥—ã –≤ –ß–µ—Ä–Ω–æ–≤–æ", –±—ã–≤—à–∏–π —Å–æ–ª–¥–∞—Ç, —Å—Ç–æ—è –Ω–∞ –º–µ—Å—Ç–µ —Å–∞–º–æ–≥–æ —Ç—è–∂–µ–ª–æ–≥–æ –≤ –µ–≥–æ —Ñ—Ä–æ–Ω—Ç–æ–≤–æ–π —Å—É–¥—å–±–µ –±–æ—è, –≥–æ–≤–æ—Ä–∏—Ç: ¬´–ü–æ—á–µ–º—É –∂–µ —Å–µ–π—á–∞—Å... —è –Ω–µ –º–æ–≥—É –∏–∑–±–∞–≤–∏—Ç—å—Å—è –æ—Ç –æ—â—É—â–µ–Ω–∏—è –∫–∞–∫–æ–π-—Ç–æ –≤–∏–Ω—ã –ø–æ –æ—Ç–Ω–æ—à–µ–Ω–∏—é –∫–æ –≤—Å–µ–º —Ç–µ–º, –∫—Ç–æ –æ—Å—Ç–∞–ª—Å—è —Ç—É—Ç –Ω–∞–≤—Å–µ–≥–¥–∞? –ü–æ—á–µ–º—É —Ö–æ—á–µ—Ç—Å—è —à–µ–ø—Ç–∞—Ç—å: –ø—Ä–æ—Å—Ç–∏—Ç–µ, —Ä–µ–±—è—Ç–∫–∏, –ø—Ä–æ—Å—Ç–∏—Ç–µ, —á—Ç–æ —è –æ—Å—Ç–∞–ª—Å—è –∂–∏–≤...". –î–µ–π—Å—Ç–≤–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ, –ø–æ—á–µ–º—É –º–Ω–æ–≥–∏–µ –∏–∑ –Ω–∞—Å, —Ñ—Ä–æ–Ω—Ç–æ–≤–∏–∫–æ–≤, —á—É–≤—Å—Ç–≤—É—é—Ç —Å–µ–±—è –≤–∏–Ω–æ–≤–∞—Ç—ã–º–∏ –ø–µ—Ä–µ–¥ –ø–æ–≥–∏–±—à–∏–º–∏ —Ç–æ–≤–∞—Ä–∏—â–∞–º–∏? –ò –º–Ω–µ –∫–∞–∂–µ—Ç—Å—è, –æ—Å–æ–±–µ–Ω–Ω–æ —ç—Ç–æ —á—É–≤—Å—Ç–≤–æ –æ—Å—Ç—Ä–æ —É —Ç–µ—Ö, –∫—Ç–æ –∫–æ–º–∞–Ω–¥–æ–≤–∞–ª –Ω–µ–±–æ–ª—å—à–∏–º–∏ –ø–æ–¥—Ä–∞–∑–¥–µ–ª–µ–Ω–∏—è–º–∏- –æ—Ç–¥–µ–ª–µ–Ω–∏—è–º–∏, –≤–∑–≤–æ–¥–∞–º–∏. –ü–µ—Ä–µ–¥ –≥–ª–∞–∑–∞–º–∏ —ç—Ç–∏—Ö –∫–æ–º–∞–Ω–¥–∏—Ä–æ–≤ - –¥–æ —Å–∏—Ö –ø–æ—Ä —Å—Ç–æ—è—Ç –ø–∞—Ä–Ω–∏, –±—ã–≤—à–∏–µ –¥–ª—è –Ω–∏—Ö –Ω–µ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ –ø–æ–¥—á–∏–Ω–µ–Ω–Ω—ã–º–∏, –∞ –∑–∞—á–∞—Å—Ç—É—é –∏ –¥—Ä—É–∑—å—è–º–∏. –í—Å–µ –∫–∞–∂–µ—Ç—Å—è, —á—Ç–æ –Ω–µ —Ç–∞–∫ –∫–æ–º–∞–Ω–¥–æ–≤–∞–ª–∏, –Ω–µ —Ç–∞–∫–∏–µ –ø—Ä–∏–Ω–∏–º–∞–ª–∏ —Ä–µ—à–µ–Ω–∏—è, —á—Ç–æ –∏–∑-–∑–∞ –∏—Ö –æ—à–∏–±–æ–∫ –Ω–µ–æ–ø—Ä–∞–≤–¥–∞–Ω–Ω–æ –ø–æ–≥–∏–±–∞–ª–∏ –±–æ–π—Ü—ã. –ò–Ω–æ–≥–¥–∞, —á—Ç–æ–±—ã —É—Å–ø–æ–∫–æ–∏—Ç—å —Å–≤–æ—é —Å–æ–≤–µ—Å—Ç—å, —Å—Ç–∞—Ä—ã–µ —Å–æ–ª–¥–∞—Ç—ã –≤–Ω—É—à–∞—é—Ç —Å–µ–±–µ: –Ω–µ –∑–∞ —á—Ç–æ —Å–µ–±—è –∫–∞–∑–Ω–∏—Ç—å, –∏–±–æ –≤—Å–µ –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏–ª–∏—Å—å –≤ —Ä–∞–≤–Ω—ã—Ö —É—Å–ª–æ–≤–∏—è—Ö... –¢–∞–∫ —á—Ç–æ —ç—Ç–æ - —Å–ª—É—á–∞–π–Ω–æ—Å—Ç—å? –î–∞! –ò —Å–ª—É—á–∞–π–Ω–æ—Å—Ç—å, –≤ —Å–∏–ª—É –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π –ø—Ä–∏ –ø–æ–ø–∞–¥–∞–Ω–∏–∏ —Å–Ω–∞—Ä—è–¥–∞ –∏–ª–∏ –º–∏–Ω—ã –≤ –≥—É—â—É –ª—é–¥–µ–π –æ–¥–Ω–∏ –ø–∞–¥–∞–ª–∏, —Å—Ä–∞–∂–µ–Ω–Ω—ã–µ –Ω–∞—Å–º–µ—Ä—Ç—å, –∞ –¥—Ä—É–≥–∏–µ –æ—Ç–¥–µ–ª—ã–≤–∞–ª–∏—Å—å –∏—Å–ø—É–≥–æ–º. –ù–æ –º—ã –±—ã –≥—Ä–µ—à–∏–ª–∏ –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤ –∏—Å—Ç–∏–Ω—ã, –µ—Å–ª–∏ –±—ã —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Å–ª—É—á–∞–π–Ω–æ—Å—Ç—å—é –æ–±—ä—è—Å–Ω—è–ª–∏ –≥–∏–±–µ–ª—å –Ω–∞ –≤–æ–π–Ω–µ. –ù–∞–¥–æ –ø—Ä–∏–∑–Ω–∞—Ç—å, —á—Ç–æ –æ—Å–Ω–æ–≤–Ω–∞—è –º–∞—Å—Å–∞ —Å–ª–æ–∂–∏–≤—à–∏—Ö —Å–≤–æ–∏ –≥–æ–ª–æ–≤—ã –Ω–∞ –∞–ª—Ç–∞—Ä—å –û—Ç–µ—á–µ—Å—Ç–≤–∞ –æ—Ç–Ω–æ—Å–∏—Ç—Å—è –∫ —Ç–µ–º, –∫–æ–º—É –≤—ã–ø–∞–ª–æ –ø–µ—Ä–≤—ã–º–∏ –ø–æ–¥–Ω–∏–º–∞—Ç—å—Å—è –≤ –∞—Ç–∞–∫—É –∏ –∏–¥—Ç–∏ –≤ –ø–µ—Ä–≤—ã—Ö —Ä—è–¥–∞—Ö –∞—Ç–∞–∫—É—é—â–∏—Ö. –≠—Ç–æ, –∫–∞–∫ –ø—Ä–∞–≤–∏–ª–æ, —Ç–µ, –∫—Ç–æ –ø–µ—Ä–≤—ã–º–∏ —à—Ç—É—Ä–º–æ–≤–∞–ª —É–∫—Ä–µ–ø–ª–µ–Ω–∏—è –≤—Ä–∞–≥–∞, –∫—Ç–æ, –ø—Ä–∏–∫—Ä—ã–≤–∞—è –∞–º–±—Ä–∞–∑—É—Ä—É –¥–æ—Ç–∞ —Å–æ–±—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–º —Ç–µ–ª–æ–º –∏–ª–∏ –±—Ä–æ—Å–∞—è—Å—å –Ω–∞ –∑–∞–º–∏–Ω–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–Ω–æ–µ –ø—Ä–æ–≤–æ–ª–æ—á–Ω–æ–µ –∑–∞–≥—Ä–∞–∂–¥–µ–Ω–∏–µ, —Ü–µ–Ω–æ–π —Å–≤–æ–µ–π –∂–∏–∑–Ω–∏ —Å–æ—Ö—Ä–∞–Ω—è–ª –∂–∏–∑–Ω–∏ –¥—Ä—É–≥–∏–º, –∫—Ç–æ —Å—Ç–æ—è–ª –Ω–∞—Å–º–µ—Ä—Ç—å, –ø—Ä–∏–∫—Ä—ã–≤–∞—è –æ—Ç—Ö–æ–¥ —Ç–æ–≤–∞—Ä–∏—â–µ–π, –∫—Ç–æ —Å–æ —Å–≤—è–∑–∫–æ–π –≥—Ä–∞–Ω–∞—Ç –±—Ä–æ—Å–∞–ª—Å—è –ø–æ–¥ –≤—Ä–∞–∂–µ—Å–∫–∏–π —Ç–∞–Ω–∫... –°–ª–æ–≤–æ–º, –≤—Å–µ —Ç–µ, –∫–æ–º—É –≤–æ–µ–Ω–Ω–∞—è –Ω–µ–æ–±—Ö–æ–¥–∏–º–æ—Å—Ç—å –ø—Ä–µ–¥—ä—è–≤–ª—è–ª–∞ –ø–æ –±–æ–ª—å—à–æ–º—É —Å—á–µ—Ç—É. –û–Ω–∏, –ø–æ–≥–∏–±—à–∏–µ, –≤ –æ—Å–Ω–æ–≤–Ω–æ–π —Å–≤–æ–µ–π –º–∞—Å—Å–µ —Å–¥–µ–ª–∞–ª–∏ –¥–ª—è –ü–æ–±–µ–¥—ã –±–æ–ª—å—à–µ –Ω–∞—Å, –æ—Å—Ç–∞–≤—à–∏—Ö—Å—è –≤ –∂–∏–≤—ã—Ö. –ê –≤—Å–µ –ª–∏ –º—ã –¥–µ–ª–∞–µ–º –¥–ª—è —É–≤–µ–∫–æ–≤–µ—á–∏–≤–∞–Ω–∏—è –∏—Ö –ø–∞–º—è—Ç–∏, –∑–∞–±–æ—Ç–∏–º—Å—è –ª–∏ –æ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ –∏—Ö –ø–æ–¥–≤–∏–≥–∏ —Å—Ç–∞–ª–∏ –¥–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–∏–µ–º –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏–∏? –ú—ã –ø–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–Ω–æ —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑—ã–≤–∞–µ–º –æ –∂–∏–≤—ã—Ö —É—á–∞—Å—Ç–Ω–∏–∫–∞—Ö –≤–æ–π–Ω—ã. –°–∞–º–∏ –æ–Ω–∏ –≤—ã—Å—Ç—É–ø–∞—é—Ç —Å –≤–æ—Å–ø–æ–º–∏–Ω–∞–Ω–∏—è–º–∏. –ò—Ö —Ö–æ—Ä–æ—à–æ –∑–Ω–∞—é—Ç –≤ —Ç—Ä—É–¥–æ–≤—ã—Ö –∫–æ–ª–ª–µ–∫—Ç–∏–≤–∞—Ö. –ê —á—Ç–æ, –Ω–∞–ø—Ä–∏–º–µ—Ä, –º—ã, –∑–Ω–∞–µ–º –æ —Ç—ã—Å—è—á–∞—Ö –ø–æ–≥–∏–±—à–∏—Ö –≤ –≤–æ–π–Ω—É —Å–µ–≤–µ—Ä–æ–¥–≤–∏–Ω—Ü–∞—Ö? –ü–æ–∫–∞ –æ—á–µ–Ω—å –∏ –æ—á–µ–Ω—å –º–∞–ª–æ. –§–∞–º–∏–ª–∏–∏ –∏—Ö —è–≤–ª—è—é—Ç—Å—è –¥–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–∏–µ–º —Ç–æ–ª—å–∫–æ –∞—Ä—Ö–∏–≤–æ–≤, –≤ —Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è –∫–∞–∫ —É–∂–µ –¥–∞–≤–Ω–æ –æ–Ω–∏ –¥–æ–ª–∂–Ω—ã –±—ã–ª–∏ –ø–æ—è–≤–∏—Ç—å—Å—è –Ω–∞ –º–µ–º–æ—Ä–∏–∞–ª—å–Ω—ã—Ö –¥–æ—Å–∫–∞—Ö. –ë–æ–ª—å—à–æ–π –¥–æ–ª–≥ –≤ —ç—Ç–æ–º –æ—Ç–Ω–æ—à–µ–Ω–∏–∏ –∑–∞ —Ñ—Ä–æ–Ω—Ç–æ–≤–∏–∫–∞–º–∏, –Ω–∞ –≥–ª–∞–∑–∞—Ö –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö —Å–æ–≤–µ—Ä—à–∞–ª–∏ –ø–æ–¥–≤–∏–≥–∏ –∏ –≥–∏–±–ª–∏ –∏—Ö –±–æ–µ–≤—ã–µ —Ç–æ–≤–∞—Ä–∏—â–∏. –ê –≤–µ–¥—å –¥–æ—Å—Ç–∞—Ç–æ—á–Ω–æ –∫–∞–∂–¥–æ–º—É –∏–∑ –Ω–∏—Ö —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑–∞—Ç—å —Ö–æ—Ç—è –±—ã –æ–± –æ–¥–Ω–æ–º —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫–µ –∏ –æ—Ñ–∏—Ü–∏–∞–ª—å–Ω–∞—è —Ñ—Ä–∞–∑–∞ - ¬´–ü–ê–õ –°–ú–ï–Ý–¢–¨–Æ –•–Ý–ê–ë–Ý–´–•¬ª –Ω–∞–ø–æ–ª–Ω–∏—Ç—Å—è –∫–æ–Ω–∫—Ä–µ—Ç–Ω—ã–º —Å–æ–¥–µ—Ä–∂–∞–Ω–∏–µ–º, –ø—Ä–æ—Å–ª–∞–≤–ª—è—é—â–∏–º –Ω–µ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ ¬´–Ω–µ–∏–∑–≤–µ—Å—Ç–Ω–æ–≥–æ —Å–æ–ª–¥–∞—Ç–∞¬ª, –∞ —á—å–µ–≥–æ-—Ç–æ —Å—ã–Ω–∞, –º—É–∂–∞, –æ—Ç—Ü–∞, –¥–µ–¥–∞... –ò —Ç—ã—Å—è—á—É —Ä–∞–∑ –ø—Ä–∞–≤ –ø–∏—Å–∞—Ç–µ–ª—å –ö–æ–Ω—Å—Ç–∞–Ω—Ç–∏–Ω –°–∏–º–æ–Ω–æ–≤ —É—Ç–≤–µ—Ä–∂–¥–∞–≤—à–∏–π: ¬´–£ –Ω–∞—Å, —É –∂–∏–≤—ã—Ö, –µ—Å—Ç—å –º–Ω–æ–≥–æ —á–µ–ª–æ–≤–µ—á–µ—Å–∫–∏—Ö –ø—Ä–∞–≤... –ù–æ –æ–¥–Ω–æ–≥–æ –ø—Ä–∞–≤–∞ —É –Ω–∞—Å, —É –∂–∏–≤—ã—Ö, –Ω–µ—Ç –∏ –Ω–∏–∫–æ–≥–¥–∞ –Ω–µ –±—É–¥–µ—Ç. –£ –Ω–∞—Å –Ω–µ—Ç –ø—Ä–∞–≤–∞ –∑–∞–±—ã–≤–∞—Ç—å, —á—Ç–æ —Å–¥–µ–ª–∞–ª–∏ –Ω–∞—à–∏ –º–µ—Ä—Ç–≤—ã–µ —Ç–æ–≤–∞—Ä–∏—â–∏ –≤–æ –∏–º—è –ü–æ–±–µ–¥—ã...¬ª. –í–æ—Ç —è –∏ —Ö–æ—á—É –æ–±—Ä–∞—Ç–∏—Ç—å—Å—è –∫ —Ç–æ–≤–∞—Ä–∏—â–∞–º —Ñ—Ä–æ–Ω—Ç–æ–≤–∏–∫–∞–º. –ë–Ý–ê–¢–ö–ò! –ù–µ —Ç–∞–∫ —É–∂ –º–Ω–æ–≥–æ –Ω–∞—Å –æ—Å—Ç–∞–ª–æ—Å—å, –¥–∞ –∏ –ø–∞–º—è—Ç—å –Ω–∞–º –ø–æ—Ä–æ–π –Ω–∞—á–∏–Ω–∞–µ—Ç –∏–∑–º–µ–Ω—è—Ç—å. –ü–æ–∫–∞ –Ω–µ –ø–æ–∑–¥–Ω–æ, –¥–∞–≤–∞–π—Ç–µ –≤—Å–ø–æ–º–Ω–∏–º –æ —Ç–µ—Ö, –∫–æ–≥–æ –º—ã –æ—Å—Ç–∞–≤–∏–ª–∏ –Ω–∞ –ø–æ–ª–µ –±–æ—è –≤ —Ç—ã—Å—è—á–∞—Ö –∏ —Ç—ã—Å—è—á–∞—Ö –±—Ä–∞—Ç—Å–∫–∏—Ö –º–æ–≥–∏–ª... –í—Å–ø–æ–º–Ω–∏–º –∏ –Ω–∞–ø–∏—à–µ–º –æ –Ω–∏—Ö, —á—Ç–æ –∑–Ω–∞–µ–º, –ø—Ä–∏–ª–æ–∂–∏–º –∏—Ö —Ñ–æ—Ç–æ–≥—Ä–∞—Ñ–∏–∏ –∏ –æ—Ç–ø—Ä–∞–≤–∏–º –ø–∏—Å—å–º–∞ –≤ –º—É–∑–µ–π –Ω–∞ –∏—Ö —Ä–æ–¥–∏–Ω—É –∏–ª–∏ –≤ –º–µ—Å—Ç–∞ –∏—Ö –ø—Ä–∏–∑—ã–≤–∞ –Ω–∞ –≤–æ–µ–Ω–Ω—É—é —Å–ª—É–∂–±—É. –í–µ–¥—å –∏–º–µ–Ω–Ω–æ —Ç–∞–º, –≤–µ—Ä–æ—è—Ç–Ω–µ–µ –≤—Å–µ–≥–æ, –∂–∏–≤—É—Ç –∏—Ö —Ä–æ–¥—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–∏–∫–∏, –¥–ª—è –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö –∫–∞–∂–¥–æ–µ –Ω–æ–≤–æ–µ —Å–ª–æ–≤–æ –æ –ø–æ–≥–∏–±—à–µ–º –±–ª–∏–∑–∫–æ–º - –∏ –ø–æ —Å–µ–π –¥–µ–Ω—å –æ–≥—Ä–æ–º–Ω–∞—è —Ü–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç—å. –ù–µ –ø–æ–ª–µ–Ω–∏–º—Å—è, —Å–¥–µ–ª–∞–µ–º —Ä–∞–¥–∏ –ø–∞–º—è—Ç–∏ –ø–∞–≤—à–∏—Ö –ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–µ–µ, —á—Ç–æ –º—ã –º–æ–∂–µ–º —Å–¥–µ–ª–∞—Ç—å!!! –ï.–ò.–®–∞—Ö–æ–≤, –í–µ—Ç–µ—Ä–∞–Ω –≤–æ–π–Ω—ã. 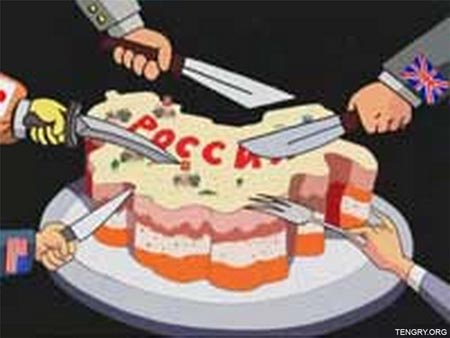 –°—á–∞—Å—Ç—å—è, –∑–¥–æ—Ä–æ–≤—å—è, –±–ª–∞–≥–æ–ø–æ–ª—É—á–∏—è –í–∞–º –∏ –í–∞—à–∏–º –±–ª–∏–∑–∫–∏–º. –ò –ü–æ–±–µ–¥—ã –Ω–∞–¥ " " –∏ "–≤–µ—Ä–æ—è—Ç–Ω—ã–º –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤–Ω–∏–∫–æ–º" - –í–∞–º, –≤–∞—à–∏–º –¥–µ—Ç—è–º –∏ –≤–Ω—É–∫–∞–º. 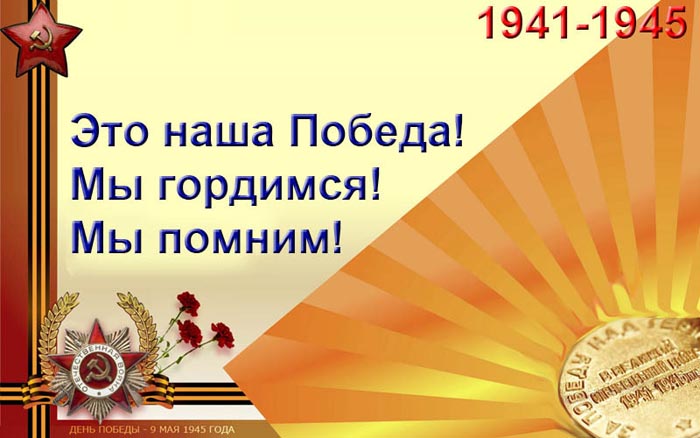 –ü–æ–¥–≥–æ—Ç—ã –∏ –ø–∏—Ç–æ–Ω—ã.
09.05.201300:3609.05.2013 00:36:14
0
08.05.201322:4308.05.2013 22:43:44
–í —Å–≤–æ—é –æ—á–µ—Ä–µ–¥—å –§—Ä–æ–ª —Å —É–¥–æ–≤–æ–ª—å—Å—Ç–≤–∏–µ–º –≤—ã–ø–æ–ª–Ω—è–ª –º–∞—Ç—Ä–æ—Å—Å–∫–∏–µ –ø–æ—Ä—É—á–µ–Ω–∏—è ‚Äî –±–µ–≥–∞–ª –≤ –ª–∞–≤–æ—á–∫—É, –Ω–æ—Å–∏–ª –ª—é–±–æ–≤–Ω—ã–µ –∑–∞–ø–∏—Å–∫–∏ –±–æ—Ü–º–∞–Ω—Å–∫–∏–º –¥–æ—á–∫–∞–º. –ù–æ –§—Ä–æ–ª –Ω–∏–∫–æ–≥–¥–∞ –Ω–µ —Å–æ–≥–ª–∞—à–∞–ª—Å—è –ø—Ä–∏–Ω–æ—Å–∏—Ç—å –Ω–∞ –∫–æ—Ä–∞–±–ª—å –≤–æ–¥–∫—É. –°–ª–∏—à–∫–æ–º –ø–∞–º—è—Ç–µ–Ω –±—ã–ª –µ–º—É –æ—Ç—Ü–æ–≤—Å–∫–∏–π —Ä–µ–º–µ–Ω—å. –î—Ä—É–∂–∞ —Å –º–∞—Ç—Ä–æ—Å–∞–º–∏, –§—Ä–æ–ª —Ä–∞—Å—Ç–µ—Ä—è–ª —Å–≤–æ–∏—Ö —Ç–æ–≤–∞—Ä–∏—â–µ–π ‚Äî —Å–≤–µ—Ä—Å—Ç–Ω–∏–∫–æ–≤. –î–µ–≤—á–æ–Ω–æ–∫ –æ–Ω –ø—Ä–µ–∑–∏—Ä–∞–ª –≤—Å–µ–π –¥—É—à–æ–π. –û–Ω–∏ –¥—Ä–∞–∑–Ω–∏–ª–∏ –µ–≥–æ —Ç–æ ¬´—Ä—ã–∂–∏–º-–±–µ—Å—Å—Ç—ã–∂–∏–º¬ª, —Ç–æ ¬´–∫—Ä–∞—Å–Ω—ã–º-–Ω–µ—Å—á–∞—Å—Ç–Ω—ã–º¬ª, —Ç–æ —Å–ø—Ä–∞—à–∏–≤–∞–ª–∏, –ø–æ—á–µ–º –æ–Ω –ø—Ä–æ–¥–∞—Å—Ç —Ñ—É–Ω—Ç –≤–µ—Å–Ω—É—à–µ–∫, –∏ –æ–Ω, —Å–ª–æ–≤–∏–≤ –¥–≤—É—Ö –∏–ª–∏ —Ç—Ä–µ—Ö –Ω–∞—Å–º–µ—à–Ω–∏—Ü, –ø–æ–Ω—è–ª, —á—Ç–æ –µ—Å–ª–∏ –¥—Ä–∞–∫–∞ —Å –º–∞–ª—å—á–∏—à–∫–∞–º–∏ –¥–æ—Å—Ç–∞–≤–ª—è–µ—Ç –æ–≥—Ä–æ–º–Ω–æ–µ —É–¥–æ–≤–æ–ª—å—Å—Ç–≤–∏–µ, —Ç–æ –¥—Ä–∞—Ç—å—Å—è —Å –¥–µ–≤—á–æ–Ω–∫–æ–π –≤–æ–≤—Å–µ –Ω–µ –≤–µ—Å–µ–ª–æ: —Å—Ä–∞–∑—É –ø—É—Å–∫–∞–µ—Ç —Å–ª–µ–∑—É, –æ—Ä–µ—Ç, –±—É–¥—Ç–æ –µ–µ —Ä–µ–∂—É—Ç: ¬´–û–π, –º–∞–º–∞¬ª, –∞ —Å–∞–º–∞ –Ω–æ—Ä–æ–≤–∏—Ç –∑–∞–ø—É—Å—Ç–∏—Ç—å —Ç–µ–±–µ –∫–æ–≥—Ç–∏ –≤ –≥–ª–∞–∑–∞ –∏–ª–∏ –≤ –∫—Ä–æ–≤—å —Ä–∞—Å—Ü–∞—Ä–∞–ø–∞—Ç—å –ª–∏—Ü–æ. –ò –æ–Ω –ø–µ—Ä–µ—Å—Ç–∞–ª –æ–±—Ä–∞—â–∞—Ç—å –≤–Ω–∏–º–∞–Ω–∏–µ –Ω–∞ –¥–µ–≤—á–æ–Ω–æ–∫ –∏ –Ω–∞ –∏—Ö –ø—Ä–∏—Å—Ç–∞–≤–∞–Ω–∏—è, –∞ –æ–Ω–∏, –≤–∏–¥—è, —á—Ç–æ, –∫–∞–∫ –µ–≥–æ –Ω–∏ –¥—Ä–∞–∑–Ω–∏, –æ–Ω –∏—Å—Ç—É–∫–∞–Ω –∫–∞–º–µ–Ω–Ω—ã–π, –æ—Å—Ç–∞–≤–∏–ª–∏ –µ–≥–æ –≤ –ø–æ–∫–æ–µ. –ò –§—Ä–æ–ª —à–µ–ª –Ω–∞ —Ç—Ä–∞–ª—å—â–∏–∫, —Å–º—É—Ç–Ω–æ –Ω–∞–¥–µ—è—Å—å, —á—Ç–æ –∫–æ–≥–¥–∞-–Ω–∏–±—É–¥—å –æ—Ç–µ—Ü —Å–º–∏–ª–æ—Å—Ç–∏–≤–∏—Ç—Å—è –∏ –≤–æ–∑—å–º–µ—Ç –µ–≥–æ —Å —Å–æ–±–æ–π –≤ –º–æ—Ä–µ. –ü—Ä–æ—Å–∏—Ç—å –æ–± —ç—Ç–æ–º –æ—Ç—Ü–∞ –æ–Ω –Ω–µ —Å–º–µ–ª. –®–∞–ª—å–Ω–∞—è –º—ã—Å–ª—å –∑–∞–±—Ä–∞—Ç—å—Å—è –∫—É–¥–∞-–Ω–∏–±—É–¥—å –≤ —É–∫—Ä–æ–º–Ω–æ–µ –º–µ—Å—Ç–æ –∏ –≤—ã–ª–µ–∑—Ç–∏ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –≤ –æ—Ç–∫—Ä—ã—Ç–æ–º –º–æ—Ä–µ, –≤–æ –≤—Ä–µ–º—è —Ç—Ä–∞–ª–µ–Ω–∏—è, –±—ã—Å—Ç—Ä–æ —Å–º–µ–Ω—è–ª–∞—Å—å —Å—Ç—Ä–∞—Ö–æ–º –ø–µ—Ä–µ–¥ —É–∂–∞—Å–Ω—ã–º –≤–æ–∑–º–µ–∑–¥–∏–µ–º ‚Äî –æ—Ç–µ—Ü, –æ–Ω —ç—Ç–æ —Ç–≤–µ—Ä–¥–æ –∑–Ω–∞–ª, –∑–∞ —Ç–∞–∫—É—é –ø—Ä–æ–¥–µ–ª–∫—É –µ–≥–æ –Ω–µ –ø–æ–º–∏–ª—É–µ—Ç. –ê –§—Ä–æ–ª –æ—á–µ–Ω—å –¥–æ—Ä–æ–∂–∏–ª —Å–≤–æ–µ–π —Å–∏–ª—å–Ω–æ –ø–æ–ø–æ—Ä—á–µ–Ω–Ω–æ–π, –Ω–æ –≤—Å–µ –∂–µ –¥–æ—Ä–æ–≥–æ–π –µ–º—É —à–∫—É—Ä–æ–π. –í –Ω–æ—á—å –Ω–∞ –∏—é–Ω—å—Å–∫–æ–µ –≤–æ—Å–∫—Ä–µ—Å–µ–Ω—å–µ —Å–æ—Ä–æ–∫ –ø–µ—Ä–≤–æ–≥–æ –≥–æ–¥–∞ –æ—Ç–µ—Ü –Ω–æ—á–µ–≤–∞–ª –¥–æ–º–∞. –ò—Ö —Ä–∞–∑–±—É–¥–∏–ª –≥—É—Å—Ç–æ–π –≥—É–¥–æ–∫ –ú–æ—Ä—Å–∫–æ–≥–æ –∑–∞–≤–æ–¥–∞. –û—Ç–µ—Ü –≤—Å–∫–æ—á–∏–ª, —Å–ª–æ–≤–Ω–æ –ø–æ —Ç—Ä–µ–≤–æ–≥–µ, –±—ã—Å—Ç—Ä–æ –æ–¥–µ–ª—Å—è –∏, —Å–∫–∞–∑–∞–≤ –ª–∏—à—å –æ–¥–Ω–æ –∫—Ä–æ—Ç–∫–æ–µ —Å–ª–æ–≤–æ ¬´–ø–æ–∫–∞¬ª, —É—à–µ–ª –≤ —Ç–µ–º–Ω–æ—Ç—É. –ê –ø–æ –Ω–µ–±—É —É–∂–µ —á–µ—Ä—Ç–∏–ª–∏ –ø—Ä–æ–∂–µ–∫—Ç–æ—Ä–∞, –ª—É—á–∏ —Å–∫—Ä–µ—â–∏–≤–∞–ª–∏—Å—å, —á—Ç–æ-—Ç–æ –Ω–∞—â—É–ø—ã–≤–∞–ª–∏, –ª–∏—Ö–æ—Ä–∞–¥–æ—á–Ω–æ –±–µ–≥–∞–ª–∏ –≤–∑–∞–¥-–≤–ø–µ—Ä–µ–¥, –∏ –§—Ä–æ–ª, –≤—ã—Å–∫–æ—á–∏–≤ –≤–æ –¥–≤–æ—Ä –≥–æ–ª—ã—à–æ–º, —É–≤–∏–¥–µ–ª –º–µ–¥–ª–µ–Ω–Ω–æ —Å–ø—É—Å–∫–∞—é—â–∏–µ—Å—è —Å –Ω–µ–±–∞ –ø–∞—Ä–∞—à—é—Ç—ã. –û–Ω –∑–Ω–∞–ª, —á—Ç–æ —Ç–∞–∫–æ–µ –≤–æ–∑–¥—É—à–Ω—ã–π –¥–µ—Å–∞–Ω—Ç, –Ω–æ –≤ —ç—Ç—É –Ω–æ—á—å —Å–∞–º–æ–ª–µ—Ç—ã —Å–±—Ä–æ—Å–∏–ª–∏ –Ω–∞ –ø–∞—Ä–∞—à—é—Ç–∞—Ö –º–∏–Ω—ã, –ø—ã—Ç–∞—è—Å—å –∑–∞–∫—Ä—ã—Ç—å –ß–µ—Ä–Ω–æ–º–æ—Ä—Å–∫–∏–π —Ñ–ª–æ—Ç –≤ –±—É—Ö—Ç–∞—Ö. –ú–∞—Ç—å, –¥–µ—Ä–∂–∞—Å—å –∑–∞ –±–æ–ª—å–Ω—É—é –≥—Ä—É–¥—å, –≤ —É–∂–∞—Å–µ —Å–º–æ—Ç—Ä–µ–ª–∞ –≤ –±–µ—Å–Ω—É—é—â–µ–µ—Å—è –Ω–µ–±–æ; –≤–æ –¥–≤–æ—Ä–∞—Ö —Ç—Ä–µ–≤–æ–∂–Ω–æ –≤—ã–ª–∏ —Å–æ–±–∞–∫–∏; –æ–Ω–∏ –∑–∞–±–∏–ª–∏—Å—å –ø–æ–¥ –∫—Ä—ã–ª—å—Ü–æ –∏ –Ω–∞–≤–µ—Å—ã, –∫–∞–∫ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –∫–æ—Ä–∞–±–ª–∏ –æ—Ç–∫—Ä—ã–ª–∏ –ø–æ –Ω–µ–±—É —Å—Ç—Ä–µ–ª—å–±—É. –ê –ø–æ –∫—Ä—ã—à–∞–º –∑–∞—â–µ–ª–∫–∞–ª–∏ –≥—É–ª–∫–æ –æ—Å–∫–æ–ª–∫–∏, —Å–ª–æ–≤–Ω–æ –ø—Ä–æ–ª–∏–ª—Å—è –∏–∑ –Ω–µ–≤–∏–¥–∏–º–æ–π —Ç—É—á–∏ –º–µ—Ç–∞–ª–ª–∏—á–µ—Å–∫–∏–π .  –ù–∞ –¥—Ä—É–≥–æ–µ —É—Ç—Ä–æ –§—Ä–æ–ª –Ω–∞–±–ª—é–¥–∞–ª, –∫–∞–∫ —Å—Ç—Ä–µ–º–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –±–µ–≥–∞–ª–∏ –∫–∞—Ç–µ—Ä–∞, —á–µ—Ä—Ç—è –±—É—Ö—Ç—ã, –∏ –∫–∞–∫ —Ç–æ –æ–¥–∏–Ω, —Ç–æ –¥—Ä—É–≥–æ–π –∫–∞—Ç–µ—Ä –∏—Å—á–µ–∑–∞–ª –≤ —Ñ–æ–Ω—Ç–∞–Ω–µ –ø–æ–¥–Ω—è–≤—à–µ–π—Å—è –∑–∞ –∫–æ—Ä–º–æ–π –≥—Ä—è–∑–Ω–æ-–±–µ–ª–æ–π –≤–æ–¥—ã ‚Äî –∏ –≤—Å—è–∫–∏–π —Ä–∞–∑ –æ–≥–ª—É—à–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –±—É—Ö–∞–ª–æ: –∫–∞—Ç–µ—Ä–∞ —Ä–≤–∞–ª–∏ –º–∏–Ω—ã. –û—Ç—Ü–æ–≤—Å–∫–∏–π —Ç—Ä–∞–ª—å—â–∏–∫ —É—Ö–æ–¥–∏–ª —Ä–∞—Å—á–∏—â–∞—Ç—å —Ñ–∞—Ä–≤–∞—Ç–µ—Ä—ã —Ç—Ä–∞–Ω—Å–ø–æ—Ä—Ç–∞–º, –ø—Ä–∏–≤–æ–∑–∏–≤—à–∏–º —Å –ö–∞–≤–∫–∞–∑–∞ –≤ –æ—Å–∞–∂–¥–µ–Ω–Ω—ã–π –≥–æ—Ä–æ–¥ —Å–Ω–∞—Ä—è–¥—ã –∏ –ø—Ä–æ–¥–æ–≤–æ–ª—å—Å—Ç–≤–∏–µ –∏ —É–≤–æ–∑–∏–≤—à–∏–º —Ä–∞–Ω–µ–Ω—ã—Ö. –ï–≥–æ –Ω–∞–∑—ã–≤–∞–ª–∏ –≤–µ–∑—É—á–∏–º. –ù–æ –æ–¥–Ω–∞–∂–¥—ã –æ–Ω –Ω–µ –≤–µ—Ä–Ω—É–ª—Å—è. –§—Ä–æ–ª –º–æ–≥ –ø–æ–∫–ª—è—Å—Ç—å—Å—è, —á—Ç–æ —Å—Ä–µ–¥–∏ –º–Ω–æ–≥–∏—Ö –≤–∑—Ä—ã–≤–æ–≤, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –æ–Ω —Å–ª—ã—à–∞–ª –≤ —Ç–æ—Ç –¥–µ–Ω—å, –æ—Ç –æ–¥–Ω–æ–≥–æ —Å–∂–∞–ª–æ—Å—å —Å–µ—Ä–¥—Ü–µ. –§—Ä–æ–ª –±—ã–ª –≤ –¥—É—à–µ —É–±–µ–∂–¥–µ–Ω, —á—Ç–æ –∏–º–µ–Ω–Ω–æ —ç—Ç–æ—Ç –≤–∑—Ä—ã–≤ –∏ –≤–æ–∑–≤–µ—Å—Ç–∏–ª –æ –≥–∏–±–µ–ª–∏ –æ—Ç—Ü–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ —Ç—Ä–∞–ª—å—â–∏–∫–∞, –∏ —ç—Ç–∞ —É–±–µ–∂–¥–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç—å —Ç–∞–∫ –∏ –æ—Å—Ç–∞–ª–∞—Å—å –≤ –Ω–µ–º –Ω–∞–≤—Å–µ–≥–¥–∞. –§—Ä–æ–ª, –∫–∞–∫ –∏ –≤—Å–µ —Å–µ–≤–∞—Å—Ç–æ–ø–æ–ª—å—Å–∫–∏–µ –º–∞–ª—å—á–∏—à–∫–∏ –∏ –¥–∞–∂–µ –¥–µ–≤—á–æ–Ω–∫–∏, –Ω–µ —Å–∏–¥–µ–ª –±–µ–∑ –¥–µ–ª–∞. –ö–∞–∫ –∏ –æ–Ω–∏, –æ–Ω —É—á–∏–ª—Å—è –≤ –ø–æ–¥–∑–µ–º–Ω–æ–π —à–∫–æ–ª–µ. –ö–∞–∫ –∏ –æ–Ω–∏, —Å—Ç–∞—Ä–∞–ª—Å—è –ø—Ä–∏–Ω—è—Ç—å —É—á–∞—Å—Ç–∏–µ –≤ –±–∏—Ç–≤–µ. –ù–∞ –ò—Å—Ç–æ—Ä–∏—á–µ—Å–∫–æ–º –æ–Ω –ø–æ–¥–Ω–æ—Å–∏–ª —Å–Ω–∞—Ä—è–¥—ã –∑–µ–Ω–∏—Ç—á–∏–∫–∞–º. –û–Ω –ø–æ–¥–≥—Ä–µ–±–∞–ª –¥–µ–¥—É-—è–ª–∏—á–Ω–∏–∫—É –ú–∞–∫–∞—Ä—É, –ø–µ—Ä–µ–≤–æ–∑–∏–≤—à–µ–º—É –Ω–∞ –ö–æ—Ä–∞–±–µ–ª—å–Ω—É—é —É–≤–µ—à–∞–Ω–Ω—ã—Ö –æ—Ä—É–∂–∏–µ–º –º–æ—Ä—è–∫–æ–≤. –û–Ω —Å–æ–±–∏—Ä–∞–ª –¥–ª—è —Ç–∞–Ω–∫–∏—Å—Ç–æ–≤ –ø—É—Å—Ç—ã–µ –±—É—Ç—ã–ª–∫–∏. –û–Ω –ø–æ–¥—Å–æ–±–ª—è–ª —Å–±–∏–≤—à–∏–º—Å—è —Å –Ω–æ–≥ —Å–∞–Ω–∏—Ç–∞—Ä–∞–º –ø–µ—Ä–µ—Ç–∞—Å–∫–∏–≤–∞—Ç—å —Ä–∞–Ω–µ–Ω—ã—Ö. –û–Ω –ø—Ä–∏–≤—ã–∫ –∫ –Ω–µ–ø—Ä–µ—Ä—ã–≤–Ω–æ–º—É –≥—Ä–æ—Ö–æ—Ç—É –±–æ—è; –æ–Ω –∑–Ω–∞–ª, —á—Ç–æ –ø–æ—á—Ç–∏ —Å—Ç–æ –ª–µ—Ç –Ω–∞–∑–∞–¥ —Ç–∞–∫–∏–µ –∂–µ, –∫–∞–∫ –æ–Ω, —Å–µ–≤–∞—Å—Ç–æ–ø–æ–ª—å—Å–∫–∏–µ –º–∞–ª—å—á–∏—à–∫–∏ –Ω–∞ –ò—Å—Ç–æ—Ä–∏—á–µ—Å–∫–æ–º –ø–æ–¥–Ω–æ—Å–∏–ª–∏ —è–¥—Ä–∞ –∫ –æ—Ä—É–¥–∏—è–º, –≤–º–µ—Å—Ç–µ —Å —è–ª–∏—á–Ω–∏–∫–∞–º–∏ –ø–µ—Ä–µ–≤–æ–∑–∏–ª–∏ —Ä–∞–Ω–µ–Ω—ã—Ö –∏ —Ç–∞—Å–∫–∞–ª–∏ –≤–æ–¥—É –Ω–∞ –±–∞—Å—Ç–∏–æ–Ω—ã. –§—Ä–æ–ª –ø–æ–≤–∏–¥–∞–ª –Ω–µ–º–∞–ª–æ —Å–º–µ—Ä—Ç–µ–π ‚Äî –Ω–∞ —É–ª–∏—Ü–∞—Ö –æ—Å–∞–∂–¥–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –≥–æ—Ä–æ–¥–∞, –Ω–∞ –≥–µ—Ä–æ–∏—á–µ—Å–∫–∏—Ö –±–∞—Ç–∞—Ä–µ—è—Ö; –æ–Ω –≤–∏–¥–µ–ª, –∫–∞–∫ —É–º–∏—Ä–∞–ª–∏ –≤–Ω–µ–∑–∞–ø–Ω–æ —Å—Ä–∞–∂–µ–Ω–Ω—ã–µ –æ—Å–∫–æ–ª–∫–∞–º–∏ –ª—é–¥–∏, –∫–∞–∫ —É–º–∏—Ä–∞–ª–∏ –∂–µ–Ω—â–∏–Ω—ã –∏ –µ–≥–æ —Å–≤–µ—Ä—Å—Ç–Ω–∏–∫–∏. –û–Ω –ø—Ä–∏–≤—ã–∫ –≤–∏–¥–µ—Ç—å —Å–º–µ—Ä—Ç—å; –ø–æ—á–µ–º—É-—Ç–æ –≤–æ–≤—Å–µ –Ω–µ –ø—Ä–∏—Ö–æ–¥–∏–ª–∞ –≤ –≥–æ–ª–æ–≤—É –º—ã—Å–ª—å, —á—Ç–æ –æ–Ω —Å–∞–º –º–æ–∂–µ—Ç —Å—Ç–∞—Ç—å –µ–µ –∂–µ—Ä—Ç–≤–æ–π. –°–º–µ—Ä—Ç—å –æ—Ç—Ü–∞ —á—Ä–µ–∑–≤—ã—á–∞–π–Ω–æ –æ–∑–ª–æ–±–∏–ª–∞ –µ–≥–æ —Å–µ—Ä–¥—Ü–µ. –û—Ç–µ—Ü –±—ã–ª –º–æ–ª–æ–¥ –∏ –º–æ–≥ –ø—Ä–æ–∂–∏—Ç—å –º–Ω–æ–≥–æ –ª–µ—Ç. –ò –¥–µ—Å—è—Ç–∫–∏ –ª–µ—Ç –æ–Ω –±—ã –µ—â–µ –º–æ–≥ —Ö–æ–¥–∏—Ç—å –Ω–∞ —Å–≤–æ–µ–º —Ç—Ä–∞–ª—å—â–∏–∫–µ –≤ –º–æ—Ä–µ, –∏, –±—ã—Ç—å –º–æ–∂–µ—Ç, –§—Ä–æ–ª—É –¥–æ–≤–µ–ª–æ—Å—å –±—ã —Å–ª—É–∂–∏—Ç—å –≤–º–µ—Å—Ç–µ —Å –Ω–∏–º. –¢–µ–ø–µ—Ä—å —ç—Ç–æ–≥–æ –Ω–∏–∫–æ–≥–¥–∞ –Ω–µ —Å–ª—É—á–∏—Ç—Å—è. –ú–∞—Ç—å –ø–æ—á–µ—Ä–Ω–µ–ª–∞ –æ—Ç –≥–æ—Ä—è –∏ –Ω–∞—á–∞–ª–∞ –∑–∞–≥–æ–≤–∞—Ä–∏–≤–∞—Ç—å—Å—è. –ê –§—Ä–æ–ª —Å–Ω—è–ª —Å–æ —Å—Ç–µ–Ω—ã –æ—Ç—Ü–æ–≤—Å–∫–∏–π —Ä–µ–º–µ–Ω—å –∏ –ø–æ–¥–ø–æ—è—Å–∞–ª—Å—è –∏–º. –ï–º—É –∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å, —á—Ç–æ –æ—Ç —Ä–µ–º–Ω—è –∏—Å—Ö–æ–¥–∏—Ç –∑–Ω–∞–∫–æ–º—ã–π –∑–∞–ø–∞—Ö ‚Äî –∑–∞–ø–∞—Ö –æ—Ç—Ü–∞, —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫–∞ —Å—É—Ä–æ–≤–æ–≥–æ, –Ω–æ —Å–ø—Ä–∞–≤–µ–¥–ª–∏–≤–æ–≥–æ –∏ –≤—Å–µ–≥–¥–∞ –∂–µ–ª–∞–≤—à–µ–≥–æ —Å—ã–Ω—É –¥–æ–±—Ä–∞. –ö —Ä–µ–º–Ω—é –≤–º–µ—Å—Ç–æ –∑–ª–æ–±—ã –æ–Ω –≤–ø–µ—Ä–≤—ã–µ –ø–æ—á—É–≤—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª –Ω–µ–∂–Ω–æ—Å—Ç—å.  –§—Ä–æ–ª –≤—Å–µ–π –¥—É—à–æ–π –≤–æ–∑–Ω–µ–Ω–∞–≤–∏–¥–µ–ª –≤—Ä–∞–≥–∞, –∫–≤–∞—Ä—Ç–∞–ª –∑–∞ –∫–≤–∞—Ä—Ç–∞–ª–æ–º —Ä–∞–∑—Ä—É—à–∞–≤—à–µ–≥–æ –µ–≥–æ —Ä–æ–¥–Ω–æ–π , –∏ –≥–æ—Ç–æ–≤ –±—ã–ª —Å–æ –≤—Å–µ–º –º–∞–ª—å—á–∏—à–µ—á—å–∏–º –ø—ã–ª–æ–º –∏–¥—Ç–∏ –Ω–∞ –ø–µ—Ä–µ–¥–æ–≤—É—é –ª–∏–Ω–∏—é —Å –∞–≤—Ç–æ–º–∞—Ç–æ–º, –¥–æ –ø–µ—Ä–µ–¥–æ–≤–æ–π –±—ã–ª–æ ¬´—Ä—É–∫–æ—é –ø–æ–¥–∞—Ǘ嬪. –ù–æ –∞–≤—Ç–æ–º–∞—Ç–∞ –µ–º—É –Ω–∏–∫—Ç–æ –Ω–µ –¥–æ–≤–µ—Ä–∏–ª. –û–Ω –≥–æ—Ç–æ–≤ –±—ã–ª –æ–±–≤—è–∑–∞—Ç—å—Å—è –≥—Ä–∞–Ω–∞—Ç–∞–º–∏ –∏ –ª–µ—á—å –ø–æ–¥ —Ç–∞–Ω–∫–∏, –∫–∞–∫ —ç—Ç–æ –¥–µ–ª–∞–ª–∏, –∑–Ω–∞–ª –æ–Ω, –º–∞—Ç—Ä–æ—Å—ã. –ù–æ –∫—Ç–æ –±—ã –ø—É—Å—Ç–∏–ª –µ–≥–æ –Ω–∞ —Ç–∞–∫–æ–µ –¥–µ–ª–æ? –ê –æ–Ω, –ø–æ–¥–≤–µ—Ä–Ω–∏—Å—å –µ–º—É —Å–ª—É—á–∞–π, –Ω–µ –∑–∞–¥—É–º—ã–≤–∞—è—Å—å –Ω–µ –ø–æ–∂–∞–ª–µ–ª –±—ã —Å–æ–±—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–π –∂–∏–∑–Ω–∏. –ï–º—É –±—ã–ª–æ –≤—Å–µ–≥–æ –æ–¥–∏–Ω–Ω–∞–¥—Ü–∞—Ç—å –ª–µ—Ç, –Ω–æ –≤–æ–π–Ω–∞ –µ–≥–æ —Å–¥–µ–ª–∞–ª–∞ –≤–∑—Ä–æ—Å–ª—ã–º. –û–¥–Ω–∞–∂–¥—ã –º–∞—Ç—å —É—à–ª–∞ –∑–∞ —Ö–ª–µ–±–æ–º –∏ –Ω–µ –≤–µ—Ä–Ω—É–ª–∞—Å—å. –§—Ä–æ–ª —Ü–µ–ª—ã–π –¥–µ–Ω—å –ø—Ä–æ–∏—Å–∫–∞–ª –µ–µ —Å—Ä–µ–¥–∏ –¥—ã–º—è—â–∏—Ö—Å—è —Ä–∞–∑–≤–∞–ª–∏–Ω! –û–Ω –Ω–∞—à–µ–ª –µ–µ –ø–æ–¥ –≤–µ—á–µ—Ä, –≤ –ø–µ—Ä–µ—É–ª–∫–µ, –≤–æ–∑–ª–µ —Ä–∞–∑—Ä—É—à–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –±–µ–ª–æ–≥–æ –¥–æ–º–∞, –∏–∑—É—Ä–æ–¥–æ–≤–∞–Ω–Ω—É—é —É–ø–∞–≤—à–µ–π —Å—Ç–µ–Ω–æ–π. –û–Ω–∞ –ª–µ–∂–∞–ª–∞ —Å –æ—Ç–∫—Ä—ã—Ç—ã–º–∏ –≥–ª–∞–∑–∞–º–∏, –≥–ª—è–¥–µ–≤—à–∏–º–∏ –≤ –Ω–µ–±–æ, —Å —Ä—É–∫–æ–π —É —Å–µ—Ä–¥—Ü–∞, –ø–µ—Ä–µ—Å—Ç–∞–≤—à–µ–≥–æ –±–∏—Ç—å—Å—è; –∫—É—Å–æ–∫ –±—É—Ä–æ–≥–æ —Ö–ª–µ–±–∞ –≤–∞–ª—è–ª—Å—è –≤ —Ö–æ–ª–æ–¥–Ω–æ–π –ø—ã–ª–∏. –§—Ä–æ–ª –ø–æ–¥–Ω—è–ª—Å—è —Å –∫–æ–ª–µ–Ω, –ø–æ–≥—Ä–æ–∑–∏–ª –∫—Ä–µ–ø–∫–æ —Å–∂–∞—Ç—ã–º –∫—É–ª–∞–∫–æ–º —Ç–µ–º, –∫—Ç–æ –µ–µ —É–±–∏–ª, –µ–µ, –Ω–µ –ø—Ä–∏—á–∏–Ω–∏–≤—à—É—é –Ω–∏–∫–æ–º—É –Ω–∏–∫–æ–≥–¥–∞ –Ω–∏–∫–∞–∫–æ–≥–æ –∑–ª–∞, –∏, —à–∞—Ç–∞—è—Å—å, –ø–æ–±—Ä–µ–ª, –Ω–∏—á–µ–≥–æ –Ω–µ –≤–∏–¥—è –æ—Ç –∑–∞–ª–∏–≤–∞–≤—à–∏—Ö –≥–ª–∞–∑–∞ —Å–ª–µ–∑, –∫ –ø—É—Å—Ç—ã–Ω–Ω–æ–º—É –∏ —É–¥–∏–≤–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ —Å–ø–æ–∫–æ–π–Ω–æ–º—É –º–æ—Ä—é. –û–Ω –¥–æ–ª–≥–æ —Å–∏–¥–µ–ª –æ–¥–∏–Ω –Ω–∞ –∫–∞–º–Ω—è—Ö, –ø–æ–¥–ø–µ—Ä–µ–≤ –ø–æ–¥–±–æ—Ä–æ–¥–æ–∫ –æ–±–æ–¥—Ä–∞–Ω–Ω—ã–º–∏ —Ä—É–∫–∞–º–∏, –ø–æ–∫–∞ –Ω–µ –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª –≤ —Å—É–º–µ—Ä–∫–∞—Ö –∫—Ä–∞–¥—É—â–∏–π—Å—è —Å–∏–ª—É—ç—Ç –∫–∞–Ω–æ–Ω–µ—Ä—Å–∫–æ–π –ª–æ–¥–∫–∏. –≠—Ç–æ –±—ã–ª–∞ ¬´–ì—Ä–æ–∑–∞¬ª, —á–∞—Å—Ç–æ —à–≤–∞—Ä—Ç–æ–≤–∞–≤—à–∞—è—Å—è –±–æ–∫ –æ –±–æ–∫ —Å –æ—Ç—Ü–æ–≤—Å–∫–∏–º —Ç—Ä–∞–ª—å—â–∏–∫–æ–º. –ù–∞ ¬´–ì—Ä–æ–∑–µ¬ª –§—Ä–æ–ª–∞ –∑–Ω–∞–ª–∏. –í —Ç—É –∂–µ –Ω–æ—á—å –æ–Ω —É—à–µ–ª –Ω–∞ –ö–∞–≤–∫–∞–∑. –í –°–µ–≤–∞—Å—Ç–æ–ø–æ–ª–µ —É –Ω–µ–≥–æ –Ω–∏—á–µ–≥–æ –Ω–µ –æ—Å—Ç–∞–≤–∞–ª–æ—Å—å. –ù–∞ –∫–∞–Ω–æ–Ω–µ—Ä—Å–∫–æ–π –ª–æ–¥–∫–µ –§—Ä–æ–ª –ø–æ—á—É–≤—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª, —á—Ç–æ –æ–Ω –Ω—É–∂–µ–Ω. ¬´–ì—Ä–æ–∑–∞¬ª –±—ã–ª–∞ –ø–µ—Ä–µ–ø–æ–ª–Ω–µ–Ω–∞ —Ä–∞–Ω–µ–Ω—ã–º–∏, –∏ –º–∞—Ç—Ä–æ—Å—ã —Å–±–∏–≤–∞–ª–∏—Å—å —Å –Ω–æ–≥. –§—Ä–æ–ª –ø–æ–∏–ª –≤–æ–¥–æ–π —Ä–∞–Ω–µ–Ω—ã—Ö, —Ä–∞–∑–Ω–æ—Å–∏–ª —Ö–ª–µ–± –∏ –ø–æ—Ö–ª–µ–±–∫—É, –ø–æ–¥—Ç–∏—Ä–∞–ª –∫—Ä–æ–≤—å –Ω–∞ –ø–∞–ª—É–±–µ, —á–∏—Å—Ç–∏–ª –∏ –º—ã–ª –≥–∞–ª—å—é–Ω—ã ‚Äî –ø–æ—è–≤–ª—è–ª—Å—è –ø–æ–≤—Å—é–¥—É –≤ —Å–≤–æ–µ–º –ø–µ—Ä–µ—à–∏—Ç–æ–º –±—É—à–ª–∞—Ç–µ –∏ –≤ –æ—Ç—Ü–æ–≤—Å–∫–æ–π —Å—Ç–∞—Ä–æ–π —Ñ—É—Ä–∞–∂–∫–µ –±–µ–∑ ¬´–∫—Ä–∞–±–∞¬ª. –ù–∞–∫–æ–Ω–µ—Ü-—Ç–æ –æ–Ω –æ—á—É—Ç–∏–ª—Å—è –≤ –º–æ—Ä–µ, –Ω–∞ –∫–æ—Ä–∞–±–ª–µ, –≤ –±–æ–µ–≤–æ–π –æ–±—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∫–µ. –ù–µ —Ä–∞–∑ –∏–∑ –≤–æ–¥—ã –ø–æ—è–≤–ª—è–ª–∞—Å—å –∏–≥–ª–∞ –ø–µ—Ä–∏—Å–∫–æ–ø–∞, –∏ –æ—Ç –ø–µ—Ä–∏—Å–∫–æ–ø–∞ –±–µ–∂–∞–ª–∞ –∑–ª–æ–≤–µ—â–∞—è –ø–µ–Ω–∏—Å—Ç–∞—è –¥–æ—Ä–æ–∂–∫–∞. –¢–æ–≥–¥–∞ –ª–∏–ø–∫–∏–π –ø–æ—Ç –≤—ã—Å—Ç—É–ø–∞–ª –ø–æ–¥ —Ç–µ–ª—å–Ω—è—à–∫–æ–π ‚Äî –§—Ä–æ–ª –æ—Ç–ª–∏—á–Ω–æ –∑–Ω–∞–ª, —á—Ç–æ —ç—Ç–æ —Å–∫–æ–ª—å–∑–∏—Ç —Ç–æ—Ä–ø–µ–¥–∞, —Å–∫–æ–ª—å–∑–∏—Ç —Å–∞–º–∞ —Å–º–µ—Ä—Ç—å. 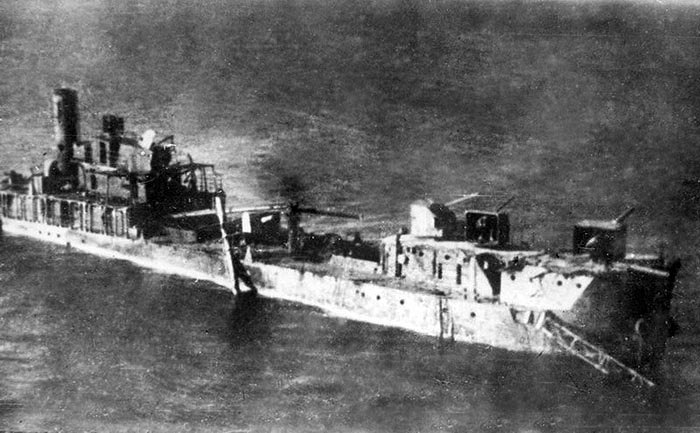 –ù–∞ —Ç—Ä–µ—Ç–∏–π –¥–µ–Ω—å –æ–Ω–∏ —É–≤–∏–¥–µ–ª–∏ –∫–∞–≤–∫–∞–∑—Å–∫–∏–µ –±–µ—Ä–µ–≥–∞. –¢—Ä–æ–µ —Ä–∞–Ω–µ–Ω—ã—Ö –≤ –ø—É—Ç–∏ —É–º–µ—Ä–ª–∏. –≠—Ç–æ –±—ã–ª–∏ —Å–æ–≤—Å–µ–º –º–æ–ª–æ–¥—ã–µ —Ä–µ–±—è—Ç–∞. –ù–∞–≤–µ—Ä–Ω–æ–µ, –∏–º —Ö–æ—Ç–µ–ª–æ—Å—å –µ—â–µ –¥–æ–ª–≥–æ –∂–∏—Ç—å –∏ —Å–æ–π—Ç–∏ —Ö–æ—Ç—å –Ω–∞ –∫–æ—Å—Ç—ã–ª—è—Ö –Ω–∞ –±–µ—Ä–µ–≥. –í –¥–∞–ª–µ–∫–æ–º –∫–∞–≤–∫–∞–∑—Å–∫–æ–º –ø–æ—Ä—Ç—É, –∫—É–¥–∞ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –∏–∑—Ä–µ–¥–∫–∞ –∑–∞–ª–µ—Ç–∞–ª–∏ —Å–∞–º–æ–ª–µ—Ç—ã –≤—Ä–∞–≥–∞, —Å–≥—Ä—É–∑–∏–ª–∏ —Ä–∞–Ω–µ–Ω—ã—Ö –∏ –æ—Ç–ø—Ä–∞–≤–∏–ª–∏ –≤ –≥–æ—Å–ø–∏—Ç–∞–ª—å. ¬´–ì—Ä–æ–∑–∞¬ª —Å—Ç–∞–ª–∞ –Ω–∞–≥—Ä—É–∂–∞—Ç—å—Å—è –±–æ–µ–ø—Ä–∏–ø–∞—Å–∞–º–∏ –∏ –ø—Ä–æ–¥–æ–≤–æ–ª—å—Å—Ç–≤–∏–µ–º, —á—Ç–æ–±—ã –æ–ø—è—Ç—å –∏–¥—Ç–∏ –≤ –°–µ–≤–∞—Å—Ç–æ–ø–æ–ª—å. –§—Ä–æ–ª –ø—Ä–µ–≤—Ä–∞—Ç–∏–ª—Å—è –≤ –≥—Ä—É–∑—á–∏–∫–∞ –∏, –∫—Ä—è—Ö—Ç—è, —Ç–∞—Å–∫–∞–ª —Ç—è–∂–µ–ª—ã–µ —è—â–∏–∫–∏, —Ç–æ–ª—å–∫–æ –æ—Ç–º–∞—Ö–∏–≤–∞—è—Å—å, –∫–æ–≥–¥–∞ —É–±–µ–∂–¥–∞–ª–∏, —á—Ç–æ –æ–Ω –Ω–∞–¥–æ—Ä–≤–µ—Ç—Å—è. –ö–æ–º–∞–Ω–¥–∏—Ä ¬´–ì—Ä–æ–∑—㬪 —Å–º–æ—Ç—Ä–µ–ª –Ω–∞ –Ω–µ–≥–æ —Å –º–æ—Å—Ç–∏–∫–∞, –≤—Å–ø–æ–º–∏–Ω–∞—è —Å—ã–Ω–∞. –ï–≥–æ —Å—ã–Ω, —Ç–∞–∫–æ–π –∂–µ, –∫–∞–∫ –§—Ä–æ–ª, –º–∞–ª—å—á—É–≥–∞–Ω, –æ—Å—Ç–∞–ª—Å—è –≤ —Å—Ç–µ–ø–Ω–æ–º –≥–æ—Ä–æ–¥–∫–µ –£–∫—Ä–∞–∏–Ω—ã, –∑–∞–Ω—è—Ç–æ–º –Ω–µ–º—Ü–∞–º–∏. –ü—Ä–∏–±–ª–∏–∂–∞–ª—Å—è —É–∂–µ —á–∞—Å –æ—Ç—Ö–æ–¥–∞. –ö–æ–º–∞–Ω–¥–∏—Ä –ø–æ–∑–≤–∞–ª –§—Ä–æ–ª–∞. –§—Ä–æ–ª –≤–∑–±–µ–∂–∞–ª –Ω–∞ –º–æ—Å—Ç–∏–∫. –£ –∫–æ–º–∞–Ω–¥–∏—Ä–∞ –±—ã–ª–∏ –≥—Ä—É—Å—Ç–Ω—ã–µ –∏ —É—Å—Ç–∞–ª—ã–µ –æ—Ç –±–µ—Å—Å–æ–Ω–Ω–∏—Ü—ã –≥–ª–∞–∑–∞. –û–Ω –ø—Ä–æ—Ç—è–Ω—É–ª –§—Ä–æ–ª—É –ø–∞—á–∫—É —Ä–æ–∑–æ–≤—ã—Ö —Ç—Ä–∏–¥—Ü–∞—Ç–∏—Ä—É–±–ª–µ–≤–æ–∫ –∏ –Ω–∞–¥–∞–≤–∞–ª –µ–º—É –≤—Å—è—á–µ—Å–∫–∏—Ö –ø–æ—Ä—É—á–µ–Ω–∏–π. –§—Ä–æ–ª –æ—Ö–æ—Ç–Ω–æ –ø–æ–±–µ–∂–∞–ª –≤ –≥–æ—Ä–æ–¥ ‚Äî –æ–Ω —É–≤–∞–∂–∞–ª —ç—Ç–æ–≥–æ —Å–ø–æ–∫–æ–π–Ω–æ–≥–æ –∏ —Ö—Ä–∞–±—Ä–æ–≥–æ —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫–∞. –Æ–∂–Ω—ã–π –±–∞–∑–∞—Ä —à—É–º–µ–ª. –ù–∞ —É–≥–ª—è—Ö –∂–∞—Ä–∏–ª–∏—Å—å —à–∞—à–ª—ã–∫–∏. –í –±–æ–ª—å—à–∏—Ö —Å–µ—Ä—ã—Ö –º–µ—à–∫–∞—Ö –ª–µ–∂–∞–ª–∏ —Å–≤–µ—Ç–ª–æ-–∑–µ–ª–µ–Ω—ã–µ –º–∞–Ω–¥–∞—Ä–∏–Ω—ã. –ü–æ–¥ –ø–æ–ª–æ—Å–∞—Ç—ã–º –Ω–∞–≤–µ—Å–æ–º –∑–∞–≥–æ—Ä–µ–ª—ã–µ —É—Å–∞—Ç—ã–µ –ª—é–¥–∏ –ø–∏–ª–∏ –≤–∏–Ω–æ –∏ –∫–æ—Ñ–µ, –∏ –º–æ–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –ø–æ–¥—É–º–∞—Ç—å, —á—Ç–æ –≤–æ–π–Ω—ã –Ω–µ—Ç –∏ –Ω–∏–≥–¥–µ –Ω–µ –ø–∞–¥–∞—é—Ç —Å –Ω–µ–±–∞ –±–æ–º–±—ã. –§—Ä–æ–ª –æ–±–µ–≥–∞–ª –≤—Å–µ –ª–∞—Ä—å–∫–∏ –∏ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –º–∞–≥–∞–∑–∏–Ω–æ–≤, –ø—Ä–µ–∂–¥–µ —á–µ–º –Ω–∞—à–µ–ª —Ç–æ, —á—Ç–æ –µ–º—É –±—ã–ª–æ –Ω—É–∂–Ω–æ. –°—á–∞—Å—Ç–ª–∏–≤—ã–π, —á—Ç–æ –≤—ã–ø–æ–ª–Ω–∏–ª –ø–æ—Ä—É—á–µ–Ω–∏–µ, –æ–Ω –ø–æ—Å–ø–µ—à–∏–ª –Ω–∞ –Ω–∞–±–µ—Ä–µ–∂–Ω—É—é. –°–æ–ª–Ω—Ü–µ —É–∂–µ —Å–∞–¥–∏–ª–æ—Å—å. –ù–∞ –≥–æ—Ä–∞—Ö –Ω–∞–¥ –≥–ª—É–±–æ–∫–æ–π –±—É—Ö—Ç–æ–π –ø–æ—Ä–æ–∑–æ–≤–µ–ª —Å–Ω–µ–≥. –ó–æ–ª–æ—Ç–∏–ª–∏—Å—å –≤–µ–µ—Ä–∞ –ø–∞–ª—å–º, –æ–∫–Ω–∞ –¥–æ–º–æ–≤ —Å–≤–µ—Ä–∫–∞–ª–∏, —Å–ª–æ–≤–Ω–æ –¥—Ä–∞–≥–æ—Ü–µ–Ω–Ω—ã–µ –∫–∞–º–Ω–∏. –§—Ä–æ–ª –≤—ã–±–µ–∂–∞–ª –∫ –º–æ—Ä—é –∏ –æ—Ç–æ—Ä–æ–ø–µ–ª ‚Äî ¬´–ì—Ä–æ–∑—㬪 –Ω–µ –±—ã–ª–æ. –û–Ω –Ω–µ –ø–æ–≤–µ—Ä–∏–ª —Å–≤–æ–∏–º –≥–ª–∞–∑–∞–º –∏ –∑–∞–º–µ—Ç–∞–ª—Å—è, –∫–∞–∫ –∑–∞—è—Ü, –Ω–∞–¥–µ—è—Å—å, —á—Ç–æ –ª–æ–¥–∫–∞ –ø–µ—Ä–µ—à–ª–∞ –∫ –¥—Ä—É–≥–æ–º—É –ø—Ä–∏—á–∞–ª—É. –û–Ω –∑–∞–ø—ã—Ö–∞–ª—Å—è. –ü–æ—Ç –ª–∏–ª –ø–æ –µ–≥–æ —â–µ–∫–∞–º. –û–Ω –æ–±–µ–≥–∞–ª –≤—Å—é –Ω–∞–±–µ—Ä–µ–∂–Ω—É—é, –≤—Å–µ –ø—Ä–∏—á–∞–ª—ã, –≤–µ—Å—å –º–æ–ª. –°–æ–≤—Å–µ–º —Å—Ç–µ–º–Ω–µ–ª–æ, –∫–æ–≥–¥–∞ –æ–Ω —Å–Ω–æ–≤–∞ –æ—á—É—Ç–∏–ª—Å—è –Ω–∞ —Ç–æ–º —Å–∞–º–æ–º –º–µ—Å—Ç–µ, –≥–¥–µ —Å–µ–≥–æ–¥–Ω—è –≥—Ä—É–∑–∏–ª–∞—Å—å –∫–∞–Ω–æ–Ω–µ—Ä—Å–∫–∞—è –ª–æ–¥–∫–∞. –°–æ–º–Ω–µ–Ω–∏–π –Ω–µ –±—ã–ª–æ. ¬´–ì—Ä–æ–∑–∞¬ª —É—à–ª–∞ –±–µ–∑ –Ω–µ–≥–æ. –û–ø–æ–∑–¥–∞–ª, –æ–ø–æ–∑–æ—Ä–∏–ª—Å—è! –í –∫–∞—Ä–º–∞–Ω–µ —à—É—Ä—à–∞–ª–∏ –Ω–µ–∏—Å—Ç—Ä–∞—á–µ–Ω–Ω—ã–µ —Ç—Ä–∏–¥—Ü–∞—Ç–∏—Ä—É–±–ª–µ–≤–∫–∏. –û–Ω –≤—ã–Ω—É–ª –∏—Ö, –ø–µ—Ä–µ—Å—á–∏—Ç–∞–ª. –ò –≤–¥—Ä—É–≥ —Å—Ä–∞–∑—É –≤—Å–ø–æ–º–Ω–∏–ª –≥—Ä—É—Å—Ç–Ω—ã–µ –≥–ª–∞–∑–∞ –∫–æ–º–∞–Ω–¥–∏—Ä–∞, –±—Ä–æ—à–µ–Ω–Ω—ã–µ –∏–º –∫–∞–∫-—Ç–æ —Å–ª–æ–≤–∞, —á—Ç–æ –§—Ä–æ–ª –æ—á–µ–Ω—å –ø–æ—Ö–æ–∂ –Ω–∞ –µ–≥–æ —Å—ã–Ω–∏—à–∫—É, –∏ –µ–≥–æ –æ—Å–µ–Ω–∏–ª–æ: –∫–æ–º–∞–Ω–¥–∏—Ä –Ω–∞—Ä–æ—á–Ω–æ –Ω–∞–¥–∞–≤–∞–ª –µ–º—É –º–Ω–æ–∂–µ—Å—Ç–≤–æ –ø–æ—Ä—É—á–µ–Ω–∏–π –∏ –Ω–µ –∑—Ä—è –¥–∞–ª –µ–º—É —Å—Ç–æ–ª—å–∫–æ –¥–µ–Ω–µ–≥. –ö–æ–º–∞–Ω–¥–∏—Ä –Ω–µ —Ö–æ—Ç–µ–ª, —á—Ç–æ–±—ã –§—Ä–æ–ª —Å–Ω–æ–≤–∞ —à–µ–ª —Å –Ω–∏–º–∏ –≤ –°–µ–≤–∞—Å—Ç–æ–ø–æ–ª—å. –ò –æ–Ω –æ—Å—Ç–∞–≤–∏–ª –§—Ä–æ–ª–∞ –≤ —á—É–∂–æ–º, –Ω–µ–∑–Ω–∞–∫–æ–º–æ–º –≥–æ—Ä–æ–¥–µ —Å –±–æ–ª—å—à–∏–º–∏ –¥–µ–Ω—å–≥–∞–º–∏, —á—Ç–æ–±—ã –§—Ä–æ–ª –Ω–µ –ø—Ä–æ–ø–∞–ª... 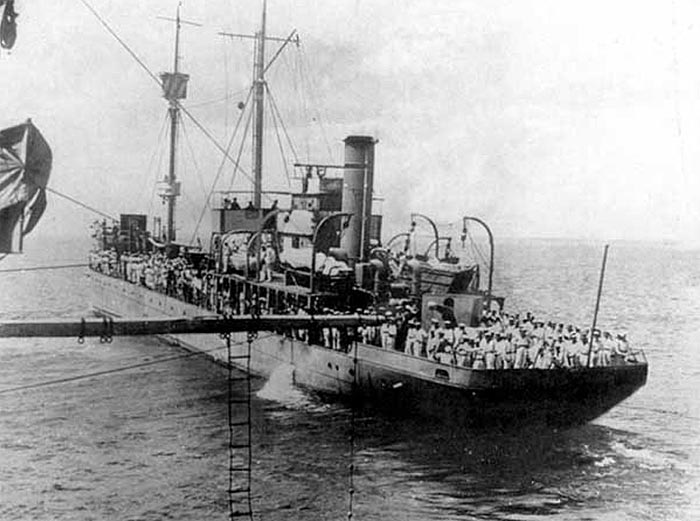 –ú–∞–ª—å—á–∏–∫ –¥–æ–ª–≥–æ —Å–∏–¥–µ–ª –Ω–∞ —Å–∫–∞–º–µ–π–∫–µ –ø–æ–¥ –ø–∞–ª—å–º–æ–π, —Ä–∞–∑–º—ã—à–ª—è—è –æ –º–Ω–æ–≥–æ–º, –æ —á–µ–º –µ—â–µ –≥–æ–¥ –Ω–∞–∑–∞–¥ –æ–Ω –≤–æ–≤—Å–µ –Ω–µ —Å—Ç–∞–ª –±—ã —Ä–∞–∑–º—ã—à–ª—è—Ç—å ‚Äî –æ –ª—é–±–≤–∏ —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫–∞ –∫ —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫—É. –¢—É—Å–∫–ª–æ —Å–≤–µ—Ç–∏–ª–∏—Å—å –≤ –±—É—Ö—Ç–µ —Å–∏–Ω–∏–µ –æ–≥–Ω–∏. –°–∏–Ω–∏–µ –æ–≥–Ω–∏ —Å–≤–µ—Ç–∏–ª–∏—Å—å —É –Ω–µ–≥–æ –∑–∞ —Å–ø–∏–Ω–æ–π –Ω–∞ –±—É–ª—å–≤–∞—Ä–µ. –ù–æ—á—å –±—ã–ª–∞ —Ç–∏—Ö–∞—è, —Ç–µ–ø–ª–∞—è, –∏ –æ–Ω –ø—Ä–æ–≤–µ–ª –µ–µ –Ω–∞ —Å–∫–∞–º–µ–π–∫–µ. –ù–∞—É—Ç—Ä–æ –æ–Ω –ø–æ—à–µ–ª –Ω–∞ –±–∞–∑–∞—Ä –∏ –¥–æ –æ—Ç–≤–∞–ª–∞ –Ω–∞–µ–ª—Å—è. –ê —á–µ—Ä–µ–∑ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –¥–Ω–µ–π –æ–Ω —É–∑–Ω–∞–ª –æ—Ç –ø–æ–¥–≤–æ–¥–Ω–∏–∫–æ–≤, —á—Ç–æ –ø–æ –ø—É—Ç–∏ –≤ –°–µ–≤–∞—Å—Ç–æ–ø–æ–ª—å ¬´–ì—Ä–æ–∑–∞¬ª –ø–æ–≥–∏–±–ª–∞ —Å–æ –≤—Å–µ–º —ç–∫–∏–ø–∞–∂–µ–º. –í—Å–∫–æ—Ä–µ –§—Ä–æ–ª –Ω–∞—à–µ–ª –Ω–æ–≤—ã—Ö –¥—Ä—É–∑–µ–π. –ü–æ—Ö–æ–∂–∏–π –Ω–∞ —Å–ª–æ–∂–∏–≤—à—É—é –∫—Ä—ã–ª—å—è —Å–µ—Ä—É—é –ø—Ç–∏—Ü—É —Ç–æ—Ä–ø–µ–¥–Ω—ã–π –∫–∞—Ç–µ—Ä –ø–æ–∫–∞—á–∏–≤–∞–ª—Å—è –Ω–∞ –ª–µ–≥–∫–æ–π —Å–≤–µ—Ç–ª–æ–π –≤–æ–ª–Ω–µ —É –ø—Ä–∏—á–∞–ª–∞, –∏ —Ç–æ–ª—Å—Ç—ã–π –º–æ—Ä—è–∫ —Å —É—Å—Ç—Ä–∞—à–∞—é—â–∏–º–∏ —É—Å–∞–º–∏ —Ä–∞—Å–ø–æ—Ä—è–∂–∞–ª—Å—è –ø–æ–≥—Ä—É–∑–∫–æ–π. –§—Ä–æ–ª —Å—Ç–æ—è–ª –∏ —Å–º–æ—Ç—Ä–µ–ª –Ω–∞ —Ç–æ–ª—Å—Ç–æ–≥–æ –±–æ—Ü–º–∞–Ω–∞, –∞ –±–æ—Ü–º–∞–Ω –≤ —Å–≤–æ—é –æ—á–µ—Ä–µ–¥—å –≤–µ—Å–µ–ª—ã–º–∏ —Ä–∞—á—å–∏–º–∏ –≥–ª–∞–∑–∞–º–∏ —É—Å—Ç–∞–≤–∏–ª—Å—è –Ω–∞ –º–∞–ª—å—á–∏—à–∫—É. ‚Äî –¢–µ–±–µ —á–µ–≥–æ? ‚Äî —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª –æ–Ω. ‚Äî –ù–∏—á–µ–≥–æ. ‚Äî‚Äî –ê —Ç—ã –∫—Ç–æ? ‚Äî –Ø –§—Ä–æ–ª –ñ–∏–≤—Ü–æ–≤, ‚Äî –ê —Ç—ã —á—Ç–æ —Ç—É—Ç –¥–µ–ª–∞–µ—à—å? ‚Äî –ñ–∏–≤—É —Ö—É–∂–µ –Ω–µ –Ω–∞–¥–æ. ‚Äî –ó–¥–µ—à–Ω–∏–π? ‚Äî –°–µ–≤–∞—Å—Ç–æ–ø–æ–ª—å—Å–∫–∏–π. ‚Äî –°–µ–≤–∞—Å—Ç–æ–ø–æ–ª—å—Å–∫–∞-–∞–π? ‚Äî —É–¥–∏–≤–∏–ª—Å—è —É—Å–∞—Ç—ã–π. ‚Äî –û—Ç—Ü–∞, –º–∞—Ç—å –∏–º–µ–µ—à—å? ‚Äî –ù–∏–∫–æ–≥–æ —É –º–µ–Ω—è –±–æ–ª—å—à–µ –Ω–µ—Ç, ‚Äî —Å–¥–∞–≤–ª–µ–Ω–Ω—ã–º –≥–æ–ª–æ—Å–æ–º —Å–∫–∞–∑–∞–ª –§—Ä–æ–ª.  –§–æ–∫–∏–π –ü–∞–≤–ª–æ–≤–∏—á –°–æ–º–æ–≤ ‚Äî —Ç–∞–∫ –∑–≤–∞–ª–∏ –±–æ—Ü–º–∞–Ω–∞ —Ç–æ—Ä–ø–µ–¥–Ω–æ–≥–æ –∫–∞—Ç–µ—Ä–∞ ‚Äî —Å–æ—Å–∫–æ—á–∏–ª –Ω–∞ —Å—Ç–µ–Ω–∫—É, –ø–æ—Ä–∞—Å—Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª –æ–± –æ—Ç—Ü–µ, –æ –º–∞—Ç–µ—Ä–∏, –æ —Ç–æ–º, –∫–∞–∫ –§—Ä–æ–ª —Å–æ–±–∏—Ä–∞–µ—Ç—Å—è –¥–∞–ª—å—à–µ –∂–∏—Ç—å. –§—Ä–æ–ª –≤ —Å–≤–æ—é –æ—á–µ—Ä–µ–¥—å –ø–æ–∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–æ–≤–∞–ª—Å—è: ‚Äî –í–æ—é–µ—Ç–µ? ‚Äî –ù—É, –≤–æ—é–µ–º. ‚Äî –ù—É, –∏ —è —Ö–æ—á—É –≤–æ–µ–≤–∞—Ç—å. ‚Äî –í–æ–µ-–≤–∞-–∞—Ç—å? ‚Äî –ø—Ä–æ—Ç—è–Ω—É–ª –§–æ–∫–∏–π –ü–∞–≤–ª–æ–≤–∏—á. ‚Äî –Ø —É–∂–µ –±–æ–ª—å—à–µ –Ω–µ –º–∞–ª–µ–Ω—å–∫–∏–π! ‚Äî –æ–∑–ª–æ–±–ª–µ–Ω–Ω–æ –∫—Ä–∏–∫–Ω—É–ª –§—Ä–æ–ª. ‚Äî –°–∞–º–∏, —á—Ç–æ –ª–∏, –Ω–µ –≤–∏–¥–∏—Ç–µ? –ë–æ—Ü–º–∞–Ω –ø–æ–≥–ª—è–¥–µ–ª –Ω–∞ –Ω–µ–≥–æ ‚Äî –µ–º—É –ø–æ–ª—é–±–∏–ª—Å—è –≤–µ—Å—å –≤–∑—ä–µ—Ä–æ—à–µ–Ω–Ω—ã–π –æ—Ç –∑–ª–æ—Å—Ç–∏ —Ä—ã–∂–∏–π –º–∞–ª—å—á–∏—à–∫–∞-–∑–µ–º–ª—è–∫, —Å–µ–≤–∞—Å—Ç–æ–ø–æ–ª–µ—Ü. –§–æ–∫–∏—é –ü–∞–≤–ª–æ–≤–∏—á—É –¥–∞–∂–µ –≤–¥—Ä—É–≥ –ø–æ–∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å, —á—Ç–æ –æ–Ω –∑–Ω–∞–ª –ê–ª–µ–∫—Å–µ—è –ñ–∏–≤—Ü–æ–≤–∞ –∏–ª–∏ –≤–æ –≤—Å—è–∫–æ–º —Å–ª—É—á–∞–µ —Å–ª—ã—à–∞–ª –æ –Ω–µ–º. –ò –æ–Ω –ø–æ–¥—É–º–∞–ª: –∫—É–¥–∞ –¥–µ–Ω–µ—Ç—Å—è —ç—Ç–æ—Ç —Å–µ–≤–∞—Å—Ç–æ–ø–æ–ª—å—Å–∫–∏–π –º–∞–ª—å—á—É–≥–∞–Ω –≤ —Ç–µ–ª—å–Ω—è—à–∫–µ, –≤ –æ—Ç—Ü–æ–≤—Å–∫–æ–º –±—É—à–ª–∞—Ç–µ –∏ –≤ –æ—Ç—Ü–æ–≤—Å–∫–æ–π —Ñ—É—Ä–∞–∂–∫–µ? –ù–µ –ø—Ä–æ–ø–∞–¥–µ—Ç –ª–∏ –æ–Ω –∑–¥–µ—Å—å, –≤ —á—É–∂–æ–º –≥–æ—Ä–æ–¥–µ? –ê –≤–µ–¥—å –æ–Ω —Å–≤–æ–π, ¬´—Ñ–ª–æ—Ç—Å–∫–∏–π¬ª. –ò –§–æ–∫–∏–π –ü–∞–≤–ª–æ–≤–∏—á —Ä–µ—à–∏–ª: ‚Äî –ù—É –Ω–µ—Ç, —É–∂ —è-—Ç–æ –µ–≥–æ –Ω–µ –æ—Å—Ç–∞–≤–ª—é. –§—Ä–æ–ª —É–≤–∏–¥–µ–ª, —á—Ç–æ –±–æ—Ü–º–∞–Ω –ø–æ–¥—Ç—è–Ω—É–ª—Å—è –∏ —Å –ª–∏—Ö–æ—Å—Ç—å—é –æ—Ç–¥–∞–ª —á–µ—Å—Ç—å –ø–æ–¥—Ö–æ–¥–∏–≤—à–µ–º—É –ª–µ–π—Ç–µ–Ω–∞–Ω—Ç—É. –õ–µ–π—Ç–µ–Ω–∞–Ω—Ç –æ–∫–∞–∑–∞–ª—Å—è –±–æ—Ü–º–∞–Ω—É –ø–æ –ø–ª–µ—á–æ, –æ–Ω –±—ã–ª –æ—á–µ–Ω—å –º–æ–ª–æ–¥, –∏ —É –Ω–µ–≥–æ –±—ã–ª–∏ –æ—á–µ–Ω—å –±–µ–ª—ã–µ –±—Ä–æ–≤–∏ –∏ —Å–≤–µ—Ç–ª—ã–µ —É—Å–∏–∫–∏, –ø–æ—Ö–æ–∂–∏–µ –Ω–∞ –∑—É–±–Ω—É—é —â–µ—Ç–∫—É. –õ–µ–π—Ç–µ–Ω–∞–Ω—Ç –ø–æ—Å–º–æ—Ç—Ä–µ–ª –Ω–∞ –§—Ä–æ–ª–∞, –≤–∑–≥–ª—è–Ω—É–ª –Ω–∞ —Ä—É—á–Ω—ã–µ —á–∞—Å—ã, —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª –±–æ—Ü–º–∞–Ω–∞, –≤—Å–µ –ª–∏ –≥–æ—Ç–æ–≤–æ –∫ –ø–æ—Ö–æ–¥—É. –ë–æ—Ü–º–∞–Ω —á—Ç–æ-—Ç–æ —Ç–∏—Ö–æ —Å—Ç–∞–ª –µ–º—É –¥–æ–∫–ª–∞–¥—ã–≤–∞—Ç—å, –ø–æ–≤–æ–¥—è –≥–ª–∞–∑–∞–º–∏ –∏ —É—Å–∞–º–∏ –Ω–∞ –§—Ä–æ–ª–∞. –õ–µ–π—Ç–µ–Ω–∞–Ω—Ç –≤–∑–≥–ª—è–Ω—É–ª –Ω–∞ –º–∞–ª—å—á–∏—à–∫—É —Å —è–≤–Ω—ã–º —Å–æ—á—É–≤—Å—Ç–≤–∏–µ–º –∏ –ø—Ä–∏–Ω—è–ª —Ä–µ—à–µ–Ω–∏–µ: ‚Äî –ù—É —á—Ç–æ –∂. –ë–µ—Ä—É –Ω–∞ —Å–≤–æ—é –æ—Ç–≤–µ—Ç—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç—å. –ò –≤ —Å–∞–º–æ–º –¥–µ–ª–µ, –Ω–µ –ø—Ä–æ–ø–∞–¥–∞—Ç—å —Å–µ–≤–∞—Å—Ç–æ–ø–æ–ª—å—Ü—É. –ì—Ä—É–∑–∏—Å—å! ‚Äî –∫—Ä–∏–∫–Ω—É–ª –æ–Ω –∫–æ—Ä–æ—Ç–∫–æ. –§—Ä–æ–ª –º–∏–≥–æ–º –ø–µ—Ä–µ–º–∞—Ö–Ω—É–ª –Ω–∞ –ø–æ–∫–∞—á–∏–≤–∞—é—â–∏–π—Å—è –±–æ—Ä—Ç –∫–∞—Ç–µ—Ä–∞, –Ω–µ –∑–∞—Å—Ç–∞–≤–∏–≤ —Å–µ–±—è –ø—Ä–∏–≥–ª–∞—à–∞—Ç—å –≤—Ç–æ—Ä–æ–π —Ä–∞–∑. –í –µ–≥–æ –¥—É—à–µ –≤—Å–µ –ø–µ–ª–æ. –û–Ω –µ—â–µ —Ä–∞–∑ –æ—â—É—Ç–∏–ª –ø–æ—Ç—Ä—è—Å–∞—é—â—É—é —Å–∏–ª—É —á–µ–ª–æ–≤–µ—á–µ—Å–∫–æ–π –ª–∞—Å–∫–∏. –û–Ω —É–∂–µ –ª—é–±–∏–ª –≤—Å–µ–π –¥—É—à–æ–π –∏ —ç—Ç–æ–≥–æ –≥—Ä–æ–∑–Ω–æ–≥–æ –Ω–∞ –≤–∏–¥ —Ç–æ–ª—Å—Ç–æ–≥–æ –±–æ—Ü–º–∞–Ω–∞, –∏ –º–∞–ª–µ–Ω—å–∫–æ–≥–æ –ª–µ–π—Ç–µ–Ω–∞–Ω—Ç–∞ —Å —É—Å–∞–º–∏, –ø–æ—Ö–æ–∂–∏–º–∏ –Ω–∞ –∑—É–±–Ω—É—é —â–µ—Ç–∫—É, –∏ –±–µ—Å–∫—Ä—ã–ª—É—é –ø—Ç–∏—Ü—É, –ø–æ–¥—Ä–∞–≥–∏–≤–∞—é—â—É—é –ø–µ—Ä–µ–¥ —Ç–µ–º, –∫–∞–∫ —Ä–≤–∞–Ω—É—Ç—å—Å—è –≤–ø–µ—Ä–µ–¥ –∏ –≤—ã—Ä–≤–∞—Ç—å—Å—è –∏–∑ —Ç–µ—Å–Ω–æ–π –±—É—Ö—Ç—ã –≤ —à–∏—Ä–æ–∫–∏–µ –º–æ—Ä—Å–∫–∏–µ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ—Ä—ã. –¢–∞–∫ –Ω–∞—á–∞–ª–∞—Å—å –µ–≥–æ –±–æ–µ–≤–∞—è –∂–∏–∑–Ω—å.  3 3–ò–∑ —É—Å—Ç—å—è –º–∞–ª–µ–Ω—å–∫–æ–π —Ä–µ—á–∫–∏, –∏–∑–≤–∏–≤–∞–≤—à–µ–π—Å—è –≤ —Ç–æ–ø–∫–∏—Ö –±–æ–ª–æ—Ç–∞—Ö –ö–æ–ª—Ö–∏–¥—ã, –∫–∞—Ç–µ—Ä–∞ —É—Ö–æ–¥–∏–ª–∏ –∫ —Ç–µ–º –±–µ—Ä–µ–≥–∞–º, –≥–¥–µ —à–ª–∞ –±–∏—Ç–≤–∞ –Ω–µ –Ω–∞ –∂–∏–∑–Ω—å, –∞ –Ω–∞ —Å–º–µ—Ä—Ç—å. –ù–µ–¥–æ–ª–≥–∏–π –æ—Ç–¥—ã—Ö –∫–∞—Ç–µ—Ä–Ω–∏–∫–∏ –∫–æ—Ä–æ—Ç–∞–ª–∏ –Ω–∞ –∑–∞–º–∞—Å–∫–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–Ω–æ–º –¥–µ—Ä–µ–≤—å—è–º–∏ –ø–∞—Ä–æ—Ö–æ–¥–µ –ø–∞—Å—Å–∞–∂–∏—Ä—Å–∫–æ–π –ª–∏–Ω–∏–∏ –û–¥–µ—Å—Å–∞ ‚Äî –ë–∞—Ç—É–º–∏. –ü–∞—Ä–æ—Ö–æ–¥ —ç—Ç–æ—Ç, –∫–æ–≥–¥–∞-—Ç–æ –æ—Å–ª–µ–ø–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –±–µ–ª—ã–π, –Ω–∞—Ä—è–¥–Ω—ã–π, –≤–Ω—É—Ç—Ä–∏ —Å–≤–µ—Ä–∫–∞–≤—à–∏–π –ø–æ–ª–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–Ω—ã–º –¥–µ—Ä–µ–≤–æ–º, –º–µ–¥—å—é, –¥–∞–≤–Ω–æ —É–∂–µ –≤—ã—à–µ–ª –≤ —Ç–∏—Ä–∞–∂. –ù–æ –∂–∏—Ç—å –Ω–∞ –Ω–µ–º –∫–∞—Ç–µ—Ä–Ω–∏–∫–∞–º –±—ã–ª–æ —É–¥–æ–±–Ω–æ. –§—Ä–æ–ª –ø–æ—Å–µ–ª–∏–ª—Å—è –≤ –∫—É–±—Ä–∏–∫–µ —Å –ø—Ä–æ—à–µ–¥—à–∏–º–∏ –æ–≥–æ–Ω—å –∏ –≤–æ–¥—É –º–∞—Ç—Ä–æ—Å–∞–º–∏; —Å–Ω–∞—á–∞–ª–∞ –æ–Ω–∏ –ø–æ—Å–º–µ–∏–≤–∞–ª–∏—Å—å –Ω–∞–¥ –Ω–∏–º, –∏ –æ–Ω, —Å–ª–æ–≤–Ω–æ –µ–∂, –≤—ã–ø—É—Å–∫–∞–ª –∏–≥–ª—ã –∏ –æ–±–æ—Ä–æ–Ω—è–ª—Å—è —Å –≥—Ä—É–±–æ—Å—Ç—å—é –∞–±–æ—Ä–∏–≥–µ–Ω–∞ –ö–∞—Ä–∞–Ω—Ç–∏–Ω–Ω–æ–π —Å–ª–æ–±–æ–¥–∫–∏. –û–Ω –≤—Å–µ–º–∏ —Å–∏–ª–∞–º–∏ —Å—Ç–∞—Ä–∞–ª—Å—è —Å—Ç–∞—Ç—å —Å–æ –≤–∑—Ä–æ—Å–ª—ã–º–∏ –Ω–∞ —Ä–∞–≤–Ω—É—é –Ω–æ–≥—É, –∏ –µ–≥–æ —Ö–ª–µ—Å—Ç–∫–∏–µ —Å–ª–æ–≤–µ—á–∫–∏ –≤—ã–∑—ã–≤–∞–ª–∏ –≤ –∫—É–±—Ä–∏–∫–µ –≤–∑—Ä—ã–≤—ã —Ö–æ—Ö–æ—Ç–∞. ‚Äî –ê —Ç—ã, –ø–∞—Ä–µ–Ω—å, —Å–≤–æ–π—Å–∫–∏–π, ‚Äî –ø–æ—Ö–ª–æ–ø—ã–≤–∞–ª–∏ –º–∞—Ç—Ä–æ—Å—ã –µ–≥–æ –ø–æ –ø–ª–µ—á—É. –ò –§—Ä–æ–ª, –Ω–µ–¥–∞–≤–Ω–æ —á—É–≤—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–≤—à–∏–π —Å–µ–±—è —Ç–∞–∫–∏–º –æ–¥–∏–Ω–æ–∫–∏–º, –æ—Ç–æ–≥—Ä–µ–ª—Å—è –∏ –ø–æ–ª—é–±–∏–ª —Å–≤–æ—é –Ω–æ–≤—É—é –≥—Ä—É–±–æ–≤–∞—Ç–æ-–ª–∞—Å–∫–æ–≤—É—é –º–æ—Ä—Å–∫—É—é —Å–µ–º—å—é. –ï–≥–æ –∑–∞—á–∏—Å–ª–∏–ª–∏ –Ω–∞ –ø–∞–µ–∫ –≤–æ—Å–ø–∏—Ç–∞–Ω–Ω–∏–∫–æ–º ‚Äî –æ–± —ç—Ç–æ–º –ø–æ—Ö–ª–æ–ø–æ—Ç–∞–ª –∫–æ–º–∞–Ω–¥–∏—Ä –∫–∞—Ç–µ—Ä–∞ –ª–µ–π—Ç–µ–Ω–∞–Ω—Ç –Ý—É—Å—å–µ–≤ ‚Äî –∏ —Å–Ω–∞–±–¥–∏–ª–∏ –Ω–æ–≤–æ–π —Ç–µ–ª—å–Ω—è—à–∫–æ–π, –∫–µ–º-—Ç–æ —Å–¥–∞–Ω–Ω—ã–º–∏ –±—Ä—é–∫–∞–º–∏ –∏ –ø–µ—Ä–µ—à–∏—Ç—ã–º –±—É—à–ª–∞—Ç–æ–º. –í—ã–¥–∞–ª–∏ –∏ –±–µ—Å–∫–æ–∑—ã—Ä–∫—É —Å –ª–µ–Ω—Ç–æ—á–∫–æ–π, –Ω–∞ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π –≥–æ—Ä–µ–ª–∞ –Ω–∞–¥–ø–∏—Å—å: ¬´–¢–æ—Ä–ø–µ–¥–Ω—ã–µ –∫–∞—Ç–µ—Ä–∞¬ª. –§—Ä–æ–ª –≤—ã–ø–æ–ª–Ω—è–ª –≤—Å—é –º–∞—Ç—Ä–æ—Å—Å–∫—É—é —Ä–∞–±–æ—Ç—É –∏ –Ω–µ —Ä–∞–∑ –∑–∞—Å–ª—É–∂–∏–≤–∞–ª –æ–¥–æ–±—Ä–µ–Ω–∏–µ –§–æ–∫–∏—è –ü–∞–≤–ª–æ–≤–∏—á–∞. –ü–æ–ø—É—Ç–Ω–æ –æ–Ω –ø—ã—Ç–∞–ª—Å—è –æ—Å–≤–æ–∏—Ç—å—Å—è —Å –∫–∞—Ç–µ—Ä–æ–º, –≤—ã—Å–ø—Ä–∞—à–∏–≤–∞–ª –æ–±–æ –≤—Å–µ–º –µ–º—É –Ω–µ–ø–æ–Ω—è—Ç–Ω–æ–º. –ë–æ—Ü–º–∞–Ω –ø—Ä–æ—ç–∫–∑–∞–º–µ–Ω–æ–≤–∞–ª –§—Ä–æ–ª–∞ –∏ –æ—Å—Ç–∞–ª—Å—è –¥–æ–≤–æ–ª–µ–Ω: ¬´–ê —Ç—ã, –±—Ä–∞—Ç, —É –º–µ–Ω—è –Ω–∞-–±–ª—é–¥–∞-—Ç–µ–ª—å-–Ω–∞-–∞–π¬ª, –ò –∫–∞–∫-—Ç–æ —Ç–∞–∫ –ø–æ–ª—É—á–∏–ª–æ—Å—å, —á—Ç–æ –§—Ä–æ–ª–∞ –æ–ø—è—Ç—å –≤–∑—è–ª–∏ –≤ –º–æ—Ä–µ ‚Äî –æ–¥–∏–Ω —Ä–∞–∑, –¥—Ä—É–≥–æ–π, –ø–æ—Ç–æ–º —Å—Ç–∞–ª–∏ –±—Ä–∞—Ç—å –ø–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–Ω–æ. –û–Ω –ø–µ—Ä–µ–±–æ–ª–µ–ª –º–æ—Ä—Å–∫–æ–π –±–æ–ª–µ–∑–Ω—å—é, –∫–∞–∫ –±–æ–ª–µ—é—Ç –≤ –µ–≥–æ –≤–æ–∑—Ä–∞—Å—Ç–µ –∫–æ—Ä—å—é, —Ö–æ—Ç—è –≤—Å—Ç—Ä–µ—á–∞—é—Ç—Å—è –º–æ—Ä—è–∫–∏, —Å—Ç—Ä–∞–¥–∞—é—â–∏–µ –º–æ—Ä—Å–∫–æ–π –±–æ–ª–µ–∑–Ω—å—é –≤—Å—é –∂–∏–∑–Ω—å. –û–Ω –ø—Ä–∏–≤—ã–∫ –∫ –æ—Ç—á–∞—è–Ω–Ω–æ–π —Ç—Ä—è—Å–∫–µ –¥–µ—Ä–µ–≤—è–Ω–Ω–æ–≥–æ –∫–æ—Ä–ø—É—Å–∞ –∫–∞—Ç–µ—Ä–∞, –≤ –Ω–µ–ø—Ä–µ—Ä—ã–≤–Ω–æ–º –¥–≤–∏–∂–µ–Ω–∏–∏ —Å–∫–∞—á—É—â–µ–≥–æ —Å –≤–æ–ª–Ω—ã –Ω–∞ –≤–æ–ª–Ω—É, –∫ —Ç—Ä—è—Å–∫–µ, –≤—ã–º–∞—Ç—ã–≤–∞—é—â–µ–π –¥—É—à—É –∏ –≤–∑–±–∞–ª—Ç—ã–≤–∞—é—â–µ–π –∫–∏—à–∫–∏. –û–Ω –±—ã–ª –∫—Ä–µ–ø–∫–æ —Å–∫–æ–ª–æ—á–µ–Ω, –∫–æ—Ä–µ–Ω–∞—Å—Ç—ã–π, —Ä—ã–∂–∏–π –º–∞–ª—å—á–∏—à–∫–∞. –û–Ω —Å –±–µ–∑—Ä–∞–∑–ª–∏—á–∏–µ–º —Å–º–æ—Ç—Ä–µ–ª –Ω–∞ —Ç—Ä–∞—Å—Å–∏—Ä—É—é—â–∏–µ, –ª–µ—Ç–µ–≤—à–∏–µ –Ω–∞–¥ –≥–æ–ª–æ–≤–æ–π –ø—É–ª–∏ –∏ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –æ–¥–Ω–∞–∂–¥—ã, –∫–æ–≥–¥–∞ –±–∞—Ç–∞—Ä–µ—è —Å –±–µ—Ä–µ–≥–∞ –æ—Ç–∫—Ä—ã–ª–∞ –æ–≥–æ–Ω—å, –∏—Å–ø—ã—Ç–∞–ª –ø—Ä–∏—Å—Ç—É–ø –º–µ–¥–≤–µ–∂—å–µ–π –±–æ–ª–µ–∑–Ω–∏. –ó–∞—Ç–æ –æ–Ω —É–ø–∏–≤–∞–ª—Å—è –∫–∞–∂–¥—ã–º —Ç–æ—Ä–ø–µ–¥–Ω—ã–º –∑–∞–ª–ø–æ–º, –∑–∞–∂–∞–≤ –≥—É–±—ã –∫—Ä–µ–ø–∫–∏–º–∏ –∑—É–±–∞–º–∏, –∂–¥–∞–ª, –∫–æ–≥–¥–∞ —Ç–∞–º, –≤–¥–∞–ª–∏, –≤–∑–º–µ—Ç–Ω—É—Ç—Å—è –æ–≥–æ–Ω—å –∏ –æ–±–ª–æ–º–∫–∏. ¬´–í–æ—Ç –≤–∞–º! –í–æ—Ç –≤–∞–º! –ó–∞ –±–∞—Ç—å–∫—É! –ó–∞ –º–∞—Ç—å!¬ª ‚Äî —Å—Ç—É—á–∞–ª–æ —É –Ω–µ–≥–æ –≤ –≥–æ–ª–æ–≤–µ, –∫–æ–≥–¥–∞ –∫–∞—Ç–µ—Ä, —Å–¥–µ–ª–∞–≤ —à–∏—Ä–æ–∫–∏–π —Ä–∞–∑–≤–æ—Ä–æ—Ç, —É—Ö–æ–¥–∏–ª –æ—Ç –æ–ø–æ–ª–æ—É–º–µ–≤—à–µ–≥–æ –æ—Ç –∑–ª–æ–±—ã –≤—Ä–∞–≥–∞. –ü—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–µ–Ω–∏–µ —Å–ª–µ–¥—É–µ—Ç.  –í–µ—Ä—é–∂—Å–∫–∏–π –ù–∏–∫–æ–ª–∞–π –ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä–æ–≤–∏—á (–í–ù–ê), –ì–æ—Ä–ª–æ–≤ –û–ª–µ–≥ –ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä–æ–≤–∏—á (–û–ê–ì), –ú–∞–∫—Å–∏–º–æ–≤ –í–∞–ª–µ–Ω—Ç–∏–Ω –í–ª–∞–¥–∏–º–∏—Ä–æ–≤–∏—á (–ú–í–í), –ö–°–í. 198188. –°–∞–Ω–∫—Ç-–ü–µ—Ç–µ—Ä–±—É—Ä–≥, —É–ª. –ú–∞—Ä—à–∞–ª–∞ –ì–æ–≤–æ—Ä–æ–≤–∞, –¥–æ–º 11/3, –∫–≤. 70. –ö–∞—Ä–∞—Å–µ–≤ –°–µ—Ä–≥–µ–π –í–ª–∞–¥–∏–º–∏—Ä–æ–≤–∏—á, –∞—Ä—Ö–∏–≤–∞—Ä–∏—É—Å. karasevserg@yandex.ru
08.05.201322:4308.05.2013 22:43:44
0
08.05.201309:5708.05.2013 09:57:42
–ü–∞–ª–¥–∏—Å–∫–∏–£—á–µ–±–Ω—ã–π —Ü–µ–Ω—Ç—Ä –≤ –ü–∞–ª–¥–∏—Å–∫–∏ ‚Äî –∫–æ–º–ø–ª–µ–∫—Å –∑–¥–∞–Ω–∏–π, –æ—Å–Ω–æ–≤–Ω–æ–π —É—á–µ–±–Ω—ã–π –∫–æ—Ä–ø—É—Å –∏–∑ —Å—Ç–µ–∫–ª–∞ –∏ –±–µ—Ç–æ–Ω–∞. –ñ–∏–ª–æ–π –≥–æ—Ä–æ–¥–æ–∫ –ø–∞–Ω–µ–ª—å–Ω—ã—Ö –¥–æ–º–æ–≤. –î–ª—è —Å–µ–º–µ–π –Ω–∞—à–∏—Ö –æ—Ñ–∏—Ü–µ—Ä–æ–≤ –≤—ã–¥–µ–ª–∏–ª–∏ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –∫–≤–∞—Ä—Ç–∏—Ä. –°–≤–æ–µ —Å–µ–º–µ–π—Å—Ç–≤–æ —è —Ç–æ–∂–µ –ø–æ–º–µ—Å—Ç–∏–ª –≤ 2-–∫–æ–º–Ω–∞—Ç–Ω—É—é –∫–≤–∞—Ä—Ç–∏—Ä—É. –ù–∞—á–∞–ª—å–Ω–∏–∫ —É—á–µ–±–Ω–æ–≥–æ —Ü–µ–Ω—Ç—Ä–∞ –∫–æ–Ω—Ç—Ä-–∞–¥–º–∏—Ä–∞–ª –Ý—É–ª—é–∫, —Ç–∏—Ö–æ–æ–∫–µ–∞–Ω–µ—Ü. –í—Å—Ç—Ä–µ—Ç–∏–ª—Å—è –µ—â–µ –æ–¥–∏–Ω —É–ª–∏—Å—Å–æ–≤–µ—Ü, –Ω–∞—á–∞–ª—å–Ω–∏–∫ —Ü–∏–∫–ª–∞ –∫–∞–ø–∏—Ç–∞–Ω 1 —Ä–∞–Ω–≥–∞ –î–∞–Ω–∞–∫–æ–Ω—è–Ω. –ö–æ–≥–¥–∞-—Ç–æ –æ–Ω –¥–æ–±–∏–≤–∞–ª—Å—è –º–µ–Ω—è –ø–æ–º–æ—â–Ω–∏–∫–æ–º –∫ —Å–µ–±–µ, –Ω–æ –Ω–∞ –º–Ω–µ –±—ã–ª —Ñ–ª–æ—Ç—Å–∫–∏–π ¬´—Ñ–∏—Ç–∏–ª—嬪, –∏ —Ö–æ–¥–∞—Ç–∞–π—Å—Ç–≤–æ –µ–≥–æ –Ω–µ —Å—Ä–∞–±–æ—Ç–∞–ª–æ. –û–±—É—á–µ–Ω–∏–µ –≤ –£–¶ –¥–∞–ª–æ –º–Ω–æ–≥–æ, –Ω–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –ø–æ–¥–≥–æ—Ç–æ–≤–∏–ª–æ –º–µ–Ω—è, –≤–µ—Ç–µ—Ä–∞–Ω–∞ –¥–∏–∑–µ–ª—å–Ω–æ–≥–æ –ø–æ–¥–≤–æ–¥–Ω–æ–≥–æ —Ñ–ª–æ—Ç–∞, –∫ –æ—Å–≤–æ–µ–Ω–∏—é —Ç–µ—Ö–Ω–∏–∫–∏ –∞—Ç–æ–º–æ—Ö–æ–¥–∞, –Ω–æ –∏ –≤ –ø–ª–∞–Ω–µ –æ–±—â–µ–≥–æ —Ä–∞–∑–≤–∏—Ç–∏—è –∫—Ä—É–≥–æ–∑–æ—Ä–∞ –∏ –∑–Ω–∞–Ω–∏–π –æ—Ñ–∏—Ü–µ—Ä–∞-–ø–æ–¥–≤–æ–¥–Ω–∏–∫–∞. –ü—Ä–µ–ø–æ–¥–∞–≤–∞—Ç–µ–ª–∏ —Ç—É—Ç –±—ã–ª–∏ –≥—Ä–∞–º–æ—Ç–Ω—ã–µ –∏ –æ–ø—ã—Ç–Ω—ã–µ –ø–æ–¥–≤–æ–¥–Ω–∏–∫–∏. –û—Å–æ–±–µ–Ω–Ω–æ –º–Ω–µ –ø–æ–Ω—Ä–∞–≤–∏–ª—Å—è –∏ –ø—Ä–∏–≥–æ–¥–∏–ª—Å—è –Ω–∞ –ø—Ä–∞–∫—Ç–∏–∫–µ —Ç–∞–∫ –Ω–∞–∑—ã–≤–∞–µ–º—ã–π ¬´–ø–ª–∞–Ω—à–µ—Ç –∞–Ω–∞–ª–∏–∑–∞ –≥–∏–¥—Ä–æ–ª–æ–≥–æ-–∞–∫—É—Å—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–π –æ–±—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∫–∏¬ª. –û–Ω –∏—Å–ø–æ–ª–Ω—è–ª—Å—è –Ω–∞ –±–æ–ª—å—à–æ–º –ª–∏—Å—Ç–µ –ø–ª–µ–∫—Å–∏–≥–ª–∞—Å–∞, –æ–±—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∫–∞ –Ω–∞–Ω–æ—Å–∏–ª–∞—Å—å —Ü–≤–µ—Ç–Ω—ã–º–∏ —Å—Ç–µ–∫–ª–æ–≥—Ä–∞—Ñ–∞–º–∏ —Å —É—á–µ—Ç–æ–º –∑–∞–∫–æ–Ω–æ–≤ –ø—Ä–µ–ª–æ–º–ª–µ–Ω–∏—è –∑–≤—É–∫–æ–≤—ã—Ö –ª—É—á–µ–π –≤ –æ–∫–µ–∞–Ω–µ, —Ä–∞—Å–ø—Ä–µ–¥–µ–ª–µ–Ω–∏—è –±–ª–∏–∂–Ω–∏—Ö –∏ –¥–∞–ª—å–Ω–∏—Ö –∑–æ–Ω –∞–∫—É—Å—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–π –æ—Å–≤–µ—â–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç–∏. –¢–∞–º –∂–µ —É–¥–æ–±–Ω–æ –±—ã–ª–æ —Ä–∞–∑–º–µ—â–∞—Ç—å –∏ –¥—Ä—É–≥—É—é –Ω—É–∂–Ω—É—é –¥–ª—è –≤–∞—Ö—Ç–µ–Ω–Ω—ã—Ö –æ—Ñ–∏—Ü–µ—Ä–æ–≤ –∏ —Ä–∞—Å—á–µ—Ç–∞ –¶–ü –ø–æ–¥–≤–æ–¥–Ω–æ–π –ª–æ–¥–∫–∏ –∏–Ω—Ñ–æ—Ä–º–∞—Ü–∏—é. –° –ø–ª–∞–Ω—à–µ—Ç–∞ –º–æ–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ —Å—á–∏—Ç—ã–≤–∞—Ç—å –¥–∞–ª—å–Ω–æ—Å—Ç–∏ –≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ–≥–æ –≤–∑–∞–∏–º–Ω–æ–≥–æ –æ–±–Ω–∞—Ä—É–∂–µ–Ω–∏—è –ü–õ ‚Äî –ü–õ –∏ –ü–õ ‚Äî –ù–ö. –£ –Ω–∞—Å –Ω–∞ –ª–æ–¥–∫–µ —ç—Ç–æ—Ç –ø–ª–∞–Ω—à–µ—Ç –Ω–µ–ø—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω–æ –≤–∏—Å–µ–ª –≤ —Ü–µ–Ω—Ç—Ä–∞–ª—å–Ω–æ–º –ø–æ—Å—Ç—É. –ö –º–æ–µ–º—É —É–¥–∏–≤–ª–µ–Ω–∏—é, –Ω–∞ –¥—Ä—É–≥–∏—Ö –ª–æ–¥–∫–∞—Ö —è –µ–≥–æ —Ä–µ–¥–∫–æ –≤—Å—Ç—Ä–µ—á–∞–ª, —Ö–æ—Ç—è –ø–æ—á—Ç–∏ –≤—Å–µ —ç–∫–∏–ø–∞–∂–∏ –ø—Ä–æ—Ö–æ–¥–∏–ª–∏ –ø–æ–¥–≥–æ—Ç–æ–≤–∫—É –≤ –ü–∞–ª–¥–∏—Å–∫–∏, –∞ –∫–æ–µ-–∫–æ–º—É —É–¥–∞–≤–∞–ª–æ—Å—å –ø–æ–ø–∞–¥–∞—Ç—å –≤ –£–¶ –∏ –Ω–∞ –º–µ–∂–ø–æ—Ö–æ–¥–æ–≤—É—é –ø–æ–¥–≥–æ—Ç–æ–≤–∫—É. –ì–¥–µ-—Ç–æ –≤ —Å–µ—Ä–µ–¥–∏–Ω–µ –∫—É—Ä—Å–∞ –ø–æ–¥–≥–æ—Ç–æ–≤–∫–∏ —Å—Ç–∞–ª–æ –∏–∑–≤–µ—Å—Ç–Ω–æ, —á—Ç–æ —É–ø—Ä–∞–≤–ª–µ–Ω–∏–µ –∫–æ–º–ø–ª–µ–∫—Ç–æ–≤–∞–Ω–∏—è –í–ú–§ —Å–æ–±–∏—Ä–∞–µ—Ç—Å—è —É–∫–æ–º–ø–ª–µ–∫—Ç–æ–≤–∞—Ç—å –≤—Å–µ –¥–æ–ª–∂–Ω–æ—Å—Ç–∏ —Å—Ç–∞—Ä—à–∏–Ω –∫–æ–º–∞–Ω–¥ –∏ —Å—Ç–∞—Ä—à–∏—Ö —Å–ø–µ—Ü–∏–∞–ª–∏—Å—Ç–æ–≤ –ª–æ–¥–∫–∏ –º–∏—á–º–∞–Ω–∞–º–∏, –≤—ã–ø—É—Å–∫–Ω–∏–∫–∞–º–∏ –û–¥–µ—Å—Å–∫–æ–π —à–∫–æ–ª—ã –º–∏—á–º–∞–Ω–æ–≤, –∏ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –¥–æ–ª–∂–Ω–æ—Å—Ç–∏ —Å–ø–µ—Ü–∏–∞–ª–∏—Å—Ç–æ–≤ –±—É–¥—É—Ç —É–∫–æ–º–ø–ª–µ–∫—Ç–æ–≤–∞–Ω—ã –º–∞—Ç—Ä–æ—Å–∞–º–∏ —Å—Ä–æ—á–Ω–æ–π —Å–ª—É–∂–±—ã. –≠—Ç–æ –∫—Ä—É—Ç–æ –º–µ–Ω—è–ª–æ –Ω–∞—à–∏ –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–ª–µ–Ω–∏—è –æ —Å–æ—Å—Ç–∞–≤–µ –∫–æ–º–∞–Ω–¥—ã –ø–æ–¥–≤–æ–¥–Ω–æ–π –ª–æ–¥–∫–∏. –ö–æ–µ-–∫—Ç–æ –∑–∞–¥–∞–≤–∞–ª –±–∞–Ω–∞–ª—å–Ω—ã–µ –≤–æ–ø—Ä–æ—Å—ã: ¬´–ê –∫—Ç–æ –∂–µ –±—É–¥–µ—Ç –¥–µ–ª–∞—Ç—å –ø—Ä–∏–±–æ—Ä–∫—É? –ê –∫—Ç–æ –±—É–¥–µ—Ç —Å—Ç–æ—è—Ç—å —Å —Ä—É–∂—å–µ–º —É —Ç—Ä–∞–ø–∞? –ê –∫—Ç–æ..?¬ª. –ò —Ç.–¥. –ú–∏—á–º–∞–Ω–∞ –ø–æ—Å–ª–µ –≤—ã–ø—É—Å–∫–∞ –∏–∑ —à–∫–æ–ª—ã –¥–æ–ª–∂–Ω—ã –±—ã–ª–∏ –µ—Ö–∞—Ç—å –Ω–∞ —Ñ–ª–æ—Ç—ã –¥–ª—è —Å—Ç–∞–∂–∏—Ä–æ–≤–∫–∏ –Ω–∞ –¥–µ–π—Å—Ç–≤—É—é—â–∏—Ö –∫–æ—Ä–∞–±–ª—è—Ö –∏ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –ø–æ—Ç–æ–º, –ø–µ—Ä–µ–¥ —Ç–µ–º, –∫–∞–∫ –Ω–∞–º –µ—Ö–∞—Ç—å –≤ –ü—Ä–∏–º–æ—Ä—å–µ –≤—Å–µ–º —ç–∫–∏–ø–∞–∂–µ–º –Ω–∞ —Å—Ç–∞–∂–∏—Ä–æ–≤–∫—É, –ø—Ä–∏—Å–æ–µ–¥–∏–Ω—è—Ç—å—Å—è –∫ –Ω–∞–º.  –ù–µ –ø–æ–º–Ω—é, –∫–æ–º—É –ø—Ä–∏—à–ª–∞ –≤ –≥–æ–ª–æ–≤—É –∑–∞–º–µ—á–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–∞—è –∏–¥–µ—è. –¢–æ –ª–∏ —Å—Ç–∞—Ä–ø–æ–º—É, —Ç–æ –ª–∏ –ø–æ–º–æ—â–Ω–∏–∫—É, –Ω–æ –Ω–µ –º–Ω–µ. –Ø –∂–µ –∑–∞ –Ω–µ–µ —É—Ö–≤–∞—Ç–∏–ª—Å—è —Å—Ä–∞–∑—É. –ö–æ—Ä–æ—á–µ, –∫–æ–≥–¥–∞ –ø—Ä–∏–µ—Ö–∞–ª –∏–∑ –ú–æ—Å–∫–≤—ã –æ—Ñ–∏—Ü–µ—Ä-–∫–æ–º–ø–ª–µ–∫—Ç–æ–≤—â–∏–∫, –º—ã –ø–æ—Å—Ç–∞–≤–∏–ª–∏ –≤–æ–ø—Ä–æ—Å –æ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ–±—ã –Ω–∞—à–∏—Ö –º–∏—á–º–∞–Ω–æ–≤ –ø–æ—Å–ª–µ –≤—ã–ø—É—Å–∫–∞ –∏–∑ —à–∫–æ–ª—ã –Ω–∞ —Ñ–ª–æ—Ç—ã –Ω–µ –æ—Ç–ø—Ä–∞–≤–ª—è—Ç—å, –∞ –Ω–∞–ø—Ä–∞–≤–∏—Ç—å –Ω–∞–ø—Ä—è–º—É—é –∫ –Ω–∞–º –≤ –ü–∞–ª–¥–∏—Å–∫–∏. –¢—É—Ç –º—ã –∏—Ö –ø–æ—Å–ª–µ —Å–≤–æ–∏—Ö –∑–∞–Ω—è—Ç–∏–π –æ–±—É—á–∏–º —Ç–æ–º—É, —á–µ–º—É —Å–∞–º–∏ –Ω–∞—É—á–∏–ª–∏—Å—å, —Ç—É—Ç –º—ã –∏—Ö —Å—Ä–∞–∑—É –ª—É—á—à–µ –∏–∑—É—á–∏–º –∏ –≤–æ—Å–ø–∏—Ç–∞–µ–º –ø–æ–¥ —Å–µ–±—è, —Ç—É—Ç –Ω–∞—á–Ω–µ—Ç—Å—è –Ω–∞—à–µ —Å–∫–æ–ª–∞—á–∏–≤–∞–Ω–∏–µ –∫–∞–∫ –µ–¥–∏–Ω–æ–≥–æ —ç–∫–∏–ø–∞–∂–∞, —Ç—É—Ç –º—ã –∏–º –Ω–µ –¥–∞–¥–∏–º —Ä–∞–∑–±–æ–ª—Ç–∞—Ç—å—Å—è –∏ —Ç. –¥. –û—Ñ–∏—Ü–µ—Ä-–∫–æ–º–ø–ª–µ–∫—Ç–æ–≤—â–∏–∫, —Å–ø–∞—Å–∏–±–æ –µ–º—É, –∏–¥–µ—é –ø–æ–¥—Ö–≤–∞—Ç–∏–ª. –ù–∞–ø–∏—Å–∞–ª–∏ —Ö–æ–¥–∞—Ç–∞–π—Å—Ç–≤–æ, –∏–¥–µ—é –ø—Ä–æ–±–∏–ª–∏. –ö–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, –Ω–µ–∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–µ –Ω–µ—É–¥–æ–±—Å—Ç–≤–æ –¥–ª—è –£–¶, –ª–∏—à–Ω–∏–µ, –Ω–µ—Å–≤–æ–π—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–µ –£–¶ –∑–∞–±–æ—Ç—ã, –ª–∏—à–Ω—è—è –Ω–∞–≥—Ä—É–∑–∫–∞ –Ω–∞ –æ—Ñ–∏—Ü–µ—Ä–æ–≤, –≤–º–µ—Å—Ç–æ –≤–µ—á–µ—Ä–Ω–µ–≥–æ –æ—Ç–¥—ã—Ö–∞ ‚Äî–ø—Ä–æ–≤–æ–¥–∏ –∑–∞–Ω—è—Ç–∏—è —Å–æ —Å–≤–æ–∏–º–∏ –ø–æ–¥—á–∏–Ω–µ–Ω–Ω—ã–º–∏... –ù–æ –∑–∞—Ç–æ —É–∂–µ –∏–¥–µ—Ç —Å–æ–≤–º–µ—Å—Ç–Ω–∞—è –æ—Ç—Ä–∞–±–æ—Ç–∫–∞ –Ω–∞ –¥–µ–π—Å—Ç–≤—É—é—â–∏—Ö —Å—Ç–µ–Ω–¥–∞—Ö –∏ –º–∞–∫–µ—Ç–∞—Ö, –Ω–∞ –¥–µ–π—Å—Ç–≤—É—é—â–µ–π —è–¥–µ—Ä–Ω–æ–π —ç–Ω–µ—Ä–≥–æ—É—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∫–µ, –≥–¥–µ –ø–æ—á—Ç–∏ –≤ –ø–æ–ª–Ω–æ–º —Å–æ—Å—Ç–∞–≤–µ –æ—Ç—Ä–∞–±–∞—Ç—ã–≤–∞–µ—Ç—Å—è –ë–ß-V –ø–æ –≤–≤–æ–¥—É, —ç–∫—Å–ø–ª—É–∞—Ç–∞—Ü–∏–∏ –Ω–∞ –ú–ö–£ –∏ –≤—ã–≤–æ–¥—É –µ–µ –∏–∑ –¥–µ–π—Å—Ç–≤–∏—è. –í –ø–æ–ª–Ω–æ–º —Å–æ—Å—Ç–∞–≤–µ –ì–ö–ü –∏ –±–æ–µ–≤—ã—Ö –ø–æ—Å—Ç–æ–≤ –ë–ß-II –æ—Ç—Ä–∞–±–∞—Ç—ã–≤–∞–ª–∞—Å—å –∏ —Ä–∞–∫–µ—Ç–Ω–∞—è –∞—Ç–∞–∫–∞ ‚Äî –≤–µ–Ω–µ—Ü –¥–µ–π—Å—Ç–≤–∏–π –Ý–ü–ö–°–ù –≤ –æ–∫–µ–∞–Ω–µ. –ö–æ–≥–¥–∞ –ø–æ–¥–≤–µ–∑–ª–∏ –∏ —Ç—Ä–µ—Ç—å—é —á–∞—Å—Ç—å —Å–≤–æ–µ–≥–æ —ç–∫–∏–ø–∞–∂–∞, –∏ –µ–µ –≤–∫–ª—é—á–∏–ª–∏ –≤ –æ–±—â–∏–π –ø—Ä–æ—Ü–µ—Å—Å. –û—Ç—Ä–∞–±–∞—Ç—ã–≤–∞–ª–∏—Å—å –∏ –≤ –æ—Ç—Å–µ–∫–µ –∂–∏–≤—É—á–µ—Å—Ç–∏ –±–æ—Ä—å–±–∞ —Å –ø–æ–∂–∞—Ä–æ–º –∏ –≤–æ–¥–æ–π, –æ—Ç—Ä–∞–±–∞—Ç—ã–≤–∞–ª–∏—Å—å –∏ –≤ –∫–∞—á–∞—é—â–µ–º—Å—è –æ—Ç—Å–µ–∫–µ –ø–æ –¥–∏—Ñ—Ñ–µ—Ä–µ–Ω—Ç–æ–≤–∫–µ –ø–æ–¥–≤–æ–¥–Ω–æ–π –ª–æ–¥–∫–∏. –ö–∞–∫ —ç—Ç–æ –≤—Å–µ –∑–¥–æ—Ä–æ–≤–æ —Å–∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å –≤ –±–ª–∏–∂–∞–π—à–µ–º –±—É–¥—É—â–µ–º! –í–æ–ø—Ä–æ—Å —Å –º–æ–∏–º –æ—á–µ—Ä–µ–¥–Ω—ã–º –∑–≤–∞–Ω–∏–µ–º –≤–Ω–æ–≤—å –≤–æ–∑–Ω–∏–∫ –∑–¥–µ—Å—å –∂–µ –≤ –ü–∞–ª–¥–∏—Å–∫–∏. –ö–∞–∫-—Ç–æ –≤ –≤–µ—Å—Ç–∏–±—é–ª–µ –≤—Å—Ç—Ä–µ—Ç–∏–ª—Å—è –Ý—É–ª—é–∫: ‚Äî –ê —á—Ç–æ —É –≤–∞—Å —Å–æ –∑–≤–∞–Ω–∏–µ–º? ‚Äî –î–æ–ª–∂–Ω—ã –±—ã–ª–∏ –¥–∞–≤–Ω–æ –ø–æ—Å–ª–∞—Ç—å –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–ª–µ–Ω–∏–µ —Å –ö–∞–º—á–∞—Ç–∫–∏. –ñ–¥—É. ‚Äî –ó–∞–π–¥–∏—Ç–µ –∫ –∫–∞–¥—Ä–æ–≤–∏–∫—É, —Å–∫–∞–∂–∏—Ç–µ, –ø—É—Å—Ç—å —É—Ç–æ—á–Ω–∏—Ç –ø–æ —Ç–µ–ª–µ—Ñ–æ–Ω—É –≤ –ú–æ—Å–∫–≤–µ.  –£—Ç–æ—á–Ω–∏–ª–∏. –ö–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, –Ω–∏—á–µ–≥–æ —Ç–∞–º –Ω–µ—Ç. –ù–∞–ø–∏—Å–∞–ª–∏ –≤–Ω–æ–≤—å –∑–∞ –ø–æ–¥–ø–∏—Å—å—é –Ω–∞—á–∞–ª—å–Ω–∏–∫–∞ –£–¶. –ö–æ–≥–¥–∞ –ª–µ—Ç–µ–ª –Ω–∞ –ö–∞–º—á–∞—Ç–∫—É –∑–∞ —Ç—Ä–µ—Ç—å–µ–π —á–∞—Å—Ç—å—é —ç–∫–∏–ø–∞–∂–∞, –ø—Ä–∏ –ø–µ—Ä–µ—Å–∞–¥–∫–µ –≤ –ú–æ—Å–∫–≤–µ –∑–∞–¥–µ—Ä–∂–∞–ª—Å—è –Ω–∞ –ø–∞—Ä—É —Å—É—Ç–æ–∫, –Ω–∞–≤–µ—Å—Ç–∏–ª –æ—Ç—Ü–∞. –°–æ–∑–≤–æ–Ω–∏–ª–∏—Å—å —Å —É–ø—Ä–∞–≤–ª–µ–Ω–∏–µ–º –∫–∞–¥—Ä–æ–≤ –ú–∏–Ω–∏—Å—Ç–µ—Ä—Å—Ç–≤–∞ –æ–±–æ—Ä–æ–Ω—ã –∏ –Ω–∞ –¥—Ä—É–≥–æ–π –¥–µ–Ω—å –≤–µ—á–µ—Ä–æ–º —É–∂–µ –ø–æ —á—É—Ç—å-—á—É—Ç—å –æ—Ç–º–µ—Ç–∏–ª–∏ –∑–∞–¥–µ—Ä–∂–∞–≤—à—É—é—Å—è –Ω–∞ –¥–≤–∞ –≥–æ–¥–∞ –æ—á–µ—Ä–µ–¥–Ω—É—é –∑–≤–µ–∑–¥—É. –ù–∞ –ö–∞–º—á–∞—Ç–∫–µ –≤ –æ–¥–∏–Ω –∏–∑ –¥–Ω–µ–π, –∫–æ–≥–¥–∞ –ø–æ–¥–±–∏—Ä–∞–ª–∏ –ª–∏—á–Ω—ã–π —Å–æ—Å—Ç–∞–≤, —Å–ª—É—á–∞–π–Ω–æ –Ω–∞ —Ç–µ—Ä—Ä–∏—Ç–æ—Ä–∏–∏ —ç—Å–∫–∞–¥—Ä—ã –ø–æ–¥–≤–æ–¥–Ω—ã—Ö –ª–æ–¥–æ–∫ –≤—Å—Ç—Ä–µ—Ç–∏–ª–∏—Å—å —Å –ö–∞—Ç—á–µ–Ω–∫–æ–≤—ã–º. –ß–í–° –ö–í–§ –±—ã–ª –∑–∞–Ω—è—Ç —Ä–∞–∑–≥–æ–≤–æ—Ä–æ–º —Å –æ—Ñ–∏—Ü–µ—Ä–∞–º–∏ –ø–æ–ª–∏—Ç–æ—Ç–¥–µ–ª–∞, –Ω–æ –º–µ–Ω—è —è–≤–Ω–æ —É–≤–∏–¥–µ–ª, —É–∑–Ω–∞–ª –∏ –Ω–µ —Å–º–æ–≥ —Å–∫—Ä—ã—Ç—å –∏–∑—É–º–ª–µ–Ω–∏—è, –∞ –Ω–∞ –º–æ–µ ¬´–æ—Ç–¥–∞–Ω–∏–µ —á–µ—Å—Ç–∏¬ª —Ç–æ–ª—å–∫–æ –∫–∏–≤–Ω—É–ª. –ó–∞–º–µ—á–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ–º—É, –∫ —Å–æ–∂–∞–ª–µ–Ω–∏—é, –∫–æ—Ä–æ—Ç–∫–æ–º—É –ø–µ—Ä–∏–æ–¥—É –∂–∏–∑–Ω–∏ –≤ –ü—Ä–∏–±–∞–ª—Ç–∏–∫–µ –ø—Ä–∏—à–µ–ª –∫–æ–Ω–µ—Ü. –≠–∫–∑–∞–º–µ–Ω—ã, –≤—Ä—É—á–µ–Ω–∏–µ –æ—á–µ—Ä–µ–¥–Ω–æ–≥–æ ¬´–°–≤–∏–¥–µ—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–∞ —Å –æ—Ç–ª–∏—á–∏–µ–º¬ª, –∏ –æ–ø—è—Ç—å –¥–∞–ª—å–Ω—è—è –¥–æ—Ä–æ–≥–∞. –ê –≤–æ—Å–ø–æ–º–∏–Ω–∞–Ω–∏—è –ø—Ä–∏—è—Ç–Ω—ã. –ò –≤—Å–ø–æ–º–Ω–∏—Ç—å –µ—Å—Ç—å —á—Ç–æ. –ù–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ —á–µ—Ç–∫–æ –æ—Ä–≥–∞–Ω–∏–∑–æ–≤–∞–Ω–Ω–∞—è —É—á–µ–±–∞, –Ω–æ –∏ –±–ª–∞–≥–æ—É—Å—Ç—Ä–æ–µ–Ω–Ω—ã–µ –±—ã—Ç –∏ —á–∞—Å—ã –æ—Ç–¥—ã—Ö–∞. –£—é—Ç–Ω—ã–µ —É–≥–æ–ª–∫–∏ –°—Ç–∞—Ä–æ–≥–æ –¢–∞–ª–ª–∏–Ω–∞, –≤—ã—Ö–æ–¥—ã –≤ –ª–µ—Å –ø–æ –≥—Ä–∏–±—ã –≤ –æ–∫—Ä–µ—Å—Ç–Ω–æ—Å—Ç—è—Ö –ü–∞–ª–¥–∏—Å–∫–∏, –∫–æ–ª–ª–µ–∫—Ç–∏–≤–Ω—ã–π –≤—ã–µ–∑–¥ –Ω–∞ —Ä—ã–±–∞–ª–∫—É ‚Äî –≤—Å–µ —ç—Ç–æ –∏ –¥—Ä—É–≥–æ–µ —Ö—Ä–∞–Ω–∏—Ç—Å—è –≤ —É–≥–æ–ª–∫–∞—Ö –±–ª–∞–≥–æ–¥–∞—Ä–Ω–æ–π –ø–∞–º—è—Ç–∏. –î–∞–ª—å–Ω—è—è –¥–æ—Ä–æ–≥–∞ ‚Äî —ç—Ç–æ —Å–±–æ—Ä—ã, –æ—Ç–ø—Ä–∞–≤–∫–∞ –∫–æ–Ω—Ç–µ–π–Ω–µ—Ä–æ–≤ —Å —Å–µ–º–µ–π–Ω—ã–º–∏ –ø–æ–∂–∏—Ç–∫–∞–º–∏, –∞ —Ç–µ–ø–µ—Ä—å –∏ —ç–∫–∏–ø–∞–∂ –æ–±—Ä–æ—Å —Å–æ–ª–∏–¥–Ω—ã–º –∏–Ω—Ç–µ–Ω–¥–∞–Ω—Ç—Å–∫–∏–º –∏–º—É—â–µ—Å—Ç–≤–æ–º, –æ—Ä–≥–∞–Ω–∏–∑–∞—Ü–∏—è –ø–µ—Ä–µ–≤–æ–∑–∫–∏ –≤–æ–∏–Ω—Å–∫–æ–≥–æ –ø–æ–¥—Ä–∞–∑–¥–µ–ª–µ–Ω–∏—è, —Ç–æ –±–∏—à—å ¬´–≤–æ–∏–Ω—Å–∫–æ–≥–æ —ç—à–µ–ª–æ–Ω–∞¬ª, –≥–¥–µ –ø–æ –∂/–¥, –≥–¥–µ —Å–∞–º–æ–ª–µ—Ç–æ–º. –ú–æ—Ä–æ–∫–∞, –Ω–æ –Ω–∞–¥–æ. –î–æ—Å–∞–¥–Ω–æ —Ç–æ–ª—å–∫–æ, —á—Ç–æ —ç—Ç–æ –ø—Ä–∏–¥–µ—Ç—Å—è –¥–µ–ª–∞—Ç—å –µ—â–µ –Ω–µ –æ–¥–∏–Ω —Ä–∞–∑. –ü–æ–∫–∞ –≤—Å–µ –æ—Ç–ø—Ä–∞–≤–ª—è–µ—Ç—Å—è –ø–æ –∞–¥—Ä–µ—Å—É, —É–∫–∞–∑–∞–Ω–Ω–æ–º—É –≤ –ø—Ä–µ–¥–ø–∏—Å–∞–Ω–∏–∏, –≤ –ü—Ä–∏–º–æ—Ä—å–µ –Ω–∞ –∂/–¥ —Å—Ç. –î—É–Ω–∞–π, –ø–æ–±–ª–∏–∂–µ –∫ –º–µ—Å—Ç—É –±–∞–∑–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–∏—è —Å–æ–µ–¥–∏–Ω–µ–Ω–∏—è –∞—Ç–æ–º–Ω—ã—Ö –ø–æ–¥–≤–æ–¥–Ω—ã—Ö –ª–æ–¥–æ–∫, –≥–¥–µ –Ω–∞–º –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–æ–∏—Ç —Å—Ç–∞–∂–∏—Ä–æ–≤–∞—Ç—å—Å—è –∏ —Å–¥–∞—Ç—å –ø–µ—Ä–≤—ã–µ –¥–≤–µ –∫—É—Ä—Å–æ–≤—ã–µ –∑–∞–¥–∞—á–∏ –±–æ–µ–≤–æ–π –ø–æ–¥–≥–æ—Ç–æ–≤–∫–∏.  –ü–Ý–ò–ú–û–Ý–¨–ï –ü–Ý–ò–ú–û–Ý–¨–ï–ü—Ä–∏–±—ã–ª–∏. –Ý–∞–∑–º–µ—Å—Ç–∏–ª–∏—Å—å. –î–ª—è —ç–∫–∏–ø–∞–∂–∞ –≤—ã–¥–µ–ª–∏–ª–∏ –≤ –æ–¥–Ω–æ–π –∏–∑ –∫–∞–∑–∞—Ä–º –∫—É–±—Ä–∏–∫ —Å –ø–∞—Ä–æ–π –∫–∞—é—Ç –¥–ª—è –æ—Ñ–∏—Ü–µ—Ä–æ–≤ –∏ –∫–∞–Ω—Ü–µ–ª—è—Ä–∏–µ–π —Ç–∞–º –∂–µ. –°–µ–º—å–∏ —Å–æ —Å–∫–∞—Ä–±–æ–º —Ä–∞—Å—Å–µ—è–ª–∏ –ø–æ –°–æ—é–∑—É —É —Ä–æ–¥—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–∏–∫–æ–≤ –∏ –∑–Ω–∞–∫–æ–º—ã—Ö. –Ø –¥–ª—è —Å–µ–º—å–∏ –ø–æ–ª—É—á–∏–ª –∫–≤–∞—Ä—Ç–∏—Ä—É –≤ –ø–æ—Å. –¢–∏—Ö–æ–æ–∫–µ–∞–Ω—Å–∫–æ–º. –≠—Ç–æ –∑–∞–∫—Ä—ã—Ç—ã–π –≤–æ–µ–Ω–Ω—ã–π –ø–æ—Å–µ–ª–æ–∫ –ø–∞–Ω–µ–ª—å–Ω—ã—Ö –ø—è—Ç–∏ –∏ –±–æ–ª–µ–µ —ç—Ç–∞–∂–Ω—ã—Ö –¥–æ–º–æ–≤ –¥–ª—è —Å–µ–º–µ–π –æ—Ñ–∏—Ü–µ—Ä–æ–≤ –Ω–∞–¥–≤–æ–¥–Ω—ã—Ö –∫–æ—Ä–∞–±–ª–µ–π –∏ –ø–æ–¥–≤–æ–¥–Ω–∏–∫–æ–≤, –±–∞–∑–∏—Ä—É—é—â–∏—Ö—Å—è –Ω–∞ –∑–∞–ª–∏–≤ –°—Ç—Ä–µ–ª–æ–∫. –°—Ç–∞–∂–∏—Ä–æ–≤–∞–ª–∏—Å—å –Ω–∞ –≥–æ–ª–æ–≤–Ω–æ–π –ü–õ–ê–Ý–ë –ö–æ–º—Å–æ–º–æ–ª—å—Å–∫–æ–≥–æ –∑–∞–≤–æ–¥–∞. –ü–µ—Ä–≤–∞—è –∫—É—Ä—Å–æ–≤–∞—è –∑–∞–¥–∞—á–∞ ‚Ññ 1–∞ ‚Äî –æ—Ä–≥–∞–Ω–∏–∑–∞—Ü–∏–æ–Ω–Ω–∞—è. –û—Å–Ω–æ–≤–Ω—ã–µ —Ç—Ä–µ–±–æ–≤–∞–Ω–∏—è: —á–∏—Å—Ç–æ—Ç–∞ –∏ –ø–æ—Ä—è–¥–æ–∫ –≤ –∫—É–±—Ä–∏–∫–µ, —á–∏—Å—Ç–∞—è –æ—Ç–≥–ª–∞–∂–µ–Ω–Ω–∞—è —Ñ–æ—Ä–º–∞ –æ–¥–µ–∂–¥—ã, –∞–∫–∫—É—Ä–∞—Ç–Ω–∞—è –ø—Ä–∏—á–µ—Å–∫–∞, –Ω–∞ —Å–ø–µ—Ü–æ–¥–µ–∂–¥–µ —Å–æ–æ—Ç–≤–µ—Ç—Å—Ç–≤—É—é—â–∞—è –º–∞—Ä–∫–∏—Ä–æ–≤–∫–∞, –∫–Ω–∏–∂–∫–∏ ¬´–±–æ–µ–≤–æ–π –Ω–æ–º–µ—Ĭª, –∑–Ω–∞–Ω–∏–µ –µ–µ –∏ —ç–∫—Å–ø–ª—É–∞—Ç–∞—Ü–∏–æ–Ω–Ω–æ–π –¥–æ–∫—É–º–µ–Ω—Ç–∞—Ü–∏–∏ —Å–≤–æ–µ–≥–æ –∑–∞–≤–µ–¥–æ–≤–∞–Ω–∏—è –Ω–∞ –ª–æ–¥–∫–µ, –∑–Ω–∞–Ω–∏–µ –∏ —Å–æ–±–ª—é–¥–µ–Ω–∏–µ —Ç—Ä–µ–±–æ–≤–∞–Ω–∏–π —Ä–∞–¥–∏–∞—Ü–∏–æ–Ω–Ω–æ–π –±–µ–∑–æ–ø–∞—Å–Ω–æ—Å—Ç–∏ –∏ –º–Ω–æ–≥–æ–µ –¥—Ä—É–≥–æ–µ. –í–µ–Ω–µ—Ü ‚Äî –¥–æ–ø—É—Å–∫ –∫ —Å–∞–º–æ—Å—Ç–æ—è—Ç–µ–ª—å–Ω–æ–º—É —É–ø—Ä–∞–≤–ª–µ–Ω–∏—é, —Å–æ–æ—Ç–≤–µ—Ç—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ –ø–æ –¥–æ–ª–∂–Ω–æ—Å—Ç–∏, –±–æ–µ–≤—ã–º –ø–æ—Å—Ç–æ–º, –∫–æ–º–∞–Ω–¥–æ–π, –≥—Ä—É–ø–ø–æ–π, –±–æ–µ–≤–æ–π —á–∞—Å—Ç—å—é, –∫–æ—Ä–∞–±–ª–µ–º. –í—Ç–æ—Ä–∞—è –∫—É—Ä—Å–æ–≤–∞—è –∑–∞–¥–∞—á–∞ ‚Ññ 2–∞ ‚Äî –ø—Ä–∞–∫—Ç–∏–∫–∞, —Ç. –µ. —É–º–µ–Ω–∏–µ –ø—Ä–∏–≥–æ—Ç–æ–≤–∏—Ç—å –∫ –¥–µ–π—Å—Ç–≤–∏—é, –∑–∞–ø—É—Å—Ç–∏—Ç—å, —ç–∫—Å–ø–ª—É–∞—Ç–∏—Ä–æ–≤–∞—Ç—å, —É–ø—Ä–∞–≤–ª—è—Ç—å –æ–ø—è—Ç—å –∂–µ –º–∞—Ç–µ—Ä–∏–∞–ª—å–Ω–æ–π —á–∞—Å—Ç—å—é —Å–≤–æ–µ–≥–æ –ë–ü, –∫–æ–º–∞–Ω–¥–æ–π, –≥—Ä—É–ø–ø–æ–π, –±–æ–µ–≤–æ–π —á–∞—Å—Ç—å—é, –∫–æ—Ä–∞–±–ª–µ–º. –ö–æ—Ä–æ—á–µ, —É–º–µ–Ω–∏–µ –ø–ª–∞–≤–∞—Ç—å –∏ —É–ø—Ä–∞–≤–ª—è—Ç—å –∫–æ—Ä–∞–±–ª–µ–º –≤ –Ω–∞–¥–≤–æ–¥–Ω–æ–º –∏ –ø–æ–¥–≤–æ–¥–Ω–æ–º –ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–∏–∏. –ù–∞–ø—Ä—è–∂–µ–Ω–Ω—ã–π —Ç—Ä—É–¥ –≤—Å–µ–≥–æ —ç–∫–∏–ø–∞–∂–∞ –≤ —Ç–µ—á–µ–Ω–∏–µ –ø–æ–∑–¥–Ω–µ–π –æ—Å–µ–Ω–∏ 1971 –≥–æ–¥–∞ –∏ –∑–∏–º—ã 1971/1972 –≥–æ–¥–∞ –Ω–µ –º–æ–≥ –Ω–µ —É–≤–µ–Ω—á–∞—Ç—å—Å—è —É—Å–ø–µ—Ö–æ–º, –∏ –≤–µ—Å–Ω–æ–π –º—ã –≤–Ω–æ–≤—å —Å–æ–±—Ä–∞–ª–∏—Å—å –∏ –¥–≤–∏–Ω—É–ª–∏—Å—å –≤ –ö–æ–º—Å–æ–º–æ–ª—å—Å–∫-–Ω–∞-–ê–º—É—Ä–µ. –¢–æ, —á—Ç–æ –Ω–∞–ø–∏—Å–∞–ª, —ç—Ç–æ –Ω–µ –¥–ª—è –º–æ—Ä—è–∫–æ–≤. –û–Ω–∏ –≤—Å–µ —ç—Ç–æ –∑–Ω–∞—é—Ç. –≠—Ç–æ –¥–ª—è –¥–µ—Ç–µ–π –Ω–∞—à–∏—Ö –∏ –≤–Ω—É–∫–æ–≤, –µ—Å–ª–∏ —á–∏—Ç–∞—Ç—å –±—É–¥—É—Ç. –ö–û–ú–°–û–ú–û–õ–¨–°–ö-–ù–ê-–ê–ú–£–Ý–ï –ö–æ–º—Å–æ–º–æ–ª—å—Å–∫ –≤—Å—Ç—Ä–µ—Ç–∏–ª –Ω–∞—Å –≤–µ—Å–µ–Ω–Ω–∏–º —Å–æ–ª–Ω—Ü–µ–º. –Ý–∞–∑–º–µ—Å—Ç–∏–ª–∏—Å—å –≤ —Ä–∞—Å–ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–∏–∏ –±—Ä–∏–≥–∞–¥—ã —Å—Ç—Ä–æ—è—â–∏—Ö—Å—è –ø–æ–¥–≤–æ–¥–Ω—ã—Ö –ª–æ–¥–æ–∫ –ø—Ä–µ–∫—Ä–∞—Å–Ω–æ. –í—Å–µ —Å–µ–º—å–∏, —á—Ç–æ –±—ã–ª–∏ —Å –Ω–∞–º–∏, —Ç–æ–∂–µ –ø–æ–ª—É—á–∏–ª–∏ –∫–≤–∞—Ä—Ç–∏—Ä—ã –∏–ª–∏ –∫–æ–º–Ω–∞—Ç—ã. –¢–µ—Ä—Ä–∏—Ç–æ—Ä–∏—è –±–æ–ª—å—à–∞—è, —É—Ö–æ–∂–µ–Ω–Ω–∞—è. –ó–¥–∞–Ω–∏—è –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ—Ä–Ω—ã–µ –∏ –¥–æ–±—Ä–æ—Ç–Ω—ã–µ. –ü—É—Å—Ç–æ. –ú—ã –ø–æ–∫–∞ –µ–¥–∏–Ω—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–π —ç–∫–∏–ø–∞–∂. –í –±—Ä–∏–≥–∞–¥–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –æ–¥–∏–Ω –∏—Å—Ç–æ—Å–∫–æ–≤–∞–≤—à–∏–π—Å—è –Ω–∞ —Å–ª—É–∂–±–µ —à—Ç–∞–± ‚Äî –∫–æ–º–±—Ä–∏–≥, –∫–∞–ø–∏—Ç–∞–Ω 1 —Ä–∞–Ω–≥–∞, –Ω–µ–±–æ–ª—å—à–æ–≥–æ —Ä–æ—Å—Ç–∞, –±–æ–ª–µ–µ —á–µ–º –ø–æ–ª–Ω—ã–π —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫ —Å –∫—Ä–∞—Å–Ω—ã–º –ª–∏—Ü–æ–º (–º—ã –µ–≥–æ –∑–∞ –≥–ª–∞–∑–∞ –∑–≤–∞–ª–∏ ¬´—Å–µ–Ω—å–æ—Ä-–ø–æ–º–∏–¥–æ—Ĭª), –¥–æ–∫–∞–∑–∞–ª –Ω–∞–º —ç—Ç–æ –≤ –ø–µ—Ä–≤—ã–µ –∂–µ –¥–Ω–∏. –ö–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å –±—ã, –ø–µ—Ä–≤—ã–º –¥–µ–ª–æ–º –¥–æ–ø—É—Å—Ç–∏ –ª—é–¥–µ–π –¥–æ —Å—Ç—Ä–æ—è—â–µ–≥–æ—Å—è –∫–æ—Ä–∞–±–ª—è, —Ö–æ—Ç—å –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ –ø–æ–∫–∞–∂–∏, –Ω–æ –Ω–µ—Ç. –ü–µ—Ä–≤—ã–º –¥–µ–ª–æ–º –≤—Å–µ –≤—ã–º–æ–π –∏ –≤—ã–ª–∏–∂–∏, –≤—ã—Ä–æ–≤–Ω—è–π, –∑–∞–ø—Ä–∞–≤—å, –ø—Ä–∏—á–µ—à–∏—Å—å, –Ω–∞–∫–ª–µ–π –Ω—É–∂–Ω—ã–µ –±–∏—Ä–∫–∏... –ö–æ—Ä–æ—á–µ, –ø–æ–¥—Ç–≤–µ—Ä–¥–∏ –∑–∞–¥–∞—á—É ‚Ññ 1–∞ –≤–Ω–æ–≤—å. –î–æ—à–ª–æ –¥–æ —Ç–æ–≥–æ, —á—Ç–æ –∫–∞–∫-—Ç–æ —Å–º–æ—Ç—Ä—é –º–æ–∏ –º–∏—á–º–∞–Ω–∞ –º–æ—é—Ç –∞—Å—Ñ–∞–ª—å—Ç–æ–≤—ã–µ –¥–æ—Ä–æ–∂–∫–∏ –Ω–∞ —Ç–µ—Ä—Ä–∏—Ç–æ—Ä–∏–∏ —á–∞—Å—Ç–∏ –ø–∞–ª—É–±–Ω—ã–º–∏ —â–µ—Ç–∫–∞–º–∏, –º–∞–∫–∞—è –∏—Ö –ø–µ—Ä–∏–æ–¥–∏—á–µ—Å–∫–∏ –≤ —Ç–∞–∑–∏–∫–∏ —Å –≤–æ–¥–æ–π. –í–æ–¥—É —Ç–∞—Å–∫–∞—é—Ç –∏–∑ –±–ª–∏–∂–∞–π—à–µ–≥–æ –≥–∞–ª—å—é–Ω–∞ –∫–∞–∑–∞—Ä–º—ã. –í–º–µ—à–∞–ª—Å—è. ‚Äî –í–æ—Ç —Ç–æ—Ä—á–∞—Ç –∏–∑ –∑–µ–º–ª–∏ –ø–æ–∂–∞—Ä–Ω—ã–µ –≥–∏–¥—Ä–∞–Ω—Ç—ã, –ø–æ–¥–∫–ª—é—á–∏—Ç–µ —à–ª–∞–Ω–≥–∏ –∏ —Å–∫–∞—Ç–∏—Ç–µ –≤—Å—é –≥—Ä—è–∑—å –≤–æ–¥–æ–π. –ß—Ç–æ –≤—ã –µ–µ —Ä–∞–∑–º–∞–∑—ã–≤–∞–µ—Ç–µ —â–µ—Ç–∫–∞–º–∏?! –ò —á—Ç–æ –∂–µ? –ü–æ–ª—É—á–∏–ª –æ—Ç –∫–æ–º–±—Ä–∏–≥–∞ –Ω–∞–≥–æ–Ω—è–π: ¬´–ù–µ –≤–º–µ—à–∏–≤–∞–π—Å—è, —Ç–∞–∫–æ–≤ —É—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–ª–µ–Ω–Ω—ã–π –ø–æ—Ä—è–¥–æ–∫. –ù–µ—á–µ–≥–æ –≥–∞–∑–æ–Ω—ã –≤–æ–¥–æ–π –∑–∞–ª–∏–≤–∞—Ç—å!¬ª –ò –ø–æ–¥–µ–ª–æ–º! –ó–≤—É—á–∏—Ç –æ—á–µ–Ω—å —É–±–µ–¥–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ. –Ø, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, –∫–æ–µ-—á—Ç–æ —Å–æ —Å–≤–æ–µ–π —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã –≤—ã—Å–∫–∞–∑–∞–ª, —Ç–µ–º –±–æ–ª–µ–µ —á—Ç–æ –≤ –ø—Ä–µ—Ä–µ–∫–∞–Ω–∏—è –≤–∫–ª—é—á–∏–ª—Å—è –Ω–∞—á. –ü–û –∫–∞–ø–∏—Ç–∞–Ω 1 —Ä–∞–Ω–≥–∞ –ü–∞–Ω–∏–Ω. –¢–µ–º –Ω–µ –º–µ–Ω–µ–µ –¥–Ω—è —á–µ—Ä–µ–∑ –¥–≤–∞ –æ—Ñ–æ—Ä–º–∏–ª–∏ –ø—Ä–æ–ø—É—Å–∫–∞ –¥–ª—è –ø—Ä–æ—Ö–æ–¥–∞ –Ω–∞ –∑–∞–≤–æ–¥. –°–≤–æ–µ ¬´—Ç–æ–º–ª–µ–Ω–∏–µ –ø–æ –±–æ–µ–≤–æ–π –¥–µ—è—Ç–µ–ª—å–Ω–æ—Å—Ç–∏¬ª –∫–æ–º–±—Ä–∏–≥ —É–¥–æ–≤–ª–µ—Ç–≤–æ—Ä–∏–ª –∏ –≤ —Ç–∞–∫—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–º –∫–∞–±–∏–Ω–µ—Ç–µ, –±–ª–∞–≥–æ–¥–∞—Ä—è –Ω–∞–º —Å—É—â–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ –≤—ã–ø–æ–ª–Ω–∏–ª –ø–ª–∞–Ω –ø–æ —Ç–∞–∫—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–π –ø–æ–¥–≥–æ—Ç–æ–≤–∫–µ. –ö–∞–∂–¥—É—é –Ω–µ–¥–µ–ª—é, –∞ —Ç–æ –∏ –¥–≤–∞–∂–¥—ã, –ø—Ä–æ–≤–æ–¥–∏–ª–∏—Å—å —Å–µ–º–∏–Ω–∞—Ä—ã, –≥—Ä—É–ø–ø–æ–≤—ã–µ —É–ø—Ä–∞–∂–Ω–µ–Ω–∏—è –∏–ª–∏ —Ç–∞–∫—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏–µ –ª–µ—Ç—É—á–∫–∏. –û–±—É—á–∞–µ–º—ã—Ö –≤ –≥—Ä—É–ø–ø–µ –∫–æ–º–∞–Ω–¥–∏—Ä—Å–∫–æ–π –ø–æ–¥–≥–æ—Ç–æ–≤–∫–∏ –∫–æ–º–±—Ä–∏–≥–∞ –±—ã–ª–æ –¥–≤–æ–µ ‚Äî —è –∏ –º–æ–π —Å—Ç–∞—Ä–ø–æ–º –ö–∞–π—Å–∏–Ω. –ö–∞–∫ –ø—Ä–∞–≤–∏–ª–æ, —ç—Ç–æ –±—ã–ª–æ —Ç–∞–∫. –í –æ–≥—Ä–æ–º–Ω–æ–º, —Ä–∞—Å—Ü–≤–µ—á–µ–Ω–Ω–æ–º —Å—Ç–µ–Ω–¥–∞–º–∏ –æ ¬´–≤–µ—Ä–æ—è—Ç–Ω–æ–º –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤–Ω–∏–∫–µ¬ª –∫–∞–±–∏–Ω–µ—Ç–µ –ø–æ –æ–¥–Ω—É —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É –¥–ª–∏–Ω–Ω–æ–≥–æ —Å—Ç–æ–ª–∞ —Ä–∞—Å—Å–∞–∂–∏–≤–∞–ª–∏—Å—å –∫–æ–º–±—Ä–∏–≥, –Ω–∞—á–∞–ª—å–Ω–∏–∫ —à—Ç–∞–±–∞ –ì–µ—Ä–æ–π –°–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–æ–≥–æ –°–æ—é–∑–∞, –∫–∞–ø–∏—Ç–∞–Ω 1 —Ä–∞–Ω–≥–∞ –°–ª–∞–≤–∞ –í–∏–Ω–æ–≥—Ä–∞–¥–æ–≤ (—Å–æ—Å–ª–∞–Ω–Ω—ã–π —Å—é–¥–∞ –∑–∞ —á—Ç–æ-—Ç–æ), –∫—Ç–æ-–ª–∏–±–æ, –≤ –∑–∞–≤–∏—Å–∏–º–æ—Å—Ç–∏ –æ—Ç —Ç–µ–º—ã, –∏–∑ —Ñ–ª–∞–≥–º–∞–Ω—Å–∫–∏—Ö —Å–ø–µ—Ü–∏–∞–ª–∏—Å—Ç–æ–≤, –∏–Ω–æ–≥–¥–∞ –Ω–∞—á. –ü–û.  –Ω–∞—á–∞–ª —Å–≤–æ–π –ø—É—Ç—å —Å–ø–µ—Ü—à–∫–æ–ª—å–Ω–∏–∫–æ–º, –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∏–ª –ø–æ–¥–≥–æ—Ç–æ–º. –Ý—É–∫–æ–≤–æ–¥–∏—Ç–µ–ª—å –∑–∞–Ω—è—Ç–∏—è, —Ç–æ –±–∏—à—å –∫–æ–º–±—Ä–∏–≥, —Ö–æ—Ä–æ—à–æ –ø–æ—Å—Ç–∞–≤–ª–µ–Ω–Ω—ã–º –≥–æ–ª–æ—Å–æ–º –≤ –Ω–∏–∫—É–¥–∞ –∑–∞—á–∏—Ç—ã–≤–∞–ª –∏–∑ –æ—Ç–ø–µ—á–∞—Ç–∞–Ω–Ω–æ–≥–æ ¬´–ü–ª–∞–Ω–∞...¬ª –æ—á–µ—Ä–µ–¥–Ω–æ–π –≤–æ–ø—Ä–æ—Å –∏ –≤–æ–ø—Ä–æ—à–∞–ª: ‚Äî –ö—Ç–æ –±—É–¥–µ—Ç –æ—Ç–≤–µ—á–∞—Ç—å? –í—Å–µ, –µ—Å—Ç–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ, —Å–º–æ—Ç—Ä–µ–ª–∏ –Ω–∞ –º–µ–Ω—è –∏–ª–∏ —Å—Ç–∞—Ä–ø–æ–º–∞. –û–±—Ä–µ–º–µ–Ω–µ–Ω–Ω—ã–µ —Å–≤–µ–∂–∏–º–∏ –∑–Ω–∞–Ω–∏—è–º–∏ –∏–∑ –∞–∫–∞–¥–µ–º–∏–∏ –∏ –£–¶, –ª–∏–±–æ —è, –ª–∏–±–æ –æ–Ω, –∫–∞–∫ —à–∫–æ–ª—å–Ω–∏–∫–∏ –ø–æ–¥–Ω–∏–º–∞–ª–∏ —Ä—É–∫—É, –≤—Å—Ç–∞–≤–∞–ª–∏ –∏ —á–µ—Ç–∫–æ –∏–∑–ª–∞–≥–∞–ª–∏. ‚Äî –¢–∞–∫. –°–ª–µ–¥—É—é—â–∏–π –≤–æ–ø—Ä–æ—Å... –ö—Ç–æ –±—É–¥–µ—Ç –æ—Ç–≤–µ—á–∞—Ç—å? –ò —Ç–∞–∫ –¥–æ –∫–æ–Ω—Ü–∞ –≤–æ–ø—Ä–æ—Å–Ω–∏–∫–∞. –ö–æ–º–µ–¥–∏—è —ç—Ç–∞, –≤–∏–¥–∏–º–æ, –∫–æ–º–±—Ä–∏–≥—É –Ω—Ä–∞–≤–∏–ª–∞—Å—å. –û—Å—Ç–∞–ª—å–Ω—ã–µ –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç–µ–ª–∏ –±—Ä–∏–≥–∞–¥—ã, –∫–∞–∫ –ø—Ä–∞–≤–∏–ª–æ, —Å–∏–¥–µ–ª–∏ —Å –Ω–µ–ø—Ä–æ–Ω–∏—Ü–∞–µ–º—ã–º–∏ –ª–∏—Ü–∞–º–∏. –í—Ä–µ–º–µ–Ω–∞–º–∏ –∫–æ–º–±—Ä–∏–≥ –¥–µ–ª–∞–ª –∫–∞–∫–∏–µ-—Ç–æ –ø–æ–º–µ—Ç–∫–∏ –≤ –Ω–∞–ø–µ—á–∞—Ç–∞–Ω–Ω–æ–º —Ç–µ–∫—Å—Ç–µ –≤–∞—Ä–∏–∞–Ω—Ç–∞ –æ–∂–∏–¥–∞–µ–º–æ–≥–æ –æ—Ç–≤–µ—Ç–∞, —Ç–∏—Ö–æ —à–µ–ø—Ç–∞–ª –í–∏–Ω–æ–≥—Ä–∞–¥–æ–≤—É: ¬´–ù–∞–¥–æ –ø–æ–ø—Ä–∞–≤–∏—Ç—å...¬ª. –ù–∞–≤–µ—Ä–Ω–æ, —ç—Ç–æ –±—ã–ª –º–µ—Ç–æ–¥ –ø–æ–≤—ã—à–µ–Ω–∏—è —Å–∞–º–æ–æ–±—Ä–∞–∑–æ–≤–∞–Ω–∏—è –≤ —ç—Ç–æ–º ¬´–º–µ–¥–≤–µ–∂—å–µ–º —É–≥–ª—ɬª. –ö–∞–∫-—Ç–æ, –ø–æ–º–Ω—é, –Ω–∞ –æ—á–µ—Ä–µ–¥–Ω–æ–º –∑–∞–Ω—è—Ç–∏–∏ –Ω–µ –≤—ã–¥–µ—Ä–∂–∞–ª, –≥–æ–≤–æ—Ä—é: –º–æ–ª, ¬´–Ω–µ—Ç —É –Ω–∞—Å –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∏, —Å–∏–¥–µ—Ç—å –∑–¥–µ—Å—å –ª–æ–º–∞—Ç—å –∫–æ–º–µ–¥–∏—é, –ª–æ–¥–∫–æ–π –Ω–∞–¥–æ –∑–∞–Ω–∏–º–∞—Ç—å—Å—è. –î–∞ –∏ –≤–∞–º –∑–∞—á–µ–º –≤–µ—Å—å –ø–ª–∞–Ω –Ω–∞ –Ω–∞—Å –¥–µ–ª–∞—Ç—å, —Å–∫–æ—Ä–æ –æ—á–µ—Ä–µ–¥–Ω–æ–π —ç–∫–∏–ø–∞–∂ –ø—Ä–∏–µ–¥–µ—Ç. –ß–µ–º –∏—Ö –∑–∞–Ω–∏–º–∞—Ç—å –±—É–¥–µ—Ç–µ?¬ª. –ü—É—Å—Ç–æ–µ! ¬´–ù–∞–π–¥–µ–º, —á–µ–º. –ù–µ –≤–∞—à–µ –¥–µ–ª–欪. –û–¥–Ω–∞–∫–æ –≤—Å–∫–æ—Ä–µ –æ—Ç—Å—Ç–∞–ª, —è –¥—É–º–∞—é, –Ω–∞—á. –ü–û –ø–æ–º–æ–≥. –î–µ–π—Å—Ç–≤–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ, –≤—Å–∫–æ—Ä–µ –ø—Ä–∏–±—ã–ª –æ—á–µ—Ä–µ–¥–Ω–æ–π —ç–∫–∏–ø–∞–∂ (–º–æ–Ω—Ç–∞–∂ –∏—Ö –ª–æ–¥–∫–∏ —à–µ–ª –≤ —Å–æ—Å–µ–¥–Ω–µ–º —ç–ª–ª–∏–Ω–≥–µ), —Å—Ç–∞–ª–æ –ø–æ–ª–µ–≥—á–µ. –ü—Ä–∞–≤–¥–∞, –æ–¥–Ω–æ –¥–µ–π—Å—Ç–≤–æ –∫–æ–º–±—Ä–∏–≥–∞ –≤—Å–ø–æ–º–∏–Ω–∞—é —Å –±–ª–∞–≥–æ–¥–∞—Ä–Ω–æ—Å—Ç—å—é, –ø–æ–º–æ–≥ —Å–∫–æ–ª–∞—á–∏–≤–∞–Ω–∏—é, —Å–ø–∞–π–∫–µ —ç–∫–∏–ø–∞–∂–∞. –í–µ—Ä–Ω–µ–µ –Ω–µ —Å–ø–∞–π–∫–µ, –∞ —Å–ø–æ–π–∫–µ. –° –ø—Ä–∏–±—ã—Ç–∏–µ–º –Ω–æ–≤–æ–≥–æ —ç–∫–∏–ø–∞–∂–∞ –Ω–∞–∑–Ω–∞—á–µ–Ω –±—ã–ª —Å—Ç—Ä–æ–µ–≤–æ–π —Å–º–æ—Ç—Ä. –°–º–æ—Ç—Ä –∑–∞–≤–µ—Ä—à–∞–µ—Ç—Å—è –ø—Ä–æ—Ö–æ–∂–¥–µ–Ω–∏–µ–º —Å –∏—Å–ø–æ–ª–Ω–µ–Ω–∏–µ–º —Å—Ç—Ä–æ–µ–≤–æ–π –ø–µ—Å–Ω–∏. –î–≤–∞ —ç–∫–∏–ø–∞–∂–∞‚Äî –µ—Å—Ç–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ, –∑–¥–æ—Ä–æ–≤–æ–µ —Å–æ—Ä–µ–≤–Ω–æ–≤–∞–Ω–∏–µ. –ö—Ç–æ –ª—É—á—à–µ? –ü–æ—Å–ª–µ –ø—Ä–æ—Ö–æ–∂–¥–µ–Ω–∏—è —Å –ø–µ—Ä–≤–æ–π –ø–µ—Å–Ω–µ–π –Ω–∞–º —Å–∫–æ–º–∞–Ω–¥–æ–≤–∞–ª–∏ –ø–æ–≤—Ç–æ—Ä–∏—Ç—å. –ü–µ—Å–Ω—é –Ω–µ –ø–æ–º–Ω—é, –Ω–æ –∏—Å–ø–æ–ª–Ω–∏–ª–∏ –∑–¥–æ—Ä–æ–≤–æ. –í —á–µ–º –¥–µ–ª–æ? –ò–¥–µ–º –Ω–∞ –≤—Ç–æ—Ä–æ–π –∑–∞—Ö–æ–¥. –ó–∞ —Å–ø–∏–Ω–æ–π —É –º–µ–Ω—è —Ç–∏—Ö–∏–π –≥–∞–ª–¥–µ–∂, —á—Ç–æ-—Ç–æ –æ–±—Å—É–∂–¥–∞—é—Ç. –°–ø—Ä–∞—à–∏–≤–∞—é: ¬´–ï—â–µ –ø–µ—Å–Ω—è –µ—Å—Ç—å?¬ª. ¬´–ï—Å—Ç—å!¬ª. –ò –∫–∞–∫ –¥–∞–ª–∏... ¬´...–¢—ã-—ã –Ω–µ –ø–ª–∞—á—å, –Ω–µ –ø–ª–∞—á—å, –º–æ—è –ú–∞—Ä—É—Å—è, –Ø –∫ —Ç–µ–±–µ-–µ –Ω–µ-–µ –≤–µ—Ä–Ω—É—Å—è...¬ª –ò –ø—Ä–∏–ø–µ–≤: ¬´–ü–æ –º–æ—Ä—è–º, –ø–æ –≤–æ–ª–Ω–∞–º, –Ω—ã–Ω—á–µ –∑–¥–µ—Å—å, –∑–∞–≤—Ç—Ä–∞ —Ç–∞–º. –ü–æ-–æ –º–æ—Ä—è–º-–º, –º–æ—Ä—è–º, –º–æ—Ä—è–º, –º–æ—Ä—è–º... –≠—Ö, –Ω—ã–Ω—á–µ –∑–¥–µ-–µ—Å—å, –∞ –∑–∞–≤—Ç—Ä–∞ —Ç–∞–º!¬ª –ò –≤—Å–µ —ç—Ç–æ —Å –∑–∞–ø–µ–≤–∞–ª–æ–π, —Å –ø–æ—Å–≤–∏—Å—Ç–æ–º... –õ–∏—Ö–æ –ø—Ä–æ—à–ª–∏!.. –Ø—Å–Ω–æ–µ –¥–µ–ª–æ, –ø–µ—Ä–≤–æ–µ –º–µ—Å—Ç–æ. –û–∫–∞–∑—ã–≤–∞–µ—Ç—Å—è, –ø–µ—Ä–≤–æ–µ –ø—Ä–æ—Ö–æ–∂–¥–µ–Ω–∏–µ –∏ –ø–µ—Å–Ω—è —Ç–æ–∂–µ –ø–æ–Ω—Ä–∞–≤–∏–ª–∏—Å—å, –ø–æ—Ç–æ–º—É –∏ –ø—Ä–∏–∫–∞–∑–∞–ª–∏ –ø–æ–≤—Ç–æ—Ä–∏—Ç—å. –ú–æ–ª–æ–¥—Ü—ã! –ó–∞—Å–ª—É–≥–∞ –º–æ–∏—Ö –ø–æ–º–æ—â–Ω–∏–∫–æ–≤‚Äî –ö–∞–π—Å–∏–Ω–∞, –ë–µ–ª–æ–∑–µ—Ä–æ–≤–∞ –∏ –ó–∞–¥–æ—è–Ω–∞. –ü–æ –≤–µ—á–µ—Ä–∞–º, –∫–æ–≥–¥–∞ —è —É–∂–µ —É—Ö–æ–¥–∏–ª –¥–æ–º–æ–π, –æ–Ω–∏ –æ—Å—Ç–∞–≤–∞–ª–∏—Å—å –≤ –∫—É–±—Ä–∏–∫–µ —Ä–∞–∑—É—á–∏–≤–∞–ª–∏ –∏ —Ä–µ–ø–µ—Ç–∏—Ä–æ–≤–∞–ª–∏.  –°—Ç—Ä–æ–µ–≤–æ–π —Å–º–æ—Ç—Ä. –ü—Ä–æ—Ö–æ–∂–¥–µ–Ω–∏–µ —ç–∫–∏–ø–∞–∂–∞ —Å –ø–µ—Å–Ω–µ–π. –ö–æ–º—Å–æ–º–æ–ª—å—Å–∫-–Ω–∞-–ê–º—É—Ä–µ. 1972 –≥–æ–¥ –ü–µ—Ä–≤–æ–µ –∑–Ω–∞–∫–æ–º—Å—Ç–≤–æ —Å –∫–æ—Ä–∞–±–ª–µ–º –ø–æ—Ç—Ä—è—Å–ª–æ. –í–∏–¥ –æ–≥—Ä–æ–º–Ω–æ–π –ª–æ–¥–∫–∏ –≤ —ç–ª–ª–∏–Ω–≥–µ –Ω–∞ —Å—Ç–∞–ø–µ–ª—è—Ö ‚Äî —ç—Ç–æ –Ω–µ —Ç–æ, —á—Ç–æ –Ω–∞ –ø–ª–∞–≤—É! 20 –º –≤–º–µ—Å—Ç–µ —Å —Ä—É–±–∫–æ–π –≤ –≤—ã—Å–æ—Ç—É, –ø–æ—á—Ç–∏ 130 –º –≤ –¥–ª–∏–Ω—É, 6-7-—ç—Ç–∞–∂–Ω—ã–π –∏ 6-–ø–æ–¥—ä–µ–∑–¥–Ω—ã–π –¥–æ–º! –Ý–∞–±–æ—Ç—ã –∏–¥—É—Ç –ø–æ–ª–Ω—ã–º —Ö–æ–¥–æ–º. –ö–æ—Ä–ø—É—Å –∫—Ä–æ—é—Ç –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤–æ–≥–∏–¥—Ä–æ–ª–æ–∫–∞—Ü–∏–æ–Ω–Ω—ã–º –ø–æ–∫—Ä—ã—Ç–∏–µ–º. –°–∫–æ—Ä–æ —Å–ø—É—Å–∫ –Ω–∞ –≤–æ–¥—É, –¥–æ—Å—Ç—Ä–æ–π–∫–∞ –Ω–∞ –ø–ª–∞–≤—É —É —Å—Ç–µ–Ω–∫–∏ –∑–∞–≤–æ–¥–∞, –ø–æ–¥–≥–æ—Ç–æ–≤–∫–∞ –∫ —Ñ–∏–∑–∏—á–µ—Å–∫–æ–º—É –ø—É—Å–∫—É —è–¥–µ—Ä–Ω–æ–≥–æ —Ä–µ–∞–∫—Ç–æ—Ä–∞. –í—Å—Ç—Ä–µ—Ç–∏–ª–∏—Å—å —Å –≥–ª–∞–≤–Ω—ã–º —Å—Ç—Ä–æ–∏—Ç–µ–ª–µ–º, –¥–æ–≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª–∏—Å—å –æ –ø–æ—Ä—è–¥–∫–µ –≤–∑–∞–∏–º–æ–¥–µ–π—Å—Ç–≤–∏—è. –≠–∫–∏–ø–∞–∂—É –∑–∞–¥–∞—á–∞: –±—ã—Å—Ç—Ä–æ –¥–µ—Ç–∞–ª—å–Ω–æ –∏–∑—É—á–∏—Ç—å –∫–æ—Ä–∞–±–ª—å, –≤—ã—è–≤–∏—Ç—å –æ—Ç–ª–∏—á–∏—è –æ—Ç –≥–æ–ª–æ–≤–Ω–æ–π, –æ—Ç–∫–æ—Ä—Ä–µ–∫—Ç–∏—Ä–æ–≤–∞—Ç—å –∫–Ω–∏–∂–∫–∏ ¬´–ë–æ–µ–≤–æ–π –Ω–æ–º–µ—Ĭª, —É–≥–ª—É–±–∏—Ç—å –∑–Ω–∞–Ω–∏—è —Å–≤–æ–µ–π –º–∞—Ç–µ—Ä–∏–∞–ª—å–Ω–æ–π —á–∞—Å—Ç–∏. –ò –µ—â–µ –æ–¥–Ω–æ, –∫–æ–Ω—Ç—Ä–æ–ª—å –¥–µ–π—Å—Ç–≤–∏–π —Ä–∞–±–æ—á–∏—Ö. –≠—Ç–æ –∏ –Ω–µ–≥–ª–∞—Å–Ω–∞—è –ø—Ä–æ—Å—å–±–∞ –≥–µ–Ω–µ—Ä–∞–ª—å–Ω–æ–≥–æ –¥–∏—Ä–µ–∫—Ç–æ—Ä–∞ —Å—É–¥–æ—Å—Ç—Ä–æ–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ–≥–æ –∑–∞–≤–æ–¥–∞ –ì–µ—Ä–æ—è –°–æ—Ü–∏–∞–ª–∏—Å—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–≥–æ —Ç—Ä—É–¥–∞ –î–µ–µ–≤–∞. ¬´–ë–¥–∏!¬ª. –ü–æ–º–Ω–∏—Ç—Å—è, —Ç–∞–∫–æ–π –∂–µ –±—ã–ª –Ω–∞–∫–∞–∑ –∏ –≤ 1955 –≥–æ–¥—É, –∫–æ–≥–¥–∞ ¬´–°-334¬ª –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏–ª–∞—Å—å –Ω–∞ –¥–æ—Å—Ç—Ä–æ–µ—á–Ω–æ–π –±–∞–∑–µ —ç—Ç–æ–≥–æ –∂–µ –∑–∞–≤–æ–¥–∞ –≤–æ –í–ª–∞–¥–∏–≤–æ—Å—Ç–æ–∫–µ. –ò –Ω–µ –∑—Ä—è! –£–∂–µ –Ω–∞ –ø–ª–∞–≤—É –≤ –æ–¥–Ω–æ–º –∏–∑ –ø–æ–¥—à–∏–ø–Ω–∏–∫–æ–≤ –ª–∏–Ω–∏–∏ –≤–∞–ª–∞ –±—ã–ª –æ–±–Ω–∞—Ä—É–∂–µ–Ω –ø–µ—Å–æ–∫. –•—É–ª–∏–≥–∞–Ω—Å—Ç–≤–æ? –î–∏–≤–µ—Ä—Å–∏—è? –ò–ª–∏ –ø–æ–ø—ã—Ç–∫–∞ —Å–æ—Ä–≤–∞—Ç—å —Å–≤–æ–µ–≤—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω—ã–π –≤—ã—Ö–æ–¥ –∏ –≥–∞—Ä–∞–Ω—Ç–∏—Ä–æ–≤–∞—Ç—å —Ç—Ä—É–¥–æ–≤—É—é –∑–∞–Ω—è—Ç–æ—Å—Ç—å? –°—Ä–æ–∫–∏ –≥–æ—Ç–æ–≤–Ω–æ—Å—Ç–∏ –∫–æ—Ä–∞–±–ª—è –∫ —Å–ø–ª–∞–≤—É –ø–æ –ê–º—É—Ä—É –Ω–∞ –∑–∞–≤–æ–¥–µ —Å—Ç—Ä–µ–º—è—Ç—Å—è –æ–±–µ—Å–ø–µ—á–∏—Ç—å –≥–∞—Ä–∞–Ω—Ç–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–Ω–æ, —Ç–∞–∫ –∫–∞–∫ –ø—Ä–æ—Ö–æ–¥ —Ç—Ä–∞–Ω—Å–ø–æ—Ä—Ç–Ω–æ–≥–æ –¥–æ–∫–∞ –ø–æ –º–µ–ª—è–º –ê–º—É—Ä–∞ –≤–æ–∑–º–æ–∂–µ–Ω —Ç–æ–ª—å–∫–æ –≤ –ø–æ–ª–Ω—ã–µ –≤–æ–¥—ã. –°–ø–µ—Ü–∏–∞–ª—å–Ω–∞—è —Å–ª—É–∂–±–∞ —Å—Ç—Ä–æ–≥–æ –æ—Ç—Å–ª–µ–∂–∏–≤–∞–µ—Ç —É—Ä–æ–≤–µ–Ω—å –≤–æ–¥—ã –≤ —Ä–µ–∫–µ, –ø—Ä–æ–≥–Ω–æ–∑–∏—Ä—É–µ—Ç –æ—Å–∞–¥–∫–∏, —Å—Ç–æ–∫–∏ –∏ —Ç.–¥. –¢–æ—Ä–∂–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–π —Å–ø—É—Å–∫ –Ω–∞ –≤–æ–¥—É, –±—É—Ç—ã–ª–∫–∞, –±—Ä—ã–∑–≥–∏ —à–∞–º–ø–∞–Ω—Å–∫–æ–≥–æ! –ù–∞–∫–æ–Ω–µ—Ü, —Ñ–∏–∑–∏—á–µ—Å–∫–∏–π –ø—É—Å–∫ —è–¥–µ—Ä–Ω–æ–π —ç–Ω–µ—Ä–≥–µ—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–π —É—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∫–∏. –í—Å–µ –ø–æ –ø–ª–∞–Ω—É, –≤ —Å—Ä–æ–∫. –≠–ª–µ–∫—Ç—Ä–æ–º–µ—Ö–∞–Ω–∏—á–µ—Å–∫–∞—è –±–æ–µ–≤–∞—è —á–∞—Å—Ç—å —ç–∫–∏–ø–∞–∂–∞ –±—ã–ª–∞ –∑–∞–¥–µ–π—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–Ω–∞ –≤ –ø–æ–ª–Ω–æ–º —Å–æ—Å—Ç–∞–≤–µ. –ù–∞—à–∏ —É–ø—Ä–∞–≤–ª–µ–Ω—Ü—ã –ì–≠–£ –ø–æ–∫–∞–∑–∞–ª–∏ —Å–µ–±—è —Ö–æ—Ä–æ—à–æ, –¥–∞–∂–µ, –ø–æ–º–Ω–∏—Ç—Å—è, –≤—ã—Å–∫–∞–∑–∞–ª–∏ –∫–æ–µ-–∫–∞–∫–∏–µ –ø—Ä–µ–¥–ª–æ–∂–µ–Ω–∏—è –ø–æ —Å–æ–≤–µ—Ä—à–µ–Ω—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–Ω–∏—é —Ç–µ—Ö–Ω–∏—á–µ—Å–∫–∏—Ö —Å—Ä–µ–¥—Å—Ç–≤. –í–æ–æ–±—â–µ –≥–æ–≤–æ—Ä—è, —Ä–∞—Ü–∏–æ–Ω–∞–ª–∏–∑–∞—Ç–æ—Ä—Å–∫–∞—è —Ä–∞–±–æ—Ç–∞ –Ω–∞ –∫–æ—Ä–∞–±–ª–µ —Ä–∞–∑–≤–µ—Ä–Ω—É–ª–∞—Å—å –ø—Ä–∞–∫—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏ —Å –ø–µ—Ä–≤–æ–≥–æ –¥–Ω—è. –ú–µ–∂–¥—É –ø—Ä–æ—á–∏–º, —è —Ç–æ–∂–µ –ª–∏—á–Ω–æ –ø—Ä–∏–Ω—è–ª –≤ —ç—Ç–æ–º —É—á–∞—Å—Ç–∏–µ, –ø—Ä–µ–¥–ª–æ–∂–∏–≤ —É–ª—É—á—à–∏—Ç—å –∫–æ–Ω—Å—Ç—Ä—É–∫—Ü–∏—é —Å–∏—Å—Ç–µ–º—ã —Å–≤—è–∑–∏ –∏ –ø–µ—Ä–µ–≥–æ–≤–æ—Ä–Ω—ã—Ö —É—Å—Ç—Ä–æ–π—Å—Ç–≤ ¬´–º–æ—Å—Ç–∏–∫‚Äî –±–æ–µ–≤–∞—è —Ä—É–±–∫–∞ ‚Äî —Ü–µ–Ω—Ç—Ä–∞–ª—å–Ω—ã–π –ø–æ—ŗǬª. –í—Å–µ ¬´—Ä–∞—Ü–∏–∏¬ª –æ—Ñ–æ—Ä–º–ª—è–ª–∏—Å—å –∏ –ø—Ä–µ–º–∏—Ä–æ–≤–∞–ª–∏—Å—å –∑–∞–∫–æ–Ω–Ω—ã–º –ø—É—Ç–µ–º. –Ø —Ç–æ–∂–µ –ø–æ–ª—É—á–∏–ª —á—Ç–æ-—Ç–æ –æ–∫–æ–ª–æ 60 —Ä—É–±–ª–µ–π. –í–Ω–µ–¥—Ä–µ–Ω–∏–µ –Ω–µ–∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö ¬´—Ä–∞—Ü–∏–𬪠–ø–æ—Ç—Ä–µ–±–æ–≤–∞–ª–æ –ø—Ä–∏—Å—É—Ç—Å—Ç–≤–∏—è –≥–µ–Ω–µ—Ä–∞–ª—å–Ω–æ–≥–æ –∫–æ–Ω—Å—Ç—Ä—É–∫—Ç–æ—Ä–∞ –ø—Ä–æ–µ–∫—Ç–∞, –∏ –æ–Ω –ø—Ä–∏–ª–µ—Ç–µ–ª –∏–∑ –õ–µ–Ω–∏–Ω–≥—Ä–∞–¥–∞. –ï—Å–ª–∏ –ø–∞–º—è—Ç—å –Ω–µ –∏–∑–º–µ–Ω—è–µ—Ç, —Ñ–∞–º–∏–ª–∏—è –µ–≥–æ –±—ã–ª–∞ –ö–æ–≤–∞–ª–µ–≤.  –ù–∞—à–∞ –ª–æ–¥–∫–∞ –Ω–∞ –∑–∞–≤–æ–¥–µ —Å—Ç—Ä–æ–∏–ª–∞—Å—å —á–µ—Ç–≤–µ—Ä—Ç—ã–º –∫–æ—Ä–ø—É—Å–æ–º, –∏ —Ö–æ—Ç—è –∑–Ω–∞—á–∏–ª–∞—Å—å —Ç–µ–º –∂–µ –ø—Ä–æ–µ–∫—Ç–æ–º, —á—Ç–æ –∏ –ø–µ—Ä–≤—ã–µ —Ç—Ä–∏, –ø—Ä. 667–ê, –Ω–æ —Å—É—â–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ –æ—Ç–ª–∏—á–∞–ª–∞—Å—å –æ—Ç –ø—Ä–µ–¥—ã–¥—É—â–∏—Ö. –£ –Ω–∞—Å –±—ã–ª —É—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–ª–µ–Ω –Ω–æ–≤–µ–π—à–∏–π –Ω–∞–≤–∏–≥–∞—Ü–∏–æ–Ω–Ω—ã–π –∫–æ–º–ø–ª–µ–∫—Å ¬´–¢–æ–±–æ–ª¬ª, –∏–Ω–µ—Ä—Ü–∏–∞–ª—å–Ω—ã–π. –≠—Ç–æ –∑–Ω–∞—á–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ —É–ª—É—á—à–∞–ª–æ –Ω–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ —á–∏—Å—Ç–æ –Ω–∞–≤–∏–≥–∞—Ü–∏–æ–Ω–Ω—ã–µ —Ö–∞—Ä–∞–∫—Ç–µ—Ä–∏—Å—Ç–∏–∫–∏ –∫–æ—Ä–∞–±–ª—è, –Ω–æ –∏ –±–æ–µ–≤—ã–µ, —Å–≤—è–∑–∞–Ω–Ω—ã–µ —Å –∏—Å–ø–æ–ª—å–∑–æ–≤–∞–Ω–∏–µ–º –æ—Å–Ω–æ–≤–Ω–æ–≥–æ –æ—Ä—É–∂–∏—è, –∫—Ä–æ–º–µ —Ç–æ–≥–æ, –ø–æ–≤—ã—à–∞–ª–æ —Å–∫—Ä—ã—Ç–Ω–æ—Å—Ç—å –ø–ª–∞–≤–∞–Ω–∏—è. –° –ø—Ä–∏–±–ª–∏–∂–µ–Ω–∏–µ–º —Å—Ä–æ–∫–∞ —Ç—Ä–∞–Ω—Å–ø–æ—Ä—Ç–∏—Ä–æ–≤–∫–∏ –ø–æ –ê–º—É—Ä—É —Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª–æ—Å—å —è—Å–Ω—ã–º, —á—Ç–æ –Ω–∞—à–∞ –æ—Ç–ª–∏—á–∞–µ—Ç—Å—è –µ—â–µ –∫–æ–µ-—á–µ–º. –ü—Ä–µ–¥—ã–¥—É—â–∏–µ –ª–æ–¥–∫–∏ –∫ –º–æ–º–µ–Ω—Ç—É —Ç—Ä–∞–Ω—Å–ø–æ—Ä—Ç–∏—Ä–æ–≤–∫–∏ –∏–º–µ–ª–∏ –Ω–µ–¥–æ—Å—Ç–∞—Ç–æ—á–Ω—É—é —Ç–µ—Ö–Ω–∏—á–µ—Å–∫—É—é –≥–æ—Ç–æ–≤–Ω–æ—Å—Ç—å –∫ —Å–∞–º–æ—Å—Ç–æ—è—Ç–µ–ª—å–Ω–æ–º—É –ø–ª–∞–≤–∞–Ω–∏—é, –∏ –ø–æ –≤—ã—Ö–æ–¥—É –∏–∑ —É—Å—Ç—å—è –ê–º—É—Ä–∞ –∏—Ö –Ω–∞ –±—É–∫—Å–∏—Ä–µ –≤–¥–æ–ª—å –±–µ—Ä–µ–≥–æ–≤ –ü—Ä–∏–º–æ—Ä—å—è –æ—Ç–≤–æ–¥–∏–ª–∏ –≤ –±—É—Ö—Ç—É –ë–æ–ª—å—à–æ–π –ö–∞–º–µ–Ω—å –Ω–∞ –¥–æ—Å—Ç—Ä–æ–µ—á–Ω—É—é –±–∞–∑—É. –¢–∞–º –¥–æ–≤–æ–¥–∏–ª–∏ ¬´–¥–æ —É–º–∞¬ª —Ç–µ—Ö–Ω–∏—á–µ—Å–∫–∏, –¥–æ–æ—Ç—Ä–∞–±–∞—Ç—ã–≤–∞–ª–∏ —ç–∫–∏–ø–∞–∂, –Ω–æ –≤ –æ—Å–Ω–æ–≤–Ω–æ–º —Å –∑–∞–≤–æ–¥—Å–∫–∏–º —Å–¥–∞—Ç–æ—á–Ω—ã–º —ç–∫–∏–ø–∞–∂–µ–º (–∑–∞–≤–æ–¥—Å–∫–∏–º–∏ —Ä–∞–±–æ—á–∏–º–∏), –Ω–∞–∫–æ–Ω–µ—Ü, –≤—ã–ø—É—Å–∫–∞–ª–∏ –≤ –º–æ—Ä–µ –Ω–∞ –∑–∞–≤–æ–¥—Å–∫–∏–µ –∏—Å–ø—ã—Ç–∞–Ω–∏—è. –¢–µ—Ö–Ω–∏—á–µ—Å–∫–∞—è –≥–æ—Ç–æ–≤–Ω–æ—Å—Ç—å –Ω–∞—à–µ–≥–æ –∫–æ—Ä–∞–±–ª—è –∫ –ø–ª–∞–≤–∞–Ω–∏—é –±—ã–ª–∞ –æ—á–µ–Ω—å –≤—ã—Å–æ–∫–æ–π, –∞ –∫ –ø–ª–∞–Ω–∏—Ä—É–µ–º–æ–º—É —Å—Ä–æ–∫—É –∑–∞–≤–æ–¥–∫–∏ –≤ —Ç—Ä–∞–Ω—Å–ø–æ—Ä—Ç–Ω—ã–π –¥–æ–∫ –æ–∂–∏–¥–∞–ª–∞—Å—å –±–µ–∑ –º–∞–ª–æ–≥–æ 100%. –í —Å–≤—è–∑–∏ —Å —ç—Ç–∏–º –≥–µ–Ω–µ—Ä–∞–ª—å–Ω—ã–π –¥–∏—Ä–µ–∫—Ç–æ—Ä –∑–∞—Ä–∞–Ω–µ–µ –Ω–∞—á–∞–ª –±–µ—Å–ø–æ–∫–æ–∏—Ç—å –∫–æ–º–∞–Ω–¥–æ–≤–∞–Ω–∏–µ —Ñ–ª–æ—Ç–∞, –∞ –∑–∞—Ç–µ–º –∏ –í–ú–§ —Ç—Ä–µ–±–æ–≤–∞–Ω–∏–µ–º –æ–±–µ—Å–ø–µ—á–∏—Ç—å –ª–æ–¥–∫—É –æ—Ç—Ä–∞–±–æ—Ç–∞–Ω–Ω—ã–º –ø—Ä–∞–∫—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏–º–∏ –ø–ª–∞–≤–∞–Ω–∏—è–º–∏ —ç–∫–∏–ø–∞–∂–µ–º. –ú–∏–Ω—Å—É–¥–ø—Ä–æ–º —Ä–∞—Å—Å—á–∏—Ç—ã–≤–∞–ª —ç—Ç—É –ª–æ–¥–∫—É —Å–¥–∞—Ç—å —Ñ–ª–æ—Ç—É –¥–æ—Å—Ä–æ—á–Ω–æ, –¥–ª—è —á–µ–≥–æ –ø–ª–∞–Ω–∏—Ä–æ–≤–∞–ª –∑–∞–≤–æ–¥—Å–∫–∏–µ –∏—Å–ø—ã—Ç–∞–Ω–∏—è –Ω–∞—á–∞—Ç—å —Å —Ö–æ–¥—É, –æ—Ç —É—Å—Ç—å—è –ê–º—É—Ä–∞ –±–µ–∑ –∑–∞—Ö–æ–¥–∞ –Ω–∞ –¥–æ—Å—Ç—Ä–æ–µ—á–Ω—É—é –±–∞–∑—É. –ü—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–µ–Ω–∏–µ —Å–ª–µ–¥—É–µ—Ç.  –í–µ—Ä—é–∂—Å–∫–∏–π –ù–∏–∫–æ–ª–∞–π –ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä–æ–≤–∏—á (–í–ù–ê), –ì–æ—Ä–ª–æ–≤ –û–ª–µ–≥ –ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä–æ–≤–∏—á (–û–ê–ì), –ú–∞–∫—Å–∏–º–æ–≤ –í–∞–ª–µ–Ω—Ç–∏–Ω –í–ª–∞–¥–∏–º–∏—Ä–æ–≤–∏—á (–ú–í–í), –ö–°–í. 198188. –°–∞–Ω–∫—Ç-–ü–µ—Ç–µ—Ä–±—É—Ä–≥, —É–ª. –ú–∞—Ä—à–∞–ª–∞ –ì–æ–≤–æ—Ä–æ–≤–∞, –¥–æ–º 11/3, –∫–≤. 70. –ö–∞—Ä–∞—Å–µ–≤ –°–µ—Ä–≥–µ–π –í–ª–∞–¥–∏–º–∏—Ä–æ–≤–∏—á, –∞—Ä—Ö–∏–≤–∞—Ä–∏—É—Å. karasevserg@yandex.ru
08.05.201309:5708.05.2013 09:57:42
–°—Ç—Ä–∞–Ω–∏—Ü—ã:
–ü—Ä–µ–¥.
|
1
|
...
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
–°–ª–µ–¥.
|