
–û–Ε–Η–¥–Α―è –≤―¹―²―É–Ω–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―ç–Κ–Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ψ–≤ –≤ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β, –Φ―΄, –Ω―Ä–Η–±―΄–≤―à–Η–Β –Η–Ζ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤, –±―΄–Μ–Η ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―â–Β–Ϋ―΄ –≤ –Κ–Α–Ζ–Α―Ä–Φ–Α―Ö ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α. –£ ―΅–Α―¹―΄, ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Ψ―² ―Ä–Α–±–Ψ―² –Η –Κ–Α–Κ–Η―Ö-–Μ–Η–±–Ψ –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η–Ι, –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Η–Μ–Η―¹―¨ ―¹ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ψ–Φ, –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –ù–Β–≤–Ψ–Ι –Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ–Η, ―¹―²–Ψ―è–≤―à–Η–Φ–Η ―É –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤ ―Ä–Β–Κ–Η. –û–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ ―É–≤–Η–¥–Β–Μ–Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨, –Ω―Ä–Η–±–Μ–Η–Ε–Α–≤―à–Η–Ι―¹―è –¥–Μ―è ―à–≤–Α―Ä―²–Ψ–≤–Κ–Η –Κ –±–Β―Ä–Β–≥―É. –û–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ ¬Ϊ–Δ―Ä–Β―³–Ψ–Μ–Β–≤¬Μ, –Ω―Ä–Η–±―΄–≤―à–Η–Ι ―¹ –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²–Α–Φ–Η –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η―è –Μ–Β―²–Ϋ–Β–Ι –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ–Η. –û―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨ –Η ―¹―Ä–Β–¥–Η ―¹―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Η―Ö –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥ ―É–≤–Η–¥–Β–Μ–Η –£–Α–Ϋ―é –û―¹―²―Ä–Β―Ü–Ψ–≤–Α***, ―²–Ψ–Ε–Β –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α –™–ü–®, –≤―΄–Ω―É―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤ 1922 –≥–Ψ–¥―É. –ö ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Ϋ–Η―é, –Η ―¹ –Ϋ–Η–Φ –Ϋ–Β ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨. –ö―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²–Ψ–≤ –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ–Η –Η –Ω–Ψ–≤–Β–Μ–Η –≤ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β. –ü―Ä–Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η―Ö –Ω–Ψ–Ω―΄―²–Κ–Α―Ö –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η―²―¨―¹―è ―É–Ζ–Ϋ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –£–Α–Ϋ―é―à–Κ–Α ―É―à–Β–Μ –Η―Ö ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –≤ ―à–Κ–Ψ–Μ―É –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Μ–Β―²―΅–Η–Κ–Ψ–≤ –Η–Μ–Η –≤ –ï–Ι―¹–Κ –Ϋ–Α –ê–Ζ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β, –Η–Μ–Η –≤ –ö–Α―΅―É, –Ϋ–Α –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β. –ê –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ –≥–Ψ–¥ ―¹–Ω―É―¹―²―è, ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–≤―à–Η―¹―¨ ―¹ –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Φ –Μ–Β―²―΅–Η–Κ–Ψ–Φ, ―É–Ζ–Ϋ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –£–Α–Ϋ―è –û―¹―²―Ä–Β―Ü–Ψ–≤ –Ω–Ψ–≥–Η–± –Ω―Ä–Η –Ω–Α–¥–Β–Ϋ–Η–Η ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Α –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è ―²―Ä–Β–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Β―²–Α. –ë―΄–Μ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―É–Φ–Ϋ―΄–Ι, –¥–Ψ–±―Ä―΄–Ι ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â. –€―΄ –±―΄–Μ–Η ―¹ –Ϋ–Η–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ι―à–Η–Φ–Η –Ζ–Β–Φ–Μ―è–Κ–Α–Φ–Η: –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ –·―Ä–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Μ―é, –Ϋ–Ψ –Η –Ω–Ψ ―¹–Μ–Ψ–±–Ψ–¥–Β –ö–Ψ―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ–Η. –û–Ϋ ―²–Ψ–Ε–Β, –Κ–Α–Κ –Η ―è βÄ™ –ö–Ψ―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Η―Ü–Κ–Η–Ι.
–î–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Α 1950-―Ö –≥–Ψ–¥–Ψ–≤ –Ϋ–Η ―¹ –Κ–Β–Φ –Η–Ζ –≥–Β–Ω–Β―à–Β–≤―Ü–Β–≤ –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η―²―¨―¹―è –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨. –Ξ–Ψ―²―è, –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Ε–Η–Μ–Η –Η ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Η –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β.
–ê –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β 1950-―Ö –Κ–Ψ –Φ–Ϋ–Β, –Ϋ–Α –Φ–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤―¹–Κ―É―é –Κ–≤–Α―Ä―²–Η―Ä―É –Ω―Ä–Η―à–Β–Μ –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–Φ–Α–Ι–Ψ―Ä –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Η, –™–Β―Ä–Ψ–Ι –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ ―è ―¹―Ä–Α–Ζ―É ―É–Ζ–Ϋ–Α–Μ –ö–Ψ–Μ―¨–Κ―É –Δ–Ψ―Ä–Ψ–Ω―΅–Η–Ϋ–Α*, ―²–Β–Ϋ–Ψ―Ä–Η―¹―²–Α –·–™–ü–®. –€–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ, –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²―¨ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Η!

–û–Ϋ –Ω―Ä–Ψ–Ε–Η–≤–Α–Μ –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β, –±―É–¥―É―΅–Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –≤ ―à―²–Α–± –£–£–Γ –€–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Κ―Ä―É–≥–Α. –û–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –Η–Φ–Β―é―²―¹―è ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ–Η –≥–Β–Ω–Β―à–Ψ–≤―Ü–Α–Φ–Η, –Ω―Ä–Ψ–Ε–Η–≤–Α―é―â–Η–Φ –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β. –£ –Η―²–Ψ–≥–Β –Φ―΄ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ–Η –≤―¹―²―Ä–Β―΅―É –Ϋ–Α –Φ–Ψ–Β–Ι –Κ–≤–Α―Ä―²–Η―Ä–Β, –≥–¥–Β ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨, –Ω–Ψ–Φ–Η–Φ–Ψ –Δ–Ψ―Ä–Ψ–Ω―΅–Η–Ϋ–Α: –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–Φ–Α–Ι–Ψ―Ä –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Η –•–Β–Ϋ―è –™–Α–≤―Ä–Η–Μ–Ψ–≤–Η―΅, –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–Φ–Α–Ι–Ψ―Ä –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Η –ë–Ψ―Ä–Η―¹ –Γ–Α―Ä–±―É–Ϋ–Ψ–≤, –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –ë–Β–Κ―Ä–Β–Ϋ–Β–≤, –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Ψ―Ä –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Ω―Ä–Η―è―²–Η―è –ü–Α―à–Α –£–Ψ―Ä–Ψ–±―¨–Β–≤, –Β–≥–Ψ ―¹–Β―¹―²―Ä–Α βÄ™ ―²–Ψ–Ε–Β –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η―Ü–Α –™–ü–®, –Ζ–Α–≤–Β–¥―É―é―â–Η–Ι –Ζ–Β–Φ–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Ψ―²–¥–Β–Μ–Ψ–Φ –€–Ψ―¹–≥–Ψ―Ä–Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–Φ–Α –ë–Ψ―Ä–Η―¹ –ü–Α―¹―²―É―Ö–Ψ–≤, –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Ψ―Ä ―Ä―΄–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Α–≥–Α–Ζ–Η–Ϋ–Α –Ϋ–Α ―É–Μ–Η―Ü–Β –™–Ψ―Ä―¨–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤–±–Μ–Η–Ζ–Η –ü―É―à–Κ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Η –ö–Ψ–Μ―è –ë–Β―¹–Ψ–≤. –•–Η–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è, –Ω–Ψ–¥ –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ –Φ–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Φ –Ϋ–Β–±–Ψ–Φ –¥–Β―¹―è―²–Κ–Η –Μ–Β―² –Η –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –¥―Ä―É–≥ –Ψ –¥―Ä―É–≥–Β.
–Θ ―¹–Ψ–±―Ä–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è ―²–Ψ–Ε–Β –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ–Η –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η, –Ω―Ä–Ψ–Ε–Η–≤–Α–≤―à–Η–Φ–Η –≤ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α―Ö. –†–Β―à–Η–Μ–Η –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤―¹―²―Ä–Β―΅―É –≤―¹–Β―Ö, ―΅―¨–Η –Α–¥―Ä–Β―¹–Α ―¹―²–Α–Μ–Η –Ϋ–Α–Φ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄.
–Δ–Α–Κ–Α―è –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ–Α―¹―¨ –≤ –·―Ä–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Μ–Β –Μ–Β―²–Ψ–Φ 1967 –≥–Ψ–¥–Α. –Γ–Ψ–±―Ä–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –±–Ψ–Μ–Β–Β 50 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –±―΄–≤―à–Η―Ö –¥–Β–≤―΅–Ψ–Ϋ–Ψ–Κ –Η –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η―à–Β–Κ, ―¹―²–Α–≤―à–Η―Ö –±–Α–±―É―à–Κ–Α–Φ–Η –Η –¥–Β–¥―É―à–Κ–Α–Φ–Η, –Ω―Ä–Η–Β―Ö–Α–≤―à–Η―Ö –Η–Ζ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Α, –†–Ψ―¹―²–Ψ–≤–Α –Ϋ–Α –î–Ψ–Ϋ―É, –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–¥–Α―Ä–Α, –Γ–Ψ―΅–Η, –Γ–Β–Φ–Η–Ω–Α–Μ–Α―²–Η–Ϋ―¹–Κ–Α, –Δ–Α―à–Κ–Β–Ϋ―²–Α, –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤. –Γ―Ä–Β–¥–Η –Ϋ–Η―Ö: ―É―΅–Β–Ϋ―΄–Β, –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä―΄, –Ω–Β–¥–Α–≥–Ψ–≥–Η, –≤―Ä–Α―΅–Η, –≥–Β–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η, ―é―Ä–Η―¹―²―΄, –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Ψ―Ä―΄ –Ω―Ä–Β–¥–Ω―Ä–Η―è―²–Η–Ι –Η ―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–≤―΄―Ö –Ζ–Α–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Ι, –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Η―¹―²―΄, –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α–Ϋ―²―΄, –Ω–Α―Ä―²–Η–Ι–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Η, –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ―΄, –Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ–Η, –¥–Β―è―²–Β–Μ–Η –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ι.

–£―¹―²―Ä–Β―΅–Α –±―΄–≤―à–Η―Ö ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –·–™–ü–® –≤ 1967 –≥. –≤ –·―Ä–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Μ–Β. –£ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Β ―¹–Η–¥–Η―² –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ―¨ –Η –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ―¨ –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Η –ü.–£.–€–Ψ―Ä–Η–≥–Β―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι.
–£ –Ϋ–Β–Φ–Α–Μ―΄―Ö ―¹–Μ―É―΅–Α―è―Ö –Ϋ–Β ―É–Ζ–Ϋ–Α–≤–Α–Μ–Η –¥―Ä―É–≥ –¥―Ä―É–≥–Α. –ü―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ-―²–Ψ 45 –Μ–Β―²! –Γ–Ψ―²–Ϋ–Η ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Ϋ–Η―Ö –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Ι... –ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ–Η –Η –Ω–Ψ―΅―²–Η–Μ–Η –Φ–Η–Ϋ―É―²–Ψ–Ι –Φ–Ψ–Μ―΅–Α–Ϋ–Η―è ―²–Β―Ö, –Κ―²–Ψ ―É–Φ–Β―Ä, –Κ―²–Ψ –Ψ―²–¥–Α–Μ ―¹–≤–Ψ―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –≤ –±–Ψ―è―Ö –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ ―³–Α―à–Η―¹―²―¹–Κ–Η―Ö –Ζ–Α―Ö–≤–Α―²―΅–Η–Κ–Ψ–≤, –Ϋ–Α ―¹―É―à–Β, –Ϋ–Α –≤–Ψ–¥–Β, –≤ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Β. –ê ―²–Α–Κ–Η―Ö –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Β–Φ–Α–Μ–Ψ.
–ü–Ψ―¹–Β―²–Η–Μ–Η –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η―è –±―΄–≤―à–Β–Ι –·–™–ü–®: –Κ–Μ–Α―¹―¹–Ϋ―΄, ―¹–Ω–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β, –Φ–Α―¹―²–Β―Ä―¹–Κ–Η–Β, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ψ–±―É―΅–Α–Μ–Η –Ϋ–Α―¹ ―²―Ä―É–¥―É, ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–≤―É―é, –Ζ–Α–Μ, –≥–¥–Β –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η –≤–Β―΅–Β―Ä–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η ―²–Α–Ϋ―Ü–Β–≤. –≠―²–Η –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η―è –±―΄–Μ–Η –Ζ–Α–Ϋ―è―²―΄ ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄–Φ –Ζ–Α–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Β–Φ. –€―΄ –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ–Η―¹―¨ ―¹ –Ψ–±―É―΅–Α–Β–Φ―΄–Φ–Η –Η –Ψ–±―É―΅–Α―é―â–Η–Φ–Η. –†–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η, –Κ―²–Ψ –Η–Ζ –Ϋ–Α―¹ –Β―¹―²―¨ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –Η –Κ–Β–Φ –±―΄–Μ–Η 45 –Μ–Β―² ―²–Ψ–Φ―É –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥, –Ω―Ä–Ψ–Ε–Η–≤–Α―è –Η –Ψ–±―É―΅–Α―è―¹―¨ –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –Ζ–Α–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Η –Η –Ψ–± ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –±―΄―²–Η―è ―²–Β―Ö –Μ–Β―². –£―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ–Η ―é–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, ―à–Α–Μ–Ψ―¹―²–Η.
–£ 1969 –≥–Ψ–¥―É –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨. –Δ–Α–Φ –Ε–Β –≤ –·―Ä–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Μ–Β. –£ ―ç―²–Ψ―² ―Ä–Α–Ζ –Ω–Ψ―¹–Β―²–Η–Μ–Η –Δ–Ψ―â–Η―Ö―É βÄ™ –Ϋ–Α―à –Μ–Β―²–Ϋ–Η–Ι –Μ–Α–≥–Β―Ä―¨.

–£―¹―²―Ä–Β―΅–Α –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –·–™–ü–® –≤ 1969 –≥–Ψ–¥―É. –ü–Ψ―¹–Β―â–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Η–Ψ–Ϋ–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Μ–Α–≥–Β―Ä―è –≤ –Δ–Ψ―â–Η―Ö–Β.
–Γ –Ϋ–Β―É–¥–Β―Ä–Ε–Η–Φ―΄–Φ –≤–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ―΅―²–Η ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ω–Ψ–Μ–≤–Β–Κ–Α ―¹ ―¹–Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ –±–Ψ―Ä–Ψ–Φ, –Ψ–± –Ψ–≥–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ―Ä–Ϋ–Η ―¹–Ψ―¹–Β–Ϋ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ –Κ―Ä–Ψ–≤–Η ―¹–±–Η–≤–Α–Μ–Η –Ω–Α–Μ―¨―Ü―΄ –Ϋ–Α―à–Η―Ö –±–Ψ―¹―΄―Ö –Ϋ–Ψ–≥, ―¹ ―Ä–Β―΅–Κ–Ψ–Ι –Δ―É–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Κ–Ψ–Ι, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Κ―É–Ω–Α–Μ–Η―¹―¨, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α―è –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Β ―É–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η–Β.
–½–Α –Ω―Ä–Ψ―à–Β–¥―à–Η–Β –≥–Ψ–¥―΄ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Β –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≤ –Δ–Ψ―â–Η―Ö–Β. –‰–Ζ –¥–Ψ–Φ–Ψ–≤ –Η –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Κ, ―΅―²–Ψ –±―΄–Μ–Η –≤ –Ϋ–Α―à–Β –≤―Ä–Β–Φ―è, –Ψ―¹―²–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ψ–¥–Ϋ–Α ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–≤–Α―è. –‰ ―²–Α –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É–Β―²―¹―è –Ω–Ψ–¥ ―¹–Κ–Μ–Α–¥ ―¹―²–Α―Ä–Ψ–≥–Ψ, –Ψ―²―¹–Μ―É–Ε–Η–≤―à–Β–≥–Ψ ―¹–≤–Ψ–Ι –≤–Β–Κ –Η–Φ―É―â–Β―¹―²–≤–Α. –Γ–Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤―΄–Ι –±–Ψ―Ä –Ζ–Α―Ä–Ψ―¹. –Δ―É–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Κ–Α –Ω―Ä–Β–≤―Ä–Α―²–Η–Μ–Α―¹―¨ –≤ ―É–Ζ–Β–Ϋ―¨–Κ–Η–Ι ―Ä―É―΅–Β–Β–Κ, ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Φ―΄ –Ω―Ä–Ψ–Β–Ζ–Ε–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –Α–≤―²–Ψ–±―É―¹–Β, –Ϋ–Β –Ζ–Α–Φ–Ψ―΅–Η–≤, –Κ–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¹―è, –Κ–Ψ–Μ–Β―¹. –ù–Ψ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β –Η–Ζ –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι, ―΅―²–Ψ –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ–±―Ä–Α–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ –Ϋ–Α―¹ βÄ™ –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Ι –Ω–Η–Ψ–Ϋ–Β―Ä―¹–Κ–Η–Ι –Μ–Α–≥–Β―Ä―¨ –Ϋ–Α –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Ψ―²–Β–Ϋ ―Ä–Β–±―è―², –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ¬Ϊ–ë―É―Ä–Β–≤–Β―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ¬Μ: –Ε–Η–Μ―΄–Β –Η ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ–Η, –Κ–Μ―É–±, –Μ–Β―²–Ϋ–Η–Ι ―²–Β–Α―²―Ä, ―¹―²–Α–¥–Η–Ψ–Ϋ, ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–≤–Α―è... –ê –Ϋ–Α ―É–Μ–Η―Ü–Β βÄ™ ―¹–Ψ―²–Ϋ–Η –Ζ–Α–≥–Ψ―Ä–Β–Μ―΄―Ö, ―³–Η–Ζ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Ψ–Κ―Ä–Β–Ω―à–Η―Ö, –≤–Β―¹–Β–Μ―΄―Ö, ―¹–Φ–Β―é―â–Η―Ö―¹―è –¥–Β–≤―΅–Ψ–Ϋ–Ψ–Κ –Η –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η―à–Β–Κ. –ê–¥–Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä–Α―Ü–Η―è βÄ™ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄–Β, –Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ―΄–Β, –¥–Β–Μ–Ψ–≤―΄–Β ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Η, ―É–Φ–Β―é―â–Η–Β ―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Ϋ–Ψ, ―¹ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–Ι –Η –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Ζ–Α–Ϋ―è―²―¨ ―Ä–Β–±―è―² ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Φ–Η –Η–≥―Ä–Α–Φ–Η, ―Ö―É–¥–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Α–Φ–Ψ–¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Η ―².–¥.
–€―΄ –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –≤ –Δ–Ψ―â–Η―Ö–Β. –ü–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –≥–Ψ–Μ–Ψ–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ. –ê –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ–Η –±–Β–Ζ –Ω―Ä–Β–¥―É–Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è. –ê–≤―²–Ψ–±―É―¹ –Ω―Ä–Β–¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Α –Ϋ–Α–Φ –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Α―è ―΅–Α―¹―²―¨, –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É ―¹―Ä–Β–¥–Η –Ϋ–Α―¹ –±―΄–Μ–Ψ ―²―Ä–Η –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ–Α, –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –™–Β―Ä–Ψ–Ι –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –Η –¥–Ψ –¥–Β―¹―è―²–Κ–Α –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ–Ψ–≤ –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄.

–ü―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Α–¥–Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä–Α―Ü–Η–Η –Μ–Α–≥–Β―Ä―è, –Ω–Ψ–±–Β―¹–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Η. –†–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η, –Κ―²–Ψ –Φ―΄ –Η –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É –Φ―΄ –Ζ–¥–Β―¹―¨, –Ψ–Ϋ–Η –Ω―Ä–Ψ–Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Ψ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Β ―¹ ―Ä–Β–±―è―²–Α–Φ–Η. –Δ―É―² –Ε–Β –±―΄–Μ ―¹―΄–≥―Ä–Α–Ϋ ¬Ϊ–ë–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι ―¹–±–Ψ―Ä¬Μ –Η ―Ä–Β–±―è―²–Α –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –Ζ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Μ–Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹–Κ–Α–Φ–Β–Ι–Κ–Η –Μ–Β―²–Ϋ–Β–≥–Ψ ―²–Β–Α―²―Ä–Α. –ù–Α―¹ –Ω–Ψ―¹–Α–¥–Η–Μ–Η –Ϋ–Α ―¹―Ü–Β–Ϋ―É-―Ä–Α–Κ–Ψ–≤–Η–Ϋ―É. –î–Η―Ä–Β–Κ―²–Ψ―Ä –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η–Μ –Ϋ–Α―¹ –Ω–Η–Ψ–Ϋ–Β―Ä–Α–Φ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –±―É―Ä–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Α–Ω–Μ–Ψ–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η. –û―² –Ϋ–Α―¹ –≤―΄―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Η ―¹ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Φ–Η –Ψ –Ω―Ä–Β–±―΄–≤–Α–Ϋ–Η–Η –Η –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η―è―Ö –≤ –Μ–Α–≥–Β―Ä–Β –≤ ―²–Β, ―É―à–Β–¥―à–Η–Β –≤ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―é –≥–Ψ–¥―΄: –¥–≤–Α –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ–Α, ―É―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Η―Ü–Α, –Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ-–Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä, –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ, –Ω―Ä–Ψ–Ω–Α–≥–Α–Ϋ–¥–Η―¹―²-–Α–≥–Η―²–Α―²–Ψ―Ä. –™–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η –Ψ–± –Ψ–±―É―΅–Β–Ϋ–Η–Η –≤ –·–™–ü–®, –Ψ–± ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö ―²–Β―Ö –Μ–Β―², –Ω–Ψ–¥―΅–Β―Ä–Κ–Ϋ―É–≤ –≥―É–Φ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Μ–Α―¹―²–Η, –Β–Β –Ζ–Α–±–Ψ―²―É –Ψ –¥–Β―²―è―Ö, –Η―Ö –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η–Η, –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η, –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―¨–Β. –ö–Α–Ε–¥―΄–Ι –Η–Ζ –Ϋ–Α―¹ –Ω–Ψ–Ε–Β–Μ–Α–Μ ―Ä–Β–±―è―²–Α–Φ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ψ―²–¥–Ψ―Ö–Ϋ―É―²―¨, –Ϋ–Α–±―Ä–Α―²―¨―¹―è ―¹–Η–Μ –Η –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―¨―è, ―É―¹–Ω–Β―Ö–Ψ–≤ –≤ ―à–Κ–Ψ–Μ–Β, ―É–≤–Α–Ε–Α―²―¨ ―²―Ä―É–¥. –ü–Η–Ψ–Ϋ–Β―Ä―΄ –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Ϋ–Β―¹–Μ–Η –Ϋ–Α–Φ –±―É–Κ–Β―²―΄ .

–ü―Ä–Β–±―΄–≤–Α―è –≤ –·―Ä–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Μ–Β, –Φ―΄ ―Ä–Α–Ζ―΄―¹–Κ–Α–Μ–Η –ü–Α–≤–Μ–Α –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅–Α –€–Ψ―Ä–Η–≥–Β―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ βÄ™ –±―΄–≤―à–Β–≥–Ψ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ―è –·–™–ü–®, –Ω–Ψ―¹–Β―²–Η–Μ–Η –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α –Κ–≤–Α―Ä―²–Η―Ä–Β, –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–≥―É–Μ―è–Μ–Η. –ï–Φ―É –±―΄–Μ–Ψ ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ζ–Α 85 –Μ–Β―². –ü–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Β, –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, –Μ–Β―² 20, –Ψ–Ϋ ―É–Ε–Β –Ϋ–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ, –±―΄–Μ –Ϋ–Α –Ω–Β–Ϋ―¹–Η–Η, –Α –¥–Ψ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –±―΄–Μ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β―Ä―²–Φ–Β–Ι―¹―²–Β―Ä–Ψ–Φ –·―Ä–Ψ―¹–Μ–Α–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –¥―Ä–Α–Φ–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―²–Β–Α―²―Ä–Α –Η–Φ. –Λ.–™.–£–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Α.
–£ ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–Β –Μ–Β―²–Ψ –Φ―΄ ―¹ –™–Α–Μ–Β–Ι –Η ―Ä–Β–±―è―²–Α–Φ–Η –Ω―Ä–Η–Β―Ö–Α–Μ–Η –≤ –·―Ä–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Μ―¨, –≤ ¬Ϊ–≥–Ψ―¹―²–Η¬Μ –Κ –ï–Μ–Η–Ζ–Α–≤–Β―²–Β –ï–≤–≥―Ä–Α―³–Ψ–≤–Ϋ–Β. –Γ –Ϋ–Β–Ι –≤–¥–≤–Ψ–Β–Φ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –™–Α–Μ–Β, –Κ―²–Ψ –Φ–Β–Ϋ―è –≤ –¥–Β―²―¹―²–≤–Β –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²―΄–≤–Α–Μ, –Ω–Ψ―¹–Β―²–Η–Μ–Η –ü–Α–≤–Μ–Α –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅–Α. –ü–Ψ –Β–≥–Ψ –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è–Φ, –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―É, –Μ–Η―Ü―É –Η –Ω–Ψ ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ –Ϋ–Α―¹, –Ϋ–Β –≤―¹―²–Α–≤–Α―è ―¹ –Κ―Ä–Β―¹–Μ–Α, –Φ―΄ –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ–Ψ –±–Ψ–Μ–Β–Ϋ. –Ξ–Ψ―²―è –Η ―É–Μ―΄–±–Α–Μ―¹―è –Η –±―΄–Μ ―Ä–Α–¥ –Ϋ–Α―à–Β–Φ―É –≤–Η–Ζ–Η―²―É. –ü–Ψ–±–Β―¹–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Β–¥–Ψ–Μ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β ―É―²–Ψ–Φ–Μ―è―²―¨. –û―² –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É–≥–Ψ―â–Β–Ϋ–Η―è –Ψ―²–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η―¹―¨, ―¹–Ψ―¹–Μ–Α–≤―à–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η.
–ü―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ω–Ψ–Μ–≥–Ψ–¥–Α –·―Ä–Ψ―¹–Μ–Α–≤―¹–Κ–Η–Β –≥―ç–Ω―ç―à–Β–≤―Ü―΄ ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Η–Μ–Η –Ψ –Ω–Ψ―Ö–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Α―Ö –ü–Α–≤–Μ–Α –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅–Α.
–™–Μ–Α–≤–Α VI. –ü–Β―Ä–≤―΄–Ι ―à–Α–≥ –≤ ―²―Ä―É–¥–Ψ–≤―É―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨.
–ü–Ψ–Ε–Α–Μ―É–Ι, –Ϋ–Α ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Α –·–™–ü–®, –Κ–Ψ –Φ–Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–Ψ―à–Β–Μ –Γ–Α―à–Α –ë–Μ–Η–Ϋ–Ψ–≤ βÄ™ –Ω–Α―Ä–Β–Ϋ–Β–Κ –Μ–Β―² 25-26, ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Η–Κ –·―Ä–Ψ―¹–Μ–Α–≤―¹–Κ–Ψ–Ι –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–Ι ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η (–·–™–≠–Γ), –Κ―É―Ä–Η―Ä–Ψ–≤–Α–≤―à–Η–Ι ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι―¹―²–≤–Ψ ―à–Κ–Ψ–Μ―΄.
–û–Ϋ ―΅–Α―¹―²–Β–Ϋ―¨–Κ–Ψ –±―΄–≤–Α–Μ ―É –Ϋ–Α―¹, –Α –Ω―Ä–Η –≤–Β―΅–Β―Ä–Α―Ö ―¹–Α–Φ–Ψ–¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Φ―΄ ―É―¹―²―Ä–Α–Η–≤–Α–Μ–Η ¬Ϊ―¹–Α–¥―΄¬Μ, ¬Ϊ―à–Α―Ö―²―΄¬Μ, –Ψ―¹–≤–Β―â–Β–Ϋ–Η–Β ―¹―Ü–Β–Ϋ―΄, –Ω―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ –Ψ–±―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ. –ï―¹–Μ–Η –Ζ–Α―¹―²–Α–≤–Α–Μ –Ϋ–Α―à ―à–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ψ―Ä–Κ–Β―¹―²―Ä –Ζ–Α ―¹―΄–≥―Ä–Ψ–≤–Κ–Ψ–Ι (―Ä–Β–Ω–Β―²–Η―Ü–Η–Β–Ι), –Ω―Ä–Η―¹–Α–Ε–Η–≤–Α–Μ―¹―è –≤ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Κ–Β –Η ―¹–Μ―É―à–Α–Μ.
βÄ™ –¦–Β–Ϋ―è! βÄ™ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ψ–Ϋ. –‰–¥–Η –Κ –Ϋ–Α–Φ –Ϋ–Α –·–™–≠–Γ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨.
βÄ™ –ê ―è –¥–Β–Μ–Α―²―¨-―²–Ψ –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β ―É–Φ–Β―é, βÄ™ ―¹ ―É―¹–Φ–Β―à–Κ–Ψ–Ι –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ ―è.
βÄ™ –ù–Α―É―΅–Η―à―¨―¹―è. –ù–Α―É―΅–Η–Μ―¹―è –Ε–Β –Ϋ–Α ―²―Ä―É–±–Β –Η–≥―Ä–Α―²―¨! –ù–Α―É―΅–Η―à―¨―¹―è –Η ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Β–Ι –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Η. –î–Α –Η ―¹ –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Β ―Ä–Α―¹―¹―²–Α–Ϋ–Β―à―¨―¹―è, ―É –Ϋ–Α―¹ ―²–Ψ–Ε–Β –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ψ―Ä–Κ–Β―¹―²―Ä –Β―¹―²―¨, ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η–Β –Η–≥―Ä–Α―é―².
βÄ™ –ù–Β –Ζ–Ϋ–Α―é, –Γ–Α―à–Α! βÄ™ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ ―è. –ù–Α–¥–Ψ –Ω–Ψ―¹–Ψ–≤–Β―²–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è ―¹ –Φ–Α―²–Β―Ä―¨―é –Η ―¹ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–Φ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Β–Φ, –Ψ–Ϋ –Ε–Β ―É –≤–Α―¹ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Β―².
βÄ™ –ö―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅? βÄ™ ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –Ψ–Ϋ.
βÄ™ –•–Η―Ä–Ψ–≤, - –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ ―è. –ö–Ψ–Ϋ–¥―É–Κ―²–Ψ―Ä ―²―Ä–Α–Φ–≤–Α―è, –Φ―É–Ε –Φ–Ψ–Β–Ι ―¹―²–Α―Ä―à–Β–Ι ―¹–Β―¹―²―Ä―΄.

βÄ™ –£–Ψ―² –Κ–Α–Κ! βÄ™ –Ψ–Ε–Η–≤–Η–Μ―¹―è –Γ–Α―à–Α. –½–Ϋ–Α―é –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ –ö―¹–Α–Ϋ―΄―΅–Α, –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Α―Ä―²―è―΅–Β–Ι–Κ–Β ―¹–Ψ―¹―²–Ψ–Η–Φ. –ß―²–Ψ –Ε, –Ω–Ψ―¹–Ψ–≤–Β―²―É–Ι―¹―è.
–û –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –ë–Μ–Η–Ϋ–Ψ–≤–Α ―è ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η. –ê –≤ ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Ι –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥ –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι –Ψ–Ϋ–Α ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Η–Μ–Α, ―΅―²–Ψ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ ―¹–Ψ–≤–Β―²―É–Β―² ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η―²―¨―¹―è ―¹ –ë–Μ–Η–Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ, ―΅―²–Ψ ―²―΄ –±―É–¥–Β―à―¨ ―¹―Ä–Β–¥–Η ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι –Η –Κ –¥–Β–Μ―É –Ω―Ä–Η―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ.
βÄ™ –ê ―¹–Α–Φ-―²–Ψ –Κ–Α–Κ –¥―É–Φ–Α–Β―à―¨?
βÄ™ –ö–Α–Κ ―¹–Κ–Α–Ε–Β―à―¨, - –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ ―è –Φ–Α―²–Β―Ä–Η.
–£ –Η―é–Ϋ–Β 1922 –≥–Ψ–¥–Α ―è ―¹―²–Α–Μ ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ-―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Η–Κ–Ψ–Φ –·–™–≠–Γ. –†–Α–±–Ψ―²–Α–Μ –≤ –Ψ–±–Φ–Ψ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Φ ―Ü–Β―Ö–Β –Ω–Ψ ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²―É ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ–¥–≤–Η–≥–Α―²–Β–Μ–Β–Ι, ―¹–Η–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Η –Ψ―¹–≤–Β―²–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Β―²–Η –Ω–Α―¹―¹–Α–Ε–Η―Ä―¹–Κ–Η―Ö –≤–Α–≥–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –Η ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ζ–Ψ–≤.
βÄ™ –Γ―²–Α―Ä–Α–Ι―¹―è, –±―É–¥―¨ –Ω–Ψ―¹–Μ―É―à–Ϋ―΄–Φ, ―É―΅–Η―¹―¨! βÄ™ –Ϋ–Α―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Α –Φ–Β–Ϋ―è –ï–Μ–Η–Ζ–Α–≤–Β―²–Α –ï–≤–≥―Ä–Α―³–Ψ–≤–Ϋ–Α –Ω―Ä–Η –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Φ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Β –Ϋ–Α ―Ä–Α–±–Ψ―²―É –Η, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, ―¹ –≤–Μ–Α–Ε–Ϋ―΄–Φ–Η, ―²–Β–Ω–Μ―΄–Φ–Η, –Μ–Α―¹–Κ–Ψ–≤―΄–Φ–Η –≥–Μ–Α–Ζ–Α–Φ–Η. –Δ―΄ ―¹―²–Α–Μ ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η–Φ, - ―¹ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –≥–Ψ―Ä–¥–Ψ―¹―²―¨―é ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α –Ψ–Ϋ–Α –Η, –Ω–Β―Ä–Β–Κ―Ä–Β―¹―²–Η–≤ –Φ–Β–Ϋ―è, –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Α –≤ ―²―Ä―É–¥–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω―É―²―¨.
–†–Α–±–Ψ―²–Α –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤ 8 ―΅–Α―¹–Ψ–≤. –£―΄―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –Η–Ζ –¥–Ψ–Φ–Α –≤ 7 ―΅–Α―¹–Ψ–≤. –ü–Β―Ä–≤–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ψ–Ϋ–Α –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Β ―É―²―Ä–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–Α–Μ–Α –Φ–Β–Ϋ―è ―¹ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ ―¹–Ψ –¥–≤–Ψ―Ä–Α, –≤―Ä―É―΅–Α―è ―É–Ζ–Β–Μ–Ψ–Κ ―¹ –Κ―É―¹–Ψ―΅–Κ–Ψ–Φ ―Ö–Μ–Β–±–Α, –¥–≤―É–Φ―è-―²―Ä–Β–Φ―è –Κ–Α―Ä―²–Ψ―³–Β–Μ–Η–Ϋ–Α–Φ–Η –≤ –Φ―É–Ϋ–¥–Η―Ä–Β –Η ―¹ ―¹–Ψ–Μ―¨―é, –Ζ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ―É―²–Ψ–Ι –Ϋ–Α –Φ–Α–Ϋ–Β―Ä –Μ–Β–Κ–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―Ä–Ψ―à–Κ–Α.
–û–±–Φ–Ψ―²–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι ―Ü–Β―Ö –±―΄–Μ –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ βÄ™ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ 12-15 ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Η–Κ–Ψ–≤ –Η ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ―¹–Μ–Β―¹–Α―Ä–Β–Ι. –€–Α―¹―²–Β―Ä–Ψ–Φ ―Ü–Β―Ö–Α –±―΄–Μ –‰–≤–Α–Ϋ –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅ –ö―É–Ζ–Ϋ–Β―Ü–Ψ–≤, –Μ–Β―² ―¹–Ψ―Ä–Ψ–Κ–Α ―¹ –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ. –‰–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä-―¹–Α–Φ–Ψ―É―΅–Κ–Α, –Ψ–Ω―΄―²–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ, ―Ä–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ–Η–Ζ–Α―²–Ψ―Ä, ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–≤―à–Η–Ι –≤ ―Ü–Β―Ö–Β –Β―â–Β –≤ –¥–Ψ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è. –Γ–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ―΄–Ι, –≤–Ϋ–Η–Φ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Κ ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η–Φ, –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –Ω–Ψ–≤―΄―à–Α–Μ –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹–Α. –ï–≥–Ψ ¬Ϊ–Ω―Ä–Α–≤–Ψ–Ι ―Ä―É–Κ–Ψ–Ι¬Μ –Ω–Ψ ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ―΅–Α―¹―²–Η ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ –ü–Β―²―Ä –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –™–Ψ―Ä―è―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ–≤. –û–Ϋ –Ε–Β –±―΄–Μ –Ϋ–Α―¹―²–Α–≤–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄―Ö ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η―Ö. –¦–Β―² –Β–Φ―É –±―΄–Μ–Ψ –Ζ–Α –Ω―è―²―¨–¥–Β―¹―è―². –û―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –±–Η–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Η βÄ™ ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β –≤ –Π―É―¹–Η–Φ―¹–Κ–Ψ–Φ ―¹―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Η (–ö–Ψ―Ä–Β–Ι―¹–Κ–Η–Ι –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤) –≤ –Φ–Α–Β 1905 –≥–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α –±―Ä–Ψ–Ϋ–Β–Ϋ–Ψ―¹―Ü–Β ¬Ϊ–û―Ä–Β–Μ¬Μ –≤ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Α-―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Η–Κ–Α.

–Δ–Ψ–≥–¥–Α ―Ä–Α–Ζ–≥―Ä–Ψ–Φ ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–Ι ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä―΄ –Ω–Ψ–¥ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –†–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –·–Ω–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –Ω―Ä–Β–¥–Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Η–Μ –Ω–Ψ―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –†–Ψ―¹―¹–Η–Η –≤ –†―É―¹―¹–Κ–Ψ-―è–Ω–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Β. –ü–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –¥―è–¥–Η –ü–Β―²–Η (―²–Α–Κ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η –™–Ψ―Ä―è―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ–≤–Α) –Ω–Ψ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Β ―¹ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β–Ε―¨―é –±―΄–Μ –Γ–Α―à–Α –ë–Μ–Η–Ϋ–Ψ–≤, ―É–Ε–Β –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Κ–≤–Α–Μ–Η―³–Η―Ü–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Η–Κ. –û–Ϋ –Ε–Β –±―΄–Μ ―¹–Β–Κ―Ä–Β―²–Α―Ä–Β–Φ –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι ―è―΅–Β–Ι–Κ–Η –·–™–≠–Γ. –û–Ϋ –Η –≤–Ζ―è–Μ –Φ–Β–Ϋ―è –Κ ―¹–Β–±–Β –Ϋ–Α –Ψ–±―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β.




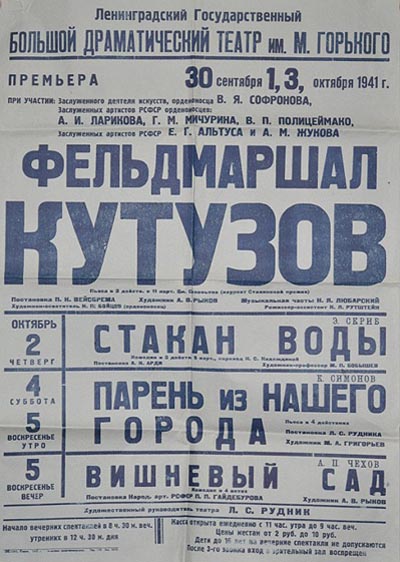





.jpg)


