
–ü–Ψ–≥―Ä–Β–±–Β–Ϋ―¨–Β ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ―¹―¨ –≤ 16 ―΅–Α―¹–Ψ–≤ 27 ―è–Ϋ–≤–Α―Ä―è –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β –Ϋ–Α –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Η –≤ –¥–Β―Ä–Β–≤―è–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –€–Α–≤–Ζ–Ψ–Μ–Β–Β –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²–Η–Ω–Α. –£ 1930 –≥–Ψ–¥―É –€–Α–≤–Ζ–Ψ–Μ–Β–Ι –±―΄–Μ –Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ –Κ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ, –Ψ–±–Μ–Η―Ü–Ψ–≤–Α–Ϋ –Φ―Ä–Α–Φ–Ψ―Ä–Ψ–Φ, –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―²–Ψ–Φ, –Μ–Α–Φ–±―Ä–Α–¥–Ψ―Ä–Ψ–Φ, –Ω–Ψ―Ä―³–Η―Ä–Ψ–Φ.
–ü–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¹―è –Φ–Ϋ–Β –Η –¥–Β–Ϋ―¨ 27 ―è–Ϋ–≤–Α―Ä―è 1924 –≥–Ψ–¥–Α.
–€–Ψ―Ä–Ψ–Ζ 30 –≥―Ä–Α–¥―É―¹–Ψ–≤. –‰–Ζ –½–Α–≤–Ψ–Μ–Ε―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, –½–Α–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ―¹–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –·―Ä–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Μ―è, –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Α–≤―à–Η―Ö –Β–≥–Ψ ―¹–Μ–Ψ–±–Ψ–¥ –Η –¥–Β―Ä–Β–≤–Β–Ϋ―¨ ―à–Μ–Η –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Β–Φ―΄–Φ–Η –Ω–Ψ―²–Ψ–Κ–Α–Φ–Η –Κ–Ψ–Μ–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄ –Μ―é–¥–Β–Ι –Ϋ–Α ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―É―é (–‰–Μ―¨–Η–Ϋ―¹–Κ―É―é) –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥―¨. –®–Μ–Η ―¹ –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Φ–Η –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Α–Φ–Η, ―³–Μ–Α–≥–Α–Φ–Η, –Ω–Ψ―Ä―²―Ä–Β―²–Α–Φ–Η –‰–Μ―¨–Η―΅–Α, –Ψ–±―Ä–Α–Φ–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ―΅–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ–Η –±–Α–Ϋ―²–Α–Φ–Η ―¹ –¥–Μ–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Μ–Β–Ϋ―²–Α–Φ–Η.
–ù–Α–¥ –Κ–Ψ–Μ–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ψ―² –Μ―é–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –¥―΄―Ö–Α–Ϋ–Η―è βÄ™ ―¹–Β―Ä―΄–Β –Ψ–±–Μ–Α–Κ–Α –Ω–Α―Ä–Α. –™–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Β –Ω–Μ–Α―²–Κ–Η –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ, ―à–Α–Ω–Κ–Η, ―É―¹―΄, –±–Ψ―Ä–Ψ–¥―΄ –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ –Ω–Ψ–Κ―Ä―΄―²―΄ –Η–Ϋ–Β–Β–Φ. –¦–Η―Ü–Α ―Ö–Φ―É―Ä―΄–Β.
–· ―à–Β–Μ –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Β –Ψ―Ä–Κ–Β―¹―²―Ä–Α –≤–Ψ –≥–Μ–Α–≤–Β –Κ–Ψ–Μ–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄ –·–™–≠–Γ. –ù–Ψ –Η–≥―Ä–Α―²―¨ –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ―΅―²–Η –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ. –‰–Ϋ―¹―²―Ä―É–Φ–Β–Ϋ―²―΄ –Ζ–Α–Φ–Β―Ä–Ζ–Α–Μ–Η. –ù–Α –Ω–Β―Ä–Β–Κ―Ä–Β―¹―²–Κ–Α―Ö ―É–Μ–Η―Ü –≥–Ψ―Ä–Β–Μ–Η –Κ–Ψ―¹―²―Ä―΄. –¦―é–¥–Η –Ψ–±–Ψ–≥―Ä–Β–≤–Α–Μ–Η―¹―¨. –€―΄, –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α–Ϋ―²―΄, –Ψ–±–Ψ–≥―Ä–Β–≤–Α–Μ–Η –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Φ–Β–Ϋ―²―΄. –ü―΄―²–Α–Μ–Η―¹―¨ –Η–≥―Ä–Α―²―¨ –Ω–Ψ―Ö–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Φ–Α―Ä―à, –Ϋ–Ψ –≤–Ζ―è―²–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ –Κ–Ψ―¹―²―Ä–Α ―²–Β–Ω–Μ–Α, ―Ö–≤–Α―²–Η–Μ–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Ψ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Κ―Ä–Β―¹―²–Κ–Α ―É–Μ–Η―Ü. –‰–Ϋ―¹―²―Ä―É–Φ–Β–Ϋ―²―΄ –Ζ–Α–Φ–Β―Ä–Ζ–Α–Μ–Η –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨.
–ë–Β–Ζ –Ω―è―²–Η –Φ–Η–Ϋ―É―² 16 ―΅–Α―¹–Ψ–≤ –Ϋ–Α –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Η –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ―¹―è ―²―Ä–Α―É―Ä–Ϋ―΄–Ι –Φ–Η―²–Η–Ϋ–≥. –£ 16 ―΅–Α―¹–Ψ–≤ –≤ –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―² –Ω–Ψ–≥―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Η―è –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Α –‰–Μ―¨–Η―΅–Α –Ω–Ψ–¥ –·―Ä–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Μ–Β–Φ –≥―Ä–Β–Φ–Β–Μ –Ψ―Ä―É–¥–Η–Ι–Ϋ―΄–Ι ―¹–Α–Μ―é―². –Γ–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Α. –ù–Α–¥ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ψ–Φ ―¹―²–Ψ―è–Μ ―¹–Ω–Μ–Ψ―à–Ϋ–Ψ–Ι –≥―É–Μ –Ζ–Α–≤–Ψ–¥―¹–Κ–Η―Ö, ―³–Α–±―Ä–Η―΅–Ϋ―΄―Ö, ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Ϋ―΄―Ö (–Ω–Α―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ζ–Ϋ―΄―Ö) –≥―É–¥–Κ–Ψ–≤, –¥–Μ–Η–≤―à–Η–Ι―¹―è ―²―Ä–Η –Φ–Η–Ϋ―É―²―΄. –ù–Α ―ç―²–Η –Φ–Η–Ϋ―É―²―΄ –≤–Β–Ζ–¥–Β –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ ―¹―²–Α–Ϋ–Κ–Η, ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄, –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–Ι ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―², –≤ –Φ–Ψ–Μ―΅–Α–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Α ―É–Μ–Η―Ü–Α―Ö –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Μ―é–¥–Η. –€―É–Ε―΅–Η–Ϋ―΄, –Ϋ–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α –Φ–Ψ―Ä–Ψ–Ζ, ―¹–Ϋ―è–Μ–Η ―à–Α–Ω–Κ–Η.
–Δ–Α–Κ ―²―Ä―É–¥–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥ –Ω―Ä–Ψ―â–Α–Μ―¹―è ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –≤–Ψ–Ε–¥–Β–Φ –Η ―É―΅–Η―²–Β–Μ–Β–Φ, –≤–Β–Μ–Η–Κ–Η–Φ –Φ―΄―¹–Μ–Η―²–Β–Μ–Β–Φ –£.–‰.–¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ―΄–Φ, ―Ä–Α–Ζ–≤–Η–≤–Α–≤―à–Η–Φ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è ―É―΅–Β–Ϋ–Η―è –ö–Α―Ä–Μ–Α –€–Α―Ä–Κ―¹–Α –Η –Ψ–±–Ψ–≥–Α―²–Η–≤―à–Η–Φ –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ –≤–Ψ–Ω–Μ–Ψ―â–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –±–Ψ―Ä―¨–±―΄ –Ω―Ä–Ψ–Μ–Β―²–Α―Ä–Η–Α―²–Α –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Μ–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É–≥–Ϋ–Β―²–Β–Ϋ–Η―è. –£–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Μ–Ψ –Φ–Α―Ä–Κ―¹–Η―¹―²―¹–Κ–Ψ-–Μ–Β–Ϋ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Β ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β, –Φ–Α―Ä–Κ―¹–Η–Ζ–Φ-–Μ–Β–Ϋ–Η–Ϋ–Η–Ζ–Φ.

–†–Α–±–Ψ―²–Α―è –Ϋ–Α –·–™–≠–Γ, ―è –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Β –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Μ, ―É–≤–Η–¥–Β–Μ, –±―΄–Μ –Ω―Ä–Η–Ψ–±―â–Β–Ϋ –Κ ―²―Ä―É–¥―É, –Κ –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²–Β, –Η ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Φ –≤ –Φ–Ψ–Β–Φ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η–Η, ―è –Ω–Ψ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ –Η –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Μ ―²―Ä―É–¥–Ψ–≤―É―é –¥–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ―É –Η –≤ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Η –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –¥–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ―É, ―²―Ä―É–¥–Ψ–≤–Ψ–Β ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Β―¹―²–≤–Ψ.
–‰ –≤―¹–Β ―ç―²–Ψ –≤–Ψ–≤―¹–Β –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―², ―΅―²–Ψ ―è –Μ–Η―à–Η–Μ―¹―è –Η–Μ–Η –Η–Ζ–±–Α–≤–Η–Μ―¹―è –Ψ―² –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η―à–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Α –Η –Ω–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è. –ù–Β―². –Θ –Ϋ–Α―¹ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Α―¹―¨ –¥―Ä―É–Ε–Ϋ–Α―è –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α ―Ä–Β–±―è―², ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–≤―à–Η―Ö –≤ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö ―Ü–Β―Ö–Α―Ö –·–™–≠–Γ: –Γ–Α―à–Α –ü–Ψ–Μ―è–Κ–Ψ–≤, –î–Η–Φ–Κ–Α –®–Α―²―Ä–Ψ–≤, –£–Η―²―è –©–Β―Ä–±–Α–Κ–Ψ–≤, –ù–Η–Κ–Η―²–Α –ö–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Μ–Ψ–≤ –Η –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –¥―Ä―É–≥–Η–Β. –£–Φ–Β―¹―²–Β ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Κ―É–Ω–Α―²―¨―¹―è –≤ –£–Ψ–Μ–≥–Β, –≤ –¦–Β―²–Ϋ–Η–Ι ―¹–Α–¥ –Ϋ–Α ―²–Α–Ϋ―Ü―΄, –≤ ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η–Β –Κ–Μ―É–±―΄ –Ϋ–Α –≤–Β―΅–Β―Ä–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –≤ –Κ–Η–Ϋ–Ψ―²–Β–Α―²―Ä―΄.

–ö―¹―²–Α―²–Η ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―è –Η ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ ―¹ ―²–Β–Φ –Ε–Β ―é–Ϋ–Ψ―à–Β―¹–Κ–Η–Φ –≤–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–Φ ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ –±―΄ ―²–Α–Κ–Η–Β ―³–Η–Μ―¨–Φ―΄ ―¹ ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β–Φ –Α–Κ―²–Β―Ä–Ψ–≤: –™–Α―Ä―Ä–Η –ü–Η–Μ―¨, –™–Α―Ä–Ψ–Μ―¨–¥ –¦–Μ–Ψ–Ι–¥, –ë–Β―¹―²–Β―Ä –ö–Β―²–≤–Η, –€―ç―Ä–Η –ü–Η–Κ―³–Ψ―Ä–¥, –î―É–≥–Μ–Α―¹ –Λ–Β―Ä–±–Β–Ϋ–Κ―¹ –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Φ–Η, –Κ–Α–Κ ¬Ϊ–•–Β–Ϋ―¨–Κ–Α –û–Κ―É―Ä–Ψ–Κ¬Μ, ¬Ϊ–¦–Β―²–Α―é―â–Η–Ι –Α–≤―²–Ψ–Φ–Ψ–±–Η–Μ―¨¬Μ, ¬Ϊ–ë–Α–≥–¥–Α–¥―¹–Κ–Η–Ι –≤–Ψ―Ä¬Μ, ¬Ϊ–£―¹–Α–¥–Ϋ–Η–Κ –±–Β–Ζ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―΄¬Μ, ¬Ϊ–ß–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Ϋ–Β–≤–Η–¥–Η–Φ–Κ–Α¬Μ, ¬Ϊ–Δ–Α–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è ―Ä―É–Κ–Α –Η–Μ–Η ―²–Α–Ι–Ϋ―΄ –ù―¨―é-–ô–Ψ―Ä–Κ–Α¬Μ, ¬Ϊ–î–Ψ―΅―¨ –ê―³―Ä–Η–Κ–Η¬Μ, ¬Ϊ–£ –¥–Β–±―Ä―è―Ö –ê―³―Ä–Η–Κ–Η¬Μ, ¬Ϊ–ö―Ä–Ψ–≤―¨ –Η –Ω–Β―¹–Ψ–Κ¬Μ –Η ―Ä―è–¥ –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ.
–Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ –≥―É–Μ―è–Μ–Η, –≤–Β―¹–Β–Μ–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ-–Φ–Α–Μ―¨―΅–Η―à–Β―¹–Κ–Η, –Η–≥―Ä–Α–Μ–Η –≤ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Β –Η–≥―Ä―΄ ―¹ –¥–Β–≤―΅–Ψ–Ϋ–Κ–Α–Φ–Η, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –≤ ―³―É―²–±–Ψ–Μ, –≤ –Μ–Α–Ω―²―É –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Η–≥―Ä―΄, –Ζ–Η–Φ–Ψ–Ι βÄ™ –Κ–Α―²–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Ϋ―¨–Κ–Α―Ö –Η –Μ―΄–Ε–Α―Ö.
–ù–Ψ –Φ―΄ –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –¥–Ψ–Ω―É―¹–Κ–Α–Μ–Η –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ –Ω–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Η ―΅–Β–≥–Ψ-–Μ–Η–±–Ψ –Α–Ϋ―²–Η–Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Μ–Η –Α–Φ–Ψ―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ.
–£ 1924 –≥–Ψ–¥―É, –≤―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Ϋ―΄ –£.–‰. –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–Α –Φ–Β–Ϋ―è –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ–Η –≤ –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ.
–ù–Α –·–™–≠–Γ ―è ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ –±–Ψ–Μ–Β–Β –¥–≤―É―Ö –Μ–Β―². –û–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Η–Μ―¹―è ―Ä–Β–Ε–Η–Φ –Η ―Ä–Η―²–Φ –Φ–Ψ–Β–≥–Ψ –±―΄―²–Η―è. –ü―Ä–Η–Ψ–±―Ä–Β―²–Α–Μ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β –Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è –≤ ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Β, –Γ–Α―à–Α –ë–Μ–Η–Ϋ–Ψ–≤ –Ω–Ψ-–Ω―Ä–Β–Ε–Ϋ–Β–Φ―É –Κ―É―Ä–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ –Φ–Ψ―é ―Ä–Α–±–Ψ―²―É. –ö–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Η–Μ―¹―è –Κ―Ä–Β–Ω–Κ–Ψ –Η –Ϋ–Α–≤―¹–Β–≥–¥–Α –Φ–Ψ–Ι ―²―Ä―É–¥–Ψ–≤–Ψ–Ι, –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ω―É―²―¨.
–ê–Ϋ –Ϋ–Β―²! –Γ―É–¥―¨–±–Α ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―è–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ω–Ψ-–¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ―É, –≤–Ϋ–Β―¹–Μ–Α –≤–≤–Ψ–¥–Ϋ―É―é, –Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–≤―à―É―é –Ψ―¹–Φ―΄―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Φ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―è, –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Ψ–Β–≥–Ψ, –Ϋ–Ψ –Η –Φ–Α―²–Β―Ä–Η –Η –Β–Β –Ζ―è―²―è βÄ™ –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η―¹―²–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Α –•–Η―Ä–Ψ–≤–Α.
–™–Μ–Α–≤–Α VII. –ö―Ä―É―²–Ψ–Ι –Ω–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ―² –Ϋ–Α ―²―Ä―É–¥–Ψ–≤–Ψ–Φ –Ω―É―²–Η.
–£ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η―Ö –¥–Ϋ–Β–Ι –Α–≤–≥―É―¹―²–Α 1924 –≥–Ψ–¥–Α, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―è―¹―¨ –≤ –Κ–Α–Ϋ–Α–≤–Β –Ω–Ψ–¥ –Ω–Α―¹―¹–Α–Ε–Η―Ä―¹–Κ–Η–Φ –≤–Α–≥–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ, –Η―¹–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è―è –Ϋ–Β–Η―¹–Ω―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤ ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Κ–Β, ―è ―É―¹–Μ―΄―à–Α–Μ –Γ–Α―à―É –ë–Β–Μ–Ψ–≤–Α βÄ™ ―¹–Β–Κ―Ä–Β―²–Α―Ä―è –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η, ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–≤―à–Β–≥–Ψ –Φ–Ϋ–Β: ¬Ϊ–¦–Β–Ϋ―¨–Κ–Α! –ü–Ψ―¹–Μ–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –Ω–Ψ–Ι–¥–Β–Φ –≤ –™–Ψ―Ä–Κ–Ψ–Φ¬Μ. βÄ™ ¬Ϊ–½–Α―΅–Β–Φ? βÄ™ ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ ―è, βÄ™ –Δ–Α–Φ ―É–Ζ–Ϋ–Α–Β―à―¨¬Μ, βÄ™ –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ –Γ–Α―à–Α, –Η –Β–≥–Ψ –Ϋ–Ψ–≥–Η ―¹–Κ―Ä―΄–Μ–Η―¹―¨ –Η–Ζ –Φ–Ψ–Β–≥–Ψ ¬Ϊ–Ω–Ψ–¥–≤–Α–≥–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ¬Μ –≤–Ζ–Ψ―Ä–Α.
–ù–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, –Ψ–Ω―è―²―¨, –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α–Μ―è , –Ψ―Ä–Κ–Β―¹―²―Ä –Ω–Ψ–Ϋ–Α–¥–Ψ–±–Η–Μ―¹―è –™–Ψ―Ä–Κ–Ψ–Φ―É –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ–Α. –™–Ψ―Ä–Κ–Ψ–Φ –Ω–Α―Ä―²–Η–Η –Η –™–Ψ―Ä–Κ–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ–Α –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α―à–Η–Φ –Ψ―Ä–Κ–Β―¹―²―Ä–Ψ–Φ –¥–Μ―è ―É―΅–Α―¹―²–Η―è –≤ ―Ä―è–¥–Β –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η–Ι: –¥–Μ―è –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Η―è, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –î–≤–Ψ―Ä―Ü–Α –Δ―Ä―É–¥–Α, –¥–Μ―è –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Η–Β –Η –Ζ–Α–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Β–¥–Ω―Ä–Η―è―²–Η―è, –¥–Μ―è ―É―΅–Α―¹―²–Η―è –≤ –Η―Ö –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö –≤–Β―΅–Β―Ä–Α―Ö –Η ―².–Ω. –£ ―É–Ω–Ψ–Φ―è–Ϋ―É―²―΄–Β –¥–Ϋ–Η –£–Α―¹–Η–Μ–Η–Ι –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Η―΅ –±―΄–Μ –±–Ψ–Μ–Β–Ϋ. –£ ―²–Α–Κ–Η―Ö ―¹–Μ―É―΅–Α―è―Ö ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ―Ä–Κ–Β―¹―²―Ä–Α –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Η –Φ–Β–Ϋ―è. –ù–Ψ –≤ –¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β ―è –Ψ―à–Η–±―¹―è.
–ü―Ä–Η–≤–Β―²–Μ–Η–≤–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α–≤―à–Η―¹―¨, ―¹–Β–Κ―Ä–Β―²–Α―Ä―¨ –™–Ψ―Ä–Κ–Ψ–Φ–Α –Ψ–±―Ä–Α―²–Η–Μ―¹―è –Κ–Ψ –Φ–Ϋ–Β:

βÄ™ ¬Ϊ–Δ―΄ –Ζ–Ϋ–Α–Β―à―¨, ―΅―²–Ψ –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ ―à–Β―³―¹―²–≤―É–Β―² –Ϋ–Α–¥ . –Π–ö –≤―΄–¥–Β–Μ–Η–Μ –Ϋ–Α–Φ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω―É―²–Β–≤–Ψ–Κ –¥–Μ―è –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è ―Ä–Β–±―è―² –Ϋ–Α –Ψ–±―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β –≤ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β ―¹ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±–Ψ–Ι –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ϋ―΄―Ö –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―è―Ö –Ϋ–Α –Λ–Μ–Ψ―²–Β¬Μ.
–Γ–Μ―É―à–Α―è –Β–≥–Ψ, ―è –Ω–Ψ –Ϋ–Α–Η–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α–Μ, –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ―è –Μ–Η –Ψ–Ϋ ―Ö–Ψ―΅–Β―² –Ω–Ψ–¥–Κ–Μ―é―΅–Η―²―¨ –Κ –Ψ―²–±–Ψ―Ä―É –Κ–Α–Ϋ–¥–Η–¥–Α―²–Ψ–≤. –ù–Ψ –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Η–Μ:
βÄ™ ¬Ϊ–Γ–Α―à–Α –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―², ―΅―²–Ψ –≤–Α―à–Α –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―è ―Ä–Β–Κ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–¥―É–Β―² ―²–Β–±―è –Ω–Ψ―¹–Μ–Α―²―¨ –≤ –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β. –ü–Ψ–Β–¥–Β―à―¨ ―É―΅–Η―²―¨―¹―è –Ϋ–Α ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α?¬Μ βÄ™ ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –Φ–Β–Ϋ―è ―¹–Β–Κ―Ä–Β―²–Α―Ä―¨.
–Δ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ―²–Α ―è –Ϋ–Β –Ψ–Ε–Η–¥–Α–Μ. –£ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Β –Ζ–Α–±–Β–≥–Α–Μ–Η ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Β –Φ―΄―¹–Μ–Η, –Ϋ–Ψ ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Β –Ψ –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Φ –¥–Ψ–Μ–≥–Β, –Ϋ–Β –Ψ–± –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ϋ–Β –Ψ–± –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―è―Ö, ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹ ―à–Β―³―¹―²–≤–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ–Α –Ϋ–Α–¥ –Λ–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ.
–€―΄, –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η―à–Κ–Η, –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α―è –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ―³–Μ–Ψ―²―Ü–Β–≤, –Ω―Ä–Η–±―΄–≤–Α–≤―à–Η―Ö –≤ –·―Ä–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Μ―¨ –≤ –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ, –Ζ–Α–≤–Η–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Η―Ö –Ψ―Ä–Η–≥–Η–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι, –Κ―Ä–Α―¹–Η–≤–Ψ–Ι ―³–Ψ―Ä–Φ–Β. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Β, ―΅―²–Ψ –Φ–Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Α ―¹–Β–Κ―Ä–Β―²–Α―Ä―è βÄ™ –±―΄―²―¨ ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ―É –Ψ–¥–Β―²―΄–Φ –≤–Ψ ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ―É―é ―³–Ψ―Ä–Φ―É, –Α –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Β βÄ™ ―É–≤–Η–¥–Β―²―¨ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–Β –Φ–Ψ―Ä–Β, –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Η–Β –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η, –Ω–Μ–Α–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Α –Ϋ–Η―Ö.
–û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ, ―Ä–Α–¥―É–Ε–Ϋ―΄–Β –Φ―΄―¹–Μ–Η –Ζ–Α―²–Φ–Β–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ―²―Ä–Β–≤–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Φ–Η: –Φ–Ϋ–Β –Β―â–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ 17, –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β βÄ™ 7 –Κ–Μ–Α―¹―¹–Ψ–≤, –Ω―Ä–Η–Φ―É―² –Μ–Η –≤ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β, –¥–Α –Η –Ψ―²–Ω―É―¹―²–Η―² –Μ–Η –Φ–Α―²―¨?!
–Δ–Α–Κ ―è –Η –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ, –¥–Ψ–±–Α–≤–Η–≤, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α–¥–Ψ ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η―²―¨ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―è ―É –Φ–Α―²–Β―Ä–Η.
βÄ™ ¬Ϊ–ü―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Β―à―¨, - ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ ―¹–Β–Κ―Ä–Β―²–Α―Ä―¨, –Η –Ψ―²–≤–Β―² –Ζ–Α–≤―²―Ä–Α ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Η―à―¨ –Γ–Α―à–Β¬Μ.
–ü―Ä–Η–¥―è ―¹ ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι, ―è ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η –Ψ ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Β –≤ –™–Ψ―Ä–Κ–Ψ–Φ–Β. –î–Ψ–Φ–Α –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –Η –ê.–ê.–•–Η―Ä–Ψ–≤.
–€–Α―²―¨ –Κ–Ψ–Μ–Β–±–Α–Μ–Α―¹―¨. –ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Β–Ι ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –≤―΄–Ω―É―¹―²–Η―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Φ–Μ–Α–¥―à–Β–≥–Ψ –≤ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –¥–Α–Μ–Β–Κ–Η–Ι ―¹–Α–Φ–Ψ―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–Μ–Β―². –ß―²–Ψ –Β―â–Β ―²–Α–Φ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―²―¨―¹―è?! –ê –Ζ–¥–Β―¹―¨-―²–Ψ ―è –Ω―Ä–Η–Ψ–±―â–Β–Ϋ –Κ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–Φ―É –¥–Β–Μ―É.
βÄ™ ¬Ϊ–ö–Α–Κ–Ψ–Ι –Η–Ζ ―²–Β–±―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä, βÄ™ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α –Φ–Α―²―¨. –Δ―΄ –Β―â–Β ¬Ϊ–ß–Η–Ε–Η–Κ¬Μ (―²–Α–Κ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η –Φ–Β–Ϋ―è ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η–Β ―Ü–Β―Ö–Α –·–™–≠–Γ –Η–Ζ-–Ζ–Α –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Ψ―¹―²–Α).

–¦–Β–Ψ–Ϋ–Η–¥ –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ ―¹ –Φ–Α–Φ–Ψ–Ι –Η –¥–Β―²―¨–Φ–Η –¦–Β–Ϋ–Ψ–Ι –Η –•–Β–Ϋ–Β–Ι –≤–Ψ –¥–≤–Ψ―Ä–Β –¥–Ψ–Φ–Α –ï–Μ–Η–Ζ–Α–≤–Β―²―΄ –ï–≤–≥―Ä–Α―³–Ψ–≤–Ϋ―΄. 1949 –≥.
βÄ™ ¬Ϊ–ù–Α–Ω―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ, –Φ–Α–Φ–Α―à–Α –£―΄ ―²–Α–Κ –¥―É–Φ–Α–Β―²–Β, βÄ™ –≤―¹―²―É–Ω–Η–Μ –≤ ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä –ê.–ê.–•–Η―Ä–Ψ–≤. –Θ –Ϋ–Α―¹ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―², ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ-–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―¹–Κ–Η –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α–Ϋ―²–Α–Φ–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É–Β―². –ê ―¹–Α–Φ-―²–Ψ –Κ–Α–Κ? βÄ™ ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –•–Η―Ä–Ψ–≤, βÄ™ –Ϋ–Β –±–Ψ–Η―à―¨―¹―è?
βÄ™ ¬Ϊ–ù–Β –±–Ψ―é―¹―¨, βÄ™ –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ ―è. –Ξ–Ψ―²–Β–Μ –±―΄ –Ω–Ψ–Β―Ö–Α―²―¨ –Η ―É―΅–Η―²―¨―¹―è¬Μ.
βÄ™ ¬Ϊ–ü–Ψ–Β–Ζ–Ε–Α–Ι!¬Μ βÄ™ ―¹ –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–Ι –≥―Ä―É―¹―²―¨―é –Η –≤–Μ–Α–Ε–Ϋ―΄–Φ–Η –≥–Μ–Α–Ζ–Α–Φ–Η ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α –Φ–Α―²―¨.
–ù–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, ―¹ –Ω–Ψ–Μ–Φ–Η–Ϋ―É―²―΄ –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Μ–Ψ –Φ–Ψ–Μ―΅–Α–Ϋ–Η–Β, –Ψ–±–Α ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ–Η –Ϋ–Α –Φ–Β–Ϋ―è. –€–Ψ–Μ―΅–Α–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Β―Ä–≤–Α–Μ–Α –Φ–Α―²―¨.
βÄ™ ¬Ϊ–ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―², ―΅―²–Ψ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ –Ω–Ψ―Ä―É―΅–Η–Μ –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ―É –Ϋ–Α–¥ ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ ―à–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨, –≤–Β–Μ–Β–Μ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄–Φ ―É―΅–Η―²―¨―¹―è. –Π–Α―Ä―¹―²–≤–Ψ –Ϋ–Β–±–Β―¹–Ϋ–Ψ–Β ―ç―²–Ψ–Φ―É –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–Φ―É ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ―É!¬Μ βÄ™ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α –Φ–Α―²―¨.
βÄ™ ¬Ϊ–î–Α ―É–Ε –Κ–Α–Κ–Ψ–Β, –Φ–Α–Φ–Α―à–Α, ―Ü–Α―Ä―¹―²–≤–Ψ –Ϋ–Α –Ϋ–Β–±–Β―¹–Α―Ö-―²–Ψ? βÄ™ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α–Ζ–Η–Μ –•–Η―Ä–Ψ–≤. –‰–Μ―¨–Η―΅-―²–Ψ –Ϋ–Β –≤–Β―Ä–Η–Μ –Ϋ–Η –≤ –±–Ψ–≥–Α, –Ϋ–Η –≤ ―΅–Β―Ä―²–Α¬Μ.
βÄ™ ¬Ϊ–≠―²–Ψ –≤―Ä–Α–Κ–Η!¬Μ βÄ™ –≤ ―¹–≤–Ψ―é –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥―¨ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α–Ζ–Η–Μ–Α –Φ–Α―²―¨, βÄ™ –£―΄, –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅, ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ ―É–Φ–Ϋ―΄–Ι, ―Ä–Α―¹―¹―É–¥–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι, βÄ™ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ–Α –Ψ–Ϋ–Α, βÄ™ –Α –Κ–Μ–Β–≤–Β―²―É ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―²―¨ –Ϋ–Β ―¹―É–Φ–Β–Μ–Η. –≠―²–Ψ –¥―É–Ϋ–Α–Β–≤―΄, –≤–Α―Ö―Ä–Ψ–Φ–Β–Β–≤―΄, –Ψ–Μ–Ψ–≤―è–Ϋ–Η―à–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤―΄ (–Ψ–Ϋ–Α –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Μ–Α –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―΄―Ö –Κ―É–Ω―Ü–Ψ–≤ –Η ―³–Α–±―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―²–Ψ–≤, –Ϋ―΄–Ϋ–Β –≤ –Η―Ö ―Ä–Ψ–Μ–Η - –ß―É–±–Α–Ι―¹―΄, –Ξ–Ψ–¥–Ψ―Ä–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Β, –™―É―¹–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Β...) –Κ–Μ–Β–≤–Β―²–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–Α, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ ―è–Κ–Ψ–±―΄ –Α–Ϋ―²–Η―Ö―Ä–Η―¹―², –±–Β–Ζ–±–Ψ–Ε–Ϋ–Η–Κ, ―Ä–Α–Ζ―Ä―É―à–Η―²–Β–Μ―¨. –Δ–Α–Κ ―²–Ψ –Ε–Β –≤―Ä–Α–≥–Η –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–Α! –ö―²–Ψ –Ε–Β –Κ–Α–Κ –Ϋ–Η –±–Ψ–≥, –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α–Μ –Β–Φ―É ―²–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨ –¥–Ψ–±―Ä–Ψ –±–Β–¥–Ϋ―΄–Φ, –Ω―Ä–Ψ―¹―²―΄–Φ –Μ―é–¥―è–Φ, –Η–Ζ–≥–Ϋ–Α―²―¨ –±–Ψ–≥–Α―²–Β–Β–≤ –Η –¥―É―à–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Α?!¬Μ.

βÄ™ ¬Ϊ–ê–Ι, –¥–Α –Φ–Α–Φ–Α―à–Α! βÄ™ ―Ä–Α―¹―¹–Φ–Β―è–Μ―¹―è –•–Η―Ä–Ψ–≤, βÄ™ –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Ψ –Ψ―²―΅–Η―²–Α–Μ–Α –Φ–Β–Ϋ―è. –‰ ―΅―²–Ψ –≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ, ―²–Ψ –≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ. –Λ–Α–±―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―²―΄, –Κ―É–Ω―Ü―΄, –±–Α–Ϋ–Κ–Η―Ä―΄, –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Η–Κ–Η –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤―Ä–Α–≥–Η –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–Α –Η –Β–≥–Ψ –¥–Ψ–±―Ä―΄―Ö –¥–Β–Μ. –ù–Β–Φ–Α–Μ–Ψ –≤–Ψ–Ζ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Ϋ–Α –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥–Μ―΄―Ö, –Φ–Β―Ä–Ζ–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ–Κ–Μ–Β–Ω–Ψ–≤. –ê –≤ –±–Ψ–≥–Α-―²–Ψ, –≤―¹–Β-―²–Α–Κ–Η, –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β –≤–Β―Ä–Η–Μ. –£–Β―Ä–Η–Μ –≤ ―Ä–Α–Ζ―É–Φ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α –Η –≤ ―¹–Η–Μ―΄ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –≤ ―¹–Η–Μ―΄ ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Β–≥–Ψ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α –Η –±–Β–¥–Ϋ–Β–Ι―à–Β–≥–Ψ –Κ―Ä–Β―¹―²―¨―è–Ϋ―¹―²–≤–Α.
–î–Η―¹–Ω―É―², –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ―à–Η–Ι –Φ–Β–Ε–¥―É ―²–Β―â–Β–Ι –Η –Ζ―è―²–Β–Φ, –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ―¹―è –≤ –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É –Φ–Ψ–Β–Ι –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥–Κ–Η –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥.
–ù–Α ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ ―è –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–Μ –Γ–Α―à–Β –ë–Β–Μ–Ψ–≤―É –Ψ ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η–Η –ï–Μ–Η–Ζ–Α–≤–Β―²―΄ –ï–≤–≥―Ä–Α―³–Ψ–≤–Ϋ―΄ –Ϋ–Α –Φ–Ψ―é –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥–Κ―É –≤ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β. –ê –Ψ–Ϋ –≤ –Ψ―²–≤–Β―² –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β ―΅–Β–Φ –≤–Β―¹―²–Η –Φ–Β–Ϋ―è –≤ –™–Ψ―Ä–Κ–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ–Α, ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Ψ–≤–Α–Μ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ ―¹ –•–Η―Ä–Ψ–≤―΄–Φ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι, –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Α–≤ –Φ–Ψ―é –Κ–Α–Ϋ–¥–Η–¥–Α―²―É―Ä―É, –Ψ–±–Β―â–Α–Μ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²―¨ –ï–Μ–Η–Ζ–Α–≤–Β―²―É –ï–≤–≥―Ä–Α―³–Ψ–≤–Ϋ―É –Κ ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η―é –Ϋ–Α –Φ–Ψ―é –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥–Κ―É.
–£ –Ω―É―²–Η.
–£–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –≤ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η ―è –≤–Ψ―à–Β–Μ ―²–Ψ–≥–¥–Α –≤ –≤–Α–≥–Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥–Α –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–≥–Ψ ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è: –ö–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Φ–Α-–¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥, ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –†―΄–±–Η–Ϋ―¹–Κ, –ë–Β–Ε–Β―Ü–Κ, ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –ë–Ψ–Μ–Ψ–≥–Ψ–Β, –Ϋ–Α –Φ–Α–≥–Η―¹―²―Ä–Α–Μ―¨ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Α-–¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥.
–ù–Α –≤–Ψ–Κ–Ζ–Α–Μ–Β –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–Α–Μ–Η –Φ–Β–Ϋ―è –Φ–Α―²―¨ –Η ―¹–Β―¹―²―Ä–Α –†–Α–Η―¹–Α. –ë–Η–Μ–Β―²–Α–Φ–Η –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–Μ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –£–Ψ–Β–Ϋ–Κ–Ψ–Φ–Α―²–Α. –û―² –·–™–≠–Γ –Ϋ–Α―¹ –±―΄–Μ–Ψ –¥–≤–Ψ–Β: –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β –Φ–Β–Ϋ―è, –Β―Ö–Α–Μ –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä –Γ–Α―Ä–±―É–Ϋ–Ψ–≤, –±―΄–≤―à–Η–Ι –≥―ç–Ω―ç―à–Β–≤–Β―Ü - –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ –™―É–±–Ω―Ä–Ψ–Μ–Β―²―à–Κ–Ψ–Μ―΄.

–ù–Α―Ä–Ψ–¥―É –≤ –≤–Α–≥–Ψ–Ϋ–Β, –Κ–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨―¹―è, ¬Ϊ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Ψ–±–Ψ―΅–Κ–Α¬Μ. –· –Ω―Ä–Η―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ–Κ–Β ―²―Ä–Β―²―¨–Β–≥–Ψ ―ç―²–Α–Ε–Α –Ψ–±―â–Β–≥–Ψ –Ω–Α―¹―¹–Α–Ε–Η―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤–Α–≥–Ψ–Ϋ–Α. –î―É―Ö–Ψ―²–Η―â–Α. –ù–Ψ –Ψ―²–Κ―Ä―΄–≤–Α―²―¨ –Ψ–Κ–Ϋ–Α –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Α–Μ–Ψ―¹―¨. –Δ–Ψ–Ω–Μ–Η–≤–Ψ–Φ –Ω–Α―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ζ–Α –±―΄–Μ–Η –¥―Ä–Ψ–≤–Α, –Η–Ζ –Β–≥–Ψ ―²―Ä―É–±―΄ –≤―΄–±―Ä–Α―¹―΄–≤–Α–Μ―¹―è –≥―É―¹―²–Ψ–Ι ―΅–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι –¥―΄–Φ –Η –Ω―É―΅–Κ–Η –Η―¹–Κ―Ä, –Ζ–Α–Μ–Β―²–Α–≤―à–Η―Ö –≤ –Ψ–Κ–Ϋ–Α, –±―΄–Μ–Η –≤–Ψ–Ζ–≥–Ψ―Ä–Α–Ϋ–Η―è. –Γ―Ä–Β–¥–Ϋ―è―è ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²―¨ –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥–Α –±―΄–Μ–Α –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι. –û―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Η –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α―Ö, –Ϋ–Ψ –Η –Ω–Ψ―΅―²–Η –Ϋ–Α –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ―É―¹―²–Α–Ϋ–Κ–Β. –£ –Ω―É–Ϋ–Κ―²–Α―Ö, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ω–Α―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ζ –Ζ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Μ―¹―è –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι –Η –¥―Ä–Ψ–≤–Α–Φ–Η, –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ –Η–Μ–Η –≤―΄–≥―Ä―É–Ε–Α–Μ –±–Α–≥–Α–Ε, ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Κ–Η –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η –Ψ―² 20 –¥–Ψ 30 –Φ–Η–Ϋ―É―². –ü–Ψ–Φ–Ϋ―è –Ϋ–Α–Κ–Α–Ζ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η, ―è –≤―¹―é –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥―É –Ϋ–Β –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –Η–Ζ –≤–Α–≥–Ψ–Ϋ–Α. –£–Β―â–Β–Ι ―¹ ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι βÄ™ –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Η–Ι ―É–Ζ–Β–Μ–Ψ–Κ ―¹ –Ζ–Α–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Α―Ä–Ψ–Ι –±–Β–Μ―¨―è, –Η –Β―â–Β –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β ―É–Ζ–Β–Μ–Ψ–Κ βÄ™ ―¹ ―Ö–Α―Ä―΅–Β–Φ.
–£ ―¹–≤–Β―²–Μ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ –≤ –Ψ–Κ–Ϋ–Ψ. –ü–Β―Ä–Β–¥ –≤–Ζ–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Ω–Ψ–¥–Μ–Β―¹–Κ–Η, –Μ–Β―¹–Ϋ―΄–Β –Φ–Α―¹―¹–Η–≤―΄, –Μ―É–≥–Α, –Κ–Α―Ä―²–Ψ―³–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ–Μ―è, –Ω–Ψ–Μ–Ψ―¹―΄ ―¹–Ε–Α―²―΄―Ö –Ζ–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö, ―Ö–Ψ–Μ–Φ―΄, –Ψ–≤―Ä–Α–≥–Η, ―Ä―É―΅―¨–Η –Η ―Ä–Β–Κ–Η ―¹ –±–Β―Ä–Β–≥–Α–Φ–Η, –Ζ–Α―Ä–Ψ―¹―à–Η–Φ–Η –≤–Β―²–Μ–Α–Φ–Η, –Η–≤–Α–Φ–Η, –≤―è–Ζ–Α–Φ–Η, –Ψ–Ω―É―¹―²–Η–≤―à–Η–Φ–Η ―¹–≤–Ψ–Η –≥–Η–±–Κ–Η–Β –≤–Β―²–≤–Η –≤ –≤–Ψ–¥―É. –£―¹–Β ―ç―²–Ψ –Ω–Ψ–¥ ―¹–Ψ–Μ–Ϋ–Β―΅–Ϋ―΄–Φ–Η –Μ―É―΅–Α–Φ–Η –Η –≥–Ψ–Μ―É–±―΄–Φ –Ϋ–Β–±–Ψ–Φ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤–Α–Μ–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ϋ―É―é –≥–Α–Φ–Φ―É –Κ―Ä–Α―¹–Ψ–Κ ―¹ ―É–Ε–Β –Ω–Ψ―è–≤–Η–≤―à–Η–Φ–Η―¹―è –Φ–Β―¹―²–Α–Φ–Η –Ε–Β–Μ―²–Ψ-–±–Α–≥―Ä―è–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω―è―²–Ϋ–Α–Φ–Η. –ö―Ä–Α―¹–Η–≤–Α ―Ä―É―¹―¹–Κ–Α―è –Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–¥–Α!
–ê –≤–Ψ―² –¥–Β―Ä–Β–≤―É―à–Κ–Η, –Η―Ö –¥–Ψ–Φ–Α, –Ω–Ψ–¥―¹–Ψ–±–Ϋ―΄–Β ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η―è, –Ψ–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –¥–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤ –Η ―É―΅–Α―¹―²–Κ–Ψ–≤ –Ζ–Β–Φ–Μ–Η –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Η –≥―Ä―É―¹―²–Ϋ–Ψ–Β, –Ε–Α–Μ–Κ–Ψ–Β –Ζ―Ä–Β–Μ–Η―â–Β: –¥–Ψ–Φ–Η―à–Κ–Η –Ω–Ψ–Κ–Ψ―¹–Η–Μ–Η―¹―¨, –Ω–Ψ–Κ―Ä―΄―²―΄ –≤―΄―¹–Ψ―Ö―à–Β–Ι, –≤―΄―Ü–≤–Β―²―à–Β–Ι –≥―Ä―è–Ζ–Ϋ–Ψ-―¹–Β―Ä–Ψ–Ι ―¹–Ψ–Μ–Ψ–Φ–Ψ–Ι; ―¹―²–Β–Ϋ―΄ –Ω–Ψ–¥―¹–Ψ–±–Ϋ―΄―Ö ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η–Ι –¥―΄―Ä―è–≤―΄–Β, –Ψ–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Η–Ζ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–¥–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ε–Β―Ä–¥–Β–Ι ―É–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ―΄ ―¹–Η–Κ–Ψ―¹―¨-–Ϋ–Α–Κ–Ψ―¹―¨, ―Ä–Α–Ζ―Ä―É―à–Α–Μ–Η―¹―¨. –Γ–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ –Ϋ–Α ―²–Α–Κ–Η–Β –Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ–Κ–Η –Η –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Μ –Ϋ–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Β ¬Ϊ–≥–Ψ―Ä–Β–Μ–Ψ–≤―΄¬Μ, ¬Ϊ–Ϋ–Β–Β–Μ–Ψ–≤―΄¬Μ...
–ü―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η, –Ϋ–Β –Ψ–±―Ä–Α―â–Α―è –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥, –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ―΄ ―¹ –≤–Β–¥―Ä–Α–Φ–Η –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Ψ–Φ―΄―¹–Μ–Β, –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ―Ä–Β―΅–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι: –±–Ψ―¹―΄–Β, –≤ –Μ–Β–≥–Κ–Η―Ö –Κ–Ψ―³―²–Α―Ö –Η –¥–Μ–Η–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―é–±–Κ–Α―Ö ―¹ –Ζ–Α―²–Κ–Ϋ―É―²―΄–Φ–Η ―¹ –±–Ψ–Κ–Ψ–≤ –Ζ–Α –Ω–Ψ―è―¹ –Ω–Ψ–¥–Ψ–Μ–Α–Φ–Η. –Θ –¥―Ä―É–≥–Η―Ö βÄ™ –Ϋ–Α –Ω–Μ–Β―΅–Β –Κ–Ψ―Ä–Ζ–Η–Ϋ–Α ―¹ –±–Β–Μ―¨–Β–Φ –Η–Μ–Η ―²–Α–Ζ, ―É–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Β–Φ―΄–Ι –Ϋ–Α –±–Β–¥―Ä–Β. –®–Α–≥ βÄ™ –Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι, ―É―¹―²–Α–Μ―΄–Ι. –‰ –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥―É. –Ξ–≤–Α―²–Α–Μ–Ψ, –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ, –Η ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Φ―΄―¹–Μ–Β–Ι...

–î―Ä―É–≥–Ψ–Β –¥–Β–Μ–Ψ βÄ™ ―Ä–Β–±―è―²–Α. –ù–Β―Ä–Β–¥–Κ–Ψ –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ –Ω–Ψ 5-6 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η―à–Β–Κ –Η –¥–Β–≤―΅–Ψ–Ϋ–Ψ–Κ ―¹―²–Ψ―è–Μ–Η –≤–±–Μ–Η–Ζ–Η –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–¥–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ψ―²–Ϋ–Α. –€–Α–Μ―¨―΅–Η―à–Κ–Η βÄ™ –≤ –¥–Μ–Η–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―Ö–Ψ–Μ―â–Ψ–≤―΄―Ö ―Ä―É–±–Α―Ö–Α―Ö, –Ω–Ψ–¥–Ω–Ψ―è―¹–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –±–Β―΅–Β–≤–Κ–Α–Φ–Η, –Ψ–¥–Ϋ–Α ―à―²–Α–Ϋ–Η–Ϋ–Α –Ζ–Α―¹―É―΅–Β–Ϋ–Α –≤―΄―à–Β –Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Α, –¥―Ä―É–≥–Α―è –Ψ–Ω―É―â–Β–Ϋ–Α –Ϋ–Η–Ε–Β –Ω―è―², –Μ–Ψ―Ö–Φ–Α―²―΄–Β, –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β ―¹―²―Ä–Η–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β. –û–¥–Ϋ–Α –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α βÄ™ ―¹ ―¹–Ψ–±–Α–Κ–Α–Φ–Η. –î―Ä―É–≥–Α―è βÄ™ ―¹ –Κ–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α–Φ–Η, ―²―Ä–Β―²―¨―è βÄ™ ―¹ –Κ–Ψ–Ζ–Ψ–Ι, ―΅–Β―²–≤–Β―Ä―²–Α―è βÄ™ –Η ―¹ ―²–Β–Φ –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Φ. –Γ–Φ–Ψ―²―Ä–Η―à―¨ –Ϋ–Α –Ϋ–Η―Ö, –Α –±–Β–¥–Ϋ–Ψ―²–Α ―²–Α–Κ –Η –Μ–Β–Ζ–Β―² –≤ –≥–Μ–Α–Ζ–Α (–ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α―é―² –Η–Φ–Β―²―¨ –Φ–Β―¹―²–Ψ ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹―Ö–Ψ–¥―¹―²–≤–Α ―¹ –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Ψ–Ι –≤–Β–Κ–Ψ–≤–Ψ–Ι –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―¹ ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –¥–Β―Ä–Β–≤–Ϋ–Β–Ι –Η –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹ –Ϋ–Β–Ι. –Γ–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Β―â–Β –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –±―É–¥―É―² –Η–Ζ–¥–Β–≤–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Α ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–Φ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ψ–Φ –Η―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ–Η –Η –Η―Ö –≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Β ―¹–Ψ–±–Α–Κ–Η). –ê –Μ–Η―Ü–Α ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Ϋ―΄–Β, ―É–Μ―΄–±–Α―é―²―¹―è, ―Ä―É―΅–Ψ–Ϋ–Κ–Α–Φ–Η –Φ–Α―à―É―² –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥―è―â–Β–Φ―É –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥―É. –£–Ψ―² –Ψ–Ϋ–Ψ, –±–Β―¹–Ω–Β―΅–Ϋ–Ψ–Β, –±–Β–Ζ–Ζ–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Ψ–Β, –±–Β–Ζ–¥―É–Φ–Ϋ–Ψ–Β –¥–Β―²―¹―²–≤–Ψ!
–ë―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä―è. –ù–Α ―¹–Ε–Α―²―΄―Ö ―Ä–Ε–Α–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–Μ―è―Ö –Ω–Ψ-–Ω―Ä–Β–Ε–Ϋ–Β–Φ―É –Β―â–Β ―É–Ω–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ ¬Ϊ―²―Ä―É–¥–Η–Μ–Η―¹―¨¬Μ –≥―Ä–Α―΅–Η, –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Ω–Β―Ä–Ϋ–Α―²―΄–Β. –ö–Ψ–Β-–≥–¥–Β –Μ―é–¥–Η –Κ–Ψ–Ω–Α–Μ–Η –Κ–Α―Ä―²–Ψ―³–Β–Μ―¨. –†–Β–¥–Κ–Ψ, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α–Μ–Η―¹―¨ –Μ–Ψ―à–Α–¥–Η ―¹ ―²–Β–Μ–Β–≥–Ψ–Ι, ―É–Ϋ―΄–Μ–Ψ –±―Ä–Β–¥―É―â–Η–Β ―¹ –Ψ–Ω―É―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ι, ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Β–Φ―΄–Β 7-8-–Μ–Β―²–Ϋ–Η–Φ–Η –Φ–Α–Μ―΄―à–Α–Φ–Η.
–ù–Ψ―΅―¨―é –Ϋ–Β ―¹–Ω–Α–Μ–Ψ―¹―¨. –ù–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Η–Ζ-–Ζ–Α –¥―É―Ö–Ψ―²―΄. –†–Α–Ζ–Ϋ―΄–Β –Φ―΄―¹–Μ–Η –Ψ–¥–Ψ–Μ–Β–≤–Α–Μ–Η: –Η–Ζ –Ϋ–Β–¥–Α–≤–Ϋ–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–≥–Ψ βÄ™ –¥–Ψ–Φ–Α―à–Ϋ–Β–≥–Ψ –Η –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–Κ―²–Η–≤–Α –·–™–≠–Γ, –Η –Η–Ζ –Ϋ–Α–Η–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –±―É–¥―É―â–Β–≥–Ψ. –î―É–Φ–Α–Μ –Η –Ψ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η: –±―É–¥–Β―² –Ε–Α–¥–Ϋ–Ψ –Ψ–Ε–Η–¥–Α―²―¨ –≤–Β―¹―²–Ψ―΅–Κ–Η –Ψ―² –Φ–Β–Ϋ―è, –Κ–Α–Κ –Ψ–Ε–Η–¥–Α–Μ–Α –≤ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≥–Ψ–¥―΄ ―¹ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Α –Ψ―² –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –Ζ―è―²―è –Η –Ψ―² ―¹―²–Α―Ä―à–Β–≥–Ψ ―¹―΄–Ϋ–Α. –· –Ζ–Ϋ–Α–Μ –Β–Β ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä. –Π–Β–Ϋ–Η–Μ –Β–Β –Μ―é–±–Ψ–≤―¨, –Ζ–Α–±–Ψ―²―É. –‰ –Ψ–Ϋ–Α ―Ü–Β–Ϋ–Η–Μ–Α –≤–Ψ –Φ–Ϋ–Β ―¹―΄–Ϋ–Ψ–≤―¨―é –Ω―Ä–Β–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –ü–Ψ–Ζ–¥–Ϋ–Β–Β –Δ–Ψ–Ϋ―è βÄ™ ―¹―²–Α―Ä―à–Α―è ―¹–Β―¹―²―Ä–Α ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Α –Φ–Ϋ–Β, ―΅―²–Ψ –Φ–Α―²―¨ ―¹ –≤–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ψ―²–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ψ–±–Ψ –Φ–Ϋ–Β –Ζ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –≤―΄―Ä–Ψ―¹―à–Η–Ι –¥–Ψ 17 –Μ–Β―², ―¹―²–Α–≤ ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η–Φ, ―è –Ϋ–Β –Ω–Β―Ä–Β―¹―²–Α–≤–Α–Μ ―¹―΅–Η―²–Α―²―¨―¹―è ―¹ –Β–Β ―¹–Ψ–≤–Β―²–Α–Φ–Η, –±–Β–Ζ –Β–Β ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η―è –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–¥–Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Ι –≤ –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Α–≤―à–Η―Ö –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-―²―Ä―É–¥–Ψ–≤―΄―Ö ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η―è―Ö. –€–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Β –Ω–Β―Ä–Β–¥―É–Φ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ζ–Α –Ϋ–Ψ―΅―¨ –Ω–Ψ–¥ ―¹―²―É–Κ –≤–Α–≥–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ–Μ–Β―¹.



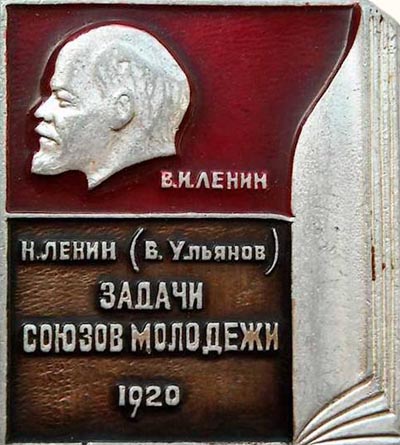


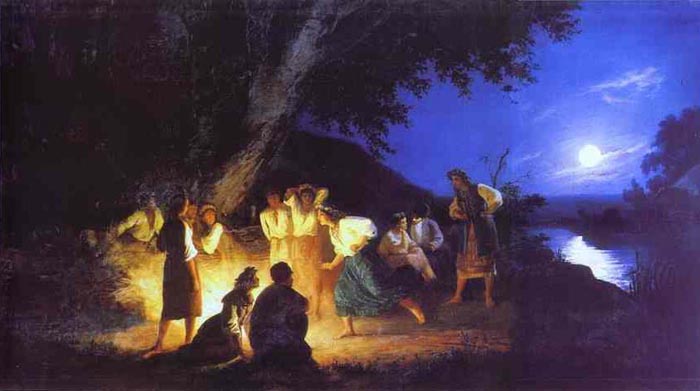



.jpg)


