–™–¦–ê–£–ê –ß–ï–Δ–£–ï–†–Δ–ê–·. –Γ–†–ï–î–‰ ¬Ϊ–ë–ï–Γ–ü–û–ö–û–ô–ù–Ϊ–Ξ –Γ–ï–†–î–ï–Π¬Μ
1–ö–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –≤–Ψ―à–Β–Μ –≤ –±―É―Ö―²―É –ö–Η–≤–Η –Η ―¹―²–Α–Μ –Ϋ–Α ―è–Κ–Ψ―Ä―¨. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ–Α –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–Ϋ–Α―è –±―É―Ö―²–Α, ―É–±–Β–Ε–Η―â–Β –¥–Α–Ε–Β –Ψ―² –¥–Β―¹―è―²–Η–±–Α–Μ–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―à―²–Ψ―Ä–Φ–Ψ–≤.
–û―² –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –Κ –±–Β―Ä–Β–≥―É –Ψ―²–Ψ―à–Μ–Α ―à–Μ―é–Ω–Κ–Α. –Γ–Ψ–≤–Β―² ¬Ϊ–Κ–Μ―É–±–Α –≤–Ψ–Μ–Ϋ―É―é―â–Η―Ö –≤―¹―²―Ä–Β―΅¬Μ ―Ä–Β―à–Η–Μ –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―¹–Η―²―¨ –Ϋ–Α –±–Β―¹–Β–¥―É –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –≤ –Ψ―²―¹―²–Α–≤–Κ–Β –ö―Ä–Α–Φ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ.

–ö―Ä–Α–Φ―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Β―¹―²―¨ –Ψ ―΅–Β–Φ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨. –£―¹―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ ―³–Μ–Ψ―²―É βÄî –≤–Ψ–Β–≤–Α–Μ, ―É―΅–Η–Μ –¥―Ä―É–≥–Η―Ö, βÄî –¥–Ψ ―²–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α–Κ –Ψ―² ―¹―²–Α―Ä―΄―Ö ―Ä–Α–Ϋ –Ψ―¹–Μ–Α–±–Μ–Ψ –Ζ―Ä–Β–Ϋ–Η–Β (–Α –Ψ–Ϋ –≤―¹–Β–≥–¥–Α ―¹–Μ–Α–≤–Η–Μ―¹―è –Ζ–Ψ―Ä–Κ–Ψ―¹―²―¨―é –¥–Α–Ε–Β ―¹―Ä–Β–¥–Η –≥–Μ–Α–Ζ–Α―¹―²―΄―Ö ―¹–Η–≥–Ϋ–Α–Μ―¨―â–Η–Κ–Ψ–≤). –ù–Ψ –ö―Ä–Α–Φ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Β ―¹–¥–Α–Μ―¹―è. –û–Ϋ –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α–Μ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β, ―΅–Η―²–Α–Μ –Μ–Β–Κ―Ü–Η–Η, –Ω–Η―¹–Α–Μ –Κ–Ϋ–Η–≥–Η –Ψ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η–Η –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄―Ö, –Α ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –¥–Η–Κ―²―É–Β―² –ï–Μ–Β–Ϋ–Β –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Ϋ–Β –Κ–Ϋ–Η–≥―É –Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η; –Β–Β –Ω―Ä–Ψ―΅―²―É―² ―¹ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ψ–Φ –≤―¹–Β –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Η. –î–Α –Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Μ–Η –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Η?
–°―Ä–Η―é –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Η―΅―É –ö―Ä–Α–Φ―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Ε–Η―²―¨ –Ϋ–Β–Μ–Β–≥–Κ–Ψ: –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι ―Ä–Α–Ζ –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Ψ―¹―΄–Ω–Α–Β―²―¹―è ―¹ –Φ―΄―¹–Μ―¨―é: ¬Ϊ–ê –≤–¥―Ä―É–≥ –Ϋ–Β ―É–≤–Η–Ε―É ―¹–≤–Β―²–Α?¬Μ –Θ –¥―Ä―É–≥–Ψ–≥–Ψ –±―΄ –Ϋ–Β―Ä–≤―΄ ―¹–¥–Α–Μ–Η. –û–Ϋ βÄî –¥–Β―Ä–Ε–Η―²―¹―è.
–†–Ψ―¹―²–Η―¹–Μ–Α–≤ –Ω–Ψ–¥–Ε–Η–¥–Α–Μ –Ψ―²―Ü–Α –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―²–Β―¹–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Α―é―²–Κ–Β. –ù–Α ―¹―²–Ψ–Μ–Β ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―è –ê–Μ–Η, –≤–Β―¹–Β–Μ–Ψ–Ι, ―¹–Φ–Β―é―â–Β–Ι―¹―è –ê–Μ–Η. –ü–Ψ–¥ –Α–±–Α–Ε―É―Ä–Ψ–Φ ―¹–Φ–Β―à–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Β–¥–≤–Β–Ε–Ψ–Ϋ–Ψ–Κ ―¹ ―³–Μ–Α–Ε–Κ–Ψ–Φ. –ù–Α ―³–Μ–Α–Ε–Κ–Β –Ϋ–Α–¥–Ω–Η―¹―¨: ¬Ϊ–· –≤―¹–Β–≥–¥–Α ―¹ ―²–Ψ–±–Ψ–Ι. –ê–Μ―è¬Μ.
–ß–Β―Ä–Β–Ζ –Κ–Ψ–Φ–Η–Ϋ–≥―¹ –Ω–Β―Ä–Β―à–Α–≥–Ϋ―É–Μ –≤–Η―¹–Μ–Ψ―É―Ö–Η–Ι –Ω–Β―¹, –Μ―é–±–Η–Φ–Β―Ü –≤―¹–Β–≥–Ψ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α. –ï–≥–Ψ –Ω―Ä–Η―²–Α―â–Η–Μ –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –û―Ä–Β–Μ βÄî –≥–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, ―²–Ψ―â–Β–≥–Ψ, –Κ–Α–Κ ―¹–Κ–Β–Μ–Β―². –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ –£–Β―Ä―²–Ψ–Μ–Β―² –Ψ―²―ä–Β–Μ―¹―è.
βÄî –Θ―Ö–Ψ–¥–Η –Ψ―²―¹―é–¥–Α, –Ϋ–Β –Ψ–Ζ–Ψ―Ä―É–Ι, βÄî –≥–Ψ–Ϋ–Η―² –Β–≥–Ψ –†–Ψ―¹―²–Η―¹–Μ–Α–≤.
–ü–Ψ–Φ–Α―Ö–Α–≤ ―Ö–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Φ, –Ω–Β―¹ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Κ–Α–Φ–±―É–Ζ. –ö–Ψ–Κ βÄî –Β–≥–Ψ –Μ―É―΅―à–Η–Ι –¥―Ä―É–≥.
–†–Ψ―¹―²–Η―¹–Μ–Α–≤ ―¹–Ω―Ä―è―²–Α–Μ –≤ ―¹―²–Ψ–Μ –Ω–Α―΅–Κ―É –Ω–Η―¹–Β–Φ –Η –¥–≤–Β –Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –±―É–Φ–Α–≥–Η. –ù–Β ―¹―²–Α–Ϋ–Β―² –Ε–Β –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ―Ä―²–Η―²―¨ –Ψ―²―Ü―É –Ϋ–Α―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η–Β ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Ψ–Φ –Ψ ―²–Ψ–Φ, –Ζ–Α―΅–Β–Φ –Β–≥–Ψ –≤―΄–Ζ―΄–≤–Α–Μ –Ϋ–Α –¥–Ϋ―è―Ö –Γ―É―Ö–Ψ–≤.
–Γ ―É–Κ–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Φ–¥–Η–≤ ―Ä–Α–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –Ϋ–Α ―¹―²–Ψ–Μ–Β –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Η―¹–Β–Φ –Η –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Μ–Η―¹―².
βÄî –ê –Ϋ―É-–Κ–Α, –ö―Ä–Α–Φ―¹–Κ–Ψ–Ι, –Ω–Ψ–Ω―΄―²–Α–Ι―²–Β―¹―¨-–Κ–Α –Ψ–Ω―Ä–Α–≤–¥–Α―²―¨―¹―è.

–±―΄–Μ–Η –Ω–Ψ–¥–Ω–Η―¹–Α–Ϋ―΄ –Ϋ–Β–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―΄–Φ–Η ―³–Α–Φ–Η–Μ–Η―è–Φ–Η, –Ω―Ä–Α–≤–¥–Α, –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Β ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹–Ψ–Μ–Η–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η–Ω–Η―¹–Κ–Ψ–Ι: ¬Ϊ–Μ–Α―É―Ä–Β–Α―²¬Μ, ¬Ϊ–Ζ–Α―¹–Μ―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι¬Μ, ¬Ϊ―΅–Μ–Β–Ϋ –ö–ü–Γ–Γ¬Μ... –û–Ϋ–Η –¥―΄―à–Α–Μ–Η –±–Μ–Α–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ –Ϋ–Β–≥–Ψ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ: –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä ―³–Μ–Ψ―²–Α, ―΅–Μ–Β–Ϋ –Ω–Α―Ä―²–Η–Η, –Ω―Ä–Β–Ϋ–Β–±―Ä–Β–≥ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η ―¹―΄–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Φ–Η –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―è–Φ–Η, –±―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –±–Β–Ζ –≤―¹―è–Κ–Η―Ö ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤ –Κ ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―é –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–≤―à―É―é –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Β―¹―²–Α―Ä–Β–Μ―É―é –Φ–Α―²―¨ βÄî –Ϋ–Β―É―²–Ψ–Φ–Η–Φ–Ψ–≥–Ψ ―²―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Κ–Α (–Φ–Α―²―¨ –≤―¹―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Ϋ–Η–≥–¥–Β –Ϋ–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Α). ¬Ϊ–ü–Ψ–Ζ–Ψ―Ä –Η –Ω―Ä–Β–Ζ―Ä–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ–Φ―É –≤―΄―Ä–Ψ–¥–Κ―É¬Μ βÄî ―²–Α–Κ –Η –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ψ –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Η–Ζ –Ω–Η―¹–Β–Φ.
–‰―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Μ–Η―¹―² –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Η―¹―΄–≤–Α–Μ –Ω–Μ–Α―²–Η―²―¨ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η –Α–Μ–Η–Φ–Β–Ϋ―²―΄.
βÄî –ù–Β –Ψ–Ε–Η–¥–Α–Μ –Ψ―² –≤–Α―¹, –ö―Ä–Α–Φ―¹–Κ–Ψ–Ι, βÄî ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ ―¹ –Ω―Ä–Β–Ϋ–Β–±―Ä–Β–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Γ―É―Ö–Ψ–≤ (–†–Ψ―¹―²–Η―¹–Μ–Α–≤ –Ζ–Ϋ–Α–Μ, –Κ–Ψ–Φ–¥–Η–≤ –Ϋ–Β –Μ―é–±–Η―² –Β–≥–Ψ). βÄî –ü–Β―Ä–Β–¥–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä, –Α–Ι-–Α–Ι-–Α–Ι, βÄî –Κ–Ψ–Φ–¥–Η–≤ –Ω–Ψ–Κ–Α―΅–Α–Μ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ι. βÄî –ù―É, ―΅―²–Ψ ―¹–Κ–Α–Ε–Β―²–Β?
–†–Ψ―¹―²–Η―¹–Μ–Α–≤ –Φ–Ψ–Μ―΅–Α–Μ. –ù–Β –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Γ―É―Ö–Ψ–≤―΄–Φ –Ε–Β –Ψ―²–Κ―Ä―΄–≤–Α―²―¨ –¥―É―à―É, –Ϋ–Β –Γ―É―Ö–Ψ–≤―É –Ε–Β ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―²―¨ –≤―¹–Β, –Κ–Α–Κ –±―΄–Μ–Ψ! –ù–Α –Ω―Ä–Ψ―â–Α–Ϋ–Η–Β –Γ―É―Ö–Ψ–≤ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ:
βÄî –· ―¹―΅–Η―²–Α―é, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ–Β –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Β –Κ ―¹―΄–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Φ –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―è–Φ –Ω–Ψ–¥―Ä―΄–≤–Α–Β―² –Α–≤―²–Ψ―Ä–Η―²–Β―² –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α, –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―².
–†–Ψ―¹―²–Η―¹–Μ–Α–≤ –Η –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ. –û–Ϋ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η–Μ ―¹–Β–±–Β, –Κ–Α–Κ ¬Ϊ–Ϋ–Β―²―Ä―É–¥–Ψ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ–Α―è –Ω―Ä–Β―¹―²–Α―Ä–Β–Μ–Α―è –Φ–Α―²―¨¬Μ –Ζ–Α–Η–≥―Ä―΄–≤–Α–Β―² ―¹ –Μ―é–¥―¨–Φ–Η –Β–≥–Ψ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²–Α, –≤―¹–Β –Β―â–Β –Ϋ–Α–¥–Β―è―¹―¨ –≤–Ψ–¥–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨ –≤ ―¹–≤–Ψ―é –Ω―Ä–Η–Μ–Η―΅–Ϋ―É―é –Κ–≤–Α―Ä―²–Η―Ä―É –Ϋ–Α ―É–Μ–Η―Ü–Β –™–Ψ―Ä―¨–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ―¨―Ü–Α.
–€–Β–Ϋ―¨―à–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ –Β–≥–Ψ –Ψ–≥–Ψ―Ä―΅–Α–Μ–Ψ ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² –≤―¹–Μ–Β–¥ –Ζ–Α –≤―΄–Ζ–Ψ–≤–Ψ–Φ –Κ –Γ―É―Ö–Ψ–≤―É: –Ω–Β―Ä–Β–¥ ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η―¹―²–Ψ–≤ –Ψ–Ϋ –≥–Ψ―²–Ψ–≤ ―Ä–Α―¹–Κ―Ä―΄―²―¨ –¥―É―à―É. –ï–≥–Ψ –Ω–Ψ–Ι–Φ―É―². –ù―΄–Ϋ―΅–Β –Ϋ–Β ―²–Β –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ ―¹ –Β–≥–Ψ –¥―É–Φ–Α–Φ–Η, –≥–Ψ―Ä–Β―¹―²―è–Φ–Η –Η ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²―è–Φ–Η, ―¹ –Β–≥–Ψ –Ε–Η–≤―΄–Φ –Η ―²―Ä–Β–Ω–Β―â―É―â–Η–Φ ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Β–Φ –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ –±―΄–≤–Α–Μ –Ω–Ψ–¥―Ä―É–±–Μ–Β–Ϋ –Ω–Ψ–¥ –Κ–Ψ―Ä–Β–Ϋ―¨. –Δ–Β –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Η. –€–Ψ―Ä―è–Κ―É, –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ–Ψ–Φ –Η –Ω–Α―Ä―²–Η–Β–Ι, –Ω–Ψ–≤–Β―Ä―è―².
–û –Ω―Ä–Ψ–Η―¹–Κ–Α―Ö –Φ–Α―²–Β―Ä–Η –Ψ–Ϋ, ―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Β–Β―²―¹―è, –Ψ―²―Ü―É ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Ϋ–Β ―¹–Κ–Α–Ε–Β―² –Ϋ–Η ―¹–Μ–Ψ–≤–Α. –ù–Β ―¹―²–Ψ–Η―² –Β–≥–Ψ –Ψ–≥–Ψ―Ä―΅–Α―²―¨.
βÄî –Δ–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―², ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Η―²–Β...
βÄî –£―Ö–Ψ–¥–Η―²–Β, ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ–Α.

βÄî
, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ―¹―΄–Μ–Α–Μ–Η –Ζ–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α, ―É ―²―Ä–Α–Ω–Α, ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―².
βÄî –‰–¥―É.
βÄî –ü―Ä–Η–Κ–Α–Ε–Β―²–Β ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α―²―¨ –Μ―é–¥–Β–Ι?
βÄî –Γ–Ψ–±–Η―Ä–Α–Ι―²–Β.
–ù–Α–¥–Β–≤ ―³―É―Ä–Α–Ε–Κ―É, –†–Ψ―¹―²–Η―¹–Μ–Α–≤ –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Ω–Α–Μ―É–±―É, –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–≤―à–Β–≥–Ψ―¹―è –Ω–Ψ ―²―Ä–Α–Ω―É –Ψ―²―Ü–Α.
–û–Ϋ –Ω―Ä–Β–¥―É–Ω―Ä–Β–¥–Η–Μ –Ω–Ψ―¹–Μ–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤: ¬Ϊ–ö–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ö―Ä–Α–Φ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ –≤–Η–¥–Η―², –Ω―Ä–Η–≥–Μ―è–¥―΄–≤–Α–Ι―²–Β, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β –Ψ―¹―²―É–Ω–Η–Μ―¹―è. –ù–Ψ –≤–Η–¥―É –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α–Ι―²–Β¬Μ. βÄî ¬Ϊ–ü–Ψ–Ϋ―è―²–Ϋ–Ψ¬Μ, βÄî ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –±–Ψ–≥–Α―²―΄―Ä―¨ –Θ―Ä–Α–≥–Α–Ϋ–Ψ–≤.
βÄî –ü–Ψ–Ι–¥–Β–Φ –≤ –Κ–Α―é―²―É, –Ψ―²–Β―Ü.
–Γ―΄–Ϋ –Ω–Ψ–Ω―΄―²–Α–Μ―¹―è –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨ –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥ ―Ä―É–Κ―É. –ù–Ψ –Ψ―²–Β―Ü –Μ–Β–≥–Κ–Ψ ―¹–Α–Φ ―¹–Ω―É―¹―²–Η–Μ―¹―è –Ω–Ψ ―É–Ζ–Β–Ϋ―¨–Κ–Ψ–Φ―É –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–Φ―É ―²―Ä–Α–Ω―É. –ü―Ä–Η–≤―΄―΅–Κ–Α!
βÄî –½–Α–≤–Η–¥―É―é ―²–Β–±–Β, ―¹―΄–Ϋ–Ψ–Κ, βÄî ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ψ–Ϋ, –Ψ–≥–Μ―è–¥–Β–≤ –Κ–Α―é―²―É.βÄî –ù―É, –Κ–Α–Κ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É–Β―à―¨?
βÄî –ü–Ψ–Κ–Α –≤―¹–Β –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω–Ψ–Μ―É―΅–Ϋ–Ψ, –Ψ―²–Β―Ü.

βÄî –ê –¥–Ψ–Φ–Α?
βÄî –Γ –ê–Μ–Β–Ι –Φ―΄ –Ε–Η–≤–Β–Φ –¥―Ä―É–Ε–Ϋ–Ψ... –€–Ϋ–Β –Ω–Ψ–≤–Β–Ζ–Μ–Ψ, βÄî ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –†–Ψ―¹―²–Η―¹–Μ–Α–≤, ―¹ –Μ―é–±–Ψ–≤―¨―é –≥–Μ―è–¥―è –Ϋ–Α –Ζ–Α–≥–Ψ―Ä–Β–Μ–Ψ–Β, –Φ―É–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Μ–Η―Ü–Ψ –Ψ―²―Ü–Α, ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β―è –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ψ―²–Β―Ü –Ζ–Α–Φ–Β―²–Ϋ–Ψ ―¹―²–Α―Ä–Β–Β―².
βÄî –™–Μ–Β–±–Κ–Α –Ϋ–Β–¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–Β–Ζ–Ε–Α–Μ ―¹ –‰–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι. –†–Α–±–Ψ―²–Α–Β―²; ―²–Ψ–Ε–Β, –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è, ―É–¥–Α―΅–Ϋ–Ψ –Ε–Β–Ϋ–Η–Μ―¹―è.
βÄî –î–Β–Ϋ–Β–≥ –Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ?
βÄî –ù–Β―².
βÄî –ù–Ψ ―²―΄ ―¹–Α–Φ –Ϋ–Α–≤―è–Ζ–Α–Μ?
βÄî –¦―é–¥–Η –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄–Β. –‰–Φ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ.
βÄî –Θ ―²–Β–±―è ―É ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Α–Μ–Ψ.
βÄî –ù–Α–Φ ―Ö–≤–Α―²–Α–Β―², –Γ–Μ–Α–≤–Α.
βÄî –Δ–Β–±–Β –≤–Η–¥–Ϋ–Β–Β, –Ψ―²–Β―Ü...
βÄî –Δ–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―², –≤―¹–Β –≤ ―¹–±–Ψ―Ä–Β, βÄî –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ–Α, –Μ–Β–≥–Ψ–Ϋ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ―¹―²―É―΅–Α–≤ –≤ –¥–≤–Β―Ä―¨.
βÄî –ü–Ψ–Ι–¥–Β–Φ, ―¹―΄–Ϋ–Ψ–Κ. –Ξ―É–Ε–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Μ―é–¥–Η –Ε–¥―É―²...
2
–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ϋ. –î―É―à–Ϋ–Ψ, ―Ö–Ψ―²―è –Η –Ψ―²–¥―Ä–Α–Β–Ϋ―΄ –Η–Μ–Μ―é–Φ–Η–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä―΄. –ö―Ä–Α–Φ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Α–Β―² –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β–Ε―¨, –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É―¹―²–Α–Μ–Α―è –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –¥–Ϋ―è, –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β, –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β–Ε―¨ ―¹ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η –Ε–¥―É―â–Η–Φ–Η –Μ–Η―Ü–Α–Φ–Η –Η –Ϋ–Α―²―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ―Ä―É–Κ–Α–Φ–Η.
–û―²–Κ―Ä―΄–≤–Α–Β―² –≤–Β―΅–Β―Ä –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ –£–Α―Ä–≤–Α―Ä–Η–Ϋ:
βÄî –Γ–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Ϋ–Α–Φ –Ω–Ψ–≤–Β–Ζ–Μ–Ψ. –Θ –Ϋ–Α―¹ –≤ –≥–Ψ―¹―²―è―Ö –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨ ―¹―²–Α―Ä―à–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤-–±–Α–Μ―²–Η–Ι―Ü–Β–≤ βÄî –°―Ä–Η–Ι –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Η―΅ –ö―Ä–Α–Φ―¹–Κ–Ψ–Ι. –€―΄, ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α, –≥–Ψ―Ä―è―΅–Η–Β ―¹–Ω–Ψ―Ä―΄ –≤–Β–¥―ë–Φ. –û –Ω–Ψ–¥–≤–Η–≥–Β. –û–¥–Ϋ–Η –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―²; ¬Ϊ–ö–Α–Κ–Η–Β ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –Φ–Ψ–≥―É―² –±―΄―²―¨ –Ω–Ψ–¥–≤–Η–≥–Η? –£–Ψ―² –≤ –Κ–Ψ―¹–Φ–Ψ―¹–Β βÄî –¥–Β–Μ–Ψ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Β¬Μ. –î―Ä―É–≥–Η–Β ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α―é―², ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Η–≥–Η ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Α―é―²―¹―è –Μ–Η―à―¨ –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄. –· ―¹ –Ϋ–Η–Φ–Η –Ϋ–Β ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Β–Ϋ. –£–Ψ―² –Ϋ–Β–¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–¥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≥―Ä―É–Ζ–Η―²―¨ –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è―²―É―é ―¹–Ψ –¥–Ϋ–Α –±–Α―Ä–Ε―É ―¹ –Φ–Η–Ϋ–Α–Φ–Η. –€–Η–Ϋ–Β―Ä–Α–Φ –Ψ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ ―à―²–Α―²―É –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Ψ –≤―΄–Ζ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β. –û―² –Ϋ–Α―¹ –ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η–Ι –û―Ä–Β–Μ –Ω–Ψ―à–Β–Μ, ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ–Α –≥–Η–¥―Ä–Ψ–Α–Κ―É―¹―²–Η–Κ–Ψ–≤. –ï–≥–Ψ, –Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –±―΄, ―ç―²–Ψ –Η –≤–Ψ–≤―¹–Β –Ϋ–Β –Κ–Α―¹–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –Α –Ψ–Ϋ –≥–Β―Ä–Ψ–Ι―¹–Κ–Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–Μ –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η―é.
βÄî –Δ–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ, –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Η―²–Β, ―΅―²–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–±–Η–≤–Α―é –≤–Α―¹, βÄî –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ―¹―è ―¹ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι –±–Α–Ϋ–Κ–Η –û―Ä–Β–Μ, βÄî –Α ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―è –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –≥–Β―Ä–Ψ–Ι―¹―²–≤–Α –Ϋ–Β ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Α–Μ. –· –Φ–Η–Ϋ–Β―Ä –Ω–Ψ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η...
βÄî –ê ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α –Ϋ–Α―à–Η―Ö –Φ–Η–Ϋ–Β―Ä–Ψ–≤ –≤ –Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è βÄî –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Η–≥? βÄî –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ. βÄî –£–Ψ–Ψ–±―â–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è, –Ω–Ψ–¥–≤–Η–≥ ―É –Ϋ–Α―¹ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α―é―² –Ω–Ψ-―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–Φ―É. –£–Ψ―² –Ϋ–Β–Κ–Η–Ι ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –≤ –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ―É –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β –Ω–Β―Ä–Β–¥ –¥–Β–≤―΅–Ψ–Ϋ–Κ–Ψ–Ι ―Ö–Ψ―²–Β–Μ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Η―²―¨―¹―è: ¬Ϊ–Ξ–Ψ―΅–Β―à―¨, –¥–Μ―è ―²–Β–±―è ―¹ –Φ–Ψ―¹―²–Α –Ω―Ä―΄–≥–Ϋ―É?¬Μ –ê –¥–Β–≤―΅–Ψ–Ϋ–Κ–Α, –≥–Μ―É–Ω–Α―è, –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ζ–Α–¥–Ψ―Ä–Η–Μ–Α: ¬Ϊ–ù―É, –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ–±―É–Ι¬Μ. –û–Ϋ –Η –Ω―Ä―΄–≥–Ϋ―É–Μ –≤ –ù–Β–≤―É... –£–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Η–Μ, ―΅―²–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Η–Μ –Ω–Ψ–¥–≤–Η–≥.
–£–Β―¹–Β–Μ―΄–Ι ―¹–Φ–Β―Ö –Ω–Ψ–Κ―Ä―΄–Μ ―¹–Μ–Ψ–≤–Α –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ–Α.
βÄî –ê –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ω–Ψ–Μ–Β―²–Α –™–Α–≥–Α―Ä–Η–Ϋ–Α –Ζ–Α―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α–Μ–Η: ¬Ϊ–ü―Ä–Ψ―à―É –Ψ―²–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤ –Κ–Ψ―¹–Φ–Ψ–Ϋ–Α–≤―²―΄...¬Μ –Δ–Α–Κ –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Φ ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ –¥―É–Φ–Α–Β―², βÄî –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ –£–Α―Ä–≤–Α―Ä–Η–Ϋ –Η –≤―΄―²–Β―Ä –≤―¹–Ω–Ψ―²–Β–≤―à–Η–Ι –Μ–Ψ–± –±–Β–Μ―΄–Φ ―¹ ―¹–Η–Ϋ–Β–Ι –Κ–Α–Β–Φ–Κ–Ψ–Ι –Ω–Μ–Α―²–Κ–Ψ–Φ.

βÄî –· ―²–Ψ–Ε–Β –≤–Η–¥–Β–Μ, βÄî –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–¥–Η–Μ –ö―Ä–Α–Φ―¹–Κ–Ψ–Ι, βÄî ―é–Ϋ–Ψ―à–Β–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ω–Ψ–Μ–Β―²–Α
―à–Μ–Η ―¹ –Ω–Μ–Α–Κ–Α―²–Ψ–Φ: ¬Ϊ–· βÄî ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Ι¬Μ. –û–Ϋ–Η –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è―é―², –Κ–Α–Κ ―É–Ω–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ―¹―è –™–Α–≥–Α―Ä–Η–Ϋ –Κ ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Η―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ–Β―². –£―¹―è –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Α –Κ –Ω–Ψ–Μ–Β―²―É –±―΄–Μ–Α ―²–Ψ–Ε–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Η–≥–Ψ–Φ. –ü–Ψ–¥–≤–Η–≥ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Η–Μ–Η –Η ―²–Β –±–Β–Ζ―΄–Φ―è–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Μ―é–¥–Η βÄî –Η―Ö ―²―΄―¹―è―΅–Η, βÄî –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Η ―ç―²–Ψ―² –Ω–Ψ–Μ–Β―².
–£ –≤–Ψ–Ι–Ϋ―É βÄî –≤―΄ ―ç―²–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Β―²–Β βÄî ―²–Α–Κ–Η–Β –Ε–Β, –Κ–Α–Κ –≤―΄, –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄–Β –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹―΄ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Α–Μ–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Η–≥–Η, –Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α―à –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥ –Ϋ–Β –Ζ–Α–±―É–¥–Β―². –£―΄ ―¹–Κ–Α–Ε–Β―²–Β: –Ϋ―É, ―ç―²–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Η–≥–Η ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ –≤–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―é ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Α, –≤–Ϋ–Β–Ζ–Α–Ω–Ϋ–Ψ. –ö–Α–Κ–Α―è ―É–Ε ―²―É―² –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Α... –‰ βÄî –Ψ―à–Η–±–Β―²–Β―¹―¨. –ü–Ψ–¥–≤–Η–≥ βÄî –Ϋ–Β ―É―Ö–Α―Ä―¹―²–≤–Ψ. –ù–Β–¥–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –±–Ψ–Β―Ü –Ω–Ψ–≥―É–±–Η―² –Η ―¹–Β–±―è, –Η –¥―Ä―É–≥–Η―Ö. –û–¥–Η–Ϋ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –≥–Β―Ä–Ψ–Ι, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Φ―΄ –≤―΄―¹–Α–Ε–Η–≤–Α–Μ–Η –¥–Β―¹–Α–Ϋ―², ―¹ –≤–Ψ–Ω–Μ–Β–Φ ¬Ϊ―É-―É, –≥–Α–¥―΄!¬Μ –≤―΄―¹–Κ–Ψ―΅–Η–Μ –Η–Ζ-–Ζ–Α –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²–Η―è, ―Ö–Ψ―²―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ϋ–Β –≤―΄―¹–Ψ–≤―΄–≤–Α―²―¨―¹―è. –Γ–Φ–Β–Μ―¨―΅–Α–Κ? –ù–Β―²! –€–Α–Μ–Ψ–¥―É―à–Ϋ―΄–Ι –Η―¹―²–Β―Ä–Η–Κ. –€–Α―²―Ä–Ψ―¹―΄ –Ψ―¹―É–Ε–¥–Α–Μ–Η –Β–≥–Ψ: ―¹–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―É –Ϋ–Η –Ζ–Α –Ω–Ψ–Ϋ―é―Ö ―²–Α–±–Α–Κ―É. –ù–Β ―Ö–≤–Α―²–Η–Μ–Ψ –≤―΄–¥–Β―Ä–Ε–Κ–Η, –¥–Β―à–Β–≤–Ψ –Ψ―²–¥–Α–Μ ―¹–≤–Ψ―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Η –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Β–Ι –Ω–Ψ–¥ ―É–¥–Α―Ä. –£―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―é –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä. –û–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄, ―¹―²–Ψ―è –Ϋ–Α ―è–Κ–Ψ―Ä–Β, –Φ―΄ –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η–Μ–Η –Φ–Η–Ϋ―É. –ö–Ψ―Ä–Α–±–Μ―é –≥―Ä–Ψ–Ζ–Η–Μ–Α –±–Β–¥–Α. –£–Ω–Β―Ä–Β–¥―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è―â–Η–Ι –Ω―Ä―΄–≥–Ϋ―É–Μ –Ζ–Α –±–Ψ―Ä―² –Η –Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–Μ –Φ–Η–Ϋ―É –≤–¥–Ψ–Μ―¨ –≤―¹–Β–≥–Ψ –±–Ψ―Ä―²–Α. –ö–Ψ–≥–¥–Α ―è ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –Β–≥–Ψ, –≤―΄–Φ–Ψ–Κ―à–Β–≥–Ψ, –Ζ–Α–Φ–Β―Ä–Ζ―à–Β–≥–Ψ: ¬Ϊ–½–Ϋ–Α–Μ–Η –Μ–Η –≤―΄, ―΅–Β–Φ ―Ä–Η―¹–Κ―É–Β―²–Β?¬Μ βÄî –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹ ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ: ¬Ϊ–½–Ϋ–Α–Μ, –Ϋ–Ψ –≤–Β–¥―¨ –Φ–Ψ–≥ –Ω–Ψ–≥–Η–±–Ϋ―É―²―¨ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –Η ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Η¬Μ.
–ê –±―΄–≤–Α–Β―² –Η ―²–Α–Κ: ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Ϋ–Β –Ζ–Α–Κ―Ä―΄–≤–Α–Β―² ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –Α–Φ–±―Ä–Α–Ζ―É―Ä―É –¥–Ψ―²–Α, –Ϋ–Β –±―Ä–Ψ―¹–Α–Β―²―¹―è –Ω–Ψ–¥ –≥―É―¹–Β–Ϋ–Η―Ü―΄ ―²–Α–Ϋ–Κ–Α, –Ϋ–Β ―¹–Ω–Α―¹–Α–Β―² –Ψ―² ―¹–Φ–Β―Ä―²–Η ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Α. –‰ –≤―¹–Β –Ε–Β ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Α–Β―²... –£–Ω―Ä–Ψ―΅–Β–Φ, ―è ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ε―É.

...–£ –¥–≤–Α–¥―Ü–Α―²–Ψ–Φ –≥–Ψ–¥―É ―è ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ –≤
. –ü―Ä–Β–¥―¹–Β–¥–Α―²–Β–Μ―¨ βÄî –Ω–Η―²–Β―Ä―¹–Κ–Η–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η–Ι, –Ω–Ψ―¹–Β–¥–Β–≤―à–Η–Ι –≤ ―²―é―Ä―¨–Φ–Α―Ö –Η ―¹―¹―΄–Μ–Κ–Α―Ö, ―Ä–Β–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Ϋ–Ψ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ –≤–Ψ–Μ―é –Ω–Α―Ä―²–Η–Η, –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Β―²–Μ–Ψ–Ι –≤―΄–Φ–Β―²–Α–≤―à–Β–Ι –≤―¹–Β, ―΅―²–Ψ –Φ–Β―à–Α–Μ–Ψ –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―é ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Η. –û–Ϋ –±–Β―Ä–Β–Ε–Ϋ–Ψ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ―¹―è –Κ ―²–Β–Φ, –Κ―²–Ψ ―¹–Ω–Ψ―²–Κ–Ϋ―É–Μ―¹―è, –Ϋ–Ψ –Β―â–Β –Φ–Ψ–≥ –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è―²―¨―¹―è –Η ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –≤―¹―²–Α―²―¨ –≤―¹―²―Ä–Ψ–Ι, –Η –≤ ―²–Ψ –Ε–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –±―΄–Μ –±–Β―¹–Ω–Ψ―â–Α–¥–Β–Ϋ –Κ –≤―Ä–Α–≥–Α–Φ ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Η. –ê –≤―Ä–Α–≥–Ψ–≤ –±―΄–Μ–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ: –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Β―Ä―΄, –±–Α–Ϋ–¥–Η―²―΄, ―²―Ä―É―¹―΄, ―Ö–Α–Ω―É–≥–Η, –Ω―¨―è–Ϋ–Η―Ü―΄, –Κ–Α―Ä―¨–Β―Ä–Η―¹―²―΄ –Η –Ω–Ψ–¥–Μ–Β―Ü―΄. –Δ―Ä–Η–±―É–Ϋ–Α–Μ –Ω–Β―Ä–Β–¥–≤–Η–≥–Α–Μ―¹―è –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Β–Ι –≤ ―²–Β–Ω–Μ―É―à–Κ–Α―Ö –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö ―ç―à–Β–Μ–Ψ–Ϋ–Ψ–≤, –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Α―Ö –Ω–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Φ―è–Κ―à–Β–Ι ―¹―²–Β–Ω–Η. –Γ –Ω―Ä–Β–¥―¹–Β–¥–Α―²–Β–Μ–Β–Φ –Ϋ–Β ―Ä–Α―¹―¹―²–Α–≤–Α–Μ―¹―è –Β–≥–Ψ ―¹―΄–Ϋ –™–Ψ―à–Κ–Α, –±–Β–Ζ–Α–Μ–Α–±–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι –Η –±–Β–Ζ―É–¥–Β―Ä–Ε–Ϋ―΄–Ι, βÄî –Ψ–Ϋ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Φ–Μ–Α–¥―à–Β–≥–Ψ –Ω–Η―¹–Α―Ä―è –Η –±–Ψ–Ι–Κ–Ψ –Ψ―²―¹―²―É–Κ–Η–≤–Α–Μ –Ϋ–Α ¬Ϊ―Ä–Β–Φ–Η–Ϋ–≥―²–Ψ–Ϋ–Β¬Μ –Ω―Ä–Ψ―²–Ψ–Κ–Ψ–Μ―΄ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―è–¥–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α―¹–Β–¥–Α–Ϋ–Η–Ι, –¥–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤ –Η –Ω―Ä–Η–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―΄. –û–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ ―É–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Κ–Β, ―¹–Ψ –≤―¹–Β―Ö ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –±–Α–Ϋ–¥–Η―²–Α–Φ–Η, –Ζ–Α―¹–Β–≤―à–Η–Φ–Η –≤ –Μ–Β―¹–Α―Ö, –™–Ψ―à–Κ–Α –Η―¹―΅–Β–Ζ. –€―΄ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨, –Κ―É–¥–Α –Ψ–Ϋ –¥–Β–≤–Α–Μ―¹―è. –£―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –≤―¹–Β –≤―΄―è―¹–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨. –£ –¥–Ψ–Φ–Η―à–Κ–Ψ, –≥–¥–Β –Ε–Η–Μ –Ω―Ä–Β–¥―¹–Β–¥–Α―²–Β–Μ―¨, ―¹―É–Ϋ―É–Μ–Η –Ω–Ψ–¥ –¥–≤–Β―Ä―¨ –Ζ–Α–Ω–Η―¹–Κ―É: ¬Ϊ–ï―¹–Μ–Η ―²―΄... βÄî –¥–Α–Μ―¨―à–Β ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Β ―ç–Ω–Η―²–Β―²―΄, βÄî –Ω–Ψ–¥–≤–Β–¥–Β―à―¨ –Ω–Ψ–¥ ―¹―²–Β–Ϋ–Κ―É –Ϋ–Η –≤ ―΅–Β–Φ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–≤–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –ß–Η―Ä–Κ―É–Ϋ–Α, ―²–≤–Ψ–Ι ―â–Β–Ϋ–Ψ–Κ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―² –Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Η –Φ―É―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é ―¹–Φ–Β―Ä―²―¨. –ï―¹–Μ–Η –ß–Η―Ä–Κ―É–Ϋ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―² ―²―é―Ä―¨–Φ―É, ―Ö–Ψ―²―è –±―΄ –¥–Α–Ε–Β –¥–≤–Α–¥―Ü–Α―²–Κ―É, ―²–≤–Ψ–Ι –Ω–Α―â–Β–Ϋ–Ψ–Κ –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Β―²―¹―è ―Ü–Β–Μ-–Ϋ–Β–≤―Ä–Β–¥–Η–Φ. –•–¥―É –Ψ―²–≤–Β―²–Α. –ü–Η―¹–Κ―É–Ϋ¬Μ. –ü–Η―¹–Κ―É–Ϋ –±―΄–Μ –Ω―Ä–Β–¥–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Φ ―à–Α–Ι–Κ–Η, –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ―΄–Φ –Η –Ϋ–Β―É–Μ–Ψ–≤–Η–Φ―΄–Φ –±–Α–Ϋ–¥–Η―²–Ψ–Φ, –Ζ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –±–Β–Ζ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ –Ψ―Ö–Ψ―²–Η–Μ–Η―¹―¨ –Η –û―¹–Ψ–±―΄–Ι –Ψ―²–¥–Β–Μ, –Η –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α –ß–û–ù–Α. –ê –ß–Η―Ä–Κ―É–Ϋ βÄî –Β–≥–Ψ ―¹–Ω–Ψ–¥–≤–Η–Ε–Ϋ–Η–Κ, –Ω–Ψ–≥―É–±–Η–≤―à–Η–Ι –Ϋ–Β–Φ–Α–Μ–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Β–Ι, βÄî –±―΄–Μ –Ψ–Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ –Ϋ–Α –±–Α–Ζ–Α―Ä–Β, –Ψ―²―¹―²―Ä–Β–Μ–Η–≤–Α–Μ―¹―è, ―É–±–Η–Μ ―²―Ä–Ψ–Η―Ö, –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η―Ö ―Ä–Α–Ϋ–Η–Μ –Η ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ψ–Ε–Η–¥–Α–Μ ―¹―É–¥–Α –Ω–Ψ–¥ –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ―²―Ä―è–¥–Α ―Ä–Β–≤―²―Ä–Η–±―É–Ϋ–Α–Μ–Α. –ü―Ä–Β–¥―¹–Β–¥–Α―²–Β–Μ―¨ –Ϋ–Α―à –Ω–Ψ―¹–Β–¥–Β–Μ –Ψ―² –≥–Ψ―Ä―è βÄî –±―΄–Μ –Ψ–Ϋ –≤–¥–Ψ–≤―Ü–Ψ–Φ –Η –¥―É―à–Η –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ –™–Ψ―à–Κ–Β –Ϋ–Β ―΅–Α―è–Μ. –ü–Η―¹–Κ―É–Ϋ –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Α–≥–Α–Μ –Β–Φ―É ―¹–¥–Β–Μ–Κ―É. –î–Α, ―¹–¥–Β–Μ–Κ―É ―¹ ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―¹―²―¨―é. –ß–Η―Ä–Κ―É–Ϋ –Ζ–Α―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ ―Ä–Α―¹―¹―²―Ä–Β–Μ. –€–Β–Ϋ―¨―à–Β–Β –Ϋ–Α–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η–Β –±―΄–Μ–Ψ –±―΄ –Ϋ–Α―¹–Φ–Β―à–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Α–¥ –Ω–Α–Φ―è―²―¨―é ―É–±–Η―²―΄―Ö –±–Α–Ϋ–¥–Η―²–Ψ–Φ. –ü―Ä–Β–¥―¹–Β–¥–Α―²–Β–Μ―¨ –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –≤―΄–Ζ–≤–Ψ–Μ–Η―²―¨ –Η–Ζ –Μ–Α–Ω –±–Α–Ϋ–¥–Η―²–Ψ–≤ –≤ –Μ–Β―¹–Α―Ö –™–Ψ―à―É –Ϋ–Β ―É–¥–Α―¹―²―¹―è, –Β―¹–Μ–Η –¥–Α–Ε–Β –Φ–Ψ–±–Η–Μ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤―¹–Β –Η–Φ–Β–≤―à–Η–Β―¹―è –≤ –Ϋ–Α–Μ–Η―΅–Η–Η –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Κ–Β –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α –≤–Ϋ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Β–Ι –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―΄ ―Ä–Β―¹–Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Η. –ù–Α ―¹―²–Α―Ä–Η–Κ–Α –±―΄–Μ–Ψ ―²―è–Ε–Κ–Ψ ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨.

¬Ϊ
¬Μ (1964), –Ω–Ψ –Φ–Ψ―²–Η–≤–Α–Φ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Ψ–≤ –€–Η―Ö–Α–Η–Μ–Α –®–Ψ–Μ–Ψ―Ö–Ψ–≤–Α ¬Ϊ–®–Η–±–Α–Μ–Κ–Ψ–≤–Ψ ―¹–Β–Φ―è¬Μ –Η ¬Ϊ–†–Ψ–¥–Η–Ϋ–Κ–Α¬Μ.
–ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―².

–£–Β―Ä―é–Ε―¹–Κ–Η–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–£–ù–ê), –™–Ψ―Ä–Μ–Ψ–≤ –û–Μ–Β–≥ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–û–ê–™), –€–Α–Κ―¹–Η–Φ–Ψ–≤ –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–€–£–£), –ö–Γ–£.
198188. –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥, ―É–Μ. –€–Α―Ä―à–Α–Μ–Α –™–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α, –¥–Ψ–Φ 11/3, –Κ–≤. 70. –ö–Α―Ä–Α―¹–Β–≤ –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅, –Α―Ä―Ö–Η–≤–Α―Ä–Η―É―¹. karasevserg@yandex.ru






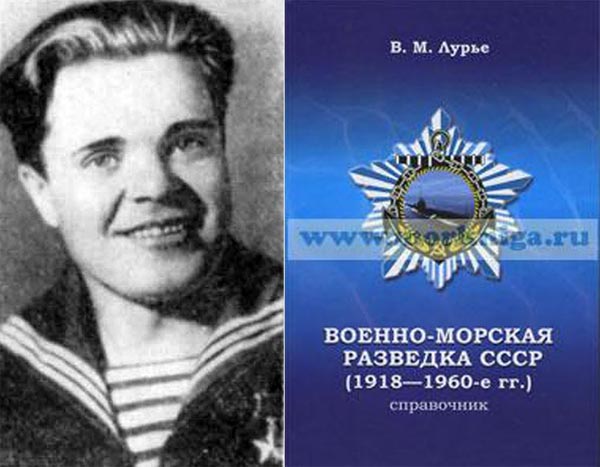


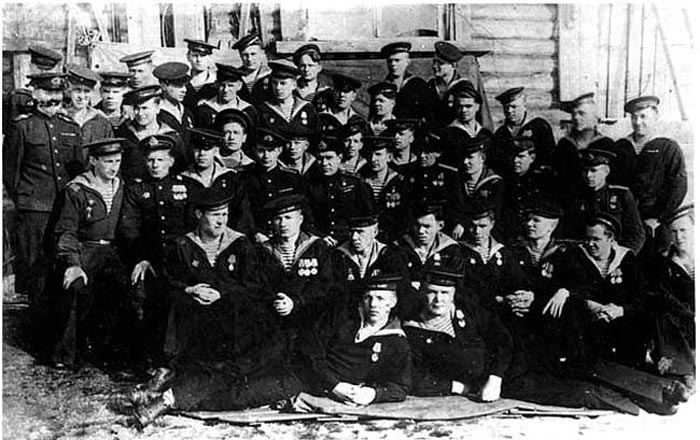
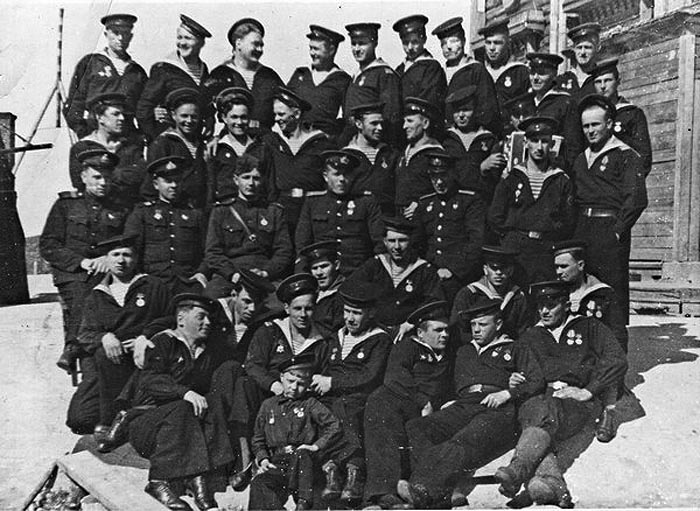
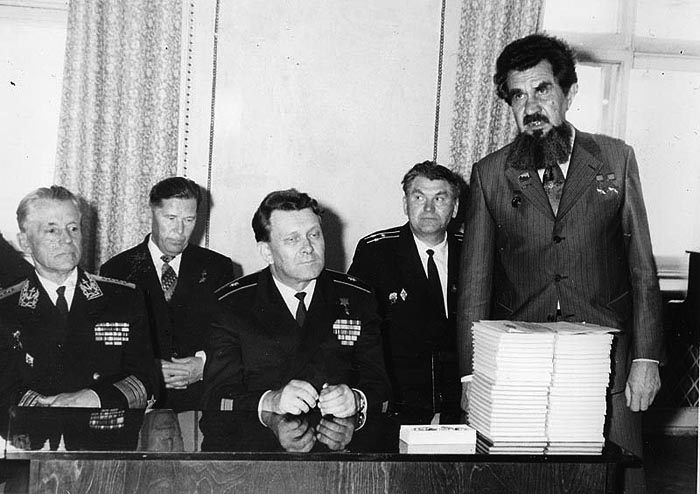









.jpg)


