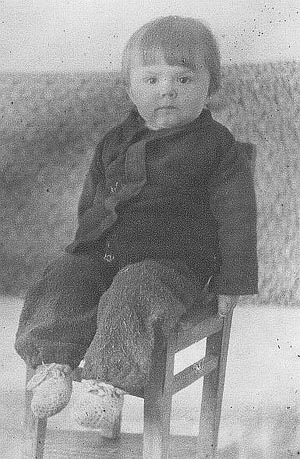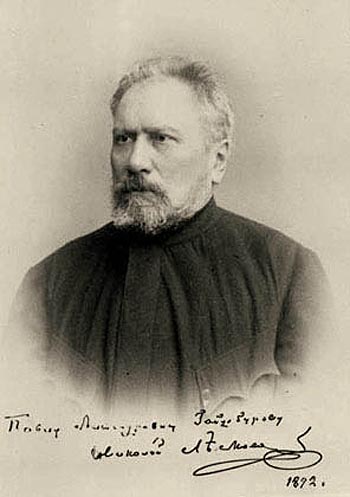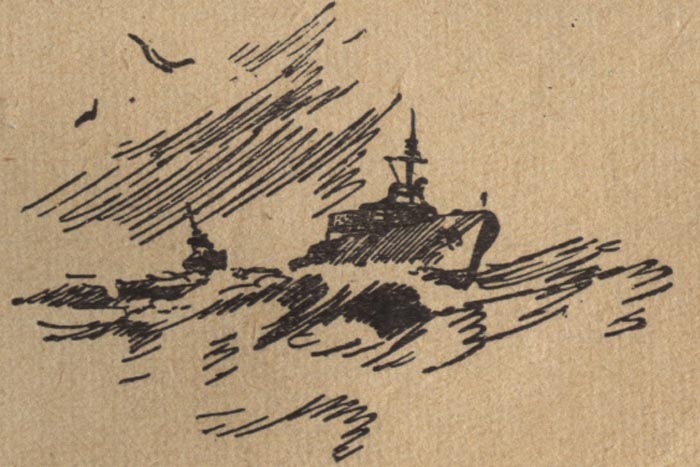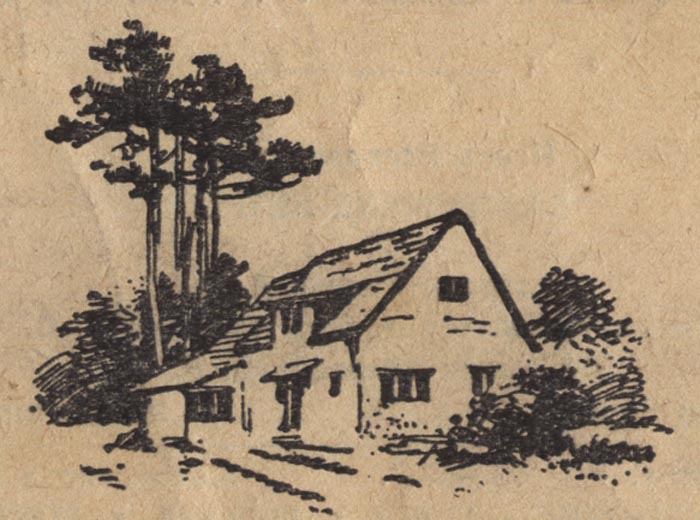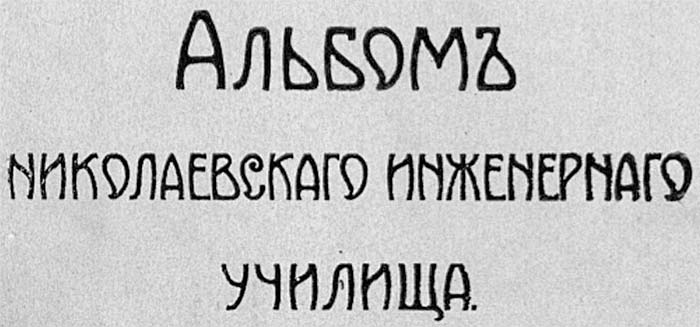–С–∞–љ–љ–µ—А

–Э–Њ–≤—Л–µ —Б–њ—Г—Б–Ї–Њ-–њ–Њ–і—К–µ–Љ–љ—Л–µ —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–∞ –і–ї—П —Д–ї–Њ—В–∞
|
–Т—Б–Ї–Њ—А–Љ–ї—С–љ–љ—Л–µ —Б –Ї–Њ–њ—М—П - –°–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є—П –Ј–∞ –Є—О–љ—М 2013 –≥–Њ–і–∞
0
15.06.201310:2615.06.2013 10:26:23
–Ю –≥–∞–Ј–µ –Ј–∞—А–Є–љ–µ –Є —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л—Е ¬Ђ–Љ–∞–Ј–∞—А–Є–љ–Є¬ї–Ш—В–∞–Ї, –і–∞–ґ–µ –≥–Њ–і–∞ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –Љ–∞–ї–Њ –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Ж–∞–Љ, —З—В–Њ–±—Л –њ–Њ–і–∞–≤–Є—В—М –≤ —Б–µ–±–µ –ґ–µ–ї–∞–љ–Є–µ —Б–Њ–ї–≥–∞—В—М. –Р–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є–є –њ—А–µ–Ј–Є–і–µ–љ—В, –і–≤–Є–ґ–Є–Љ—Л–є –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –ґ–µ–ї–∞–љ–Є–µ–Љ —Б—В–Њ—П—В—М –љ–∞ —Б—В—А–∞–ґ–µ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤ –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—А–Њ–і–∞, –і–Њ–ї–≥–Њ –Ї–Њ–ї–µ–±–∞–ї—Б—П, –љ–Њ –≤—Б–µ-—В–∞–Ї–Є, —Б—Б—Л–ї–∞—П—Б—М –љ–∞ –і–∞–љ–љ—Л–µ —А–∞–Ј–≤–µ–і–Ї–Є –Є —Б–≤–Њ—С –і–Њ—Б—В–∞–≤—И–µ–µ—Б—П –Њ—В –Љ–∞–Љ—Л-–±–ї–Њ–љ–і–Є–љ–Ї–Є —З—Г—В—М–µ, –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –њ—А–Њ–Є–Ј–љ–µ—Б —В–∞–Ї –і–Њ–ї–≥–Њ –Њ–ґ–Є–і–∞–µ–Љ–Њ–µ: —В–∞–Ї–Є –і–∞, —Б–Є—А–Є–є—Б–Ї–Њ–µ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–Њ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —А–∞–Ј —Е–Є–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤ —Б–≤–Њ–Є—Е –Њ–њ–њ–Њ–љ–µ–љ—В–Њ–≤, –Њ—В—З–µ–≥–Њ –њ–Њ–≥–Є–±–ї–Њ –Њ—В 100 –і–Њ 150 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї. –Т–Њ–Њ–±—Й–µ-—В–Њ, –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є—Е —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е —В–µ—Е–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є–є, –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е –љ–∞ —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ–Є–µ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞ –Ї–∞–Ї –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В–∞, —Г–ґ–µ –њ—А–Є–≤–µ–ї–Њ –Ї –≥–Є–±–µ–ї–Є –≤ –°–Є—А–Є–Є –њ–Њ—З—В–Є 100 —В—Л—Б—П—З —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –±–µ–ґ–µ–љ—Ж–µ–≤ —Г–ґ–µ –њ—А–µ–≤—Л—Б–Є–ї–Њ –њ–Њ–ї–Љ–Є–ї–ї–Є–Њ–љ–∞. –Э–∞ —Н—В–Њ–Љ —Д–Њ–љ–µ –≥–Є–±–µ–ї—М 150 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –Ї–∞–Ї –њ—А–µ–і–ї–Њ–≥ –і–ї—П —Г–≤–µ–ї–Є—З–µ–љ–Є—П –Љ–∞—Б—И—В–∞–±–Њ–≤ —Г–Љ–µ—А—Й–≤–ї–µ–љ–Є—П –ї—О–і–µ–є –≤ —Б—В—А–∞–љ–µ, –Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–∞ –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –љ–∞—Ж–Є–Є –≤ —Б–Є–ї—Г —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —Г–±–ї—О–і–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ —Б—А–µ–і–љ–µ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є–Љ–µ–µ—В –Ј–љ–∞–љ–Є–є –Љ–µ–љ—М—И–µ, —З–µ–Љ –Њ–± –Р–љ—В–∞—А–Ї—В–Є–і–µ, –∞ –і—А—Г–≥–∞—П –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–∞ –њ—Г—В–∞–µ—В –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ —Н—В–Њ–є —Б—В—А–∞–љ—Л —Б–Њ –Ј–≤–µ–Ј–і–Њ–є –°–Є—А–Є—Г—Б –Є –і—Г–Љ–∞–µ—В, —З—В–Њ –Р–Љ–µ—А–Є–Ї–∞ –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –њ–Њ–Љ–Њ—З—М –Љ–љ–Њ–≥–Њ—Б—В—А–∞–і–∞–ї—М–љ–Њ–Љ—Г –љ–∞—А–Њ–і—Г –њ–Њ–±–µ–і–Є—В—М –Ї–Њ–≤–∞—А–љ—Л—Е –Ї–Њ—Б–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ—А–Є—И–µ–ї—М—Ж–µ–≤, –≤—Л–≥–ї—П–і–Є—В, –њ–Њ –Љ–µ–љ—М—И–µ–є –Љ–µ—А–µ –љ–µ—Г–±–µ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ. –Э–Њ –і–∞–≤–∞–є—В–µ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–Є–Љ —Н—В–Њ—В –Љ–Њ—В–Є–≤ –±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ. –І—Г—В—М –±–Њ–ї—М—И–µ –≥–Њ–і–∞ –љ–∞–Ј–∞–і –њ–Њ–њ–Њ–ї–Ј–ї–Є —Б–ї—Г—Е–Є –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Є–Ј –Ы–Є–≤–Є–Є –≤ –°–Є—А–Є—О, –≤ —А—Г–Ї–Є –њ–Њ–≤—Б—В–∞–љ—Ж–µ–≤, –њ–Њ–њ–∞–ї–∞ –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–∞—П –њ–∞—А—В–Є—П —Е–Є–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П, –±–µ–Ј –і–µ–ї–∞ –ї–µ–ґ–∞–≤—И–µ–≥–Њ –љ–∞ —Б–Ї–ї–∞–і–∞—Е –Ј–∞–њ–∞—Б–ї–Є–≤–Њ–≥–Њ –Ъ–∞–і–і–∞—Д–Є. –Э–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Є –і–∞–ґ–µ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–ї–Є, —З—В–Њ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—О –°–Є—А–Є–Є –і–Њ—Б—В–Є–≥–ї–Њ –≤—Б–µ–≥–Њ —З–µ—В—Л—А–µ –±–Њ–µ–њ—А–Є–њ–∞—Б–∞. –Я–Њ—В–Њ–Љ –њ–Њ—П–≤–Є–ї–Є—Б—М —Б–ї—Г—Е–Є, —З—В–Њ –±–Њ–µ–≤–Є–Ї–Є, –±–Њ—А–Њ–≤—И–Є–µ—Б—П —Б –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ, —Н—В–Є –±–Њ–µ–њ—А–Є–њ–∞—Б—Л –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є, –Є —Б–Є—А–Є–є—Б–Ї–Є–µ –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–Є –і–∞–ґ–µ –њ–Њ–ґ–∞–ї–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞ —Н—В–Њ –≤ –Љ–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ—Л–µ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є. –†–µ–∞–Ї—Ж–Є—П –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є –±—Л–ї–∞ –≤–Њ–ї—И–µ–±–љ–Њ–є. –Ч–≤—Г—З–∞–ї–∞ –Њ–љ–∞ –њ—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ —В–∞–Ї: –љ–∞–Љ –љ–µ–≤–∞–ґ–љ–Њ, –Ї—В–Њ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–Є–ї —Е–Є–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ, –љ–Њ –љ–∞–Љ –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, —З—В–Њ —Н—В–Њ –±—Л–ї–Є –љ–µ –њ–Њ–≤—Б—В–∞–љ—Ж—Л, –∞ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞, —Е–Њ—В—П –њ–Њ–Ї–∞ –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤ —Г –љ–∞—Б –љ–µ—В, –Є –Љ—Л –љ–Є—З–µ–≥–Њ –і–µ–ї–∞—В—М –љ–µ –±—Г–і–µ–Љ, –∞ –±—Г–і–µ–Љ –ґ–і–∞—В—М, –Ї–Њ–≥–і–∞ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –С–∞—И–∞—А–∞ –Р—Б–∞–і–∞ ¬Ђ–њ–µ—А–µ—Б–µ—З–µ—В –Ї—А–∞—Б–љ—Г—О –ї–Є–љ–Є—О¬ї. –Я–Њ—Б–ї–µ —Н—В–Њ–≥–Њ –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є–є –њ—А–µ–Ј–Є–і–µ–љ—В, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –Њ—З–µ–љ—М –њ–Њ–љ—А–∞–≤–Є–ї–Њ—Б—М, –Ї–∞–Ї –Њ–љ –Ј–∞–≤–µ—А–љ—Г–ї –≤ —Б–≤–Њ–µ–є —А–µ—З–Є –њ—А–Њ ¬Ђ–Ї—А–∞—Б–љ—Г—О –ї–Є–љ–Є—О¬ї, —Б–Є–і–µ–ї –Є –ґ–і–∞–ї, –Ї–Њ–≥–і–∞ –ґ–µ –њ—А–Є–і—Г–Љ–∞–љ–љ–∞—П –Є–Љ ¬Ђ–Ї—А–∞—Б–љ–∞—П –ї–Є–љ–Є—П¬ї –±—Г–і–µ—В –њ–µ—А–µ—Б–µ—З–µ–љ–∞ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –њ–Њ–і–Њ–Ј—А–µ–≤–∞—О—Й–Є–Љ–Є —Б–Є—А–Є–є—Ж–∞–Љ–Є. –Я—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ —В–∞–Ї–Є–µ –ґ–µ –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є—П, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б –Љ–µ–љ—М—И–Є–Љ —В—Г–Љ–∞–љ–Њ–Љ, –±—Л–ї–Є —Б–і–µ–ї–∞–љ—Л –≤–Њ–Њ–і—Г—И–µ–≤–ї–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –Њ–і–љ–Њ–њ–Њ–ї–Њ–є –ї—О–±–Њ–≤—М—О —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј–∞–Љ–Є, –≤—Б–µ–≥–і–∞ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞—О—Й–Є–Љ–Є –≤—Б—С –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–µ –∞–љ–≥–ї–Є—З–∞–љ–∞–Љ–Є, –љ–µ–Љ—Ж–∞–Љ–Є –Є –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є –≤—В–Њ—А–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –њ–∞—А—В–љ–µ—А–∞–Љ–Є –њ–Њ –Э–Р–Ґ–Ю. –Ш—В–∞–ї—М—П–љ—Ж—Л, —З–µ–є —Б–њ–µ—Ж–љ–∞–Ј –і–Њ–ї–≥–Њ —Е–Њ—А–Њ–љ–Є–ї ¬Ђ–≥—А—Г–Ј 200¬ї –њ–Њ—Б–ї–µ —Б–Њ–±—Л—В–Є–є –≤ –Ы–Є–≤–Є–Є, –≤–Њ–Ј–і–µ—А–ґ–∞–ї–Є—Б—М. –Ч–∞—В–µ–Љ –љ–∞ –∞—А–µ–љ—Г –≤—Л—И–ї–∞ –≥–Њ–љ–Њ—А–∞—А–љ–∞—П –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞ –≤ –ї–Є—Ж–µ –ґ—Г—А–љ–∞–ї–Є—Б—В–Њ–≤ —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Њ–є –≥–∞–Ј–µ—В—Л ¬Ђ–Ы–µ –Ь–Њ–љ–і¬ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Г–≤–µ—А–µ–љ–љ–Њ —В–∞–Ї –Ј–∞—П–≤–Є–ї–Є, —З—В–Њ –Њ–љ–Є –љ–∞—И–ї–Є –≤ –°–Є—А–Є–Є –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ —Е–Є–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П, –Є –њ–Њ–≤—Б—В–∞–љ—Ж—Л –і–∞–ґ–µ –і–∞–ї–Є –Ј–∞ –љ–µ–≥–Њ –њ–Њ–і–µ—А–ґ–∞—В—М—Б—П. –Я–Њ—Б–ї–µ —Н—В–Њ–≥–Њ —Б–њ–µ–ї —Б–≤–Њ—О –∞—А–Є—О —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Є–є –њ—А–µ–Ј–Є–і–µ–љ—В –Ю–ї–ї–∞–љ–і, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Е–Њ—В—М –Є –њ—Г—В–∞–µ—В –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –≤–Є–Ј–Є—В–Њ–≤ —П–њ–Њ–љ—Ж–µ–≤ —Б –Ї–Є—В–∞–є—Ж–∞–Љ–Є, –љ–Њ –≤ —Е–Є–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –Њ—А—Г–ґ–Є–Є —А–∞–Ј–±–Є—А–∞–µ—В—Б—П —Б –і–µ—В—Б—В–≤–∞, –Є –§—А–∞–љ—Ж–Є—П —В–Њ–ґ–µ –Ј–∞—П–≤–Є–ї–∞: —В–∞–Ї–Є –і–∞ вАФ —Е–Є–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ –±—Л–ї–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Њ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞–Љ–Є –Р—Б–∞–і–∞, –Є –µ–≥–Њ –љ—Г–ґ–љ–Њ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞—В—М. –Я–Њ—В–Њ–Љ –≤—Б–µ –Ї–∞–Ї –њ—А–Њ–Ј—А–µ–ї–Є –Є —Б—В–∞–ї–Є –ї–≥–∞—В—М —Г–ґ–µ —Е–Њ—А–Њ–Љ: –ї—О–і–µ–є —В—А–∞–≤–Є–ї–Є –Ј–∞—А–Є–љ–Њ–Љ! –Т —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П—И–љ–µ–Љ –Є–љ—В–µ—А–≤—М—О –≥–∞–Ј–µ—В–µ ¬Ђ–У–∞—А–і–Є–∞–љ¬ї –Ф—Н–≤–Є–і –Ъ—Н–Љ–µ—А–Њ–љ –Ј–∞—П–≤–Є–ї, —З—В–Њ ¬Ђ–Њ–љ –њ—А–Є–≤–µ—В—Б—В–≤—Г–µ—В –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї—Г—О –Њ–±—К–µ–Ї—В–Є–≤–љ—Г—О –Њ—Ж–µ–љ–Ї—Г¬ї, –Є –≤–Њ–Њ–±—Й–µ вАФ ¬Ђ—Г –љ–∞—Б –њ–Њ–і –љ–Њ—Б–Њ–Љ –ґ–µ—Б—В–Њ–Ї–Є–є –і–Є–Ї—В–∞—В–Њ—А —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–∞–µ—В —Б–≤–Њ–є –љ–∞—А–Њ–і, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Љ—Л –љ–µ –і–Њ–ї–ґ–љ—Л —Б–Є–і–µ—В—М, —Б–ї–Њ–ґ–∞ —А—Г–Ї–Є¬ї. –Т—Л–≤–Њ–і –Љ–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–Є –Ю–Ю–Э –Ї–∞–Ї-—В–Њ —Б—А–∞–Ј—Г –Ј–∞–±—Л–ї—Б—П, –∞ –Њ–љ–∞ –Ј–∞—П–≤–Є–ї–∞, —З—В–Њ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –Ј–∞—А–Є–љ –љ–µ –њ—А–Є–Љ–µ–љ—П–ї–Є. –Ъ–∞–Ї–Њ–≤–∞ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞ –≤ –°–Є—А–Є–Є –Є –љ–∞—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ—Л–љ–µ—И–љ–µ–µ –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Ю–±–∞–Љ—Л –µ–µ –Љ–µ–љ—П–µ—В? –Р–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–∞—П —А–∞–Ј–≤–µ–і–Ї–∞ —Б—З–Є—В–∞–µ—В, —З—В–Њ –њ–Њ–і –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї–µ–Љ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П 40% —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –°–Є—А–Є–Є. –Ґ–µ–Љ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ, —Н—В–Є–Љ —Ж–Є—Д—А–∞–Љ –≤–µ—А–Є—В—Б—П —Б —В—А—Г–і–Њ–Љ, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –Є–Ј –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–≤–µ–і—Л–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –і–Њ –°–Ь–Ш —З–∞—Б—В–Њ –і–Њ—Е–Њ–і–Є—В –ґ–µ–ї–∞–µ–Љ–Њ–µ, –∞ –љ–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ. –Ф–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ вАФ —Н—В–Њ —Б–Њ–Ї—А—Г—И–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –Њ–њ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є –≤ —А–∞–є–Њ–љ–µ —Б–Є—А–Є–є—Б–Ї–Њ-–ї–Є–≤–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Л, —Б–Ї–Њ—А–Њ–µ –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ –Њ—В –±–Њ–µ–≤–Є–Ї–Њ–≤ –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –Р–ї–µ–њ–њ–Њ, –≥–і–µ –±–Њ–µ–≤–Є–Ї–Є –љ–∞—Е–Њ–і—П—В—Б—П –≤ –Њ—З–µ–љ—М —В—П–ґ–µ–ї–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є, –Є —П–≤–љ—Л–µ —Г—Б–њ–µ—Е–Є –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –љ–∞ —Б–µ–≤–µ—А–µ —Б—В—А–∞–љ—Л. –Ґ–Њ –ґ–µ —Б–Њ–Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–µ—В, —З—В–Њ —Н—В–Є–Љ —Г—Б–њ–µ—Е–∞–Љ —Б–Є—А–Є–є—Б–Ї–Њ–µ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –Њ–±—П–Ј–∞–љ–Њ –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є –Ш—А–∞–љ–∞ –Є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –•–µ—Б–±–Њ–ї–ї–∞. –Э–Њ, –њ–Њ –µ–≥–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—О, –≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї–Њ–Љ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –†–Њ—Б—Б–Є—П, –Є –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —Н—В–Њ—В —Д–∞–Ї—В –Ј–∞—Б—В–∞–≤–Є–ї –Ю–±–∞–Љ—Г –њ–µ—А–µ–є—В–Є –≤ –љ–Њ–≤—Г—О —Д–∞–Ј—Г –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є —Б–Є—А–Є–є—Б–Ї–Є–Љ –њ–Њ–≤—Б—В–∞–љ—Ж–∞–Љ. –Ю–і–Є–љ –Є–Ј –∞–љ–Њ–љ–Є–Љ–љ—Л—Е –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Њ–≤ –∞–≥–µ–љ—В—Б—В–≤–∞ ¬Ђ–С–ї—Г–Љ–±–µ—А–≥¬ї —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–µ—В, —З—В–Њ –Ю–±–∞–Љ–∞ —Б–µ–Ї—А–µ—В–љ—Л–Љ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–Њ–Љ –њ–Њ—А—Г—З–Є–ї –¶–†–£ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є—В—М –і–Њ—Б—В–∞–≤–Ї—Г –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ —Б—В—А–µ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П —Б–Є—А–Є–є—Б–Ї–Є–Љ –±–Њ–µ–≤–Є–Ї–∞–Љ. –≠—В–Є–Љ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ–Љ –Ю–±–∞–Љ–∞ —Б—В–∞–≤–Є—В —Б–≤–Њ—О –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є—О, –і–∞ –Є –≤—Б—О –Ч–∞–њ–∞–і–љ—Г—О –Х–≤—А–Њ–њ—Г –≤ –≤–µ—Б—М–Љ–∞ —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ. –Ф–µ–ї–Њ –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –њ–Њ —Н—В–Њ–Љ—Г –њ—А–Є–Ї–∞–Ј—Г –Р–Љ–µ—А–Є–Ї–µ –њ—А–Є–і–µ—В—Б—П –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞—В—М —В–µ–Љ, –Ї—В–Њ –≤–Њ—О–µ—В –њ—А–Њ—В–Є–≤ –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є –Ї–Њ–∞–ї–Є—Ж–Є–Є –≤ –Ь–∞–ї–Є. –Я—А–Є—З–µ–Љ, –Ї–∞–Ї —Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ –Ј–∞–Љ–µ—В–Є–ї –њ—А–µ–Ј–Є–і–µ–љ—В –Я—Г—В–Є–љ –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ –љ–µ–і–∞–≤–љ–µ–Љ –Є–љ—В–µ—А–≤—М—О –Ї–∞–љ–∞–ї—Г Russia Today, —Н—В–Њ –≤ –±—Г–Ї–≤–∞–ї—М–љ–Њ–Љ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ –Њ–і–љ–Є –Є —В–µ –ґ–µ –ї—О–і–Є, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –Њ–љ–Є –≤–Њ—О—О—В –≤ –°–Є—А–Є–Є, –Ј–∞–≤—В—А–∞ —Г–ґ–µ –≤ –Ь–∞–ї–Є, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ —Б–љ–Њ–≤–∞ –Љ–Њ–≥—Г—В –њ–Њ—П–≤–Є—В—М—Б—П –≤ –°–Є—А–Є–Є. –Х—Й–µ –±–Њ–ї–µ–µ –љ–µ–Њ–і–љ–Њ–Ј–љ–∞—З–љ–Њ –≤—Л–≥–ї—П–і–Є—В –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –Ш–Ј—А–∞–Є–ї—П. –≠—В–Њ –і–ї—П –°–®–Р –≤–Њ–є–љ–∞ –Є–і–µ—В ¬Ђ–≥–і–µ-—В–Њ –Ј–∞ –Њ–Ї–µ–∞–љ–Њ–Љ¬ї, –∞ –і–ї—П –Ш–Ј—А–∞–Є–ї—П вАФ —В—Г—В, –Ј–∞ –≥–Њ—А–Ї–Њ–є. –Ш –њ—Г–ї–Є –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –і–Њ–ї–µ—В–∞—О—В, –Є –≤–Њ–Њ–±—Й–µвА¶ –Ф–∞, –Ш–Ј—А–∞–Є–ї—М —Б—З–Є—В–∞–µ—В —Б–µ–±—П —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —Б–Њ—О–Ј–љ–Є–Ї–Њ–Љ –°–®–Р –љ–∞ –С–ї–Є–ґ–љ–µ–Љ –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї–µ, –љ–Њ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –Ј–∞–Њ–Ї–µ–∞–љ—Б–Ї–Є–є –њ–∞—В—А–Њ–љ –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В –≤—Б–µ—А—М–µ–Ј –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞—В—М —В–µ–Љ, –Ї—В–Њ –≤–Є–і–Є—В –≤ –Ш–Ј—А–∞–Є–ї–µ –Ј–ї–µ–є—И–µ–≥–Њ –≤—А–∞–≥–∞. –Ъ—Б—В–∞—В–Є, –°–®–Р –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞—О—В –њ–Њ–і—З–µ—А–Ї–Є–≤–∞—В—М, —З—В–Њ –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е –њ–Њ–і–≤–Є–ґ–µ–Ї –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –љ–µ –љ–∞–±–ї—О–і–∞–µ—В—Б—П, –Є —Г—З–∞—Б—В–Є—П –љ–∞–Ј–µ–Љ–љ—Л—Е —Б–Є–ї –≤ –°–Є—А–Є–Є –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Ж—Л –њ–Њ–Ї–∞ –љ–µ –њ–ї–∞–љ–Є—А—Г—О—В. –Э–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ –≤—Л–≥–ї—П–і–Є—В –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–µ –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј –≤–Є–і–љ—Л—Е –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–Њ–≤ –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –љ–Є –љ–∞ –Р–ї—П—Б–Ї–µ, –љ–Є –љ–∞ –У–∞–≤–∞–є—П—Е –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Л–µ —Б–Є–ї—Л –°–®–Р —Б–≤–Њ–µ–є –Њ–±—Л—З–љ–Њ–є –і–Є—Б–ї–Њ–Ї–∞—Ж–Є–Є –љ–µ –њ–Њ–Љ–µ–љ—П–ї–Є –Є –љ–Є –Ї –Ї–∞–Ї–Њ–є –њ–µ—А–µ–±—А–Њ—Б–Ї–µ –љ–µ –≥–Њ—В–Њ–≤—П—В—Б—П. –£—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –±–µ—Б–њ–Њ–ї–µ—В–љ–Њ–є –Ј–Њ–љ—Л —В–Њ–ґ–µ –љ–µ –њ–ї–∞–љ–Є—А—Г–µ—В—Б—П, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –њ–Њ–Ї–∞ —Б—З–Є—В–∞–µ—В—Б—П, —З—В–Њ —Ж–µ–љ–∞ —Н—В–Њ–≥–Њ –Љ–µ—А–Њ–њ—А–Є—П—В–Є—П –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –љ–µ–њ—А–Є–µ–Љ–ї–µ–Љ–Њ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–є –і–ї—П –°–®–Р. –°–®–Р —Г–ґ–µ –і–∞–≤–љ–Њ –Є —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—В –≤—Б—П–Ї–Њ–є –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ—Б—В–Є –†–Њ—Б—Б–Є–Є –≤ —Н—В–Њ–Љ —А–µ–≥–Є–Њ–љ–µ. –Э–µ–і–∞–≤–љ–Њ –Ю–Ю–Э –Њ—В–Ї–ї–Њ–љ–Є–ї–∞ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Њ –њ–Њ—Б—Л–ї–Ї–Є –Љ–Є—А–Њ—В–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–љ—В–Є–љ–≥–µ–љ—В–∞ –љ–∞ –У–Њ–ї–∞–љ—Б–Ї–Є–µ –≤—Л—Б–Њ—В—Л –≤–Ј–∞–Љ–µ–љ –∞–≤—Б—В—А–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –±–∞—В–∞–ї—М–Њ–љ–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤ —Н—В–Є –і–љ–Є –≤—Л–≤–Њ–і–Є—В—Б—П –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б –∞–Ї—В–Є–≤–љ—Л–Љ–Є –±–Њ–µ–≤—Л–Љ–Є –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П–Љ–Є –≤ —А–∞–є–Њ–љ–µ –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–∞ –љ–∞ –У–Њ–ї–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –≤—Л—Б–Њ—В–∞—Е. –†–∞–љ–µ–µ —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є–є –њ—А–µ–Ј–Є–і–µ–љ—В –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –†–Њ—Б—Б–Є—П –≤–Њ–Ј–і–µ—А–ґ–Є—В—Б—П –Њ—В –љ–µ–Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П –Ї–Њ–љ—В—А–∞–Ї—В–Њ–≤ –љ–∞ –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Ї—Г –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г –°–Є—А–Є–Є. –Я–Њ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –і–∞–љ–љ—Л–Љ, —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В—М –Ї–Њ–љ—В—А–∞–Ї—В–Њ–≤ –њ—А–µ–≤—Л—И–∞–µ—В –і–≤–∞ –Љ–Є–ї–ї–Є–∞—А–і–∞ –і–Њ–ї–ї–∞—А–Њ–≤. –Э–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–љ–µ–є –љ–∞–Ј–∞–і –Ф–ґ–Њ–љ –Ъ–µ—А—А–Є –≤ –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј —Б–≤–Њ–Є—Е –њ–Њ–µ–Ј–і–Њ–Ї –Ј–∞—П–≤–Є–ї, —З—В–Њ –Љ–µ–ґ–і—Г –°–®–Р –Є –†–Њ—Б—Б–Є–µ–є ¬Ђ–љ–µ—В –Є–і–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —А–∞–Ј–љ–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–є¬ї. –Т —Н—В–Њ–Љ –Ї–Њ–љ—В–µ–Ї—Б—В–µ —Б—В–∞–љ–Њ–≤—П—В—Б—П –±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ–љ—П—В–љ—Л–Љ–Є ¬Ђ–Њ—А–∞–љ–ґ–µ–≤—Л–µ¬ї –њ—А–Њ—В–µ—Б—В—Л –≤ –Ґ—Г—А—Ж–Є–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П –њ–Њ–Љ–µ–љ—П–ї–∞ —Б–≤–Њ–µ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ –Ї —Б–Њ–±—Л—В–Є—П–Љ –≤ –°–Є—А–Є–Є, –Њ—Б—Г–і–Є–ї–∞ –њ–Є—А–∞—В—Б–Ї–Є–µ –љ–∞–ї–µ—В—Л –љ–∞ –°–Є—А–Є—О –Є–Ј—А–∞–Є–ї—М—Б–Ї–Є—Е —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В–Њ–≤, —Г–ґ–µ –љ–µ —Б–њ–µ—И–Є—В –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞—В—М —Б–Є—А–Є–є—Б–Ї—Г—О –Њ–њ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—О –Є —Б—В–∞–ї–∞ –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В—М –µ—Й–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —А–Њ–±–Ї–Є–µ —И–∞–≥–Є, –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–µ –љ–∞ —Б–±–ї–Є–ґ–µ–љ–Є–µ —Б –†–Њ—Б—Б–Є–µ–є. –Э–µ –Љ–Њ–≥—Г –љ–µ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —З—В–Њ –≤—Б–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –њ–Њ–і–Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—М–љ—Л—Е –°–®–Р —Б–Є–ї –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ—Л –љ–∞ —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞ –Ї–∞–Ї –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В–∞. –≠—В–Њ –Њ–±—К—П—Б–љ—П–µ—В—Б—П —В–µ–Љ, —З—В–Њ –≤—Б—П–Ї–Њ–µ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ–Љ –і–Њ —В–µ—Е –њ–Њ—А, –њ–Њ–Ї–∞ –Љ–Њ–ґ–µ—В –Њ—В—Б—В–∞–Є–≤–∞—В—М —Б–≤–Њ–є —Б—Г–≤–µ—А–µ–љ–Є—В–µ—В, –∞ –≤–Њ—В —Н—В–Њ –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј –Є –љ–µ –љ—А–∞–≤–Є—В—Б—П –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є –Ї–Њ–∞–ї–Є—Ж–Є–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –±–µ–Ј–і—Г–Љ–љ–Њ –≤—В–Њ—А–≥–∞–µ—В—Б—П –≤ –і—А—Г–≥–Є–µ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞, —Б—В–∞—А–∞—П—Б—М –Ј–∞–Ї—А–µ–њ–Є—В—М –≤ –љ–Є—Е —Б–≤–Њ–µ –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ. –Ф–∞, –≤ –Х–≥–Є–њ—В–µ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –њ—А–µ–Ј–Є–і–µ–љ—В, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤ –°–®–Р –ґ–Є–ї –і–Њ–ї—М—И–µ, —З–µ–Љ –≤ –Х–≥–Є–њ—В–µ. –Ф–∞, –Њ–њ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є –њ—А–µ–Љ—М–µ—А –°–Є—А–Є–Є —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Б–Є—А–Є–є—Ж–µ–Љ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є, –∞ —В–∞–Ї –≤—Б—О —Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ—Г—О –ґ–Є–Ј–љ—М –њ—А–Њ—А–∞–±–Њ—В–∞–ї –≤ –Ґ–µ—Е–∞—Б–µ. –Т—Б—С —Н—В–Њ —В–∞–Ї, –љ–Њ –°–®–Р –љ–µ —Е–≤–∞—В–Є–ї–Њ –і–∞–ґ–µ 10 –ї–µ—В, —З—В–Њ–±—Л –њ—А–Є–≤–µ—Б—В–Є –Ї –≤–ї–∞—Б—В–Є –≤ –Ш—А–∞–Ї–µ –ї—О–і–µ–є, –±–µ–Ј–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Њ—З–љ–Њ –ї–Њ—П–ї—М–љ—Л—Е –Ч–∞–њ–∞–і—Г. –°–µ–≥–Њ–і–љ—П –Ш—А–∞–Ї –≤ —Е–Њ—А–Њ—И–Є—Е –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П—Е —Б –Ш—А–∞–љ–Њ–Љ, –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–µ—В –°–Є—А–Є–Є, –∞ –Ї–Є—В–∞–є—Ж—Л —В–µ—Б–љ—П—В –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Ж–µ–≤ –≤ –µ–≥–Њ –љ–µ—Д—В—П–љ–Њ–є –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є. –Ь–љ–Њ–≥–Њ–ї–µ—В–љ—П—П –Њ–Ї–Ї—Г–њ–∞—Ж–Є—П –Р—Д–≥–∞–љ–Є—Б—В–∞–љ–∞ —В–Њ–ґ–µ –љ–µ –і–∞–ї–∞ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б–і–≤–Є–≥–Њ–≤. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –љ–Є–Ї—В–Њ –Ј–∞—А–∞–љ–µ–µ –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞—В—М, –љ–∞ –∞–ї—В–∞—А—М –Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ –±–Њ–≥–∞ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Њ —Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Є—Е –ґ–Є–Ј–љ–µ–є –≤ —Н—В–Њ–є –∞—А–∞–±—Б–Ї–Њ–є —Б—В—А–∞–љ–µ. –Ф–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–µ –љ–∞ –Њ–њ–µ—А–µ–ґ–µ–љ–Є–µ –Ј–∞–њ–∞–і–љ—Л–µ —Б–њ–µ—Ж—Б–ї—Г–ґ–±—Л —Г–ґ–µ –≥–Њ—В–Њ–≤—П—В ¬Ђ—Д—А–Њ–љ—В —А–∞–±–Њ—В¬ї –±—Г–і—Г—Й–Є–Љ –±–µ–Ј—А–∞–±–Њ—В–љ—Л–Љ —Б–Є—А–Є–є—Б–Ї–Є–Љ –±–Њ–µ–≤–Є–Ї–∞–Љ. –Ш–Љ –љ—Г–ґ–љ–Њ –±—Г–і–µ—В ¬Ђ—В—А—Г–і–Њ—Г—Б—В—А–Њ–Є—В—М¬ї –љ–µ –Љ–µ–љ—М—И–µ 20 —В—Л—Б—П—З –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л—Е –±–∞–љ–і–Є—В–Њ–≤ –Є —Г–±–Є–є—Ж, –Є –њ–Њ—З–µ–Љ—Г-—В–Њ —Б—З–Є—В–∞–µ—В—Б—П, —З—В–Њ –ї—Г—З—И–µ–µ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ —Н—В–Є —А–µ–±—П—В–Ї–Є —Б–Љ–Њ–≥—Г—В –љ–∞–є—В–Є –љ–∞ —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–Љ –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј–µ –Є –≤ –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Р–Ј–Є–Є. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –ї—О–±–Њ–µ –њ–Њ—Б—П–≥–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –љ–∞ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ –Ї–∞–Ї —В–∞–Ї–Њ–≤–Њ–µ, –љ–∞ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –Њ—А–≥–∞–љ—Л –≤ –љ–∞—И–µ–є —Б—В—А–∞–љ–µ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б–Љ–µ–ї–Њ –њ—А–Є—А–∞–≤–љ—П—В—М –Ї –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П–Љ ¬Ђ–њ—П—В–Њ–є –Ї–Њ–ї–Њ–љ–љ—Л¬ї. –Х—Б–ї–Є –Љ—Л —Е–Њ—В–Є–Љ, —З—В–Њ–±—Л –Ј–∞–≤—В—А–∞ –љ–∞—Б –Ј–∞—Й–Є—В–Є–ї–Є –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Л–µ —Б–Є–ї—Л, –Љ—Л –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –Є—Е –Ј–∞—Й–Є—Й–∞—В—М –≤—Б–µ–Љ–Є —Б–Є–ї–∞–Љ–Є —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П. –Ъ—А–µ–∞—В–Є–≤–љ—Л–є –Ї–ї–∞—Б—Б –љ–µ –Ј–∞—Б–ї–Њ–љ–Є—В —Б–≤–Њ–µ–є –≥—А—Г–і—М—О —Б—В—А–∞–љ—Г, –µ—Б–ї–Є –Њ–љ —Б—З–Є—В–∞–µ—В, —З—В–Њ ¬Ђ–Є–Ј –љ–µ–µ –њ–Њ—А–∞ –≤–∞–ї–Є—В—М¬ї. –С–Є—В—М –≤—А–∞–≥–∞ –њ—А–Є–і–µ—В—Б—П –љ–µ –њ–Њ–і —А–∞–і—Г–ґ–љ—Л–Љ —Д–ї–∞–ґ–Ї–Њ–Љ –Ы–У–С–Ґ —Б–Њ–Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞, –Є –±—Г–і—Г—В –µ–≥–Њ –±–Є—В—М –љ–µ –љ–∞–≤–∞–ї—М–љ—Л–µ, –љ–µ –љ–µ–Љ—Ж–Њ–≤—Л, –љ–µ –≤–µ–љ–µ–і–Є–Ї—В–Њ–≤—Л, –Є–ї–Є, –љ–µ –Ї –љ–Њ—З–Є –±—Г–і–µ—В —Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ, —И–µ–љ–і–µ—А–Њ–≤–Є—З–Є, –Є —Г–ґ, –љ–µ –і–∞–є –С–Њ–≥, –Љ–∞—И–Є –≥–µ—Б—Б—Б–µ–љ –Є–ї–Є –ї–µ—Б–љ–µ–≤—Б–Ї–Є–µ. –°—В—А–∞–љ—Г –±—Г–і—Г—В –Ј–∞—Й–Є—Й–∞—В—М –љ–∞—И–Є —Б –≤–∞–Љ–Є –і–µ—В–Є, –Є —А–∞–Ј–Њ—А—Г–ґ–∞—В—М –Є—Е –њ–µ—А–µ–і –ї–Є—Ж–Њ–Љ –Ї–Њ–≤–∞—А–љ–µ–є—И–µ–≥–Њ –≤—А–∞–≥–∞ вАФ —Н—В–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–µ –і–µ–ї–Њ. –Х—Б–ї–Є –Љ—Л —Е–Њ—В–Є–Љ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є—В—М —Б—Г–≤–µ—А–µ–љ–Є—В–µ—В, —В–Њ –Љ—Л –і–Њ–ї–ґ–љ—Л —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є—В—М –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –±–µ–Ј –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞ –≤—Б–µ –љ–∞—И–Є –њ—А–∞–≤–∞ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –±—Г–і—Г—В —Б—В–Њ–Є—В—М, –∞ ¬Ђ—В–Њ–Љ–∞–≥–∞–≤–Ї¬ї –Њ—Б—В–∞–љ–µ—В—Б—П ¬Ђ—В–Њ–Љ–∞–≥–∞–≤–Ї–Њ–Љ¬ї, –і–∞–ґ–µ –µ—Б–ї–Є –љ–∞ –љ–µ–≥–Њ –њ–Њ–≤—П–Ј–∞—В—М –±–µ–ї—Г—О –ї–µ–љ—В–Њ—З–Ї—Г. 14 –Є—О–љ—П 2013 –≥. 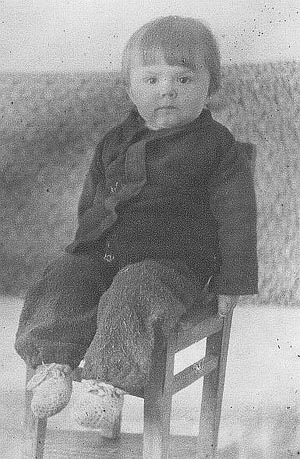 –Ъ–Њ–≥–і–∞ –љ–µ —Е–≤–∞—В–∞–µ—В —Б–ї–Њ–≤ –Ъ–Њ–≥–і–∞ –љ–µ —Е–≤–∞—В–∞–µ—В —Б–ї–Њ–≤–Ш–і—Г—В –і–Њ–ґ–і–Є, –Є —Б–≤–µ—В–Є—В—Б—П –ї–Є—Б—В–≤–∞ –Ъ–∞–Ї–Є–Љ-—В–Њ –њ–µ—А–≤–Њ–Ј–і–∞–љ–љ—Л–Љ, –Љ—П–≥–Ї–Є–Љ —Б–≤–µ—В–Њ–Љ, –Ш —П —Е–Њ—З—Г —Б–µ–є—З–∞—Б –њ–Є—Б–∞—В—М –Њ–± —Н—В–Њ–Љ, –Ъ–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ —Н—В–Њ —В–∞–є–љ–∞ –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–∞. –Ю–Ї–Є–љ—Г—В—М –≤–Ј–≥–ї—П–і–Њ–Љ —Ж–µ–ї—Л–є –Љ–Є—А –љ–µ–ї—М–Ј—П, –Т–µ–і—М –Њ–љ –±–µ–Ј —В–∞–є–љ—Л –ґ–Є—В—М —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В, –Ш —Б –Ї–∞–ґ–і—Л–Љ –і–љ–µ–Љ –Њ—В –љ–∞—Б –Њ–љ –±—Г–і–µ—В —Б—В—А–Њ–ґ–µ –°–Ї—А—Л–≤–∞—В—М, –Ј–∞—З–µ–Љ –њ—А–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–∞ —Б—В–µ–Ј—П. –Ч–∞—З–µ–Љ –Њ–љ–∞ —В–Њ –Ї—А—Г–ґ–Є—В, —В–Њ –≤–µ–і–µ—В –Ъ —В–∞–Ї–Є–Љ –≤–µ—А—И–Є–љ–∞–Љ, –≥–і–µ –і—Л—И–∞—В—М –љ–µ–њ—А–Њ—Б—В–Њ, –У–і–µ –Ј–∞ —Б–њ–Є–љ–Њ–є —Г–ґ–µ –љ–µ —Б–ї—Л—И–Є—И—М –њ–Њ—Б—В—Г–њ—М –Ґ–µ—Е, –Ї—В–Њ –ґ–µ–ї–∞–µ—В –≤—Л—А–≤–∞—В—М—Б—П –≤–њ–µ—А–µ–і. –Э–Њ –љ–µ –і–∞–љ–Њ. –•–Њ—В—П –Њ–љ–Є –љ—Г–ґ–љ—Л, –І—В–Њ–±—Л –Њ–і–љ–∞–ґ–і—Л –Љ–љ–µ –љ–µ —А–∞—Б—Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М, –І—В–Њ–±—Л –ґ–Є–ї–Њ—Б—М, –ї—О–±–Є–ї–Њ—Б—М, –і–∞–ґ–µ –њ–µ–ї–Њ—Б—М, –І—В–Њ–± —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М, –Ї–∞–Ї –Љ–∞–ї–Њ –љ–∞–Љ —Б—В—А–∞–љ—Л, –І—В–Њ–±—Л –≤–Љ–µ—Б—В–Є—В—М –≤—Б–µ–≥–Њ –ї–Є—И—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞—Б –Ш –≤—Б—С, —З—В–Њ –Љ—Л —Б —В–Њ–±–Њ—О –њ–Њ–≤–Є–і–∞–ї–Є, –Ш —В–µ вАФ –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ –±–µ–Ј—Г–і–µ—А–ґ–љ—Л–µ –і–∞–ї–Є, –Ґ–µ, –і–ї—П –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –љ–µ —Е–≤–∞—В–Є–ї–Њ —Д—А–∞–Ј. 14 –Є—О–љ—П 2013 –≥.
15.06.201310:2615.06.2013 10:26:23
0
15.06.201310:1515.06.2013 10:15:44
 –Т –і–ґ–∞–Ј–µ —Г –Ъ–∞–љ–і–∞—В–∞ –Є–≥—А–∞–ї–Є –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–ї–µ–њ–љ—Л–µ –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞: –љ–∞ —А–Њ—П–ї–µ вАФ –±—Г–і—Г—Й–Є–є –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–є –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—В–Њ—А –Є –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–љ—В –Ъ–∞–ї—М–≤–∞—А—Б–Ї–Є–є, –љ–∞ —В—А—Г–±–µ вАФ –≤–Є—А—В—Г–Њ–Ј –Ъ–Њ—Б—В—П –Э–Њ—Б–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –≤ –љ–∞—А–Њ–і–µ –≤–µ–ї–Є—З–∞–ї–Є ¬Ђ–Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–є —В—А—Г–±–Њ–є¬ї, –љ–∞ –Ї–Њ–љ—В—А–∞–±–∞—Б–µ вАФ –Т–Є—В–∞–ї–Є–є –Я–Њ–љ–∞—А–Њ–≤—Б–Ї–Є–є, –њ–∞–њ–∞ –±—Г–і—Г—Й–µ–є —Н—Б—В—А–∞–і–љ–Њ–є –Ј–≤–µ–Ј–і—Л, –∞ –љ–∞ —Б–∞–Ї—Б–Њ—Д–Њ–љ–µ вАФ —Б–∞–Љ –Ъ–∞–љ–і–∞—В. –° –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –≤ –Ј–∞–Љ–Ї–µ —Н—В–Њ–≥–Њ –љ–µ–Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –і–ґ–∞–Ј–∞ –љ–∞—И–Є —В–∞–љ—Ж–µ–≤–∞–ї—М–љ—Л–µ –≤–µ—З–µ—А–∞ –њ—А–Є–Њ–±—А–µ–ї–Є —И–Є—А–Њ–Ї—Г—О –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В—М вАФ –і–µ–≤–Њ—З–Ї–Є –ї–Њ–Љ–Є–ї–Є—Б—М –љ–∞ –љ–Є—Е (–Љ–∞–ї—М—З–Є–Ї–Є –±—Л–ї–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–≤–Њ–Є вАФ –Ї—Г—А—Б–∞–љ—В—Л). –Ґ–∞–љ—Ж–µ–≤–∞–ї—М–љ—Л–є –Ј–∞–ї –≤—Б–µ–≥–і–∞ –±—Л–ї –њ–Њ–ї–Њ–љ, –∞ –°–Њ—Д—М—П –Љ–∞—Б—В–µ—А—Б–Ї–Є —А–µ—И–∞–ї–∞ –Ј–∞–і–∞—З—Г –њ—А–Њ–і–∞–ґ–Є –±–Є–ї–µ—В–Њ–≤ –Є –Њ–њ–ї–∞—В—Л –Њ—А–Ї–µ—Б—В—А–∞ вАФ —Н—В–Њ –≤–µ–і—М –±—Л–ї–∞ –Ј–∞–њ—А–µ—Й–µ–љ–љ–∞—П –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М, –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–≤—И–∞—П—Б—П –±–µ–Ј —Г—З–∞—Б—В–Є—П —Д–Є–љ–∞–љ—Б–Њ–≤—Л—Е –Њ—А–≥–∞–љ–Њ–≤, –Є–≥—А–∞–ї –Љ—Г–Ј—Л–Ї—Г –У–ї–µ–љ–∞ –Ь–Є–ї–ї–µ—А–∞ –Є –і—А—Г–≥–Є–µ –і–ґ–∞–Ј–Њ–≤—Л–µ —И–µ–і–µ–≤—А—Л. –Т—А–µ–Љ—П –Њ—В –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Ъ–∞–љ–і–∞—В –і–µ–ї–∞–ї —Б–Њ–ї—М–љ—Л–µ –љ–Њ–Љ–µ—А–∞. –Ш–Ј—П—Й–љ—Л–є, —Б–Њ –≤–Ї—Г—Б–Њ–Љ –Њ–і–µ—В—Л–є –Є –≤–µ—Б—М –њ–Њ—Е–Њ–ґ–Є–є –љ–∞ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј —Б–Њ–ї–Є—Б—В–Њ–≤ –Њ—А–Ї–µ—Б—В—А–∞ –У–ї–µ–љ–∞ –Ь–Є–ї–ї–µ—А–∞, –Њ–љ –њ–Њ–і—Е–Њ–і–Є–ї –Ї —А–∞–Љ–њ–µ –Є –Є–Ј–і–∞–≤–∞–ї —Б–≤–Њ–Є–Љ —Б–∞–Ї—Б–Њ—Д–Њ–љ–Њ–Љ —З–∞—А—Г—О—Й–Є–µ –Ј–≤—Г–Ї–Є, –Є–≥—А–∞—П –Ї–ї–∞—Б—Б–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –і–ґ–∞–Ј, –Є–ї–Є –Ї–∞–Ї—Г—О-–љ–Є–±—Г–і—М –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ–њ—Г–ї—П—А–љ—Г—О –Љ–µ–ї–Њ–і–Є—О, –Є–ї–Є –њ—А–Њ—Б—В–Њ –і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–Є—А—Г—П —Б–≤–Њ–є –≤—Л—Б–Њ–Ї–Є–є –Ї–ї–∞—Б—Б —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О –Є–Љ–њ—А–Њ–≤–Є–Ј–∞—Ж–Є–є. –Ш –±—Л–≤–∞–ї –љ–∞ —Н—В–Є—Е –≤–µ—З–µ—А–∞—Е –µ—Й–µ –Њ–і–Є–љ –Ї–Њ—А–Њ–љ–љ—Л–є –љ–Њ–Љ–µ—А: –Ї—Г—А—Б–∞–љ—В –њ—П—В–Њ–≥–Њ –Ї—Г—А—Б–∞ –°–∞–љ—П –Ъ–≤–∞—И–µ–љ–Ї–Є–љ –≤—Л—Е–Њ–і–Є–ї –љ–∞ —Б—Ж–µ–љ—Г –Є –≤ —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є –Њ—А–Ї–µ—Б—В—А–∞ –њ–µ–ї –љ–∞ –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ —П–Ј—Л–Ї–µ ¬Ђ–І–∞—В–∞–љ–Њ–≥—Г —З—Г-—З—Г¬ї. –Я–µ–ї —В–Њ—З—М-–≤-—В–Њ—З—М, –Ї–∞–Ї —Н—В–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ—П–ї–Њ—Б—М –≤ , –Є —Б—А—Л–≤–∞–ї –±—Г—А–љ—Л–µ –∞–њ–ї–Њ–і–Є—Б–Љ–µ–љ—В—Л. (–Ы–µ—В —З–µ—А–µ–Ј –і–≤–∞–і—Ж–∞—В—М –Љ–љ–µ –і–Њ–≤–µ–ї–Њ—Б—М –Њ–±—Й–∞—В—М—Б—П —Б –°–∞–љ–µ–є –њ–Њ —Б–ї—Г–ґ–µ–±–љ—Л–Љ –і–µ–ї–∞–Љ, –Є —П —Б —Г–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Є–µ–Љ –љ–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї –µ–Љ—Г –Њ —В–Њ–Љ, –Ї–∞–Ї –Њ–љ –Ј–і–Њ—А–Њ–≤–Њ –њ–µ–ї –≤ –Ї—Г—А—Б–∞–љ—В—Б–Ї–Є–µ –≥–Њ–і—Л, вАФ –Њ–љ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Г–ї—Л–±–∞–ї—Б—П –≤ –Њ—В–≤–µ—В, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –і–∞–≤–љ–Њ —Г–ґ–µ –љ–µ –њ–µ–ї).  вА¶ –ѓ —Б –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ —Г–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Є–µ–Љ –њ—А–Є–љ—П–ї—Б—П –Ј–∞ —А–∞–±–Њ—В—Г, –љ–µ –њ–Њ–і–Њ–Ј—А–µ–≤–∞—П, —З—В–Њ –і–∞–љ–љ–∞—П –Љ–љ–µ —В–µ–Љ–∞ –і–Є–њ–ї–Њ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–µ–Ї—В–∞ вАФ —Н—В–Њ –њ–µ—А—Б—В —Б—Г–і—М–±—Л: –±–Њ–ї–µ–µ —В—А–Є–і—Ж–∞—В–Є –ї–µ—В —П –±—Г–і—Г –њ–Њ—В–Њ–Љ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—В—М—Б—П —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є–µ–Љ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е —А–∞–Ї–µ—В–Њ–љ–Њ—Б—Ж–µ–≤ —А–∞–Ј–љ—Л—Е —В–Є–њ–Њ–≤вА¶¬ї –Ф—А—Г–≥–Є–Љ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ –≤ –Ї–Њ–њ–Є–ї–Ї—Г –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Ј–∞–Љ–Ї–∞ —П–≤–ї—П—О—В—Б—П –Ї—А–∞—В–Ї–Є–µ –Ј–∞–Љ–µ—В–Ї–Є –Љ–Њ–µ–≥–Њ –±—А–∞—В–∞. ¬Ђ–Ъ–∞–Ї –љ–Є —Б—В—А–∞–љ–љ–Њ, –љ–Њ –ґ–Є–≤—П –≤ –Я–Є—В–µ—А–µ —Б 1945 –≥–Њ–і–∞, —П –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –≤–Њ –і–≤–Њ—А–µ –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Љ–Ї–∞ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ, –≥–і–µ-—В–Њ –≤ –Љ–∞—А—В–µ 1973 –≥–Њ–і–∞, –≤ –њ–Њ–Є—Б–Ї–∞—Е –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Љ–µ—Б—В–∞ —А–∞–±–Њ—В—Л. –Ъ —В–Њ–Љ—Г –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є —П —А–∞–±–Њ—В–∞–ї –≤ –¶–Я–Ъ–С —Е–Є–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–∞—И–Є–љ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є—П —Г–ґ–µ —И–µ—Б—В—М –ї–µ—В –Є —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї, —З—В–Њ –љ—Г–ґ–љ–Њ –њ–Њ–Љ–µ–љ—П—В—М –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї—Г, —З—В–Њ–±—Л –љ–µ –Ј–∞–Ї–Є—Б–љ—Г—В—М. –Я–Њ–і—Е–Њ–і—П –Ї –Ј–∞–Љ–Ї—Г, —П –Ј–љ–∞–ї, —З—В–Њ —В–∞–Љ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–є, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Є –њ—А–Њ–µ–Ї—В–љ—Л—Е, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Љ–µ–љ—П –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞–ї–Є, –љ–Њ –Ї–Њ–≥–і–∞ —П –±–µ—Б–њ—А–µ–њ—П—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –≤–Њ—И–µ–ї –≤–Њ –і–≤–Њ—А –Ј–∞–Љ–Ї–∞, —В–Њ –±—Л–ї –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ, –≤–Њ- –њ–µ—А–≤—Л—Е, –љ–∞–ї–Є—З–Є–µ–Љ —З–µ—В—Л—А–µ—Е –њ–Њ–і—К–µ–Ј–і–Њ–≤, –∞ –≤–Њ вАУ –≤—В–Њ—А—Л—Е, –Њ–±–Є–ї–Є–µ–Љ –љ–∞ —Б—В–µ–љ–∞—Е —Г –њ–Њ–і—К–µ–Ј–і–Њ–≤ —В–∞–±–ї–Є—З–µ–Ї —Б –љ–∞–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –≤ –љ–Є—Е —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–∞–µ–Љ—Л—Е. –Т–Є–і–Є–Љ–Њ, –≤ —Б–Є–ї—Г —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–∞, —П –љ–∞—З–∞–ї –Њ–±—Е–Њ–і —Б –њ—А–∞–≤–Њ–≥–Њ –њ–Њ–і—К–µ–Ј–і–∞. –Ґ–∞–±–ї–Є—З–µ–Ї –±—Л–ї–Њ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ, –љ–Њ —П –Њ–±—А–∞—В–Є–ї –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –Є –Ј–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–і–љ—Г ¬Ђ–¶–Э–Ґ–Ш¬ї (–¶–µ–љ—В—А –љ–∞—Г—З–љ–Њ-—В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Є). –Я–Њ–і—К–µ–Ј–і –±—Л–ї –Њ—З–µ–љ—М –њ–Њ–њ—Г–ї—П—А–µ–љ —Г –≥–Њ—А–Њ–ґ–∞–љ - –ї—О–і–Є —Б–љ–Њ–≤–∞–ї–Є –≤–њ–µ—А–µ–і –Є –љ–∞–Ј–∞–і –±–µ—Б–њ—А–µ—А—Л–≤–љ–Њ, –љ–Њ —П —В—Г–і–∞ –љ–µ –њ–Њ—И–µ–ї. –Э–∞ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–Љ –њ–Њ–і—К–µ–Ј–і–µ –≤–Є—Б–µ–ї–∞ –і–Њ—Б–Ї–∞ —Б –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є ¬Ђ–Ы–µ–љ–≥–Є–њ—А–Њ—В—П–ґ–Љ–∞—И¬ї (–У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –њ—А–Њ–µ–Ї—В–љ—Л–є –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В –њ–Њ –њ—А–Њ–µ–Ї—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—О –њ—А–µ–і–њ—А–Є—П—В–Є–є —В—П–ґ–µ–ї–Њ–≥–Њ –Љ–∞—И–Є–љ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є—П). –Ь–љ–µ –±—Л–ї–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ, —З—В–Њ —Н—В–Њ—В –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В –≤–µ–і–µ—В –њ—А–Њ–µ–Ї—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —В–∞–Ї–Є—Е –Ј–∞–≤–Њ–і–Њ–≤ –Ї–∞–Ї: ¬Ђ–Ь–µ—В–∞–ї–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Ј–∞–≤–Њ–і¬ї, ¬Ђ–Э–µ–≤—Б–Ї–Є–є –Љ–∞—И–Є–љ–Њ—Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є¬ї, ¬Ђ–Ч–∞–≤–Њ–і —В—Г—А–±–Є–љ–љ—Л—Е –ї–Њ–њ–∞—В–Њ–Ї¬ї, –£—А–∞–ї—В—П–ґ–Љ–∞—И¬ї –Є –і—А. –Ь–Њ–є —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А —Б –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Њ—В–і–µ–ї–∞ –Ї–∞–і—А–Њ–≤ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї—Б—П –Њ–Ї–Њ–ї–Њ —З–∞—Б–∞, –љ–Њ –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –Љ–љ–µ –±—Л–ї–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ, —З—В–Њ –≤–∞–Ї–∞–љ—Б–Є–є –≤ –С–У–Ш (–±—О—А–Њ –≥–ї–∞–≤–љ—Л—Е –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–Њ–≤ –њ—А–Њ–µ–Ї—В–∞) —Б–µ–є—З–∞—Б –љ–µ—В. –Ф—Г–Љ–∞—О, —З—В–Њ –µ–≥–Њ —Б–Љ—Г—В–Є–ї –Є–ї–Є –Љ–Њ–є –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В (–Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–є) –Є–ї–Є –љ–µ –њ–Њ–љ—А–∞–≤–Є–ї–∞—Б—М —Д–∞–Љ–Є–ї–Є—П. –Ъ —Б–Њ–ґ–∞–ї–µ–љ–Є—О, –љ–∞ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ–µ —Г–±—А–∞–љ—Б—В–≤–Њ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–є —П –≤ —В–Њ—В –і–µ–љ—М –љ–µ –Њ–±—А–∞—В–Є–ї –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П. –Ґ–∞–Ї –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–ї—Б—П –Љ–Њ–є –њ–µ—А–≤—Л–є –≤–Є–Ј–Є—В –≤ , –љ–∞ –і—А—Г–≥–Є–µ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є —Г–ґ–µ –љ–µ –±—Л–ї–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є.  –І–µ—А–µ–Ј –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–љ–µ–є, –Ї–∞–Ї-—В–Њ –≤–µ—З–µ—А–Њ–Љ, –љ–∞ –Ї—Г—Е–љ–µ –љ–∞—И–µ–є –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–∞–ї—М–љ–Њ–є –Ї–≤–∞—А—В–Є—А—Л, —П —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Њ —Б–≤–Њ–µ–Љ –љ–µ—Г–і–∞—З–љ–Њ–Љ –≤–Є–Ј–Є—В–µ –≤ –Ј–∞–Љ–Њ–Ї —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г —Б–Њ—Б–µ–і—Г. –°–Њ—Б–µ–і –Ѓ—А–∞ –°—В—А–∞—И–Ї–µ–≤–Є—З —А–∞–±–Њ—В–∞–ї –У–Ш–Я–Њ–Љ –≤ –њ—А–Њ–µ–Ї—В–љ–Њ–Љ –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В–µ. –Ю–љ, –≤—Л—Б–ї—Г—И–∞–≤ –Љ–Њ—О –Є—Б—В–Њ—А–Є—О, –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В: ¬Ђ–Р –і–∞–≤–∞–є –Ї –љ–∞–Љ, —П –њ–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ—А—О —Б –Т–Њ–ї–Њ–і–µ–є¬ї. –° –Т–Њ–ї–Њ–і–µ–є —П –±—Л–ї –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ, –Њ–љ –±—Л–≤–∞–ї –≤ –≥–Њ—Б—В—П—Е —Г –Ѓ—А—Л. –Ъ–∞–Ї –њ–Њ—В–Њ–Љ –≤—Л—П—Б–љ–Є–ї–Њ—Б—М, –Т–Њ–ї–Њ–і—П —А–∞–±–Њ—В–∞–ї –Ј–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї–µ–Љ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–∞ –њ–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤—Г –Є –±—Л–ї –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–Љ –С—О—А–Њ –У–Ш–Я–Њ–≤ –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В–∞ ¬Ђ–Ы–µ–љ–≥–Є–њ—А–Њ—Н–љ–µ—А–≥–Њ–њ—А–Њ–Љ¬ї. –Ъ–∞–Ї–Њ–≤–Њ –ґ–µ –±—Л–ї–Њ –Љ–Њ–µ —Г–і–Є–≤–ї–µ–љ–Є–µ, –Ї–Њ–≥–і–∞ —П —Г–Ј–љ–∞–ї, —З—В–Њ –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В ¬Ђ–Ы–µ–љ–≥–Є–њ—А–Њ—Н–љ–µ—А–≥–Њ–њ—А–Њ–Љ¬ї —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ –≤ –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –Ј–∞–Љ–Ї–µ, –љ–Њ –≤ –ї–µ–≤–Њ–Љ –Њ—В –∞—А–Ї–Є –Ї—А—Л–ї–µ. –Т—Е–Њ–і –±—Л–ї –њ–Њ –ї–µ–≤–Њ–є –њ–∞—А–∞–і–љ–Њ–є –ї–µ—Б—В–љ–Є—Ж–µ. –Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –≤ –∞–њ—А–µ–ї–µ 1973 –≥–Њ–і–∞ —П –љ–∞—З–∞–ї —А–∞–±–Њ—В–∞—В—М –Ј–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї–µ–Љ –У–Ш–Я–∞ –≤ ¬Ђ–Ы–µ–љ–≥–Є–њ—А–Њ—Н–љ–µ—А–≥–Њ–њ—А–Њ–Љ–µ¬ї. –Т –љ–∞—З–∞–ї–µ 1980-—Е –≥–Њ–і–Њ–≤ –µ–≥–Њ –њ–µ—А–µ–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–ї–Є –≤ ¬Ђ–Ы–µ–љ–≥–Є–њ—А–Њ—Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ¬ї. –Т —Н—В–Њ–Љ –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В–µ —П –њ—А–Њ—А–∞–±–Њ—В–∞–ї –і–Њ —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 1991 –≥–Њ–і–∞, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ —Е–Њ–і–Є–ї –љ–∞ —А–∞–±–Њ—В—Г –≤ –Ј–∞–Љ–Њ–Ї –і–Њ —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 1991 –≥–Њ–і–∞. –Ш–љ—Б—В–Є—В—Г—В ¬Ђ–Ы–µ–љ–≥–Є–њ—А–Њ—Н–љ–µ—А–≥–Њ–њ—А–Њ–Љ¬ї –≤–µ–ї –њ—А–Њ–µ–Ї—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –њ—А–µ–і–њ—А–Є—П—В–Є–є —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ—В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ, –њ–Њ–і–Њ—В—А–∞—Б–ї–Є: –Ї—А—Г–њ–љ–Њ–µ —Н–ї–µ—В—А–Њ–Љ–∞—И–Є–љ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–µ, –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ —Б–≤–Є–љ—Ж–Њ–≤—Л—Е –Є —Й–µ–ї–Њ—З–љ—Л—Е –∞–Ї–Ї—Г–Љ—Г–ї—П—В–Њ—А–Њ–≤ –Є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ —Б–≤–∞—А–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±–Њ—А—Г–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П. –Т –Я–Є—В–µ—А–µ –Ј–∞ –љ–∞—И–Є–Љ –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В–Њ–Љ –±—Л–ї–Њ –Ј–∞–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–Њ –≥–µ–љ–њ—А–Њ–µ–Ї—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –њ–Њ –і–≤—Г–Љ –Ј–∞–≤–Њ–і–∞–Љ –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є—П ¬Ђ–≠–ї–µ–Ї—В—А–Њ—Б–Є–ї–∞, –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є–µ ¬Ђ–Ш—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї¬ї, –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Є–є –∞–Ї–Ї—Г–Љ—Г–ї—П—В–Њ—А–љ—Л–є –Ј–∞–≤–Њ–і, –Ј–∞–≤–Њ–і ¬Ђ–≠–ї–µ–Ї—В—А–Є–Ї¬ї –Є –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –і—А—Г–≥–Є–µ. –Э–∞—И –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–∞–ї—Б—П –љ–∞ –≤—Б–µ—Е —Н—В–∞–ґ–∞—Е –ї–µ–≤–Њ–≥–Њ –Ї—А—Л–ї–∞ –Ј–і–∞–љ–Є—П. –С—О—А–Њ –У–Ш–Я–Њ–≤ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї–Њ—Б—М –≤ –њ–µ—А–≤—Л—Е –і–≤—Г—Е –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В–∞—Е –∞–љ—Д–Є–ї–∞–і—Л –љ–∞ –≤—В–Њ—А–Њ–Љ —Н—В–∞–ґ–µ —Б –њ—А–∞–≤–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Ї–Є –≤—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —Н—В–∞–ґ–∞ –њ–∞—А–∞–і–љ–Њ–є –ї–µ—Б—В–љ–Є—Ж—Л. –ѓ —А–∞–±–Њ—В–∞–ї –≤ –њ–µ—А–≤–Њ–є –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В–µ, –≥–і–µ, –Ї–∞–Ї –њ–Њ—В–Њ–Љ –≤—Л—П—Б–љ–Є–ї–Њ—Б—М, –≤ –Љ–∞—А—В–µ 1801 –≥–Њ–і–∞ –њ—А–Њ—Й–∞–ї–Є—Б—М —Б —Г–±–Є—В—Л–Љ –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–Њ–Љ –Я–∞–≤–ї–Њ–Љ. –Ч–∞–Љ–Њ–Ї –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є–ї –љ–∞ –Љ–µ–љ—П –і–≤–Њ—П–Ї–Њ–µ –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є–µ. –° –Њ–і–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –≤–Њ—Б—Е–Є—Й–∞–ї–Є –Њ—Б—В–∞—В–Ї–Є –±—Л–ї–Њ–є —А–Њ—Б–Ї–Њ—И–Є: –њ–∞—А–∞–і–љ–∞—П –ї–µ—Б—В–љ–Є—Ж–∞ –≤ –і–≤–∞ —Ж–≤–µ—В–∞ –Є–Ј –Љ—А–∞–Љ–Њ—А–∞, –У–µ–Њ–≥–Є–µ–≤—Б–Ї–Є–є –Ј–∞–ї (–µ–≥–Њ –Ј–∞–Ї—А—Л–ї–Є –≤ —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ 70-—Е –≥–Њ–і–Њ–≤ –Є –±–Њ–ї—М—И–µ —П –µ–≥–Њ –љ–µ –≤–Є–і–µ–ї), —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М —Б–≤—П—В–Њ–≥–Њ –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–∞ –≤ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–µ –µ–µ —А–µ—Б—В–∞–≤—А–∞—Ж–Є–Є, –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В—Л –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–∞ —Б –њ–Њ—В–∞–є–љ–Њ–є –ї–µ—Б—В–љ–Є—Ж–µ–є –Є –Љ–љ–Њ–≥–Њ–µ –і—А—Г–≥–Њ–µ. –° –і—А—Г–≥–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –≥—А—П–Ј–љ—Л–µ –і–Њ–ї–≥–Њ –љ–µ —А–µ–Љ–Њ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ —Б—В–µ–љ—Л, –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л–µ –њ–µ—А–µ–≥–Њ—А–Њ–і–Ї–Є –Є –Њ–±—Й–µ–µ –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є–µ –Ј–∞–њ—Г—Б—В–µ–љ–Є—П –Є –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є—П —Е–Њ–Ј—П–Є–љ–∞. –Ю—В–і–µ–ї—М–љ–Њ –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О—В—Б—П —Н–њ–Є–Ј–Њ–і—Л, –Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–∞ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–Є –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –і–µ–ґ—Г—А–Є—В—М –њ–Њ –љ–Њ—З–∞–Љ. –Э–Њ—З–љ—Л–µ –Њ–±—Е–Њ–і—Л –њ–Њ –≤–Є–љ—В–Њ–≤—Л–Љ –ї–µ—Б—В–љ–Є—Ж–∞–Љ, –љ–µ—П—Б–љ—Л–µ —И—Г–Љ—Л –Є —И–Њ—А–Њ—Е–Є –Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Є –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –љ–µ–њ—А–Є—П—В–љ—Л–µ –Њ—Й—Г—Й–µ–љ–Є—П. –Ґ—А–µ—В—М—П —Б–µ—А–Є—П –Љ–Њ–Є—Е –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є–є –Њ –Ј–∞–Љ–Ї–µ - —Н—В–Њ 2005 –≥–Њ–і, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Љ—Л —Б –ґ–µ–љ–Њ–є –Т–Є–Ї–Њ–є –њ–Њ—Б–µ—В–Є–ї–Є –Љ—Г–Ј–µ–є ¬Ђ–Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –Ј–∞–Љ–Њ–Ї¬ї. –°–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–Є—В—М —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –Њ—Д–Њ—А–Љ–ї–µ–љ–љ—Л–µ –Љ—Г–Ј–µ–є–љ—Л–µ –∞–љ—Д–Є–ї–∞–і—Л —Б –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ–Љ –Є –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ —Н—В–Є—Е –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–є –≤ –њ–µ—А–Є–Њ–і —А–∞–±–Њ—В—Л –≤ ¬Ђ–Ы–µ–љ–≥–Є–њ—А–Њ—Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ¬ї (–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –љ–∞—З–∞–ї –њ–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–∞—В—М –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П –Ј–∞–Љ–Ї–∞ –≤ 1988 –≥) –±—Л–ї–Њ –Њ—З–µ–љ—М –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ¬ї. 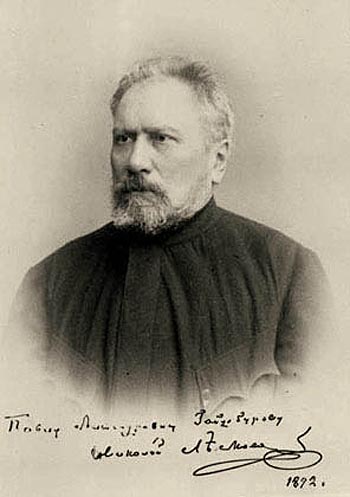 –Т–Љ–µ—Б—В–Њ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—П –њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞—О –њ–Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є—В—М—Б—П —Б –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л—Е –ї–µ–≥–µ–љ–і –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Љ–Ї–∞, –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е, –љ–µ—В, –љ–µ –≤ –њ–Њ–њ—Г–ї—П—А–љ—Л—Е –љ—Л–љ–µ –Ї–љ–Є–≥–∞—Е –Э.–°–Є–љ–і–∞–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –∞ –≤ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–µ –±–Њ–ї–µ–µ –∞–≤—В–Њ—А–Є—В–µ—В–љ–Њ–≥–Њ –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—П (1882 –≥.) ¬Ђ–£ –і–Њ–Љ–Њ–≤, –Ї–∞–Ї —Г –ї—О–і–µ–є, –µ—Б—В—М —Б–≤–Њ—П —А–µ–њ—Г—В–∞—Ж–Є—П. –Х—Б—В—М –і–Њ–Љ–∞, –≥–і–µ, –њ–Њ –Њ–±—Й–µ–Љ—Г –Љ–љ–µ–љ–Є—О, –љ–µ—З–Є—Б—В–Њ, —В–Њ –µ—Б—В—М, –≥–і–µ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—О—В —В–µ –Є–ї–Є –і—А—Г–≥–Є–µ –њ—А–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є—П –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ –љ–µ—З–Є—Б—В–Њ–є –Є–ї–Є –њ–Њ –Ї—А–∞–є–љ–µ–є –Љ–µ—А–µ –љ–µ–њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ–є —Б–Є–ї—Л. –°–њ–Є—А–Є—В—Л —Б—В–∞—А–∞–ї–Є—Б—М –Љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–і–µ–ї–∞—В—М –і–ї—П —А–∞–Ј—К—П—Б–љ–µ–љ–Є—П —Н—В–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ —П–≤–ї–µ–љ–Є–є, –љ–Њ —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї —В–µ–Њ—А–Є–Є –Є—Е –љ–µ –њ–Њ–ї—М–Ј—Г—О—В—Б—П –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ –і–Њ–≤–µ—А–Є–µ–Љ, —В–Њ –і–µ–ї–Њ —Б —Б—В—А–∞—И–љ—Л–Љ–Є –і–Њ–Љ–∞–Љ–Є –Њ—Б—В–∞—С—В—Б—П –≤ –њ—А–µ–ґ–љ–µ–Љ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є. –Т –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–µ –≤–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є–Є –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ—О —Е—Г–і–Њ—О —Б–ї–∞–≤–Њ—О –і–Њ–ї–≥–Њ –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–Њ—Б—М —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ–Њ–µ –Ј–і–∞–љ–Є–µ –±—Л–≤—И–µ–≥–Њ –Я–∞–≤–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–≤–Њ—А—Ж–∞, –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–µ –љ—Л–љ—З–µ –њ–Њ–і –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –Ш–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Љ–Ї–∞. –Ґ–∞–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ —П–≤–ї–µ–љ–Є—П, –њ—А–Є–њ–Є—Б—Л–≤–∞–µ–Љ—Л–µ –і—Г—Е–∞–Љ –Є –њ—А–Є–≤–Є–і–µ–љ–Є—П–Љ, –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–ї–Є –Ј–і–µ—Б—М –њ–Њ—З—В–Є —Б —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Ј–∞–Љ–Ї–∞. –Х—Й—С –њ—А–Є –ґ–Є–Ј–љ–Є –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–∞ –Я–∞–≤–ї–∞ —В—Г—В, –≥–Њ–≤–Њ—А—П—В, —Б–ї—Л—И–∞–ї–Є –≥–Њ–ї–Њ—Б –Я–µ—В—А–∞ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ, –Є, –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –і–∞–ґ–µ —Б–∞–Љ –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А –Я–∞–≤–µ–ї –≤–Є–і–µ–ї —В–µ–љ—М —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –њ—А–∞–і–µ–і–∞. –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–µ, –±–µ–Ј –≤—Б—П–Ї–Є—Е –Њ–њ—А–Њ–≤–µ—А–ґ–µ–љ–Є–є, –Ј–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –≤ –Ј–∞–≥—А–∞–љ–Є—З–љ—Л—Е —Б–±–Њ—А–љ–Є–Ї–∞—Е, –≥–і–µ –љ–∞—И–ї–Є —Б–µ–±–µ –Љ–µ—Б—В–Њ –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є—П –≤–љ–µ–Ј–∞–њ–љ–Њ–є –Ї–Њ–љ—З–Є–љ—Л –Я–∞–≤–ї–∞ –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З–∞, –Є –≤ –љ–Њ–≤–µ–є—И–µ–є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –Ї–љ–Є–≥–µ –≥. –Ъ–Њ–±–µ–Ї–Њ. –Я—А–∞–і–µ–і –±—Г–і—В–Њ –±—Л –њ–Њ–Ї–Є–і–∞–ї –Љ–Њ–≥–Є–ї—Г, —З—В–Њ–±—Л –њ—А–µ–і—Г–њ—А–µ–і–Є—В—М —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–љ—Г–Ї–∞, —З—В–Њ –і–љ–Є –µ–≥–Њ –Љ–∞–ї—Л –Є –Ї–Њ–љ–µ—Ж –Є—Е –±–ї–Є–Ј–Њ–Ї. –Я—А–µ–і—Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ —Б–±—Л–ї–Њ—Б—М. –Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, —В–µ–љ—М –Я–µ—В—А–Њ–≤–∞ –±—Л–ї–∞ –≤–Є–і–Є–Љ–∞ –≤ —Б—В–µ–љ–∞—Е –Ј–∞–Љ–Ї–∞ –љ–µ –Њ–і–љ–Є–Љ –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–Њ–Љ –Я–∞–≤–ї–Њ–Љ, –љ–Њ –Є –ї—О–і—М–Љ–Є –Ї –љ–µ–Љ—Г –њ—А–Є–±–ї–Є–ґ—С–љ–љ—Л–Љ–Є. –°–ї–Њ–≤–Њ–Љ, –і–Њ–Љ –±—Л–ї —Б—В—А–∞—И–µ–љ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ —В–∞–Љ –ґ–Є–ї–Є –Є–ї–Є –њ–Њ –Ї—А–∞–є–љ–µ–є –Љ–µ—А–µ —П–≤–ї—П–ї–Є—Б—М —В–µ–љ–Є –Є –њ—А–Є–≤–Є–і–µ–љ–Є—П –Є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є —З—В–Њ-—В–Њ —В–∞–Ї–Њ–µ —Б—В—А–∞—И–љ–Њ–µ, –Є –≤–і–Њ–±–∞–≤–Њ–Ї –µ—Й—С —Б–±—Л–≤–∞—О—Й–µ–µ—Б—П. –Э–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–∞—П –≤–љ–µ–Ј–∞–њ–љ–Њ—Б—В—М –Ї–Њ–љ—З–Є–љ—Л –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–∞ –Я–∞–≤–ї–∞, –њ–Њ —Б–ї—Г—З–∞—О –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –≤ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ —В–Њ—В—З–∞—Б –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї–Є –Є –Ј–∞–≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є –Њ –њ—А–µ–і–≤–µ—Й–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —В–µ–љ—П—Е, –≤—Б—В—А–µ—З–∞–≤—И–Є—Е –њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ–≥–Њ –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–∞ –≤ –Ј–∞–Љ–Ї–µ, –µ—Й—С –±–Њ–ї–µ–µ —Г–≤–µ–ї–Є—З–Є–ї–∞ –Љ—А–∞—З–љ—Г—О –Є —В–∞–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О —А–µ–њ—Г—В–∞—Ж–Є—О —Н—В–Њ–≥–Њ —Г–≥—А—О–Љ–Њ–≥–Њ –і–Њ–Љ–∞. –° —В–µ—Е –њ–Њ—А –і–Њ–Љ —Г—В—А–∞—В–Є–ї —Б–≤–Њ—С –њ—А–µ–ґ–љ–µ–µ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –ґ–Є–ї–Њ–≥–Њ –і–≤–Њ—А—Ж–∞, –∞ –њ–Њ –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–Љ—Г –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є—О - "–њ–Њ—И—С–ї –њ–Њ–і ".  –Э—Л–љ—З–µ –≤ —Н—В–Њ–Љ —Г–њ—А–∞–Ј–і–љ—С–љ–љ–Њ–Љ –і–≤–Њ—А—Ж–µ –њ–Њ–Љ–µ—Й–∞—О—В—Б—П —О–љ–Ї–µ—А–∞ –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –≤–µ–і–Њ–Љ—Б—В–≤–∞, –љ–Њ –љ–∞—З–∞–ї–Є –µ–≥–Њ "–Њ–±–ґ–Є–≤–∞—В—М" –њ—А–µ–ґ–љ–Є–µ –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ—Л–µ –Ї–∞–і–µ—В—Л. –≠—В–Њ –±—Л–ї –љ–∞—А–Њ–і –µ—Й—С –±–Њ–ї–µ–µ –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–є –Є —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –µ—Й—С –љ–µ –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–і–Є–≤—И–Є–є—Б—П –Њ—В –і–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—Г–µ–≤–µ—А–Є—П, –Є –њ—А–Є—В–Њ–Љ —А–µ–Ј–≤—Л–є –Є —И–∞–ї–Њ–≤–ї–Є–≤—Л–є, –ї—О–±–Њ–њ—Л—В–љ—Л–є –Є –Њ—В–≤–∞–ґ–љ—Л–є. –Т—Б–µ–Љ –Є–Љ, —А–∞–Ј—Г–Љ–µ–µ—В—Б—П, –±–Њ–ї–µ–µ –Є–ї–Є –Љ–µ–љ–µ–µ –±—Л–ї–Є –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л —Б—В—А–∞—Е–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –њ—А–Њ –Є—Е —Б—В—А–∞—И–љ—Л–є –Ј–∞–Љ–Њ–Ї. –Ф–µ—В–Є –Њ—З–µ–љ—М –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ—Б—В—П–Љ–Є —Б—В—А–∞—И–љ—Л—Е —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–Њ–≤ –Є –љ–∞–њ–Є—В—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М —Н—В–Є–Љ–Є —Б—В—А–∞—Е–∞–Љ–Є, –∞ —В–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Г—Б–њ–µ–ї–Є —Б –љ–Є–Љ–Є –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –Њ—Б–≤–Њ–Є—В—М—Б—П, –Њ—З–µ–љ—М –ї—О–±–Є–ї–Є –њ—Г–≥–∞—В—М –і—А—Г–≥–Є—Е. –≠—В–Њ –±—Л–ї–Њ –≤ –±–Њ–ї—М—И–Њ–Љ —Е–Њ–і—Г –Љ–µ–ґ–і—Г –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ—Л–Љ–Є –Ї–∞–і–µ—В–∞–Љ–Є, –Є –љ–∞—З–∞–ї—М—Б—В–≤–Њ –љ–Є–Ї–∞–Ї –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Њ –≤—Л–≤–µ—Б—В–Є —Н—В–Њ–≥–Њ –і—Г—А–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—Л—З–∞—П, –њ–Њ–Ї–∞ –љ–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И—С–ї —Б–ї—Г—З–∞–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Б—А–∞–Ј—Г –Њ—В–±–Є–ї —Г –≤—Б–µ—Е –Њ—Е–Њ—В—Г –Ї –њ—Г–≥–∞–љ—М—П–Љ –Є —И–∞–ї–Њ—Б—В—П–Љ. –Ю–± —Н—В–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –Є –±—Г–і–µ—В –љ–∞—Б—В—Г–њ–∞—О—Й–Є–є —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј. –Ю—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –≤ –Љ–Њ–і–µ –њ—Г–≥–∞—В—М –љ–Њ–≤–Є—З–Ї–Њ–≤ –Є–ї–Є —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ—Л—Е "–Љ–∞–ї—Л—И–µ–є", –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ, –њ–Њ–њ–∞–і–∞—П –≤ –Ј–∞–Љ–Њ–Ї, –≤–і—А—Г–≥ —Г–Ј–љ–∞–≤–∞–ї–Є —В–∞–Ї—Г—О –Љ–∞—Б—Б—Г —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤ –Њ –Ј–∞–Љ–Ї–µ, —З—В–Њ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Є—Б—М —Б—Г–µ–≤–µ—А–љ—Л–Љ–Є –Є —А–Њ–±–Ї–Є–Љ–Є –і–Њ –Ї—А–∞–є–љ–Њ—Б—В–Є. –С–Њ–ї–µ–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –Є—Е –њ—Г–≥–∞–ї–Њ, —З—В–Њ –≤ –Њ–і–љ–Њ–Љ –Ї–Њ–љ—Ж–µ –Ї–Њ—А–Є–і–Њ—А–Њ–≤ –Ј–∞–Љ–Ї–∞ –µ—Б—В—М –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В–∞, —Б–ї—Г–ґ–Є–≤—И–∞—П —Б–њ–∞–ї—М–љ–µ–є –њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ–Љ—Г –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Г –Я–∞–≤–ї—Г, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Њ–љ –ї—С–≥ –њ–Њ—З–Є–≤–∞—В—М –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—Л–Љ, –∞ —Г—В—А–Њ–Љ –µ–≥–Њ –Њ—В—В—Г–і–∞ –≤—Л–љ–µ—Б–ї–Є –Љ—С—А—В–≤—Л–Љ. "–°—В–∞—А–Є–Ї–Є" —Г–≤–µ—А—П–ї–Є, —З—В–Њ –і—Г—Е –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–∞ –ґ–Є–≤—С—В –≤ —Н—В–Њ–є –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В–µ –Є –Ї–∞–ґ–і—Г—О –љ–Њ—З—М –≤—Л—Е–Њ–і–Є—В –Њ—В—В—Г–і–∞ –Є –Њ—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ—В —Б–≤–Њ–є –ї—О–±–Є–Љ—Л–є –Ј–∞–Љ–Њ–Ї, - –∞ "–Љ–∞–ї—Л—И–Є" —Н—В–Њ–Љ—Г –≤–µ—А–Є–ї–Є. –Ъ–Њ–Љ–љ–∞—В–∞ —Н—В–∞ –±—Л–ї–∞ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –Ї—А–µ–њ–Ї–Њ –Ј–∞–њ–µ—А—В–∞, –Є –њ—А–Є—В–Њ–Љ –љ–µ –Њ–і–љ–Є–Љ, –∞ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є–Љ–Є –Ј–∞–Љ–Ї–∞–Љ–Є, –љ–Њ –і–ї—П –і—Г—Е–∞, –Ї–∞–Ї –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ, –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є–µ –Ј–∞–Љ–Ї–Є –Є –Ј–∞—В–≤–Њ—А—Л –љ–µ –Є–Љ–µ—О—В –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П. –Ф–∞ –Є, –Ї—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є, –±—Г–і—В–Њ –≤ —Н—В—Г –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В—Г –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –Ї–∞–Ї-—В–Њ –њ—А–Њ–љ–Є–Ї–∞—В—М. –Ъ–∞–ґ–µ—В—Б—П, —Н—В–Њ —В–∞–Ї –Є –±—Л–ї–Њ –љ–∞ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ. –Я–Њ –Ї—А–∞–є–љ–µ–є –Љ–µ—А–µ, –ґ–Є–ї–Њ –Є –і–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А –ґ–Є–≤—С—В –њ—А–µ–і–∞–љ–Є–µ, –±—Г–і—В–Њ —Н—В–Њ —Г–і–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є–Љ "—Б—В–∞—А—Л–Љ –Ї–∞–і–µ—В–∞–Љ" –Є –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–Њ—Б—М –і–Њ —В–µ—Е –њ–Њ—А, –њ–Њ–Ї–∞ –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –љ–Є—Е –љ–µ –Ј–∞–і—Г–Љ–∞–ї –Њ—В—З–∞—П–љ–љ—Г—О —И–∞–ї–Њ—Б—В—М, –Ј–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –µ–Љ—Г –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –ґ–µ—Б—В–Њ–Ї–Њ –њ–Њ–њ–ї–∞—В–Є—В—М—Б—П. –Ю–љ –Њ—В–Ї—А—Л–ї –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–є –ї–∞–Ј –≤ —Б—В—А–∞—И–љ—Г—О —Б–њ–∞–ї—М–љ—О –њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ–≥–Њ –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–∞, —Г—Б–њ–µ–ї –њ—А–Њ–љ–µ—Б—В–Є —В—Г–і–∞ –њ—А–Њ—Б—В—Л–љ—О –Є —В–∞–Љ –µ—С —Б–њ—А—П—В–∞–ї, –∞ –њ–Њ –≤–µ—З–µ—А–∞–Љ –Ј–∞–±–Є—А–∞–ї—Б—П —Б—О–і–∞, –њ–Њ–Ї—А—Л–≤–∞–ї—Б—П —Б –љ–Њ–≥ –і–Њ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Л —Н—В–Њ–є –њ—А–Њ—Б—В—Л–љ—С—О –Є —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї—Б—П –≤ —В—С–Љ–љ–Њ–Љ –Њ–Ї–љ–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –≤—Л—Е–Њ–і–Є–ї–Њ –љ–∞ –°–∞–і–Њ–≤—Г—О —Г–ї–Є—Ж—Г –Є –±—Л–ї–Њ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –≤–Є–і–љ–Њ –≤—Б—П–Ї–Њ–Љ—Г, –Ї—В–Њ, –њ—А–Њ—Е–Њ–і—П –Є–ї–Є –њ—А–Њ–µ–Ј–ґ–∞—П, –њ–Њ–≥–ї—П–і–Є—В –≤ —Н—В—Г —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г.  –Ш—Б–њ–Њ–ї–љ—П—П —В–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ —А–Њ–ї—М , –Ї–∞–і–µ—В –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Г—Б–њ–µ–ї –љ–∞–≤–µ—Б—В–Є —Б—В—А–∞—Е –љ–∞ –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е —Б—Г–µ–≤–µ—А–љ—Л—Е –ї—О–і–µ–є, –ґ–Є–≤—И–Є—Е –≤ –Ј–∞–Љ–Ї–µ, –Є –љ–∞ –њ—А–Њ—Е–Њ–ґ–Є—Е, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ —Б–ї—Г—З–∞–ї–Њ—Б—М –≤–Є–і–µ—В—М –µ–≥–Њ –±–µ–ї—Г—О —Д–Є–≥—Г—А—Г, –≤—Б–µ–Љ–Є –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–≤—И—Г—О—Б—П –Ј–∞ —В–µ–љ—М –њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ–≥–Њ –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–∞. –®–∞–ї–Њ—Б—В—М —Н—В–∞ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–∞—Б—М –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–µ—Б—П—Ж–µ–≤ –Є —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–Є–ї–∞ —Г–њ–Њ—А–љ—Л–є —Б–ї—Г—Е, —З—В–Њ –Я–∞–≤–µ–ї –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З –њ–Њ –љ–Њ—З–∞–Љ —Е–Њ–і–Є—В –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ —Б–≤–Њ–µ–є —Б–њ–∞–ї—М–љ–Є –Є —Б–Љ–Њ—В—А–Є—В –Є–Ј –Њ–Ї–љ–∞ –љ–∞ –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥. –Ь–љ–Њ–≥–Є–Љ –і–Њ –љ–µ—Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –ґ–Є–≤–Њ –Є —П—Б–љ–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ —Б—В–Њ—П–≤—И–∞—П –≤ –Њ–Ї–љ–µ –±–µ–ї–∞—П —В–µ–љ—М –Є–Љ –љ–µ —А–∞–Ј –Ї–Є–≤–∞–ї–∞ –≥–Њ–ї–Њ–≤–Њ–є –Є –Ї–ї–∞–љ—П–ї–∞—Б—М; –Ї–∞–і–µ—В –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ—А–Њ–і–µ–ї—Л–≤–∞–ї —В–∞–Ї–Є–µ —И—В—Г–Ї–Є. –Т—Б—С —Н—В–Њ –≤—Л–Ј—Л–≤–∞–ї–Њ –≤ –Ј–∞–Љ–Ї–µ –Њ–±—И–Є—А–љ—Л–µ —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А—Л —Б –њ—А–µ–і–≤–Њ–Ј–≤–µ—Й–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є –Є—Б—В–Њ–ї–Ї–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ–Є –Є –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–ї–Њ—Б—М —В–µ–Љ, —З—В–Њ –љ–∞–і–µ–ї–∞–≤—И–Є–є –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–љ—Г—О —В—А–µ–≤–Њ–≥—Г –Ї–∞–і–µ—В –±—Л–ї –њ–Њ–є–Љ–∞–љ –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–µ –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П –Є, –њ–Њ–ї—Г—З–Є–≤ "–њ—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ–µ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ –љ–∞ —В–µ–ї–µ", –Є—Б—З–µ–Ј –љ–∞–≤—Б–µ–≥–і–∞ –Є–Ј –Ј–∞–≤–µ–і–µ–љ–Є—П. –•–Њ–і–Є–ї —Б–ї—Г—Е, –±—Г–і—В–Њ –Ј–ї–Њ–њ–Њ–ї—Г—З–љ—Л–є –Ї–∞–і–µ—В –Є–Љ–µ–ї –љ–µ—Б—З–∞—Б—В–Є–µ –Є—Б–њ—Г–≥–∞—В—М —Б–≤–Њ–Є–Љ –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –≤ –Њ–Ї–љ–µ –Њ–і–љ–Њ —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ –њ—А–Њ–µ–Ј–ґ–∞–≤—И–µ–µ –Љ–Є–Љ–Њ –Ј–∞–Љ–Ї–∞ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–µ –ї–Є—Ж–Њ, –Ј–∞ —З—В–Њ –Є –±—Л–ї –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ –љ–µ –њ–Њ-–і–µ—В—Б–Ї–Є. –Я—А–Њ—Й–µ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, –Ї–∞–і–µ—В—Л –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є, –±—Г–і—В–Њ –љ–µ—Б—З–∞—Б—В–љ—Л–є —И–∞–ї—Г–љ "—Г–Љ–µ—А –њ–Њ–і —А–Њ–Ј–≥–∞–Љ–Є", –Є —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –≤ —В–Њ–≥–і–∞—И–љ–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–µ –≤–µ—Й–Є –љ–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Є—Б—М –љ–µ–≤–µ—А–Њ—П—В–љ—Л–Љ–Є, —В–Њ –Є —Н—В–Њ–Љ—Г —Б–ї—Г—Е—Г –њ–Њ–≤–µ—А–Є–ї–Є, –∞ —Б —Н—В–Є—Е –њ–Њ—А —Б–∞–Љ —Н—В–Њ—В –Ї–∞–і–µ—В —Б—В–∞–ї –љ–Њ–≤—Л–Љ –њ—А–Є–≤–Є–і–µ–љ–Є–µ–Љ. –Ґ–Њ–≤–∞—А–Є—Й–Є –љ–∞—З–∞–ї–Є –µ–≥–Њ –≤–Є–і–µ—В—М "–≤—Б–µ–≥–Њ –Є—Б—Б–µ—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ" –Є —Б –≥—А–Њ–±–Њ–≤—Л–Љ –≤–µ–љ—З–Є–Ї–Њ–Љ –љ–∞ –ї–±—Г, –∞ –љ–∞ –≤–µ–љ—З–Є–Ї–µ –±—Г–і—В–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ —З–Є—В–∞—В—М –љ–∞–і–њ–Є—Б—М: "–Т–Ї—Г—И–∞—П –≤–Ї—Г—Б–Є—Е –Љ–∞–ї–Њ –Љ—С–і—Г –Є —Б—С –∞–Ј —Г–Љ–Є—А–∞—О". –Х—Б–ї–Є –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М –±–Є–±–ї–µ–є—Б–Ї–Є–є —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ —Н—В–Є —Б–ї–Њ–≤–∞ –љ–∞—Е–Њ–і—П—В —Б–µ–±–µ –Љ–µ—Б—В–Њ, —В–Њ –Њ–љ–Њ –≤—Л—Е–Њ–і–Є—В –Њ—З–µ–љ—М —В—А–Њ–≥–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ.  –Т—Б–Ї–Њ—А–µ –Ј–∞ –њ–Њ–≥–Є–±–µ–ї—М—О –Ї–∞–і–µ—В–∞ —Б–њ–∞–ї—М–љ–∞—П –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В–∞, –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї–Є –≥–ї–∞–≤–љ–µ–є—И–Є–µ —Б—В—А–∞—Е–Є , –±—Л–ї–∞ –Њ—В–Ї—А—Л—В–∞ –Є –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–∞ —В–∞–Ї–Њ–µ –њ—А–Є—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–ї–µ–љ–Є–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є–ї–Њ –µ–µ –ґ—Г—В–Ї–Є–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А, –љ–Њ –њ—А–µ–і–∞–љ–Є—П –Њ –њ—А–Є–≤–Є–і–µ–љ–Є–Є –і–Њ–ї–≥–Њ –µ—Й—С –ґ–Є–ї–Є, –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–≤—И–µ–µ —А–∞–Ј–Њ–±–ї–∞—З–µ–љ–Є–µ —В–∞–є–љ—Л. –Ъ–∞–і–µ—В—Л –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–Є –≤–µ—А–Є—В—М, —З—В–Њ –≤ –Є—Е –Ј–∞–Љ–Ї–µ –ґ–Є–≤—С—В, –∞ –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –љ–Њ—З–∞–Љ–Є —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –њ—А–Є–Ј—А–∞–Ї. –≠—В–Њ –±—Л–ї–Њ –Њ–±—Й–µ–µ —Г–±–µ–ґ–і–µ–љ–Є–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ —А–∞–≤–љ–Њ–Љ–µ—А–љ–Њ –і–µ—А–ґ–∞–ї–Њ—Б—М —Г –Ї–∞–і–µ—В–Њ–≤ –Љ–ї–∞–і—И–Є—Е –Є —Б—В–∞—А—И–Є—Е, —Б —В–Њ—О, –≤–њ—А–Њ—З–µ–Љ, —А–∞–Ј–љ–Є—Ж–µ—О, —З—В–Њ –Љ–ї–∞–і—И–Є–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ —Б–ї–µ–њ–Њ –≤–µ—А–Є–ї–Є –≤ –њ—А–Є–≤–Є–і–µ–љ–Є–µ, –∞ —Б—В–∞—А—И–Є–µ –Є–љ–Њ–≥–і–∞ —Б–∞–Љ–Є —Г—Б—В—А–∞–Є–≤–∞–ї–Є –µ–≥–Њ –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ. –Ю–і–љ–Њ –і—А—Г–≥–Њ–Љ—Г, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ, –љ–µ –Љ–µ—И–∞–ї–Њ, –Є —Б–∞–Љ–Є –њ–Њ–і–і–µ–ї—Л–≤–∞—В–µ–ї–Є –њ—А–Є–≤–Є–і–µ–љ–Є—П –µ–≥–Њ —В–Њ–ґ–µ –њ–Њ–±–∞–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М. –Ґ–∞–Ї, –Є–љ—Л–µ "–ї–Њ–ґ–љ—Л–µ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї–Є —З—Г–і–µ—Б" —Б–∞–Љ–Є –Є—Е –≤–Њ—Б–њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—П—В –Є —Б–∞–Љ–Є –Є–Љ –њ–Њ–Ї–ї–Њ–љ—П—О—В—Б—П –Є –і–∞–ґ–µ –≤–µ—А—П—В –≤ –Є—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—МвА¶¬ї  –Т–µ—А—О–ґ—Б–Ї–Є–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Т–Э–Р), –У–Њ—А–ї–Њ–≤ –Ю–ї–µ–≥ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Ю–Р–У), –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З (–Ь–Т–Т), –Ъ–°–Т. 198188. –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥, —Г–ї. –Ь–∞—А—И–∞–ї–∞ –У–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤–∞, –і–Њ–Љ 11/3, –Ї–≤. 70. –Ъ–∞—А–∞—Б–µ–≤ –°–µ—А–≥–µ–є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З, –∞—А—Е–Є–≤–∞—А–Є—Г—Б. karasevserg@yandex.ru
15.06.201310:1515.06.2013 10:15:44
0
14.06.201309:3614.06.2013 09:36:05
 вАФ –Ф–∞. –С–µ–і–љ–∞—П –Ґ–Є–ї—М–і–∞! –Ю–љ–∞ –Њ—З–µ–љ—М –±–Њ–ї—М–љ–∞—П, –љ–Њ —Г –љ–µ–µ –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—Л–µ —А—Г–Ї–Є; –Њ–љ–∞ –њ–ї–µ—В–∞–µ—В... –њ–ї–µ—В–µ—В, вАФ –њ–Њ–њ—А–∞–≤–Є–ї–∞—Б—М –Ы–∞–є–љ–µ, вАФ —А—Л–±–∞—З—М–Є —Б–µ—В–Є –Є –ґ–Є–≤–µ—В –∞–±—Б–Њ–ї—О—В–љ–Њ –Њ–і–љ–∞... –Ґ–Є–ї—М–і–∞ —Г—Е–Њ–і–Є–ї–∞ –≤—Б–µ –і–∞–ї—М—И–µ. –Х–і–≤–∞ –Њ–љ–Є –≤–µ—А–љ—Г–ї–Є—Б—М –і–Њ–Љ–Њ–є, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ —Б–Ї–ї—П–љ–Ї–Є –љ–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ, –Њ—В–±–Є–ї —Г –і–≤–µ—А–Є –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї. –Я—А–Є—И–µ–ї –Ѓ—Е–∞–љ –°–∞–∞—А, –≤–µ—Б—М –Њ–±–≤–µ—В—А–µ–љ–љ—Л–є, —Б –Њ–±–ї—Г–њ–Є–≤—И–Є–Љ—Б—П –≥–ї—П–љ—Ж–µ–≤–Є—В—Л–Љ –љ–Њ—Б–Њ–Љ. –°—В–∞—А—Л–є –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ –њ—А–Є–≤–µ—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –Э–Є–Ї–Є—В—Г: вАФ –Р-–∞, —Б—В–∞–ї —Г–ґ–µ –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В–Њ–Љ, –Ь–Њ—А—Б–Ї–∞—П –Ф—Г—И–∞! –У–Њ–≤–Њ—А–Є–ї –Њ–љ —Б –∞–Ї—Ж–µ–љ—В–Њ–Љ, –љ–µ —В–Њ—А–Њ–њ—П—Б—М, –≤—Л—З–µ–Ї–∞–љ–Є–≤–∞—П –Ї–∞–ґ–і–Њ–µ —Б–ї–Њ–≤–Њ. –Ю–±–≤–µ—В—А–µ–љ–љ—Л–є –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–ї–Ї, –њ–Њ–±—Л–≤–∞–≤—И–Є–є –≤–Њ –≤—Б–µ—Е –њ–Њ—А—В–∞—Е –Љ–Є—А–∞, –Њ–љ –њ—А–Є–≤–µ–ї —Б–≤–Њ—О ¬Ђ–Ь–∞—А—В—Г¬ї –Є–Ј –∞—А–≥–µ–љ—В–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ—А—В–∞ –≤ –Ґ–∞–ї–ї–Є–љ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤ –≠—Б—В–Њ–љ–Є–Є –±—Л–ї–∞ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–∞ –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–∞—П –≤–ї–∞—Б—В—М. –≠—В–Њ–≥–Њ –µ–Љ—Г –љ–µ –њ—А–Њ—Б—В–Є–ї–Є –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–≤–ї–∞–і–µ–ї—М—Ж—Л: –µ–Љ—Г –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М —Г–є—В–Є –≤ –ї–µ—Б, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤–Њ—И–ї–Є –љ–µ–Љ—Ж—Л; —В–µ–њ–µ—А—М –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ –±—Л–ї —Б—В–∞—А; –Њ–љ –≤—Б—В—А–µ—З–∞–ї –Є –њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–∞–ї –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Є–µ –≥—А—Г–Ј–Њ–≤—Л–µ —Б—Г–і–∞, –љ–Њ –µ–Љ—Г –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –Њ–љ –њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–∞–µ—В —Б—Г–і–∞ –≤ –Р—А–≥–µ–љ—В–Є–љ—Г, –≤ –С—А–∞–Ј–Є–ї–Є—О, –љ–∞ –°–∞–љ–і–≤–Є—З–µ–≤—Л –Њ—Б—В—А–Њ–≤–∞. –°—В–∞—А—Л–є —А–Њ–Љ–∞–љ—В–Є–Ї –Љ–Њ—А—П, –Њ–љ –ґ–Є–ї –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П–Љ–Є –Њ –Љ–Њ—А—П—Е, –Є –љ–∞ —Б—В–Њ–ї–µ —Г –љ–µ–≥–Њ –ї–µ–ґ–∞–ї–Є —В–Њ–ї—Б—В—Л–µ –ї–Њ—Ж–Є–Є. вАФ –У–і–µ –ґ–µ –Ї–Њ—Д–µ, –Ы–∞–є–љ–µ –°–∞–∞—А? вАФ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї –Њ–љ. вАФ –У–і–µ –ґ–µ –Ї—А–µ–њ–Ї–Є–є —З–µ—А–љ—Л–є –Ї–Њ—Д–µ, –Љ—Г—Б—В–Ї–Њ—Е–≤–Є? вАФ –Ю–і–Є–љ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В, –Ѓ—Е–∞–љ –°–∞–∞—А, вАФ –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї–∞ –≤–µ—Б–µ–ї–Њ –Ы–∞–є–љ–µ –Є –њ–Њ–±–µ–ґ–∞–ї–∞ –≤ –Ї–∞—Д–µ–ї—М–љ—Г—О –±–µ–ї—Г—О –Ї—Г—Е–љ—О. вАФ –Э—Г, –Ї–∞–Ї –Љ—Л –њ–ї–∞–≤–∞–µ–Љ? вАФ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ –Э–Є–Ї–Є—В—Г. –£–Ј–љ–∞–≤, —З—В–Њ –Э–Є–Ї–Є—В–∞ вАФ —И—В—Г—А–Љ–∞–љ –љ–∞ –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Њ–Љ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ, –Њ–љ –≤–Њ—Б–Ї–ї–Є–Ї–љ—Г–ї: 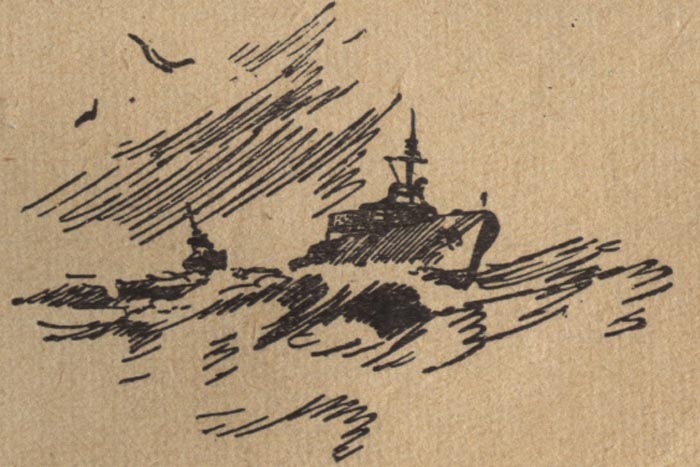 вАФ –Ю-–Њ! –Ш –≤—Л —Б–Ї–Њ—А–Њ –±—Г–і–µ—В–µ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–Њ–Љ. ¬Ђ–Т–µ–і—Г—В –≤ —В–µ–Љ–љ–Њ—В—Г –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ—Л¬ї, вАФ –њ—А–Њ–Є–Ј–љ–µ—Б –Њ–љ –љ–∞—А–∞—Б–њ–µ–≤, вАФ –љ–µ –Ј–љ–∞—О, –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, —Н—В–Њ вАФ —Б—В–Є—Е–Є. –Ф–∞, –њ–Њ–ґ–∞–ї—Г–є, —Б—В–Є—Е–Є, вАФ –њ–Њ–і–љ—П–ї –Њ–љ –≥–ї–∞–Ј–∞ –Ї –њ–Њ—В–Њ–ї–Ї—Г. вАФ –Т–Њ—В –≤—Л вАФ –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В –Ь–Њ—А—Б–Ї–∞—П –Ф—Г—И–∞... –Т—Л –њ–Њ–є–Љ–µ—В–µ –Љ–µ–љ—П —Е–Њ—А–Њ—И–Њ. –ѓ –≤—Б—О –ґ–Є–Ј–љ—М –њ–ї–∞–≤–∞–ї –≤ –Љ–Њ—А—П—Е, –њ–Њ–Ї–∞ –љ–µ –њ—А–Є—И–ї–∞ –њ—А–Њ–Ї–ї—П—В–∞—П —Б—В–∞—А–Њ—Б—В—М. –Ш –љ—Г–ґ–љ–Њ –ґ–µ, –Ї—Г—А—А–∞—В, –Є–Ј–љ–∞—И–Є–≤–∞—В—М—Б—П —Н—В–Њ–є –Љ–∞—И–Є–љ–µ, вАФ –њ–Њ—Б—В—Г—З–∞–ї –Њ–љ —Б–µ–±—П –њ–Њ –≥—А—Г–і–Є (¬Ђ–Ъ—Г—А-—А–∞—В!¬ї вАФ –њ–Њ–і—Е–≤–∞—В–Є–ї –њ–Њ–њ—Г–≥–∞–є –≤ —Б–≤–Њ–µ–є –Ї–ї–µ—В–Ї–µ), вАФ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, —П –Є —Б–∞–Љ –≤–Є–љ–Њ–≤–∞—В, вАФ –њ–Њ–љ–Є–Ј–Є–ї –°–∞–∞—А –≥–Њ–ї–Њ–µ, –Њ–≥–ї—П–љ—Г–≤—И–Є—Б—М, –љ–µ—В –ї–Є —В—Г—В –Ы–∞–є–љ–µ, вАФ —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤—Л–њ–Є—В–Њ –≥—А–Њ–≥–∞ –Є –≤–Є—Б–Ї–Є, –≤–Њ–і–Ї–Є –Є –Ї–Њ–љ—М—П–Ї—Г! –Э–µ —Б–Њ–≤–µ—В—Г—О... вАФ –ѓ –љ–µ –њ—М—О. вАФ –Я—А–Њ–ґ–Є–≤–µ—В–µ —Б—В–Њ –ї–µ—В! вАФ –њ–Њ—Е–ї–Њ–њ–∞–ї –µ–≥–Њ –њ–Њ –њ–ї–µ—З—Г –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ. вАФ –ѓ —В–Њ–ґ–µ –±–Њ–ї—М—И–µ –љ–µ –њ—М—О –љ–Є—З–µ–≥–Њ, –Ї—А–Њ–Љ–µ –Ї—А–µ–њ–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—Д–µ вАФ –Ї—А–µ–њ–Ї–Њ–≥–Њ, —З–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—Д–µ, –љ–Њ –њ—Г—Б—В—М –Љ–љ–µ —Б–Ї–∞–ґ—Г—В, —З—В–Њ —П –Ј–∞–≤—В—А–∞ –њ–Њ–і–Њ—Е–љ—Г, —П –Њ—В –Ї–Њ—Д–µ –љ–µ –Њ—В–Ї–∞–ґ—Г—Б—М... вАФ –Э–Є–Ї–Є—В–∞, –Ѓ—Е–∞–љ –°–∞–∞—А, –Ї–Њ—Д–µ! вАФ –њ–Њ–Ј–≤–∞–ї–∞ –Ы–∞–є–љ–µ –Є–Ј –Ї—Г—Е–љ–Є. –Ю–љ–Є —Б–Є–і–µ–ї–Є –Ј–∞ –≤—Л—Б–Ї–Њ–±–ї–µ–љ–љ—Л–Љ –і–Њ –±–µ–ї–Є–Ј–љ—Л –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л–Љ —Б—В–Њ–ї–Њ–Љ, –њ–Є–ї–Є –і—Л–Љ—П—Й–Є–є—Б—П –Ї–Њ—Д–µ –Є–Ј —В–Њ–ї—Б—В—Л—Е –±–µ–ї—Л—Е —Д–∞—П–љ—Б–Њ–≤—Л—Е —З–∞—И–µ–Ї, –Є –Ѓ—Е–∞–љ –°–∞–∞—А –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї, —З—В–Њ –µ—Б–ї–Є –њ—А–Є–і–µ—В—Б—П –µ–Љ—Г –Ї–Њ–≥–і–∞-–љ–Є–±—Г–і—М –Њ—В–њ—Г—Б—В–Є—В—М –Ы–∞–є–љ–µ вАФ –≤–µ–і—М –Ї–∞–ґ–і–∞—П –і–µ–≤—Г—И–Ї–∞ –≤—Л—Е–Њ–і–Є—В –Ї–Њ–≥–і–∞-–љ–Є–±—Г–і—М –Ј–∞–Љ—Г–ґ, вАФ —В–Њ –Њ–љ –≤—Л–і–∞—Б—В –µ–µ –Є–ї–Є –Ј–∞ –Љ–Њ—А—П–Ї–∞ –Є–ї–Є –Ј–∞ —А—Л–±–∞–Ї–∞. –Ф—А—Г–≥–Є—Е –Њ–љ –≤—Б–µ—Е –Ј–∞–±—А–∞–Ї—Г–µ—В, –њ—Г—Б—В—М –Є –љ–µ –њ—А–Њ–±—Г—О—В –±—А–∞—В—М –Ї—Г—А—Б –љ–∞ –Ы–∞–є–љ–µ! –Ы–∞–є–љ–µ —Б–Љ–µ—П–ї–∞—Б—М –Є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–∞, —З—В–Њ –≤–Њ–≤—Б–µ –љ–µ —Б–Њ–±–Є—А–∞–µ—В—Б—П –Ј–∞–Љ—Г–ґ, –љ–Њ —Г–ґ –µ—Б–ї–Є –≤—Л–є–і–µ—В, —В–Њ, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –Ј–∞ –Љ–Њ—А—П–Ї–∞ вАФ –љ–µ –Њ—Б–ї—Г—И–∞–µ—В—Б—П –Њ—В—Ж–∞; –Њ–љ–∞ –њ–Њ–≥–ї—П–і—Л–≤–∞–ї–∞ –љ–∞ –Э–Є–Ї–Є—В—Г, –Є –µ–Љ—Г –≤–і—А—Г–≥ –њ–Њ–і—Г–Љ–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –Љ–Њ—А—П–Ї —Н—В–Њ—В –±—Г–і–µ—В —Б—З–∞—Б—В–ї–Є–≤–µ–є—И–Є–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–Љ –љ–∞ —Б–≤–µ—В–µ вАФ —В–∞–Ї—Г—О –і–µ–≤—Г—И–Ї—Г –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Є—Б–Ї–∞—В—М —Б—В–Њ –ї–µ—В, –љ–µ –љ–∞–є–і–µ—И—М, –Є –µ—Й–µ –њ–Њ–і—Г–Љ–∞–ї–Њ—Б—М вАФ –Є –Њ–љ —Б–∞–Љ —Г–і–Є–≤–Є–ї—Б—П —Н—В–Њ–є –њ—А–Є—И–µ–і—И–µ–є –µ–Љ—Г –љ–∞ —Г–Љ –Љ—Л—Б–ї–Є: ¬Ђ–Р –≤–µ–і—М —Н—В–Є–Љ –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–Љ –Љ–Њ–≥—Г –±—Л—В—М –Є —П, —П, –Э–Є–Ї–Є—В–∞!¬ї –Ю–љ –њ–Њ–є–Љ–∞–ї –µ–µ –≤–Ј–≥–ї—П–і, –µ–µ –≥–ї–∞–Ј–∞ –±—Л–ї–Є –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Є–µ, —Б–Є–љ–Є–µ, –ї–∞—Б–Ї–Њ–≤—Л–µ –Є, –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї–Є: ¬Ђ–Ь–Њ–ґ–µ—И—М¬ї. –Р –Ј–∞ –Њ–Ї–љ–Њ–Љ –±—Л–ї–Њ –Љ–Њ—А–µ, –Є –≤ –Љ–Њ—А–µ —Б–Ї–Њ–ї—М–Ј–Є–ї–Є —Б–µ—А—Л–µ –Є –ґ–µ–ї—В—Л–µ –њ–∞—А—Г—Б–∞, –Є –њ–∞—Б—Б–∞–ґ–Є—А—Б–Ї–Є–є –њ–∞—А–Њ—Е–Њ–і ¬Ђ–Ґ–∞—Б—Г—П¬ї (¬Ђ–Ь—Б—В–Є—В–µ–ї—М¬ї) —И–µ–ї –љ–∞ –±–ї–Є–ґ–∞–є—И–Є–µ –Њ—Б—В—А–Њ–≤–∞, —А–∞—Б—Б–µ–Ї–∞—П –Ј–µ–ї–µ–љ–Њ–≤–∞—В—Г—О –≤–Њ–і—Г –Є –Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—П –Ј–∞ —Б–Њ–±–Њ–є —Б–≤–µ—В–ї—Л–є —Б–ї–µ–і.  –Ш –Ѓ—Е–∞–љ –°–∞–∞—А –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї –Њ —Б–≤–Њ–µ–є –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ—Б—В–Є –≤ –Љ–Њ—А—П—Е, –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї —Б—Г–≤–µ–љ–Є—А—Л вАФ , —В—А—Г–±–Ї–Є –Є —З–µ—А–љ—Л–є –ї–Њ–Ї–Њ–љ вАФ –њ–Њ–і–∞—А–Њ–Ї –Њ–і–љ–Њ–є –∞—Д—А–Є–Ї–∞–љ–Ї–Є. –Э–Є–Ї–Є—В–∞ —Б —Г–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Є–µ–Љ —Б–ї—Г—И–∞–ї —Б—В–∞—А–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А—П–Ї–∞, —Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї –љ–∞ –Ы–∞–є–љ–µ вАФ –Њ–љ–∞ —Б –ї—Г–Ї–∞–≤—Л–Љ –≤–Є–і–Њ–Љ —В–µ—А–њ–µ–ї–Є–≤–Њ –≤—Л—Б–ї—Г—И–Є–≤–∞–ї–∞ –Љ–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј —Б–ї—Л—И–∞–љ–љ—Л–µ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л. –•–Њ—А–Њ—И–Њ –±—Л–ї–Њ —Б–Є–і–µ—В—М –≤ –Њ–±–ґ–Є—В–Њ–Љ, —Г—О—В–љ–Њ–Љ –і–Њ–Љ–µ вАФ –≤ –љ–µ–Љ –ї—О–і–Є –њ—А–Њ–ґ–Є–ї–Є –Љ–љ–Њ–≥–Њ –ї–µ—В. –Р —Г –Э–Є–Ї–Є—В—Л –±–Њ–ї—М—И–µ –љ–µ –±—Л–ї–Њ –і–Њ–Љ–∞, —Б —В–µ—Е –њ–Њ—А –Ї–∞–Ї —Г–Љ–µ—А–ї–∞ –Љ–∞–Љ–∞ вАФ –µ–≥–Њ –і–Њ–Љ –љ—Л–љ—З–µ –Ї–∞—О—В–∞ –љ–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ, –Є –њ—А–Є—П—В–љ–Њ, —Б–Њ–є–і—П –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥, –Ј–∞–є—В–Є —В—Г–і–∞, –≥–і–µ —В–µ–±—П –ґ–і—Г—В, —В–µ–±–µ —А–∞–і—Г—О—В—Б—П, –≥–і–µ —В—Л –љ—Г–ґ–µ–љ. –Ґ–µ–њ–ї–Њ–Љ –Є —Г—О—В–Њ–Љ –≤–µ—П–ї–Њ –Њ—В —Н—В–Њ–є –±–µ–ї–Њ–є –Ї–∞—Д–µ–ї—М–љ–Њ–є –Ї—Г—Е–Њ–љ—М–Ї–Є –Є –Њ—В –Ї–ї–µ—В—З–∞—В–Њ–є, –Ї—А–∞—Б–љ–Њ–є —Б —Б–Є–љ–Є–Љ, —Б–∞–ї—Д–µ—В–Ї–Є –љ–∞ –±–µ–ї–Њ–Љ —Б—В–Њ–ї–µ, –Є –Њ—В –≤—Л—И–Є—В—Л—Е –Ј–∞–љ–∞–≤–µ—Б–Њ–Ї, –Є –Њ—В –∞–Ї–≤–∞—А–µ–ї–µ–є –љ–∞ —Б—В–µ–љ–∞—Е. –Ы–∞–є–љ–µ –љ–∞–і–µ–ї–∞ –Ї–ї–µ—В—З–∞—В—Л–є –њ–µ—А–µ–і–љ–Є–Ї –Є, —Б–Ї–∞–Ј–∞–≤, —З—В–Њ –њ–Њ—А–∞ —Г–ґ–Є–љ–∞—В—М, —Б—В–∞–ї–∞ —Е–ї–Њ–њ–Њ—В–∞—В—М —Г –њ–ї–Є—В—Л; –Є –љ–∞ —Б—В–Њ–ї–µ –њ–Њ—П–≤–Є–ї–∞—Б—М —П–Є—З–љ–Є—Ж–∞, –њ–Њ—В–Њ–Љ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –µ–µ —Б—К–µ–ї–Є, вАФ –Љ–Њ–ї–Њ—З–љ—Л–є —Б—Г–њ —Б –Ї–∞–њ—Г—Б—В–Њ–є –Є –Њ–≤–Њ—Й–∞–Љ–Є, –Є –≤—Б–µ –±—Л–ї–Њ, –Ї–∞–Ї –і–Њ–Љ–∞, –љ–∞ –Ъ–Є—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ вАФ —В–∞–Ї –ґ–µ –≤–Ї—Г—Б–љ–Њ –≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї–∞ –Љ–∞–Љ–∞. –Ґ–∞–Ї –Њ–љ–Є –Є –љ–µ –њ–Њ—И–ї–Є –±–Њ–ї—М—И–µ –љ–Є–Ї—Г–і–∞ –≤ —Н—В–Њ—В –≤–µ—З–µ—А, –і–∞ –Є –љ–µ —Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М –љ–Є–Ї—Г–і–∞ —Г—Е–Њ–і–Є—В—М. –Я–Њ—З—В–Є –Ї–∞—Б–∞—П—Б—М –≥–Њ–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥–∞, –Њ–љ–Є —Б–Ї–ї–Њ–љ–Є–ї–Є—Б—М –љ–∞–і –∞–ї—М–±–Њ–Љ–∞–Љ–Є —А–µ–њ—А–Њ–і—Г–Ї—Ж–Є–є вАФ –Э–Є–Ї–Є—В–∞ –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ —Г–Ј–љ–∞–ї –Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Ш–Њ—Е–∞–љ–љ–∞ –Ъ–µ–ї–µ—А–∞, –Ф—О–Ї–Ї–µ—А–∞, –У–Њ—Д–Љ–∞–љ–∞, –Ш–Њ—Е–∞–љ–љ–Є, –њ–µ–≤—Ж–Њ–≤ —Б—Г—А–Њ–≤–Њ–є –њ—А–Є—А–Њ–і—Л –≠—Б—В–Њ–љ–Є–Є, –Ї–∞–Љ–µ–љ–Є—Б—В–Њ–є –Ј–µ–Љ–ї–Є –Є –љ–µ–ї—О–і–Є–Љ–Њ–≥–Њ ¬Ђ–±–µ—А–µ–≥–∞ –≤–µ—В—А–Њ–≤¬ї вАФ –≤–∞–ї—Г–љ—Л, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ —А–∞–Ј–±—А–Њ—Б–∞–љ–љ—Л–µ —Й–µ–і—А–Њ–є —А—Г–Ї–Њ–є –Љ–µ–ґ–і—Г —Б–Њ–≥–љ—Г—В—Л—Е –≤–µ—В—А–∞–Љ–Є —Б–Њ—Б–µ–љ, –≥–Њ–ї—Г–±—Л–µ –њ–µ—А–µ–ї–µ—Б–Ї–Є, –≤–Њ–ї–љ—Г—О—Й–Є–µ—Б—П –њ–Њ–ї—П, –Њ—Б–≤–µ—Й–µ–љ–љ—Л–µ —Б–Њ–ї–љ—Ж–µ–Љ, –≥–Њ—А–Њ–і–∞ —Б–Њ —Б—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤—Л–Љ–Є –±–∞—И–љ—П–Љ–Є; –њ–Њ—А—В—А–µ—В—Л –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ –Є –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ–Њ–Ї —Б –љ–∞—В—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ–Є —А—Г–Ї–∞–Љ–Є –Є —А—Л–±–∞–Ї–Њ–≤ вАФ –Њ–љ–Є —А–Њ–і–љ—П –Љ–Њ—А—П–Ї–∞–Љ.  вАФ (–љ–∞—Б—В. –Є–Љ—П –Є —Д–∞–Љ. –Щ–Њ—Е–∞–љ –Ъ–µ–ї–µ—А; 1826вАУ1899) вАУ —Н—Б—В. –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б–µ—Ж, –њ–µ–і–∞–≥–Њ–≥. –Ю—Б–љ–Њ–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ–Є–Ї —Н—Б—В. –љ–∞—Ж. —И–Ї–Њ–ї—Л –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б–Є. –Я–Њ—А—В—А–µ—В–Є—Б—В, –∞–≤—В–Њ—А –Ї–∞—А—В–Є–љ –љ–∞ –Љ–Є—Д–Њ–ї–Њ–≥–Є—З., –ї–Є—В–µ—А. –Є –±—Л—В–Њ–≤—Л–µ —В–µ–Љ—Л, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –њ–µ–є–Ј–∞–ґ–µ–є –Ч–∞–ґ–≥–ї–Є —Б–≤–µ—В; –Ј–∞ –Њ–Ї–љ–∞–Љ–Є –њ–Њ–і–љ—П–ї—Б—П –≤–µ—В–µ—А, –њ–Њ–ї–Є–ї –њ–Њ —Б—В–µ–Ї–ї–∞–Љ –і–Њ–ґ–і—М, –∞ –Ј–і–µ—Б—М –±—Л–ї–Њ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –Є —Г—О—В–љ–Њ. –Э–Њ –≤–Њ—В –≥—Г–ї–Ї–Њ —Г–і–∞—А–Є–ї –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї —Г –і–≤–µ—А–µ–є вАФ –Ы–∞–є–љ–µ –≤—Л–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –љ–∞ –љ–Њ—З–љ–Њ–µ –і–µ–ґ—Г—А—Б—В–≤–Њ. вАФ –Ш —Г –љ–∞—Б –±—Л–≤–∞—О—В –±–Њ–µ–≤—Л–µ —В—А–µ–≤–Њ–≥–Є, вАФ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞ –Њ–љ–∞, –Њ–і–µ–≤–∞—П—Б—М. –Т–Њ–Ј–ї–µ –Љ–Њ—А—П –≤–µ—В–µ—А –±—Л–ї –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ —А–µ–Ј–Њ–Ї, –Є –Њ—В –µ–≥–Њ –њ–Њ—А—Л–≤–Њ–≤ —В—А–µ—Й–∞–ї–∞ —Б—В–∞—А–∞—П –Ї–Њ—А–∞–±–µ–ї—М–љ–∞—П –Љ–∞—З—В–∞. –І–∞—Б—Л –љ–∞ —А–∞—В—Г—И–љ–Њ–є –±–∞—И–љ–µ –≥–ї—Г—Е–Њ –њ—А–Њ–±–Є–ї–Є –і–µ—Б—П—В—М. вАФ –Т—Л –љ–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М? вАФ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї–∞ –Њ–љ–∞. вАФ –Э–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М. вАФ –У–Њ–≤–Њ—А—П—В, –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М —Г –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–≤ вАФ –і–Њ–Љ? вАФ –ѓ –±—Л —Е–Њ—В–µ–ї –Є–Љ–µ—В—М –Є –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥—Г —В–µ–њ–ї—Л–є —Г–≥–Њ–ї, вАФ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–ї—Б—П –Э–Є–Ї–Є—В–∞. вАФ –Ь–Њ–є –Њ—В–µ—Ж –ї—О–±–Є–ї –Љ–Њ—А–µ, –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М, –љ–Њ –≤—Б–µ–≥–і–∞ —Б —А–∞–і–Њ—Б—В—М—О –њ—А–Є–µ–Ј–ґ–∞–ї –Ї –љ–∞–Љ –љ–∞ –Ъ–Є—А–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –Є –ї—О–±–Є–ї –њ–Њ—Б–Є–і–µ—В—М –Ј–∞ —Б—В–Њ–ї–Њ–Љ... –Р –≤–Њ—В —Г –Љ–µ–љ—П –љ–µ—В —В–µ–њ–µ—А—М –±–Њ–ї—М—И–µ —Г–≥–ї–∞ –Є –љ–∞ –Ъ–Є—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ... вАФ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Њ–љ —Б –≥—А—Г—Б—В—М—О. 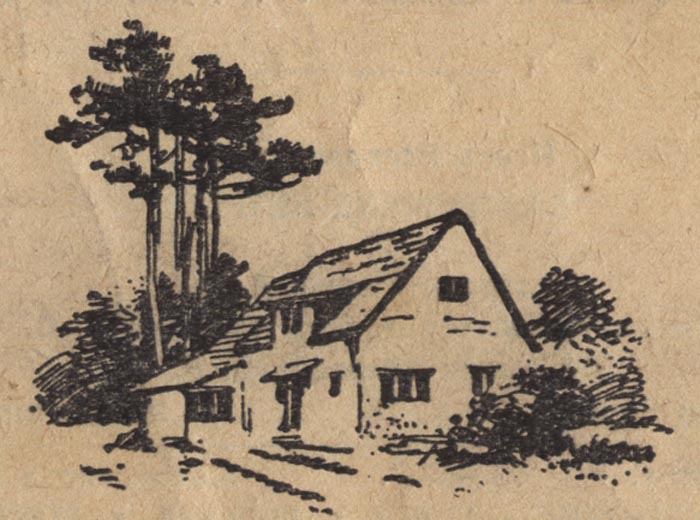 вАФ –£ –≤–∞—Б –µ—Б—В—М —Б–≤–Њ–є —Г–≥–Њ–ї –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥—Г, вАФ –≤–Њ–Ј—А–∞–Ј–Є–ї–∞ –Њ—В –≤—Б–µ–є –і—Г—И–Є –Ы–∞–є–љ–µ. вАФ –Ъ–Њ–≥–і–∞ –±—Л –≤—Л –љ–Є –њ—А–Є—И–ї–Є, –≤–∞–Љ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –±—Г–і—Г—В —А–∞–і—Л. –Т–∞–Љ —Б—В–Њ–Є—В —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ—А–Є–є—В–Є –Є —Г–і–∞—А–Є—В—М –≤ –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї... –Ш —П –њ–Њ–і–љ–Є–Љ—Г —Д–ї–∞–≥ –љ–∞ –Љ–∞—З—В–µ, вАФ –Ј–∞—Б–Љ–µ—П–ї–∞—Б—М –Њ–љ–∞. –Ю–љ–Є –і–Њ—И–ї–Є –і–Њ —П—А–Ї–Њ –Њ—Б–≤–µ—Й–µ–љ–љ—Л—Е –Њ–Ї–Њ–љ –±–Њ–ї—М–љ–Є—Ж—Л. –Э–Є–Ї–Є—В–∞ –њ–Њ–ґ–∞–ї –њ–Њ—З—В–Є –Љ—Г–ґ—Б–Ї—Г—О, —В–µ–њ–ї—Г—О —А—Г–Ї—Г –Ы–∞–є–љ–µ. –°—А–µ–і–Є –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –і–µ–≤—Г—И–µ–Ї —В–∞–Ї—Г—О –Њ–љ –≤—Б—В—А–µ—В–Є–ї –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ. –°–µ–≥–Њ–і–љ—П –Њ–љ, –њ–Њ–ґ–∞–ї—Г–є, —Г–Ј–љ–∞–ї –Њ –љ–µ–є –±–Њ–ї—М—И–µ, —З–µ–Љ –Ј–∞ –≤—Б–µ –Є—Е –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Є–µ –≤—Б—В—А–µ—З–Є... вАФ –Ф–Њ —Б–≤–Є–і–∞–љ–Є—П. –Ю–љ–∞ –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї–∞ –µ–Љ—Г –њ–Њ-—Н—Б—В–Њ–љ—Б–Ї–Є: вАФ –ѓ—В–∞–є–≥–∞! –Ч–∞—Е–ї–Њ–њ–љ—Г–ї–∞—Б—М –і–≤–µ—А—М –њ–Њ–і—К–µ–Ј–і–∞; –µ–µ —В–µ–љ—М –њ–Њ—П–≤–Є–ї–∞—Б—М –љ–∞ –Ј–∞–Ї—А–∞—И–µ–љ–љ–Њ–Љ –Љ–µ–ї–Њ–Љ —Б—В–µ–Ї–ї–µ –Є –Є—Б—З–µ–Ј–ї–∞. –Э–Є–Ї–Є—В–∞ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є–ї —Б–µ–±–µ, –Ї–∞–Ї –Њ–љ–∞ —Б–љ—П–ї–∞ –Љ–Њ–Ї—А—Л–є –њ–ї–∞—Й, –љ–∞–і–µ–≤–∞–µ—В –Є –њ–Њ–і–њ–Њ—П—Б—Л–≤–∞–µ—В —Е–∞–ї–∞—В, –Љ–Њ–µ—В —А—Г–Ї–Є –љ–∞–і —Г–Љ—Л–≤–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–Љ, –Є–і–µ—В –њ–Њ –Ї–Њ—А–Є–і–Њ—А—Г –≤ –њ–∞–ї–∞—В—Л, —Б–Ї–ї–Њ–љ—П–µ—В—Б—П –љ–∞–і –±–Њ–ї—М–љ—Л–Љ–Є. –Ю–љ вАФ –Њ–і–Є–љ –≤ —В–µ–Љ–љ–Њ—В–µ. –Х–Љ—Г —В—А—Г–і–љ–Њ –Є–і—В–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤ –≤–µ—В—А–∞; —Б–ї–µ–Ј—П—В—Б—П –≥–ї–∞–Ј–∞, —Б—В—Л–љ—Г—В —Г—И–Є, –њ–Њ–ї—Л —И–Є–љ–µ–ї–Є –њ—А–Є–±–Є–≤–∞–µ—В –Є –Ї–Њ–ї–µ–љ—П–Љ. –Ю–љ –і—Г–Љ–∞–µ—В –Њ –љ–µ–є. –Ю–љ –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В, –Ї–∞–Ї –ї–Є—Ж–Њ –Ы–∞–є–љ–µ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Њ—Б—М —В–Њ —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ—Л–Љ, —В–Њ –≤–і–Њ—Е–љ–Њ–≤–µ–љ–љ—Л–Љ, –Ї–∞–Ї –Ї–Є–і–∞–ї–∞ –Њ–љ–∞ –љ–∞ –љ–µ–≥–Њ –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Є–µ –≤–Ј–≥–ї—П–і—Л –Є–Ј-–њ–Њ–і –і–ї–Є–љ–љ—Л—Е —А–µ—Б–љ–Є—Ж, –Є –њ—Л—В–∞–µ—В—Б—П –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В—М, —Б –Ї–∞–Ї–Є–Љ –ї–Є—Ж–Њ–Љ –Њ–љ–∞ –њ–Њ–і—Е–Њ–і–Є—В –Ї –±–Њ–ї—М–љ–Њ–Љ—Г —А–µ–±–µ–љ–Ї—Г, —Б –Ї–∞–Ї–Є–Љ –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –≤—Л–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–µ—В –Љ–Њ–Ј–∞–Є–Ї–Є –Є –њ–Є—И–µ—В —Б–≤–Њ–Є –∞–Ї–≤–∞—А–µ–ї–Є –Є –Ї–∞–Ї –Љ–Њ—А—Й–Є—В –ї–Њ–±, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤ –±—А–µ–Ј–µ–љ—В–Њ–≤–Њ–є –Ї—Г—А—В–Ї–µ –Є –≤ —А–µ–Ј–Є–љ–Њ–≤—Л—Е —Б–∞–њ–Њ–≥–∞—Е –Є–і–µ—В —Б —А—Л–±–∞–Ї–∞–Љ–Є –љ–∞ –ї–Њ–≤ –Є –≤ –ї–Є—Ж–Њ –±—М–µ—В —Б–Њ–ї–µ–љ–∞—П –Љ–Њ—А—Б–Ї–∞—П –≤–Њ–ї–љ–∞, –Р –Ї–∞–Ї–Њ–є —Г –љ–µ–µ –±—Л–ї —Б–Њ—Б—А–µ–і–Њ—В–Њ—З–µ–љ–љ—Л–є –≤–Є–і, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ–∞, —А–∞–Ј—А—Г–Љ—П–љ–Є–≤—И–∞—П—Б—П, —Б—В–Њ—П–ї–∞ —Г –њ–ї–Є—В—Л, –ґ–∞—А—П —П–Є—З–љ–Є—Ж—Г! –£ –љ–µ–µ —З—Г—В—М –љ–µ –њ—А–Є–≥–Њ—А–µ–ї–Њ вАФ –Ј–∞–≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–∞—Б—М –Є –њ—А–Њ–Ј–µ–≤–∞–ї–∞, вАФ –ї–Є—Ж–Њ —Б—В–∞–ї–Њ –Є—Б–њ—Г–≥–∞–љ–љ—Л–Љ, –Ї–∞–Ї —Г –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Њ–є –і–µ–≤–Њ—З–Ї–Є, —Г–≤–Є–і–µ–≤—И–µ–є –њ–∞—Г–Ї–∞. –Ю–љ–∞ вАФ —Б–ї–∞–≤–љ–∞—П. –Ш –Ї–∞–Ї–Є–µ —Г –љ–µ–µ —Г–Љ–µ–ї—Л–µ —А—Г–Ї–Є! –Я–Њ–і —В–µ–Љ–љ—Л–Љ –і–µ—А–µ–≤–Њ–Љ –≤ –њ–∞—А–Ї–µ —Б—В–Њ–Є—В –њ–∞—А–Њ—З–Ї–∞; –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞ вАФ –ї–Є—Ж–∞ –љ–µ –≤–Є–і–љ–Њ вАФ –≤–Ј–≤–Њ–ї–љ–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В: ¬Ђ–Я–Њ–і–ї–µ—Ж, –∞—Е, –њ–Њ–і–ї–µ—Ж, –љ—Г, –Ї–∞–Ї–Њ–є —В—Л –њ–Њ–і–ї–µ—Ж¬ї, –Љ—Г–ґ—З–Є–љ–∞ –Њ–њ—А–∞–≤–і—Л–≤–∞–µ—В—Б—П: ¬Ђ–Ф–∞ –њ–Њ–≥–Њ–і–Є, –Ы—О–і–Њ—З–Ї–∞, –і–∞–≤–∞–є, –≤—Л—П—Б–љ–Є–Љ, —Г–ґ –љ–µ —В–∞–Ї–Њ–є —П —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ, –Ї–∞–Ї —В—Л –і—Г–Љ–∞–µ—И—М...¬ї –Э–Є–Ї–Є—В–∞ —Г—Б–Љ–µ—Е–љ—Г–ї—Б—П: –Є —В–∞–Ї–Њ–є –±—Л–≤–∞–µ—В –ї—О–±–Њ–≤—М... –Х–≥–Њ –Љ—Л—Б–ї–Є –Њ–њ—П—В—М –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞—О—В—Б—П –Ї –і–Њ–Љ–Є–Ї—Г —Б –Љ–∞—З—В–Њ–є –≤ —Б–∞–і—Г –Є —Б –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї–Њ–Љ —Г –і–≤–µ—А–Є. ¬Ђ–Т–∞–Љ —Б—В–Њ–Є—В –њ—А–Є–є—В–Є –Є —Г–і–∞—А–Є—В—М –≤ –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї, –Є —П –њ–Њ–і–љ–Є–Љ—Г —Д–ї–∞–≥ –љ–∞ –Љ–∞—З—В–µ...¬ї –Ш –Њ–љ —Б–љ–Њ–≤–∞ –≤–Є–і–Є—В —Г–ї—Л–±–Ї—Г –Ы–∞–є–љ–µ, –Є –µ–µ –±–µ–ї—Л–µ –Ј—Г–±—Л, –Є –µ–µ —Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –≥–ї–∞–Ј–∞... –Т–Њ—В –Є –њ–Є—А—Б. –Я–Њ–і –љ–Њ–≥–∞–Љ–Є —Б–Ї—А–Є–њ–Є—В –Љ–Њ–Ї—А—Л–є –љ–∞—Б—В–Є–ї. ¬Ђ–Ґ—А–Є—Б—В–∞ —В—А–µ—В—М–µ–≥–Њ¬ї –љ–µ—В. –Ч–љ–∞—З–Є—В, –§—А–Њ–ї —Г—И–µ–ї –≤ –Љ–Њ—А–µ. –£—О—В–љ–Њ —Б–≤–µ—В—П—В—Б—П –Њ–≥–љ–Є –µ–≥–Њ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П. ¬Ђ–Ч–∞–≤—В—А–∞ –Є –Љ—Л –њ–Њ–є–і–µ–Љ! –•–Њ—А–Њ—И–Њ! –Ф–Њ —З–µ–≥–Њ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ!¬ї –Ъ—А–∞–Љ—Б–Ї–Њ–є, —А–∞–і–Њ—Б—В–љ–Њ –≤—Б—В—А–µ—З–µ–љ–љ—Л–є –°—В–∞—А–Є–Ї–Њ–Љ, –Ј–∞–ґ–µ–≥ —Б–≤–µ—В. –У–ї–µ–±–∞ –љ–µ –±—Л–ї–Њ. –У–і–µ –µ–≥–Њ –љ–Њ—Б–Є—В –≤—Б–µ –≤–µ—З–µ—А–∞? –Ю–љ –±—Л–≤–∞–µ—В —Г –Ь—Л–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–≤—Л—Е. –У–Њ–≤–Њ—А–Є–ї –Њ –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ –ґ–µ–љ–µ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –Њ—З–µ–љ—М —Б–Ї—Г—З–∞–µ—В. –Э–µ—Г–ґ–µ–ї–Є –Є —В—Г—В вАФ –њ–Њ—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П? вАФ , —В—Л –≥–Њ–ї–Њ–і–µ–љ? –Ф–µ—А–ґ–Є –Ї–Њ–ї–±–∞—Б—Г. –Р–њ–њ–µ—В–Є—В–∞ –љ–µ—В?  –Ю–љ –љ–∞—Й—Г–њ–∞–ї —Б—Г—Е–Њ–є –Є –≥–Њ—А—П—З–Є–є –љ–Њ—Б. вАФ –Ф–∞ —Г —В–µ–±—П –Є –≥–ї–∞–Ј–∞ –љ—Л–љ—З–µ –Љ—Г—В–љ—Л–µ. –Ш–і–Є, –њ–Њ–ї–µ–ґ–Є. –°—В–∞—А–Є–Ї —Б –≤–Є–љ–Њ–≤–∞—В—Л–Љ –≤–Є–і–Њ–Љ –њ—А–Њ—В—П–љ—Г–ї —Е–Њ–Ј—П–Є–љ—Г –ї–∞–њ—Г –Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ —В–Њ—В –њ–Њ–ґ–∞–ї –µ–µ, –ї–µ–≥ —Г –Ї—А–Њ–≤–∞—В–Є. вАФ –Р –≥–і–µ –У–ї–µ–±? –Ґ—Л –љ–µ –Ј–љ–∞–µ—И—М? вАФ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї –Ъ—А–∞–Љ—Б–Ї–Њ–є. –°—В–∞—А–Є–Ї —Б–ї–µ–≥–Ї–∞ —Б—В—Г–Ї–љ—Г–ї –њ–Њ –њ–Њ–ї—Г —В–Њ–ї—Б—В—Л–Љ —Е–≤–Њ—Б—В–Њ–Љ. вАФ –Э—Г –ї–∞–і–љ–Њ. –Ь—Л –њ–Њ–і–Њ–ґ–і–µ–Љ. –Р –њ–Њ–Ї–∞ –њ—А–Є–≥–Њ—В–Њ–≤–Є–Љ –Ї–Њ—Д–µ. –Ю–љ –њ—А–Њ—И–µ–ї –≤ —Б—В–Њ–ї–Њ–≤—Г—О. –†–∞–љ—М—И–µ –°—В–∞—А–Є–Ї –≤—Б–µ–≥–і–∞ —Е–Њ–і–Є–ї –Ј–∞ –љ–Є–Љ –њ–Њ –њ—П—В–∞–Љ. –Ґ–µ–њ–µ—А—М –Њ–љ –Њ—Б—В–∞–ї—Б—П –љ–∞ –Ї–Њ–≤—А–Є–Ї–µ. –Ю–љ –±–Њ–ї–µ–љ. –Ш —Б–Њ–±–∞–Ї–Є –±–Њ–ї–µ—О—В —А–∞–Ї–Њ–Љ. –Т–µ—В–µ—А–Є–љ–∞—А –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –і–Є–∞–≥–љ–Њ–Ј: –°—В–∞—А–Є–Ї –±–µ–Ј–љ–∞–і–µ–ґ–µ–љ. –Х–≥–Њ —Б–љ–∞—З–∞–ї–∞ –Ї–Њ–ї–Њ–ї–Є –њ–µ–љ–Є—Ж–Є–ї–ї–Є–љ–Њ–Љ, –Є –Њ–љ, —Г–≤–Є–і–µ–≤ —И–њ—А–Є—Ж, –њ–Њ–Ї–Њ—А–љ–Њ –ї–Њ–ґ–Є–ї—Б—П –Є –њ–Њ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї –Ј–∞–і, –≤–µ—А—П, —З—В–Њ –ї—О–і–Є –µ–≥–Њ –Є—Б—Ж–µ–ї—П—В. –С–µ–і–љ—Л–є –°—В–∞—А–Є–Ї! –Ф–∞–ґ–µ –љ–∞ –У–ї–µ–±–∞ –±–Њ–ї—М—И–µ –љ–µ —А—Л—З–Є—В, –њ—А–Є—В–µ—А–њ–µ–ї—Б—П. –Э–Њ –њ–Њ—З–µ–Љ—Г-—В–Њ –љ–µ —Б–њ—Г—Б–Ї–∞–µ—В —Б –љ–µ–≥–Њ –≥–ї–∞–Ј. –°—В—А–∞–љ–љ–Њ. –†–Њ—Б—В–Є—Б–ї–∞–≤ –њ—А–Є—Б–ї–∞–ї —А–∞–і–Њ—Б—В–љ–Њ–µ –њ–Є—Б—М–Љ–Њ, —Б–і–∞–ї —Н–Ї–Ј–∞–Љ–µ–љ. –Т—Б—В—Г–њ–∞–µ—В –≤ —Д–ї–Њ—В—Б–Ї—Г—О –ґ–Є–Ј–љ—М. ¬Ђ–Р –У–ї–µ–±... вАФ —А–∞–Ј–Љ—Л—И–ї—П–µ—В –Ъ—А–∞–Љ—Б–Ї–Њ–є. вАФ –Э–∞ –і–љ—П—Е —П –њ—А–Њ—Б–Є–ї –љ–µ –±—А–∞—В—М –і–µ–љ–µ–≥ –±–µ–Ј —Б–њ—А–Њ—Б–∞. –Э–µ –Ј–∞–њ–Є—А–∞–ї —П—Й–Є–Ї. –°–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–ї –љ–µ—Е–≤–∞—В–Ї—Г –і–≤—Г—Е —Б–Њ—В–µ–љ. –У–ї–µ–± –і–∞–ґ–µ –љ–µ –њ–Њ–Ї—А–∞—Б–љ–µ–ї. –Ю–љ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї: ¬Ђ–Ь–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –≤—Л–і–∞—И—М –Љ–љ–µ —В–Њ, —З—В–Њ –Љ–љ–µ –њ—А–Є—З–Є—В–∞–µ—В—Б—П?¬ї –Х–Љ—Г –њ—А–Є—З–Є—В–∞–µ—В—Б—П... –Э—Г —З—В–Њ –ґ, –њ–Њ–ї—Г—З–Є –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ–Њ–µ... ¬Ђ–Ъ–∞–Ї —В—Л –і—Г–Љ–∞–µ—И—М –ґ–Є—В—М –і–∞–ї—М—И–µ?¬ї –У–ї–µ–± –µ—Й–µ –љ–µ —А–µ—И–Є–ї. ¬Ђ–Я–Њ–Ї–∞ –њ–Њ–ґ–Є–≤—Г —Г —В–µ–±—П. –Ґ—Л –љ–µ –≤–Њ–Ј—А–∞–ґ–∞–µ—И—М?¬ї ¬Ђ–Ь–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –љ–µ –њ–Њ–Ј–і–љ–Њ –Ј–∞–љ—П—В—М—Б—П –µ–≥–Њ –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–Є–µ–Љ? –Ю–љ вАФ –±—А–∞—В –†–Њ—Б—В–Є—Б–ї–∞–≤–∞. –•–Њ—В—П –Њ–љ–Є –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –і—А—Г–ґ–Є–ї–Є... –Ю–љ –ґ–Є–≤–µ—В, –Ї–∞–Ї –≤ –≥–Њ—Б—В–Є–љ–Є—Ж–µ вАФ –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В, –ї–Њ–ґ–Є—В—Б—П –Є —Б–њ–Є—В. –ѓ –Љ–µ—З—В–∞–ї –≤ –µ–≥–Њ –≥–Њ–і—Л. –Р ?  –Т–Њ—В –Є –Ї–Њ—Д–µ –≤—Б–Ї–Є–њ–µ–ї. –Р, –Ј–≤–Њ–љ–Њ–Ї! –Ч–∞–ї–∞—П–ї –°—В–∞—А–Є–Ї. –Э–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ, –У–ї–µ–± –Ј–∞–±—Л–ї –Ї–ї—О—З. –Ш–і—Г, –Є–і—Г!¬ї вАФ –Т–∞–Љ –Ї–Њ–≥–Њ? –Я–Њ—Б—В–Њ–є—В–µ, –њ–Њ—Б—В–Њ–є! –°—Г–Љ–∞—В–Њ—И–Є–љ! –Т–∞–і–Є–Љ! –Ъ–∞–Ї–Є–Љ –≤–µ—В—А–Њ–Љ? –Ъ—А–∞–Љ—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–љ–Є–Љ–∞–µ—В —Б—В–∞—А–Њ–≥–Њ –і—А—Г–≥–∞. вАФ –Ы–µ—В –і–µ—Б—П—В—М —Б —В–Њ–±–Њ–є –љ–µ –≤–Є–і–∞–ї–Є—Б—М! вАФ –С–µ—А–Є –±–Њ–ї—М—И–µ! –° –љ–∞—З–∞–ї–∞ –≤–Њ–є–љ—Л! –Я–Њ–Љ–Њ–≥–∞–µ—В –і—А—Г–≥—Г —О–љ–Њ—Б—В–Є —Б–љ—П—В—М –і–Њ—А–Њ–≥—Г—О —И—Г–±—Г. вАФ –Ъ–∞–Ї–Є–Љ–Є —Б—Г–і—М–±–∞–Љ–Є? –Э—Г, –њ–Њ–є–і–µ–Љ, –њ–Њ–є–і–µ–Љ. –°–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ, –°—В–∞—А–Є–Ї, —Н—В–Њ вАФ –і—А—Г–≥! –Ф–∞, —Н—В–Њ—В —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї —Б –њ–Њ—В–µ—А—В—Л–Љ –ї–Є—Ж–Њ–Љ, –Њ—В—А–∞—Б—В–Є–≤—И–Є–є –±—А—О—И–Ї–Њ, —А–∞—Б—В–µ—А—П–≤—И–Є–є –±–Њ–ї—М—И—Г—О —З–∞—Б—В—М –Ї–Њ–≥–і–∞-—В–Њ –њ—Л—И–љ—Л—Е –≤–Њ–ї–Њ—Б, —Б –Њ—Б–Ї–∞–ї–Њ–Љ —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ –Љ–Њ–ї–Њ–і—Л—Е –Є –Ї—А–∞—Б–Є–≤—Л—Е –Ј—Г–±–Њ–≤ –і–ї—П —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ–±—Л –Њ–љ–Є –±—Л–ї–Є —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ–Є, вАФ –і—А—Г–≥ –µ–≥–Њ —О–љ–Њ—Б—В–Є. –Т–∞–і—М–Ї–∞ –°—Г–Љ–∞—В–Њ—И–Є–љ... –Х–≥–Њ –і—А–∞–Ј–љ–Є–ї–Є ¬Ђ–±—Г–і—Г—Й–Є–Љ —Б–≤–µ—В–Є–ї–Њ–Љ –∞—А—Е–Є—В–µ–Ї—В—Г—А—Л¬ї, –∞ –Њ–љ –≤–Ј—П–ї –Є —Б—В–∞–ї —Н—В–Є–Љ —Б–≤–µ—В–Є–ї–Њ–Љ! вАФ –Э-–љ–µ–њ–ї–Њ—Е–Њ, –Ѓ—А–∞, –ґ–Є–≤–µ—И—М, вАФ –Њ–і–Њ–±—А–Є–ї –≥–Њ—Б—В—М, –Њ–Ј–Є—А–∞—П –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В. –Т—Б–µ –њ–Њ-–њ—А–µ–ґ–љ–µ–Љ—Г —Б–ї–µ–≥–Ї–∞ –Ј–∞–Є–Ї–∞–µ—В—Б—П... вАФ –Ґ—Л —В–Њ–ґ–µ –љ–µ–њ–ї–Њ—Е–Њ, —П —Б–ї—Л—И–∞–ї? вАФ –≠-—Н, –Љ–Є–ї—Л–є, –∞ —З-—З–µ–≥–Њ —Н—В–Њ —Б—В–Њ–Є–ї–Њ! –Э-–љ–µ—А–≤–Њ–≤. –Ґ–µ—А–њ–µ–љ–Є—П. –Ш —Г–Љ-–Љ–µ–љ–Є—П. вАФ –°–∞–і–Є—Б—М, –±—Г–і–µ–Љ –Ї–Њ—Д–µ –њ–Є—В—М: –І—В–Њ —В–µ–±—П –Ј–∞–љ–µ—Б–ї–Њ –Ї –љ–∞–Љ? вАФ –Ф–ї—П –ї—О–і–µ–є –љ-–љ–∞—И–µ–≥–Њ —Б —В–Њ–±–Њ–є –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–∞, вАФ –љ–µ –Њ—В–≤–µ—З–∞—П –љ–∞ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б, –њ–Њ—Б—В—Г–Ї–Є–≤–∞—П –њ–∞–ї—М—Ж–∞–Љ–Є –њ–Њ —Б—В–Њ–ї—Г, –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –°—Г–Љ–∞—В–Њ—И–Є–љ, вАФ –љ-–љ–∞—Б—В—Г–њ–∞–µ—В –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Љ-–Љ—Г—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Е–Њ—З–µ—В—Б—П –≤—Б—В—А–µ—В–Є—В—М—Б—П —Б —О–љ–Њ—Б—В—М—О. –Э–µ –њ–Њ–є–Љ–Є –њ—А–µ–≤-–≤—А–∞—В–љ–Њ, —Б —Б–≤–Њ–µ—О —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —О–љ–Њ—Б—В—М—О.  –Я—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В.  –Т–µ—А—О–ґ—Б–Ї–Є–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Т–Э–Р), –У–Њ—А–ї–Њ–≤ –Ю–ї–µ–≥ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Ю–Р–У), –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З (–Ь–Т–Т), –Ъ–°–Т. 198188. –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥, —Г–ї. –Ь–∞—А—И–∞–ї–∞ –У–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤–∞, –і–Њ–Љ 11/3, –Ї–≤. 70. –Ъ–∞—А–∞—Б–µ–≤ –°–µ—А–≥–µ–є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З, –∞—А—Е–Є–≤–∞—А–Є—Г—Б. karasevserg@yandex.ru
14.06.201309:3614.06.2013 09:36:05
0
13.06.201309:2113.06.2013 09:21:08
–Ч–∞ –≤—А–µ–Љ—П –њ–Њ—З—В–Є —Б—В–Њ–ї–µ—В–љ–µ–≥–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤—Б–Ї–Њ–є –Ш–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ–Њ–є –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Є –Є –Є–Ј —Б—В–µ–љ –Ш–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Љ–Ї–∞ –≤—Л—И–ї–Є –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–Њ—В–љ–Є —В–∞–ї–∞–љ—В–ї–Є–≤—Л—Е –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–Њ–≤. –Ш–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ–∞—П —И–Ї–Њ–ї–∞, –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ–∞—П –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–Њ–Љ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–Љ –Я–µ—А–≤—Л–Љ, –њ–Њ–і–∞—А–Є–ї–∞ —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤—Г —А—П–і –≤—Л–і–∞—О—Й–Є—Е—Б—П –ї—О–і–µ–є, —Б—В–∞–≤—И–Є—Е –µ–≥–Њ —Б–ї–∞–≤–Њ–є –Є –≥–Њ—А–і–Њ—Б—В—М—О. –°—А–µ–і–Є –љ–Є—Е –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї–Є –§.–Ь.–Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Є–є –Є –Ф.–Т.–У—А–Є–≥–Њ—А–Њ–≤–Є—З, —Г—З–µ–љ—Л–µ –Ш.–Ь.–°–µ—З–µ–љ–Њ–≤, –Я.–Ш.–ѓ–±–ї–Њ—З–Ї–Њ–≤ –Є –Х.–°.–§–µ–і–Њ—А–Њ–≤, –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї –Э.–Ъ.–®–Є–ї—М–і–µ—А, –∞—А—Е–Є—В–µ–Ї—В–Њ—А –Ш.–Ф.–Ъ–Њ—А—Б–Є–љ–Є, —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї –Ъ.–Р.–Ґ—А—Г—В–Њ–≤—Б–Ї–Є–є, –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—В–Њ—А –¶.–Р.–Ъ—О–Є –Є –і—А—Г–≥–Є–µ. 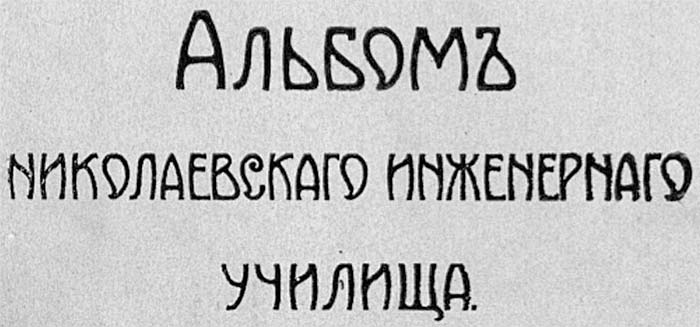 –Т –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є—Е —З–Є—Б–ї–∞—Е –Њ–Ї—В—П–±—А—П 1917 –≥–Њ–і–∞ —О–љ–Ї–µ—А–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–≥–Њ –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ш–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞ –њ—А–Є–љ—П–ї–Є —Г—З–∞—Б—В–Є–µ –≤ —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е —Б–Њ–±—Л—В–Є—П—Е. –Т –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–µ ¬Ђ–Ъ–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞ —Б–њ–∞—Б–µ–љ–Є—П¬ї –Њ—В 29 –Њ–Ї—В—П–±—А—П –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ ¬Ђ–≤—Б–µ–Љ –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–Є–Љ —З–∞—Б—В—П–Љ, –Њ–њ–Њ–Љ–љ–Є–≤—И–Є–Љ—Б—П –Њ—В —Г–і–∞—А–∞ –±–Њ–ї—М—И–µ–≤–Є—Б—В—Б–Ї–Њ–є –∞–≤–∞–љ—В—О—А—Л¬ї –Є –ґ–µ–ї–∞—О—Й–Є–Љ –њ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є—В—М –і–µ–ї—Г —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є –Є —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Л –њ—А–µ–і–њ–Є—Б—Л–≤–∞–ї–Њ—Б—М –љ–µ–Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ —Б—В—П–≥–Є–≤–∞—В—М—Б—П –≤ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤—Б–Ї–Њ–µ –Ш–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ–Њ–µ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ. –≠—В–Њ –≤–Њ–Ј–Ј–≤–∞–љ–Є–µ –љ–µ –±—Л–ї–Њ –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–∞–љ–Њ –і—А—Г–≥–Є–Љ–Є –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞–Љ–Є, –Є –≥–∞—А–љ–Є–Ј–Њ–љ –Ј–∞–Љ–Ї–∞ –Ї–∞–њ–Є—В—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–ї. –Э–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є–љ–∞—З–µ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –≤ —Н–љ—Ж–Є–Ї–ї–Њ–њ–µ–і–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ —Б–њ—А–∞–≤–Њ—З–љ–Є–Ї–µ ¬Ђ–°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥ вАУ –Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–і вАУ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і¬ї (1992): –Т –Ї–Њ–љ—Ж–µ –Њ–Ї—В—П–±—А—П –Ш–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ—Л–є –Ј–∞–Љ–Њ–Ї –±—Л–ї —И—В–∞–±–Њ–Љ —О–љ–Ї–µ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ—П—В–µ–ґ–∞ 1917 –≥, –њ—А–Є –њ–Њ–і–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Ј–∞–љ—П—В —Б–Њ–ї–і–∞—В–∞–Љ–Є –Я–∞–≤–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Ї–∞. –Т 1918 –≥–Њ–і—Г –≤ —Б—В–µ–љ–∞—Е –Ј–∞–Љ–Ї–∞ –Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞—О—В—Б—П –Я–µ—А–≤—Л–µ –Ш–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ—Л–µ –Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Є–µ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–љ—Л–µ –Ї—Г—А—Б—Л, —З–∞—Б—В—М –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞ –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і—П—В –љ–∞ —Б–ї—Г–ґ–±—Г –љ–Њ–≤–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є. –≠—В–Є–Љ —Б–Њ–±—Л—В–Є–µ–Љ –Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –Њ—З–µ—А–µ–і–љ–∞—П —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж–∞ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ (–Ш–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Љ–Ї–∞). –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ —Н—В–∞ —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж–∞ –±–Њ–ї—М—И–µ –њ–Њ—Е–Њ–ґ–∞ –љ–∞ —З–Є—Б—В—Л–є –ї–Є—Б—В, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –≤ —Г–њ–Њ–Љ—П–љ—Г—В—Л—Е –≤—Л—И–µ –Ї–љ–Є–≥–∞—Е —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Њ–± —Н—В–Њ–Љ –њ–µ—А–Є–Њ–і–µ –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤—Г—О—В. –Т—Л—И–µ—Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–є —Б–њ—А–∞–≤–Њ—З–љ–Є–Ї —В–∞–Ї–ґ–µ —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–µ—В, —З—В–Њ –≤ 1920-30-—Е –≥–Њ–і–∞—Е –≤ –Ш–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ–Њ–Љ –Ј–∞–Љ–Ї–µ —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–∞–ї–Є—Б—М –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ–∞—П —И–Ї–Њ–ї–∞ –Є –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ—Л–є –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Љ—Г–Ј–µ–є –†–Ъ–Ъ–Р; –≤ 1925-1932 вАУ –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-—В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—П. –Т –њ–µ—А–Є–Њ–і –±–ї–Њ–Ї–∞–і—Л –Ј–∞–Љ–Њ–Ї –њ–Њ—Б—В—А–∞–і–∞–ї –Њ—В –∞—А—В–Њ–±—Б—В—А–µ–ї–Њ–≤ –Є –±–Њ–Љ–±–∞—А–і–Є—А–Њ–≤–Њ–Ї. –Я—А—П–Љ—Л–Љ –њ–Њ–њ–∞–і–∞–љ–Є–µ–Љ —В—П–ґ–µ–ї–Њ–є –∞–≤–Є–∞–±–Њ–Љ–±—Л –≤ –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–µ –Ї—А—Л–ї–Њ –±—Л–ї–∞ —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–µ–љ–∞ –±—Л–≤—И–∞—П –њ–∞—А–∞–і–љ–∞—П —Б—В–Њ–ї–Њ–≤–∞—П –Ј–∞–Љ–Ї–∞. –Т–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ, –њ–µ—А–µ–њ–ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–Њ—З–љ—Л–µ –Є —А–µ—Б—В–∞–≤—А–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–µ —А–∞–±–Њ—В—Л –≤–µ–ї–Є—Б—М –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –њ–Њ—Б–ї–µ–≤–Њ–µ–љ–љ—Л–µ –≥–Њ–і—Л. –Т –Ј–∞–Љ–Ї–µ —А–∞–±–Њ—В–∞–ї–Є –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ —А–∞–Ј–љ–Њ–њ—А–Њ—Д–Є–ї—М–љ—Л–µ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –љ–µ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є —Б–Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є—О –њ–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ—Л—Е –Є–љ—В–µ—А—М–µ—А–Њ–≤ –і–≤–Њ—А—Ж–∞. –Ш–Ј –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –Ї—А—Г–њ–љ—Л—Е –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–є –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –љ–∞–Ј–≤–∞—В—М –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ—Г—О –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї—Г—О –±–Є–±–ї–Є–Њ—В–µ–Ї—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–µ—В —О–≥–Њ-–≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ—Г—О —З–∞—Б—В—М –Ј–∞–Љ–Ї–∞ –Є –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Є–є –Љ–µ–ґ–Њ—В—А–∞—Б–ї–µ–≤–Њ–є —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–∞–ї—М–љ—Л–є —Ж–µ–љ—В—А –љ–∞—Г—З–љ–Њ-—В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Є –Є –њ—А–Њ–њ–∞–≥–∞–љ–і—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї—Б—П –≤ –Њ—Б—В–∞–≤—И–µ–є—Б—П –љ–µ –Ј–∞–љ—П—В–Њ–є —З–∞—Б—В–Є –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –Ї—А—Л–ї–∞ –Ј–і–∞–љ–Є—П. –Т –Њ–±–µ–Є—Е –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—П—Е —П –±—Л–ї –љ–µ–Њ–і–љ–Њ–Ї—А–∞—В–љ—Л–Љ –њ–Њ—Б–µ—В–Є—В–µ–ї–µ–Љ –Є —З–Є—В–∞—В–µ–ї–µ–Љ.  –Ґ–Њ —З—В–Њ –љ–µ –њ—Г—Б—В–Њ–≤–∞–ї, –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞—О—В –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П –±—Л–≤—И–µ–≥–Њ –Ї—Г—А—Б–∞–љ—В–∞ –Т—Л—Б—И–µ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞ –Є–Љ–µ–љ–Є –§.–≠.–Ф–Ј–µ—А–ґ–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≠.–У.–Ъ–∞—А–њ–Њ–≤–∞, –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ –≤ –Ї–љ–Є–≥–µ ¬Ђ–ѓ –Т–Ђ–†–Ю–° –Т –°–Ю–Т–Х–Ґ–°–Ъ–Ю–Ь –°–Ю–Ѓ–Ч–Х¬ї. –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥ 2007. –°–њ—А–∞–≤–Ї–∞. –≠–і—Г–∞—А–і –У–∞–≤—А–Є–ї–Њ–≤–Є—З –Ъ–∞—А–њ–Њ–≤ - –і–Њ–Ї—В–Њ—А —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—Г–Ї, –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Њ—А, –ї–∞—Г—А–µ–∞—В –Ы–µ–љ–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –њ—А–µ–Љ–Є–Є, –±–Њ–ї–µ–µ —В—А–Є–і—Ж–∞—В–Є –ї–µ—В –њ—А–Њ—А–∞–±–Њ—В–∞–ї –≤ —Б—Д–µ—А–µ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є—П, –њ—А–Њ–є–і—П –њ—Г—В—М –Њ—В –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–≥–Њ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–∞ –і–Њ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–∞ –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –±—О—А–Њ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є —В–µ—Е–љ–Є–Ї–Є ¬Ђ–†—Г–±–Є–љ¬ї. ¬ЂвА¶–Ч–∞–Ї–∞–љ—З–Є–≤–∞–ї—Б—П –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є –і–µ–љ—М –Є—О–ї—П —В—Л—Б—П—З–∞ –і–µ–≤—П—В—М—Б–Њ—В –њ—П—В—М–і–µ—Б—П—В —З–µ—В–≤–µ—А—В–Њ–≥–Њ –≥–Њ–і–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Г –≤—Е–Њ–і–∞ –≤ –Ј–і–∞–љ–Є–µ –Р–і–Љ–Є—А–∞–ї—В–µ–є—Б—В–≤–∞, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ –Є–Љ–µ–љ–Є –Ф–Ј–µ—А–ґ–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ, —Б–Њ—И–ї–Є—Б—М —В—А–Є –±—Л–≤—И–Є—Е —В–±–Є–ї–Є—Б—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Ж–∞ вАФ –°–ї–∞–≤–∞ –Ц–µ–ґ–µ–ї—М, –Ъ–Њ–ї—П –Я–Њ–њ–Њ–≤ –Є —П. –Т –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –Љ—Л –±—Л–ї–Є –≤ —А–∞–Ј–љ—Л—Е –≤–Ј–≤–Њ–і–∞—Е, –љ–Њ –±—Л–ї–Є –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –і—А—Г–ґ–љ—Л, –∞ —В–µ–њ–µ—А—М –љ–∞–Љ –њ—А–µ–і—Б—В–Њ—П–ї–Њ –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Г—З–Є—В—М—Б—П –≤ ¬Ђ–і–Ј–µ—А–ґ–Є–љ–Ї–µ¬ї, –Є —Б —Н—В–Њ–≥–Њ –і–љ—П –Љ—Л —Б—В–∞–ї–Є –Њ—З–µ–љ—М –±–ї–Є–Ј–Ї–Є–Љ–Є –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥—Г. –Я–Њ —Б—В–∞—А–Њ–є –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –њ—А–Є–≤—Л—З–Ї–µ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М ¬Ђ–њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О¬ї –≤—А–µ–Љ—П –Њ—В–њ—Г—Б–Ї–∞ –Љ—Л –њ—А–Є—И–ї–Є —Б—О–і–∞ –Ј–∞ –њ–Њ–ї—З–∞—Б–∞ –і–Њ –Є—Б—В–µ—З–µ–љ–Є—П –µ–≥–Њ —Б—А–Њ–Ї–∞. –Э–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ—А–Є–≤, –Љ—Л —Б–і–µ–ї–∞–ї–Є –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Є–є –≤–і–Њ—Е –Є –њ–µ—А–µ—Б—В—Г–њ–Є–ї–Є –њ–Њ—А–Њ–≥, –Ј–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –љ–∞—З–Є–љ–∞–ї—Б—П –љ–Њ–≤—Л–є —Н—В–∞–њ –љ–∞—И–µ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є. –Т–Њ–є–і—П –≤ —Б–ї—Г–ґ–µ–±–љ—Л–є –≤–µ—Б—В–Є–±—О–ї—М, –Љ—Л –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є—Б—М –і–µ–ґ—Г—А–љ–Њ–Љ—Г –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Б —Г–і–Є–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ —Б—В–∞–ї —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—В—М –љ–∞—И–Є –њ—А–µ–і–њ–Є—Б–∞–љ–Є—П. –Т —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ –љ–∞—Б –љ–Є–Ї—В–Њ –љ–µ –ґ–і–∞–ї. –Т –Ј–і–∞–љ–Є–Є —Б—В–Њ—П–ї–∞ –Љ–µ—А—В–≤–∞—П —В–Є—И–Є–љ–∞ вАФ –≤—Б–µ –Ї—Г—А—Б–∞–љ—В—Л –±—Л–ї–Є –≤ —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –љ–∞ –њ–ї–∞–≤–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–∞—Е. –Э–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–і—Г–Љ–∞–≤, –і–µ–ґ—Г—А–љ—Л–є –Њ—Д–Є—Ж–µ—А –њ–Њ–≤–µ–ї –љ–∞—Б –љ–∞ –≤—В–Њ—А–Њ–є —Н—В–∞–ґ, –Њ—В–Ї—А—Л–ї –Ї–ї—О—З–Њ–Љ –і–≤–µ—А—М —Б –љ–∞–і–њ–Є—Б—М—О ¬Ђ–Ї–∞–±–Є–љ–µ—В –Љ–∞—А–Ї—Б–Є–Ј–Љ–∞-–ї–µ–љ–Є–љ–Є–Ј–Љ–∞¬ї –Є —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї: ¬Ђ–Я–µ—А–µ–љ–Њ—З—Г–µ—В–µ –Ј–і–µ—Б—М, –∞ –Ј–∞–≤—В—А–∞ —А–∞–Ј–±–µ—А–µ–Љ—Б—П¬ї. –Т –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В–µ —Б—В–Њ—П–ї–Є –і–ї–Є–љ–љ—Л–µ —Б—В–Њ–ї—Л, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –ї–µ–ґ–∞–ї–Є –њ–Њ–і—И–Є–≤–Ї–Є –≥–∞–Ј–µ—В. –Ґ–∞–Ї–Њ–µ –љ–∞—З–∞–ї–Њ –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Н—В–∞–њ–∞ –ґ–Є–Ј–љ–Є –љ–∞—Б –Њ–Ј–∞–і–∞—З–Є–ї–Њ, –љ–Њ –Љ—Л —Б–Њ—Е—А–∞–љ—П–ї–Є —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ —О–Љ–Њ—А–∞ –Є, –њ–Њ–Њ—Б—В—А–Є–≤ –њ–Њ –њ–Њ–≤–Њ–і—Г –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ–є —Г–≤–µ—А—В—О—А—Л, —Г–ї–µ–≥–ї–Є—Б—М —Б–њ–∞—В—М –љ–∞ –Љ–∞—А–Ї—Б–Є—Б—В—Б–Ї–Є—Е —Б—В–Њ–ї–∞—Е, –њ–Њ–і–ї–Њ–ґ–Є–≤ –њ–Њ–і –≥–Њ–ї–Њ–≤—Л —Б—В–Њ–њ–Ї–Є –≥–∞–Ј–µ—В–љ—Л—Е –њ–Њ–і—И–Є–≤–Њ–Ї –Є —Г–Ї—А—Л–≤—И–Є—Б—М –±—Г—И–ї–∞—В–∞–Љ–Є.  –≠–і—Г–∞—А–і –У–∞–≤—А–Є–ї–Њ–≤–Є—З –Ъ–∞—А–њ–Њ–≤ - –Ї—Г—А—Б–∞–љ—В 1-–≥–Њ –Ї—Г—А—Б–∞ –Т–Т–Ь–Ш–£ –Є–Љ. –§.–≠.–Ф–Ј–µ—А–ґ–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ. –Э–∞ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–є –і–µ–љ—М –≤ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ –њ–Њ—П–≤–Є–ї–∞—Б—М –±–Њ–ї—М—И–∞—П –≥—А—Г–њ–њ–∞ –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Є–Ї–Њ–≤ –ї–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞, –Є –Љ—Л –≤–ї–Є–ї–Є—Б—М –≤ —Н—В—Г –≥—А—Г–њ–њ—Г. –Ф–љ–µ–Љ –љ–∞—Б –њ—А–Є–≤–µ–ї–Є –Ї –Ј–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї—О –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞ –њ–Њ —Г—З–µ–±–љ–Њ–є —З–∞—Б—В–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —А–µ—И–∞–ї, –љ–∞ –Ї–∞–Ї–Њ–Љ —Д–∞–Ї—Г–ї—М—В–µ—В–µ –Ї–∞–ґ–і—Л–є –Є–Ј –љ–∞—Б –±—Г–і–µ—В —Г—З–Є—В—М—Б—П. –Т ¬Ђ–і–Ј–µ—А–ґ–Є–љ–Ї–µ¬ї –≤ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –±—Л–ї–Њ —В—А–Є —Д–∞–Ї—Г–ї—М—В–µ—В–∞: –њ–∞—А–Њ—Б–Є–ї–Њ–≤–Њ–є, —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ—В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Є –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ—Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є. –Ф–≤–∞ –њ–µ—А–≤—Л—Е –≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї–Є –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–Њ–≤-–Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–Њ–≤-—Н–ї–µ–Ї—В—А–Є–Ї–Њ–≤ –і–ї—П –љ–∞–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є –Є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї, —В–Њ –µ—Б—В—М –њ–ї–∞–≤–∞—О—Й–Є–є —Б–Њ—Б—В–∞–≤ –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞. –Р –≤–Њ—В —Г –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ—Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Д–∞–Ї—Г–ї—М—В–µ—В–∞ –±—Л–ї –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –і–Є–∞–њ–∞–Ј–Њ–љ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л—Е –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–є: –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –≤ –њ—А–Њ–µ–Ї—В–љ—Л—Е –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—П—Е –Є –љ–∞ –Ј–∞–≤–Њ–і–∞—Е-—Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—П—Е –±–Њ–µ–≤—Л—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є –Є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї, –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –љ–∞—Г—З–љ–Њ-–Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М—Б–Ї–Є–є –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В, —Б—Г–і–Њ—А–µ–Љ–Њ–љ—В–љ—Л–µ –Ј–∞–≤–Њ–і—Л –Є –∞–њ–њ–∞—А–∞—В –У–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є—П –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —Б–ї—Г–ґ–±–∞ –љ–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П—Е –Є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Ї–∞—Е –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–≤ —В—А—О–Љ–љ—Л—Е –≥—А—Г–њ–њ –Є –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Њ–љ–Њ–≤ –ґ–Є–≤—Г—З–µ—Б—В–Є. –Т ¬Ђ–љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–є¬ї –Љ–Њ–ї–≤–µ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ—Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є —Д–∞–Ї—Г–ї—М—В–µ—В —Б—З–Є—В–∞–ї—Б—П ¬Ђ—Н–ї–Є—В–љ—Л–Љ¬ї (–љ–∞ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ –Њ–љ –±—Л–ї, –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –±–Њ–ї–µ–µ —В—А—Г–і–љ—Л–Љ –і–ї—П –Њ–±—Г—З–µ–љ–Є—П, –∞ –≤–Њ –≤—Б–µ–Љ –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –Њ–љ –љ–Є—З—Г—В—М –љ–µ –Њ—В–ї–Є—З–∞–ї—Б—П –Њ—В –і—А—Г–≥–Є—Е —Д–∞–Ї—Г–ї—М—В–µ—В–Њ–≤ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞).  –Ю–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –≤—Б–µ –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Ж—Л, –њ—А–Є—И–µ–і—И–Є–µ –≤ ¬Ђ–і–Ј–µ—А–ґ–Є–љ–Ї—Г¬ї, —Е–Њ—В—П—В —Г—З–Є—В—М—Б—П –љ–∞ . –≠—В–Њ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –≤—Л–Ј–≤–∞–ї–Њ –љ–µ–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Њ –љ–∞—З–∞–ї—М—Б—В–≤–∞, –љ–Њ –≤—Б–µ –ґ–µ –ґ–µ–ї–∞–љ–Є—П –њ–Њ—З—В–Є –≤—Б–µ—Е –±—Л–ї–Є —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ—Л, –Є –Љ—Л –±—Л–ї–Є –Ј–∞—З–Є—Б–ї–µ–љ—Л –љ–∞ ¬Ђ–Ї–Њ—А—Д–∞–Ї¬ї. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –њ–Њ—В–Њ–Љ –љ–µ –≤—Б–µ–Љ —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є—В—М –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —Н—В–Њ—В —Д–∞–Ї—Г–ї—М—В–µ—В вАФ –≤ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–ї–Є –і—А—Г–≥–Є–µ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞. вА¶ –Э–Њ –≤–Њ—В, –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –≤—Б–µ –Ї—Г—А—Б–∞–љ—В—Л –≤–µ—А–љ—Г–ї–Є—Б—М –Є–Ј –Њ—В–њ—Г—Б–Ї–∞, –Є –≤ –љ–Њ—П–±—А–µ –љ–∞—З–∞–ї—Б—П –љ–∞—И –њ–µ—А–≤—Л–є —Г—З–µ–±–љ—Л–є –≥–Њ–і. –Ъ–Њ—А–∞–±–ї–µ—Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є —Д–∞–Ї—Г–ї—М—В–µ—В —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–∞–ї—Б—П –љ–µ –≤ –Р–і–Љ–Є—А–∞–ї—В–µ–є—Б—В–≤–µ, –∞ –≤ –Ш–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ–Њ–Љ –Ј–∞–Љ–Ї–µ (—В–∞–Ї —В–Њ–≥–і–∞ –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї—Б—П –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –Ј–∞–Љ–Њ–Ї). –С–Њ–ї—М—И–∞—П —З–∞—Б—В—М –Ј–∞–Љ–Ї–∞ –≤ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –±—Л–ї–∞ –љ–µ–ґ–Є–ї–Њ–є вАФ —Н—В–Є –Њ–±—И–∞—А–њ–∞–љ–љ—Л–µ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П –±—Л–ї–Є –Ј–∞–Ї—А—Л—В—Л –µ—Й–µ —Б–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ –≤–Њ–є–љ—Л. –Ъ—Г–±—А–Є–Ї–Є (–Ї–Њ–Љ–љ–∞—В—Л), —Г—З–µ–±–љ—Л–µ –Ї–ї–∞—Б—Б—Л –Є –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –Ї–∞—Д–µ–і—А —Д–∞–Ї—Г–ї—М—В–µ—В–∞ —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–∞–ї–Є—Б—М, –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ, –≤ —В–Њ–є —З–∞—Б—В–Є –Ј–∞–Љ–Ї–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–∞ –Ї –§–Њ–љ—В–∞–љ–Ї–µ, –∞ –≤ –≤–µ—А—Е–љ–Є—Е —Н—В–∞–ґ–∞—Е —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –Ы–µ—В–љ–µ–≥–Њ —Б–∞–і–∞ —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–∞–ї—Б—П –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–є –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ—Л–є —Д–∞–Ї—Г–ї—М—В–µ—В ¬Ђ–і–Ј–µ—А–ґ–Є–љ–Ї–Є¬ї, –≥–Њ—В–Њ–≤–Є–≤—И–Є–є –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –Ї–Њ—А–∞–±–µ–ї–Њ–≤ –і–ї—П –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Б—В—А–∞–љ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –ї–∞–≥–µ—А—П. –°–ї—Г—И–∞—В–µ–ї–Є –Є –Ї—Г—А—Б–∞–љ—В—Л –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —Д–∞–Ї—Г–ї—М—В–µ—В–∞ –ґ–Є–ї–Є –∞–≤—В–Њ–љ–Њ–Љ–љ–Њ, –Є –Љ—Л –Љ–∞–ї–Њ –Њ–±—Й–∞–ї–Є—Б—М —Б –љ–Є–Љ–Є, –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ вАФ –љ–∞ —Б—В–∞—А—И–Є—Е –Ї—Г—А—Б–∞—Е. –Ш–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ—Л–є —Д–∞–Ї—Г–ї—М—В–µ—В –њ—А–Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –љ–µ–і–Њ–ї–≥–Њ, –∞ —Б—Г–і—М–±—Л –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –µ–≥–Њ –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Є–Ї–Њ–≤ –±—Л–ї–Є —В—А–∞–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є. –Я–Њ—З—В–Є –≤—Б–µ—Е ¬Ђ–љ–∞—И–Є—Е¬ї –Ї–Є—В–∞–є—Ж–µ–≤ —А–∞—Б—Б—В—А–µ–ї—П–ї–Є —Е—Г–љ–≤–µ–є–±–Є–љ—Л –≤ –≥–Њ–і—Л ¬Ђ–Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ–Њ–є —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є¬ї. –Р–ї–±–∞–љ—Ж–µ–≤ –њ–Њ—Б–∞–і–Є–ї–Є –≤ —В—О—А—М–Љ—Г, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≠–љ–≤–µ—А –•–Њ–і–ґ–∞ —А–∞–Ј–Њ—А–≤–∞–ї –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П —Б –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–Љ –°–Њ—О–Ј–Њ–Љ. –†—Г–Љ—Л–љ—Л –њ–Њ–і–≤–µ—А–≥–∞–ї–Є—Б—М –њ—А–Є—В–µ—Б–љ–µ–љ–Є—П–Љ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –І–∞—Г—И–µ—Б–Ї—Г —В–Њ–ґ–µ —А–∞–Ј–Њ—А–≤–∞–ї –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П —Б –љ–∞—И–µ–є –Ї–Њ–Љ–њ–∞—А—В–Є–µ–є. –Ш —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–≤–∞ –±–Њ–ї–≥–∞—А–Є–љ–∞, –≤—Л—Б–Њ–Ї–Є–µ –Ї—А–∞—Б–Є–≤—Л–µ –њ–∞—А–љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –Ј–љ–∞–ї–Є –≤–Њ –≤—Б–µ–Љ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –Њ–љ–Є –Ї—А–∞—Б–Є–≤–Њ –њ–µ–ї–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –њ–µ—Б–љ–Є, –і–Њ—Б—В–Є–≥–ї–Є –≤—Л—Б–Њ—В –≤ –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є—П —Г —Б–µ–±—П –≤ —Б—В—А–∞–љ–µ. вА¶ –Ч–Є–Љ–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –Ї—Г—А—Б–∞ –±—Л–ї–∞ —Е–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ–є –Є —В—А—Г–і–љ–Њ–є. –Ь—Л —Г—Б—В–∞–≤–∞–ї–Є –Є –љ–µ –≤—Л—Б—Л–њ–∞–ї–Є—Б—М. –Ъ–Њ–Љ–љ–∞—В–∞, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –њ–Њ–љ–∞—З–∞–ї—Г –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П –Љ–Њ–є —Г—З–µ–±–љ—Л–є –Ї–ї–∞—Б—Б, –±—Л–ї–∞ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–∞ —Б—А–µ–і–Є –љ–µ–ґ–Є–ї—Л—Е –Є –љ–µ–Њ—В–∞–њ–ї–Є–≤–∞–µ–Љ—Л—Е –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–є –љ–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–Љ —Н—В–∞–ґ–µ —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –°–∞–і–Њ–≤–Њ–є —Г–ї–Є—Ж—Л. –Т –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В–µ —Б—В–Њ—П–ї–∞ –±–Њ–ї—М—И–∞—П –њ–µ—З—М, –Њ—В–∞–њ–ї–Є–≤–∞–µ–Љ–∞—П —Г–≥–ї–µ–Љ. –І—В–Њ–±—Л —Б–Њ–≥—А–µ—В—М , –Њ–Ї—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Г—О —В–Њ–ї—Б—В—Л–Љ–Є –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є —Б—В–µ–љ–∞–Љ–Є –Ј–∞–Љ–Ї–∞, –љ—Г–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ —В–Њ–њ–Є—В—М –њ–µ—З—М –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —З–∞—Б–Њ–≤ –њ–Њ–і—А—П–і. –Ґ–Њ–њ–Є—В—М –µ–µ –љ–∞—З–Є–љ–∞–ї–Є —А–∞–љ–Њ —Г—В—А–Њ–Љ, –љ–Њ –љ–∞ –њ–µ—А–≤—Л—Е —Г—А–Њ–Ї–∞—Е –Љ—Л —Б–Є–і–µ–ї–Є –≤ —И–Є–љ–µ–ї—П—Е вАФ –≤ –Ї–ї–∞—Б—Б–µ –±—Л–ї–Њ —Е–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ.  –У—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Є–µ –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В–µ–ї–Є, —З–Є—В–∞–≤—И–Є–µ –љ–∞–Љ –Њ–±—Й–µ–Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В—Л –≤—Л—Б—И–µ–є —И–Ї–Њ–ї—Л, –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ—Л –±—Л–ї–Є —З–Є—В–∞—В—М –ї–µ–Ї—Ж–Є–Є, –љ–µ —Б–љ–Є–Љ–∞—П —Б–≤–Њ–Є—Е –Ј–Є–Љ–љ–Є—Е –њ–∞–ї—М—В–Њ. –Я–Њ—В–Њ–Љ –љ–∞—И –Ї–ї–∞—Б—Б –њ–µ—А–µ–≤–µ–ї–Є –≤ —В–µ–њ–ї–Њ–µ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ –љ–∞ –і—А—Г–≥–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ –Ј–∞–Љ–Ї–∞. –Ґ–∞–Љ, –≤ —В–µ–њ–ї–µ, –љ–∞ –њ–µ—А–≤—Л—Е —Г—А–Њ–Ї–∞—Е –ґ—Г—В–Ї–Њ —Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М —Б–њ–∞—В—М. –Ъ—В–Њ-—В–Њ –±–Њ—А–Њ–ї—Б—П —Б–Њ —Б–љ–Њ–Љ, –∞ –Ї—В–Њ-—В–Њ —Б–і–∞–≤–∞–ї—Б—П. –Т—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В—Б—П —В–∞–Ї–∞—П –Ї–∞—А—В–Є–љ–∞: –њ–µ—А–≤—Л–є —Г—А–Њ–Ї, –Є–і–µ—В –ї–µ–Ї—Ж–Є—П –њ–Њ —Д–Є–Ј–Є–Ї–µ, –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ —Б–њ—П—В. –Ы–µ–Ї—Ж–Є—О —З–Є—В–∞–µ—В –і–Њ—Ж–µ–љ—В –°–Њ–Ї–Њ–ї–Њ–≤ вАФ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї —Б –≤–љ—Г—И–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –≤–љ–µ—И–љ–Њ—Б—В—М—О —Б—В–∞—А–Њ–≥–Њ –Є–љ—В–µ–ї–ї–Є–≥–µ–љ—В–∞ –Є –Є–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–љ–Њ –≤–µ–ґ–ї–Є–≤—Л–Љ–Є –Љ–∞–љ–µ—А–∞–Љ–Є. –У–ї—П–і—П –љ–∞ –Ї–ї–∞—Б—Б, –Њ–љ –≤—Б–µ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ—В –Є –≤—А–µ–Љ—П –Њ—В –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –њ—Л—В–∞–µ—В—Б—П –Ї–∞–Ї-—В–Њ –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є—В—М –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї—Г. –Т–Њ—В –Њ–љ –≥—А–Њ–Љ–Ї–Њ –Є —Б –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –њ—А–Њ–Є–Ј–љ–Њ—Б–Є—В –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ –њ–Њ—Б—В—Г–ї–∞—В, –њ–Њ—Б–ї–µ —З–µ–≥–Њ –≤–і—А—Г–≥ –Њ–±—А–∞—Й–∞–µ—В—Б—П –Ї —Б–њ—П—Й–µ–Љ—Г –Ї—Г—А—Б–∞–љ—В—Г —Б–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є: ¬Ђ–Ш–Ј–≤–Є–љ–Є—В–µ, —П –Т–∞—Б –љ–µ —А–∞–Ј–±—Г–і–Є–ї?¬ї –Ш –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–µ—В —З–Є—В–∞—В—М –ї–µ–Ї—Ж–Є—О. –Ю–љ –Љ–Њ–≥ –±—Л –≤—Л–і–≤–Њ—А–Є—В—М –Є–Ј –Ї–ї–∞—Б—Б–∞ —Б–њ—П—Й–µ–≥–Њ –Ї—Г—А—Б–∞–љ—В–∞, –Є —В–Њ–≥–Њ –±—Л –њ—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є, –љ–Њ –Њ–љ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –і–µ–ї–∞–ї —Н—В–Њ–≥–Њ, –њ–Њ-–≤–Є–і–Є–Љ–Њ–Љ—Г, –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—П, —З—В–Њ –Љ—Л —Б–њ–Є–Љ –љ–∞ –ї–µ–Ї—Ж–Є—П—Е –љ–µ –Њ—В —Е–Њ—А–Њ—И–µ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є. –С—Л–ї–∞ —Г —Н—В–Њ–≥–Њ —Д–Є–Ј–Є–Ї–∞ –µ—Й–µ –Њ–і–љ–∞ –Њ—А–Є–≥–Є–љ–∞–ї—М–љ–∞—П –Љ–∞–љ–µ—А–∞: –Ј–∞–і–∞–≤ –Ї—Г—А—Б–∞–љ—В—Г –Ї–∞–Ї–Њ–є-–ї–Є–±–Њ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –Є –њ–Њ–ї—Г—З–Є–≤ –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ—Л–є –Њ—В–≤–µ—В, –Њ–љ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –њ—А–Њ–Є–Ј–љ–Њ—Б–Є–ї —Б–≤–Њ–Є–Љ –љ–Є–Ј–Ї–Є–Љ –Є —Б–ї–µ–≥–Ї–∞ —Б–Ї—А–Є–њ—Г—З–Є–Љ –≥–Њ–ї–Њ—Б–Њ–Љ: ¬Ђ–С–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—О –Т–∞—Б, –Т—Л –Њ—З–µ–љ—М –ї—О–±–µ–Ј–љ—Л¬ї. –Т–Њ–Њ–±—Й–µ-—В–Њ –ї–µ–Ї—Ж–Є–Є –°–Њ–Ї–Њ–ї–Њ–≤–∞ –Љ–љ–µ –љ—А–∞–≤–Є–ї–Є—Б—М, –Є —П —Б–ї—Г—И–∞–ї –µ–≥–Њ —Б –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–Љ, –µ—Б–ї–Є —Н—В–Њ –±—Л–ї–Є –љ–µ –њ–µ—А–≤—Л–µ —З–∞—Б—Л, –Є –љ–µ –љ—Г–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –±–Њ—А–Њ—В—М—Б—П —Б–Њ —Б–љ–Њ–Љ. вА¶–Ь–µ—А–Ј–љ—Г—В—М –≤ —В—Г –Ј–Є–Љ—Г –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –Ї–ї–∞—Б—Б–µ, –љ–Њ –Є –љ–∞ —Г–ї–Є—Ж–µ. –Ч–∞ –њ–µ—А–≤—Л–Љ –Ї—Г—А—Б–Њ–Љ –±—Л–ї –Ј–∞–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ ¬Ђ–љ–∞—А—Г–ґ–љ—Л–є¬ї –њ–Њ—Б—В —З–∞—Б–Њ–≤–Њ–≥–Њ –љ–∞ —Г–≥–ї—Г –Ј–∞–Љ–Ї–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Б–Љ–Њ—В—А–Є—В –љ–∞ –њ–µ—А–µ—Б–µ—З–µ–љ–Є–µ –°–∞–і–Њ–≤–Њ–є —Г–ї–Є—Ж—Л –Є –Ь–Њ–є–Ї–Є. –Ґ–∞–Љ, –≤ —Г–≥–ї–Њ–≤–Њ–є —З–∞—Б—В–Є –Ј–і–∞–љ–Є—П, –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–є —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –і–≤–Њ—А–Є–Ї, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ —Е—А–∞–љ–Є–ї—Б—П —Г–≥–Њ–ї—М, –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г–µ–Љ—Л–є –і–ї—П —В–Њ–њ–Ї–Є –њ–µ—З–µ–є. –І–∞—Б–Њ–≤–Њ–є –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л–ї –Њ—Е—А–∞–љ—П—В—М —Н—В–Њ—В —Г–≥–Њ–ї—М –Є –љ–Є–Ї–Њ–≥–Њ –љ–µ –і–Њ–њ—Г—Б–Ї–∞—В—М –Ї —Б—В–µ–љ–∞–Љ –Ј–∞–Љ–Ї–∞. –°—В–Њ–Є—И—М –љ–Њ—З—М—О –Њ–і–Є–љ, –љ–∞ —Г–ї–Є—Ж–µ вАФ —Б–Є–ї—М–љ—Л–є –Љ–Њ—А–Њ–Ј, –∞ –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ вАФ –Љ–µ—А—В–≤–∞—П —В–Є—И–Є–љ–∞. –Т–Є–і —Г —В–µ–±—П ¬Ђ–µ—Й–µ —В–Њ—В¬ї: –њ–Њ–≤–µ—А—Е —И–Є–љ–µ–ї–Є –Њ–і–µ—В —В—Г–ї—Г–њ, –љ–∞ –љ–Њ–≥–∞—Е вАФ –≤–∞–ї–µ–љ–Ї–Є, ¬Ђ—Г—И–Є¬ї —Г —И–∞–њ–Ї–Є –Њ–њ—Г—Й–µ–љ—Л –Є –Ј–∞–≤—П–Ј–∞–љ—Л –њ–Њ–і –њ–Њ–і–±–Њ—А–Њ–і–Ї–Њ–Љ, –∞ –≤–Є–љ—В–Њ–≤–Ї—Г –њ—А–Є–ґ–Є–Љ–∞–µ—И—М ¬Ђ–њ–Њ–і –Љ—Л—И–Ї–Њ–є¬ї, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї —А—Г–Ї–Є –≤ —И–µ—А—Б—В—П–љ—Л—Е –њ–µ—А—З–∞—В–Ї–∞—Е –ґ—Г—В–Ї–Њ –Љ–µ—А–Ј–љ—Г—В. –Ф–≤–µ—А—М, —Г –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —В—Л —Б—В–Њ–Є—И—М, –Ј–∞–Ї—А—Л—В–∞ –љ–∞ –Ј–∞–Љ–Њ–Ї, –Є —В—Л –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ—И—М ¬Ђ–Њ—Б–Њ–±—Г—О —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М¬ї –Њ—Е—А–∞–љ—П–µ–Љ–Њ–≥–Њ —Г–≥–ї—П –Є –±–µ—Б—Б–Љ—Л—Б–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М —В–≤–Њ–µ–≥–Њ –њ—А–µ–±—Л–≤–∞–љ–Є—П –љ–∞ —Н—В–Њ–Љ –њ–Њ—Б—В—Г, –Є —В–Њ—Б–Ї–ї–Є–≤–Њ –ґ–і–µ—И—М, –Ї–Њ–≥–і–∞ –ґ–µ –њ—А–Є–і–µ—В –Ї —В–µ–±–µ —Б–Љ–µ–љ–∞. –≠—В–Њ—В –њ–Њ—Б—В –±—Л–ї –Њ–і–љ–Є–Љ –Є–Ј ¬Ђ–і–µ—Б–µ—А—В–Њ–≤¬ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є —Г–≥–Њ—Й–∞–ї–Є –љ–∞—Б –љ–∞—И–Є —Б—В–∞—А—И–Є–љ—Л. вА¶–Э–µ–њ—А–Є—П—В–љ—Л–Љ–Є –Ј–Є–Љ–љ–Є–Љ–Є –Љ–µ—А–Њ–њ—А–Є—П—В–Є—П–Љ–Є –±—Л–ї–Є —В–∞–Ї–ґ–µ —Г—В—А–µ–љ–љ–Є–µ –њ–Њ—Е–Њ–і—Л –≤ –±–∞–љ—О. –Э–∞—Б –њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞–ї–Є –≤ –њ—П—В—М —З–∞—Б–Њ–≤ —Г—В—А–∞, –Є –Љ—Л, –љ–µ –≤—Л—Б–њ–∞–≤—И–Є–µ—Б—П, —В–Њ–њ–∞–ї–Є —Б—В—А–Њ–µ–Љ, –і—А–Њ–ґ–∞ –Њ—В —Е–Њ–ї–Њ–і–∞, –≤ –±–Њ–ї—М—И—Г—О –±–∞–љ—О –љ–∞ —Г–ї–Є—Ж–µ –І–∞–є–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ, —З–µ—А–µ–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –Ј–∞ –і–≤–∞ —Г—В—А–µ–љ–љ–Є—Е —З–∞—Б–∞ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л–ї –њ—А–Њ–є—В–Є –≤–µ—Б—М —Д–∞–Ї—Г–ї—М—В–µ—В. –Ь—Л—В—М–µ –≤ –±–∞–љ–µ —А–∞–љ–Њ —Г—В—А–Њ–Љ –љ–µ –і–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Њ –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ —Г–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Є—П, –∞ –њ–Њ—Б–ї–µ —Н—В–Њ–≥–Њ —Б–љ–Њ–≤–∞ –љ—Г–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –Є–і—В–Є –њ–Њ –Љ–Њ—А–Њ–Ј—Г –Є, –њ–Њ –њ—А–Є—Е–Њ–і–µ –≤ –Ј–∞–Љ–Њ–Ї, –љ–∞—З–Є–љ–∞—В—М —А–∞–±–Њ—З–Є–є –і–µ–љ—М.  –Т–µ—Б–љ–∞. –Ґ—А—Г–і–љ—Л–є –њ–µ—А–≤—Л–є –Ї—Г—А—Б –њ–Њ–і—Е–Њ–і–Є—В –Ї –Ї–Њ–љ—Ж—Г вА¶ –Э–∞ –≤—В–Њ—А–Њ–Љ –Ї—Г—А—Б–µ –Љ—Л, –њ–Њ –Љ–µ—А–µ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є, —Б—В–∞–ї–Є –Є–Ј—Г—З–∞—В—М –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Ј–і–∞–љ–Є–µ, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –Љ—Л –ґ–Є–ї–Є. –Т —Н—В–Њ–Љ —Б–≤–Њ–µ–Њ–±—А–∞–Ј–љ–Њ–Љ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–µ –∞—А—Е–Є—В–µ–Ї—В—Г—А—Л –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞ –Ї–∞–Ї–∞—П –±—Л —В–Њ –љ–Є –±—Л–ї–∞ —Б–Є–Љ–Љ–µ—В—А–Є—П: –≤—Б–µ –Ј–∞–ї—Л, –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В—Л, –Ї–Њ—А–Є–і–Њ—А—Л, –ї–µ—Б—В–љ–Є—Ж—Л –±—Л–ї–Є –љ–µ–њ–Њ—Е–Њ–ґ–Є–Љ–Є –і—А—Г–≥ –љ–∞ –і—А—Г–≥–∞ –Є —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї–Є—Б—М –≤ –Ј–і–∞–љ–Є–Є –њ—А–Є—З—Г–і–ї–Є–≤—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ. –У–ї–∞–≤–љ—Л–Љ —Г–Ї—А–∞—И–µ–љ–Є–µ–Љ —В–Њ–є —З–∞—Б—В–Є –Ј–і–∞–љ–Є—П, –≥–і–µ –Љ—Л –ґ–Є–ї–Є, –±—Л–ї –±–Њ–ї—М—И–Њ–є —В–∞–љ—Ж–µ–≤–∞–ї—М–љ—Л–є (–Ю–≤–∞–ї—М–љ—Л–є) –Ј–∞–ї –љ–∞ –≤—В–Њ—А–Њ–Љ —Н—В–∞–ґ–µ, –Њ–Ї–љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –≤—Л—Е–Њ–і–Є–ї–Є –љ–∞ –§–Њ–љ—В–∞–љ–Ї—Г. –Ъ –≤—Е–Њ–і—Г –≤ —Н—В–Њ—В –Ј–∞–ї –≤–µ–ї–∞ —И–Є—А–Њ–Ї–∞—П –Љ—А–∞–Љ–Њ—А–љ–∞—П –ї–µ—Б—В–љ–Є—Ж–∞, –њ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Ї–Њ–≥–і–∞-—В–Њ —Е–Њ–і–Є–ї–Є —Ж–∞—А—Б–Ї–Є–µ –≤–µ–ї—М–Љ–Њ–ґ–Є –Є –Ј–љ–∞—В–љ—Л–µ –і–∞–Љ—Л, –∞ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ вАФ –Є —Б–∞–Љ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—М –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А. –Ґ–µ–њ–µ—А—М –ґ–µ –њ–Њ –љ–µ–є –≤—А–µ–Љ—П –Њ—В –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –±–µ–≥–∞–ї–Є –Ї—Г—А—Б–∞–љ—В—Л –Є –њ—А–Њ—Б—В—Л–µ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–µ –і–µ–≤—Г—И–Ї–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –њ—А–Є–≥–ї–∞—И–∞–ї–Є –≤ –Ј–∞–Љ–Њ–Ї –љ–∞ —В–∞–љ—Ж–µ–≤–∞–ї—М–љ—Л–µ –≤–µ—З–µ—А–∞. (–Ю–± —Н—В–Њ–Љ –Ј–∞–ї–µ –Љ–љ–µ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–∞ –Є –Љ–Њ—П –ґ–µ–љ–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П —В–∞–Ї–ґ–µ –≤ —В–Њ—В –њ–µ—А–Є–Њ–і –љ–µ–Њ–і–љ–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ –њ–Њ—Б–µ—Й–∞–ї–∞ —В–∞–љ—Ж–µ–≤–∞–ї—М–љ—Л–µ –≤–µ—З–µ—А–∞ –њ–Њ –њ—А–Є–≥–ї–∞—И–µ–љ–Є—О –і–≤—Г—Е –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Л—Е –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤-–±–Њ–ї–≥–∞—А). –Т –љ–µ–ґ–Є–ї–Њ–є —З–∞—Б—В–Є –Ј–і–∞–љ–Є—П –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –Є–љ—В–µ—А–µ—Б –≤—Л–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –∞–њ–∞—А—В–∞–Љ–µ–љ—В—Л –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В–∞, –≥–і–µ –±—Л–ї —Г–±–Є—В –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А –Я–∞–≤–µ–ї, –Є —Б–∞–Љ –µ–≥–Њ –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В, —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л–є –љ–∞ –≤—В–Њ—А–Њ–Љ —Н—В–∞–ґ–µ —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –Ы–µ—В–љ–µ–≥–Њ —Б–∞–і–∞. –Ъ–∞–Ї–Њ–µ-—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –љ–∞–Љ —Г–і–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М –њ—А–Њ–љ–Є–Ї–∞—В—М —В—Г–і–∞ –Є –Њ–±—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В—М –Ј–∞–Љ—Л—Б–ї–Њ–≤–∞—В—Л–µ –њ–Њ–і—Е–Њ–і—Л –Ї –њ—А–Є–µ–Љ–љ–Њ–є –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–∞, —Б–Ї—А—Л—В—Л–µ —Г—Б—В—Г–њ—Л –≤ —Б—В–µ–љ–∞—Е, —В–∞–є–љ—Г—О –≤–Є–љ—В–Њ–≤—Г—О –ї–µ—Б—В–љ–Є—Ж—Г, –≤–µ–і—Г—Й—Г—О –Њ—В –њ—А–Є–µ–Љ–љ–Њ–є –љ–∞ –њ–µ—А–≤—Л–є —Н—В–∞–ґ, –Є –њ—Г—Б—В–Њ–є –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–∞ —Б–Њ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В—Л–Љ –Ї–∞–Љ–Є–љ–Њ–Љ. –Я–Њ–Ј–і–љ–µ–µ –і–Њ—Б—В—Г–њ –Ї —Н—В–Є–Љ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П–Љ –±—Л–ї –љ–∞–і–µ–ґ–љ–Њ –њ–µ—А–µ–Ї—А—Л—В, –Є –Њ–љ–Є —Б—В–∞–ї–Є –Ї–∞–Ј–∞—В—М—Б—П –µ—Й–µ –±–Њ–ї–µ–µ —В–∞–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ–Є, –∞ –Љ—Л –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–Є –њ—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –њ–Њ –љ–µ–ґ–Є–ї—Л–Љ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П–Љ –Є –ї–µ—Б—В–љ–Є—Ж–∞–Љ –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е –ї–µ—В, —Б –њ–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–Љ —Г—Б–њ–µ—Е–Њ–Љ –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–≤–∞—П –Ј–∞–њ—А–µ—В–љ—Л–µ –њ—А–Њ—Е–Њ–і—Л. –Э–∞–і –Ї—А—Л—И–µ–є –Ј–∞–Љ–Ї–∞ —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –Ы–µ—В–љ–µ–≥–Њ —Б–∞–і–∞ –≤–Њ–Ј–≤—Л—И–∞–µ—В—Б—П –љ–µ–Ї–Њ–µ –њ—А—П–Љ–Њ—Г–≥–Њ–ї—М–љ–Њ–µ —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –≤ –љ–∞—И–µ –≤—А–µ–Љ—П –њ—А–Њ—Б—В–Њ –њ—Г—Б—В–Њ–≤–∞–ї–Њ. –Х—Й–µ –љ–∞ —В—А–µ—В—М–µ–Љ –Ї—Г—А—Б–µ –Љ—Л –њ–Њ–≤–∞–і–Є–ї–Є—Б—М –Ј–∞–≥–Њ—А–∞—В—М –љ–∞ –Ї—А—Л—И–µ —Н—В–Њ–≥–Њ —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П. –Я–Њ–і—Е–Њ–і—Л –Ї –љ–µ–Љ—Г –њ–Њ —А–∞–Ј–љ—Л–Љ –њ—Г—Б—В—Г—О—Й–Є–Љ –ї–µ—Б—В–љ–Є—Ж–∞–Љ –Є —З–µ—А–і–∞–Ї–∞–Љ –Љ—Л –≤—Л—П–≤–Є–ї–Є –≤ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–µ –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є—П –љ–µ–ґ–Є–ї—Л—Е –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–є –Ј–∞–Љ–Ї–∞. –Э–Њ –љ–∞ —З–µ—В–≤–µ—А—В–Њ–Љ –Ї—Г—А—Б–µ —Г –љ–∞—Б –њ–Њ—П–≤–Є–ї—Б—П –љ–Њ–≤—Л–є –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї —Д–∞–Ї—Г–ї—М—В–µ—В–∞ –њ–Њ —Д–∞–Љ–Є–ї–Є–Є –І–Њ–њ–Є–Ї–∞—И–≤–Є–ї–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Б—В–∞–ї –Є–Ј—Г—З–∞—В—М —Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–µ –Ј–∞–Љ–Ї–∞ –Є –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–ї –љ–∞—И ¬Ђ–њ–ї—П–ґ¬ї, –њ–Њ—Б–ї–µ —З–µ–≥–Њ –Ї–∞—В–µ–≥–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Ј–∞–њ—А–µ—В–Є–ї –Ї—Г—А—Б–∞–љ—В–∞–Љ –ї–∞–Ј–∞—В—М –љ–∞ –Ї—А—Л—И—Г –Є –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї –Ј–∞–Ї—А—Л—В—М –љ–∞ –љ–∞–і–µ–ґ–љ—Л–µ –Ј–∞–Љ–Ї–Є –≤—Б–µ –і–≤–µ—А–Є, —З–µ—А–µ–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –±—Л –њ—А–Њ–љ–Є–Ї–љ—Г—В—М –љ–∞ —З–µ—А–і–∞–Ї –Є –і–∞–ї–µ–µ вАФ –љ–∞ –Ї—А—Л—И—Г. –Э–Њ –Ј–∞–≥–Њ—А–∞—В—М-—В–Њ —Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М вАФ –Љ—Л –≤–µ–і—М –њ–Њ–і–Њ–ї–≥—Г –ґ–Є–ї–Є –±–µ–Ј —Б–Њ–ї–љ—Ж–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ —Б–≤–µ—В–Є–ї–Њ –≤ –Њ–Ї–љ–∞. –Ш –Љ—Л –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–ї–Є –µ—Й–µ –Њ–і–љ—Г –і–≤–µ—А—М, —З–µ—А–µ–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –≤—Л–±—А–∞—В—М—Б—П –љ–∞ —З–µ—А–і–∞–Ї. –≠—В–∞ –і–≤–µ—А—М –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М –≤ –Ї—Г–±—А–Є–Ї–µ —А–Њ—В—Л –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –Ї—Г—А—Б–∞ –Є –±—Л–ї–∞ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ –Ј–∞–Ї—А—Л—В–∞ –љ–∞ –Ї–ї—О—З, –∞ –Ї–ї—О—З –Њ—В –љ–µ–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П –≤ —Б–≤—П–Ј–Ї–µ –Ї–ї—О—З–µ–є —Г –і–µ–ґ—Г—А–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ —Н—В–Њ–є —А–Њ—В–µ. –Ф–µ–ґ—Г—А–љ—Л–Љ–Є –њ–Њ —А–Њ—В–µ —Б—В–Њ—П–ї–Є —Б—В–∞—А—И–Є–љ—Л вАФ —З–µ—В–≤–µ—А–Њ–Ї—Г—А—Б–љ–Є–Ї–Є, —Б—А–µ–і–Є –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –±—Л–ї–Є –Є ¬Ђ—Б–≤–Њ–Є —А–µ–±—П—В–∞¬ї. –Ш –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–є –Ї–Њ–љ—В–Є–љ–≥–µ–љ—В —Б—В–∞—А—И–Є–љ вАФ —З–µ—В–≤–µ—А–Њ–Ї—Г—А—Б–љ–Є–Ї–Њ–≤, –љ–∞—А—Г—И–∞—П –Ј–∞–њ—А–µ—В, –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї –≤—А–µ–Љ—П –Њ—В –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Ј–∞–≥–Њ—А–∞—В—М –љ–∞ . –°—В–Њ—П–ї –Є—О–љ—М, –љ–∞—З–Є–љ–∞–ї–∞—Б—М —Н–Ї–Ј–∞–Љ–µ–љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–∞—П —Б–µ—Б—Б–Є—П, –Є –≤—Б–µ –Ї—Г—А—Б–∞–љ—В—Л —Б–Є–і–µ–ї–Є –≤ —Б–≤–Њ–Є—Е –Ї–ї–∞—Б—Б–∞—Е, –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—П—Б—М —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ.  –Т —В–Њ—В –Ј–ї–Њ–њ–Њ–ї—Г—З–љ—Л–є –і–µ–љ—М —Б —Г—В—А–∞ —Б–Є—П–ї–Њ —Б–Њ–ї–љ—Ж–µ, –Є –Љ–љ–µ –Ј–∞—Б–≤–µ—А–±–µ–ї–Њ –њ–Њ–ї–µ–Ј—В—М –љ–∞ –Ї—А—Л—И—Г. –Ф–µ–ґ—Г—А–љ—Л–Љ –њ–Њ —А–Њ—В–µ –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –Ї—Г—А—Б–∞ –≤ —Н—В–Њ—В –і–µ–љ—М –±—Л–ї –°–ї–∞–≤–∞ –Ц–µ–ґ–µ–ї—М (–і–ї—П –Љ–µ–љ—П –Њ–љ –њ–Њ-–њ—А–µ–ґ–љ–µ–Љ—Г –±—Л–ї ¬Ђ–°–ї–∞–≤–Ї–∞¬ї вАФ –љ–∞—Б, —В–±–Є–ї–Є—Б—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Ж–µ–≤, –±—Л–ї–Њ –≤—Б–µ–≥–Њ –і–≤–Њ–µ –≤ —А–Њ—В–µ). –°–ї–∞–≤–Ї–∞ –Њ—В–Ї—А—Л–ї –Љ–љ–µ –Ї–ї—О—З–Њ–Љ –Ј–∞–≤–µ—В–љ—Г—О –і–≤–µ—А—М, –Є –Љ—Л –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є—Б—М –Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ —Б–љ–Њ–≤–∞ –Њ—В–Ї—А–Њ–µ—В –µ–µ, —З—В–Њ–±—Л –≤–њ—Г—Б—В–Є—В—М –Љ–µ–љ—П –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ. –ѓ —Г–ї–µ–≥—Б—П –љ–∞ –≥–Њ—А—П—З–µ–є –Ї—А—Л—И–µ —Б –љ–∞–і–µ–ґ–і–Њ–є –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є—В—М –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –±–µ–ї—Л–є —Ж–≤–µ—В –Љ–Њ–µ–≥–Њ —В–µ–ї–∞, –љ–Њ –Љ–Њ–є ¬Ђ–Ї–∞–є—Д¬ї –±—Л–ї –љ–µ–і–Њ–ї–≥–Є–Љ: –љ–∞–і–Њ –Љ–љ–Њ–є –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–ї–∞ —Д–Є–≥—Г—А–∞ –љ–∞—З—Д–∞–Ї–∞ (–љ–µ –ї–µ–љ—М –ґ–µ –µ–Љ—Г –±—Л–ї–Њ –Ј–∞–ї–µ–Ј–∞—В—М —Б—О–і–∞ –њ–Њ —Г–Ј–Ї–Њ–є –Є –љ–µ—Г–і–Њ–±–љ–Њ–є –ї–µ—Б—В–љ–Є—Ж–µ). –Ф–≤–∞ —А–Є—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞ –љ–∞—З—Д–∞–Ї–∞вАФ¬Ђ–њ–Њ—З–µ–Љ—Г –≤—Л –Ј–і–µ—Б—М –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В–µ—Б—М¬ї –Є ¬Ђ–Ї–∞–Ї –≤—Л —Б—О–і–∞ –њ–Њ–њ–∞–ї–Є¬ї вАФ –Њ—Б—В–∞–ї–Є—Б—М –±–µ–Ј –Њ—В–≤–µ—В–∞. –Ю–љ –Њ–±—К—П–≤–Є–ї –Љ–љ–µ —В—А–Є–і—Ж–∞—В—М —Б—Г—В–Њ–Ї –љ–µ—Г–≤–Њ–ї—М–љ–µ–љ–Є—П –≤ –≥–Њ—А–Њ–і, –Є —П –≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П –≤ –Ј–∞–Љ–Њ–Ї –њ–Њ –і—А—Г–≥–Њ–є –ї–µ—Б—В–љ–Є—Ж–µ –≤ —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ —Д–∞–Ї—Г–ї—М—В–µ—В–∞, –њ–Њ—Б–ї–µ —З–µ–≥–Њ –њ–Њ—И–µ–ї —Б–Њ–Њ–±—Й–Є—В—М –°–ї–∞–≤–Ї–µ, —З—В–Њ –і–≤–µ—А—М –Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞—В—М —Г–ґ–µ –љ–µ –љ—Г–ґ–љ–Њ. вА¶–Ю—А–Ї–µ—Б—В—А –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–≤–Њ–µ–љ–љ—Л–µ –≥–Њ–і—Л. –Ф–ґ–∞–Ј –≤ —Б—В—А–∞–љ–µ –±—Л–ї –Ј–∞–њ—А–µ—Й–µ–љ вАФ –Њ–± —Н—В–Њ–Љ —Г–ґ–µ –Љ–љ–Њ–≥–Њ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ –Є –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ. –Э–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ —В–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї –≤ 1957 –≥–Њ–і—Г –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ –њ—А–Њ—И–µ–ї –Т—Б–µ–Љ–Є—А–љ—Л–є —Д–µ—Б—В–Є–≤–∞–ї—М –Љ–Њ–ї–Њ–і–µ–ґ–Є, –≤ —Б—В—А–∞–љ–µ —Б—В–∞–ї–Є –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞—В—М –љ–µ–Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ (—В–Њ –µ—Б—В—М вАФ –љ–µ–ї–µ–≥–∞–ї—М–љ—Л–µ) –Њ—А–Ї–µ—Б—В—А–Є–Ї–Є, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ вАФ –Њ—А–Ї–µ—Б—В—А—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Є–≥—А–∞–ї–Є –і–ґ–∞–Ј –Є –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–Њ–є –њ–Њ–њ—Г–ї—П—А–љ–Њ—Б—В—М—О —Г –Љ–Њ–ї–Њ–і–µ–ґ–Є. –Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, —Н—В–Њ –љ–µ –±—Л–ї–Њ —В–∞–є–љ–Њ–є –і–ї—П —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е –Њ—А–≥–∞–љ–Њ–≤, –љ–Њ вАФ –≤ —Б—В—А–∞–љ–µ –њ–Њ–і—Г–ї–Є –љ–Њ–≤—Л–µ –≤–µ—В—А—Л, –Є –Њ—А–≥–∞–љ—Л —Б—В–∞–ї–Є –Ї–∞–Ї –±—Л –љ–µ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—В—М –Є—Е. –Т–Њ –≤—Б—П–Ї–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ, –≤ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–µ –і–ґ–∞–Ј–Њ–≤–∞—П –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞ —Г–ґ–µ –≤–Њ–≤—Б—О –Ј–≤—Г—З–∞–ї–∞ –љ–∞ —А–∞–Ј–љ—Л—Е ¬Ђ–Ј–∞–Ї—А—Л—В—Л—Е¬ї —В–∞–љ—Ж–µ–≤–∞–ї—М–љ—Л—Е –≤–µ—З–µ—А–∞—Е. –Ю–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В.  –Т–µ—А—О–ґ—Б–Ї–Є–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Т–Э–Р), –У–Њ—А–ї–Њ–≤ –Ю–ї–µ–≥ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Ю–Р–У), –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З (–Ь–Т–Т), –Ъ–°–Т. 198188. –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥, —Г–ї. –Ь–∞—А—И–∞–ї–∞ –У–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤–∞, –і–Њ–Љ 11/3, –Ї–≤. 70. –Ъ–∞—А–∞—Б–µ–≤ –°–µ—А–≥–µ–є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З, –∞—А—Е–Є–≤–∞—А–Є—Г—Б. karasevserg@yandex.ru
13.06.201309:2113.06.2013 09:21:08
0
12.06.201309:5712.06.2013 09:57:20
вАФ –Я–Њ–Ј–≤–Њ–ї—М—В–µ, вАФ —Г–і–Є–≤–Є–ї—Б—П –Э–Є–Ї–Є—В–∞, вАФ –љ–Њ –≤–µ–і—М —Н—В–Њ... –Ъ–∞–њ–Є—В–∞–љ –±—Л–ї –њ–Њ—Е–Њ–ґ –љ–∞ –љ–µ–≥–Њ. –Ю–љ–∞ –љ–µ —Б–Љ—Г—В–Є–ї–∞—Б—М. –Т–Ј–≥–ї—П–љ—Г–ї–∞ –µ–Љ—Г –≤ –≥–ї–∞–Ј–∞, —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞ —Б–Љ–µ—П—Б—М: вАФ –Т—Л –≤–Є–і–Є—В–µ, —П –≤–∞—Б –љ–µ... –љ–µ –Ј–∞–±—Л...–≤–∞–ї–∞. –Ґ—Г—В –Э–Є–Ї–Є—В–∞ —Г–≤–Є–і–µ–ї —Б–≤–Њ—О —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є—О –љ–∞ —Б—В–Њ–ї–µ: –Њ–љ –њ–Њ–і–∞—А–Є–ї –µ–µ –Ы–∞–є–љ–µ –≤ –њ—А–Њ—И–ї–Њ–Љ –≥–Њ–і—Г. вАФ –Э–µ –і—Г–Љ–∞–ї, —З—В–Њ —П –≤–∞—Б –Ј–∞—Б—В–∞–љ—Г, вАФ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Њ–љ. вАФ –ѓ –±—Л–ї —Г–±–µ–ґ–і–µ–љ, —З—В–Њ –≤—Л вАФ –≤ –Ґ–∞–ї–ї–Є–љ–µ... вАФ –Э–µ—В. –ѓ —А–∞–±–Њ—В–∞—О –Ј–і–µ—Б—М. –ѓ —Б–∞–Љ–∞ –њ–Њ–њ—А–Њ—Б–Є–ї–∞—Б—М –і–Њ–Љ–Њ–є, –≤ —А–Њ–і–љ–Њ–є –≥–Њ—А–Њ–і. –£ –Љ–µ–љ—П —З—Г–і–µ—Б–љ—Л–µ –њ–∞—Ж–Є–µ–љ—В—Л... –ї–∞–њ—Б–µ–і... —А–µ–±—П—В–∞! вАФ –њ–µ—А–µ–≤–µ–ї–∞ –Њ–љ–∞ —Н—Б—В–Њ–љ—Б–Ї–Њ–µ —Б–ї–Њ–≤–Њ. вАФ –Я–µ–і–Є–∞—В—А... –і–µ—В—Б–Ї–Є–є –≤—А–∞—З... –Я—А–∞–≤–і–∞, –Є–љ–Њ–≥–і–∞ —П –ї–µ—З—Г –Є –≤–Ј—А–Њ—Б–ї—Л—Е... –Р –•—Н–ї—М–Љ–Є вАФ —Е–Є—А—Г—А–≥... вАФ –Ш –•—Н–ї—М–Љ–Є –Ј–і–µ—Б—М? вАФ –Р –≤—Л –Є –љ–µ –Ј–љ–∞–ї–Є? –Ю-–Њ, –µ–µ —Г–ґ–µ –і–Њ–њ—Г—Б—В–Є–ї–Є... –Ї–∞–Ї —Н—В–Њ? –Ю–љ–∞ —Б–∞–Љ–∞ —Г–ґ–µ –Њ–њ–µ—А–Є—А—Г–µ—В! –Ш –≤—Л –Ј–љ–∞–µ—В–µ? –Ю–љ–∞ –±—Г–і–µ—В, –љ—Г, –Ї–∞–Ї —Н—В–Њ... –Ј–∞–Љ—Г–ґ. –Ч–∞ –Љ–Њ—А—П–Ї–∞. –Ч–∞ –Ь–Є—И—Г –©–µ... –©–µ–≥–Њ–ї—М–Ї–Њ–≤–∞. –£—Е, –Ї–∞–Ї–∞—П —В—П–ґ–µ–ї–∞—П —Д–∞–Љ–Є–ї–Є—П! –Ф–∞–ґ–µ –љ–µ —Б–Ї–∞–ґ–µ—И—М! вАФ –Ч–∞ –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–∞ –§–µ—А–∞–њ–Њ–љ—В–Њ–≤–Є—З–∞? вАФ —Г–і–Є–≤–Є–ї—Б—П –Э–Є–Ї–Є—В–∞. вАФ –Р –≤—Л... –µ–≥–Њ —В–Њ–ґ–µ –Ј–љ–∞–µ—В–µ? вАФ –Ю–љ вАФ –Љ–Њ–є –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї. вАФ –Ю–љ –Њ—З–µ–љ—М —Б–Є–Љ–њ–∞—В–Є—З–љ—Л–є, —Е–Њ—А–Њ—И–Є–є, –∞–Ї–Ї—Г—А–∞—В–љ—Л–є —В–∞–Ї–Њ–є –Љ—Г–ґ... —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї! вАФ –Ь–љ–µ —В–Њ–ґ–µ –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П. –Э–Њ –≥–і–µ –Њ–љ–Є –њ–Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є–ї–Є—Б—М?  вАФ –Т . –Т —Б–њ–Њ—А—В–±–∞—Б—Б–µ–є–љ–µ. –•—Н–ї—М–Љ–Є –≤–Ј—П–ї–∞ –њ–µ—А–≤—Л–є –њ—А–Є–Ј, –∞ —Б—Г–і–Є–ї –Ь–Є—И–∞ –©–µ... –©–µ–≥–Њ–ї—М–Ї–Њ–≤, вАФ –Њ–њ—П—В—М –Ј–∞–њ–љ—Г–ї–∞—Б—М –Њ–љ–∞. вАФ –Ґ—А–Є –≥–Њ–і–∞ –Њ–љ–Є –±—Л–ї–Є –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ–Є... –Њ, –Њ—З–µ–љ—М –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ–Є –і—А—Г–Ј—М—П–Љ–Є. –Т—Л –•—Н–ї—М–Љ–Є –Ј–љ–∞–ї–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–∞—П? вАФ –Ф–∞. вАФ –Ш –≤—Л... –≤—Л —Б–њ–∞—Б–∞–ї–Є –µ–µ... –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ–∞ —Г–њ–∞–ї–∞ –≤ –У—А—Г–Ј–Є–Є –≤ —А–µ–Ї—Г? вАФ –°–њ–∞—Б? –Я—А–Њ—Б—В–Њ –≤—Л—В–∞—Й–Є–ї. –Т–∞–Љ –Є —Н—В–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ? вАФ –Ю! –Ъ–∞–Ї–∞—П –ґ–µ –і–µ–≤—Г—И–Ї–∞ –љ–µ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–ґ–µ—В –Њ —В–∞–Ї–Њ–Љ –њ—А–Є–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–Є? –ѓ –Ј–љ–∞—О –µ—Й–µ, —З—В–Њ —Б–ї—Г—З–Є–ї–Њ—Б—М –љ–∞ –Э–∞—А–≤–∞ вАФ –Љ–∞–љ—В–µ—Н –љ–∞ –њ–ї–Њ—Й–∞... –љ–∞ –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Є, —В–∞–Ї, –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, —З–µ—В–≤–µ—А—В–Њ–≥–Њ —Н—В–∞–ґ–∞?.. –Ґ–Њ–≥–і–∞, –њ–Њ–Љ–љ–Є—В–µ, –≤–µ—З–µ—А–Њ–Љ? –Ъ—В–Њ –љ–µ –њ–Њ–і–µ–ї–Є—В—Б—П —В–∞–Ї–Њ–є... —В–∞–Ї–Њ–є —В–∞–є–љ–Њ–є —Б –њ–Њ–і—А—Г–≥–Њ–є? –Э–Њ —В–µ–њ–µ—А—МвАФ —Г –љ–µ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ь–Є—И–∞, –і–∞, –Њ–і–Є–љ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ь–Є—И–∞ –Є –Ь–Є—И–∞... вАФ –≤–Ј–і–Њ—Е–љ—Г–ї–∞, –≥–ї—П–і—П –љ–∞ –Э–Є–Ї–Є—В—Г –ї—Г–Ї–∞–≤—Л–Љ –≤–Ј–≥–ї—П–і–Њ–Љ. вАФ –•–Њ—В—П –Њ–љ–Є –≤–Є–і—П—В—Б—П —А–µ–і–Ї–Њ... вАФ –Я–Њ–ґ–∞–ї—Г–є, –≤–Є–љ–Њ–≤–∞—В –≤ —Н—В–Њ–Љ —П... вАФ –Т—Л? –Я–Њ—З–µ–Љ—Г? вАФ –Ь–Њ–є –Ї–Њ–Љ–і–Є–≤ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї—П–µ—В –Љ–µ–љ—П –љ–∞ –њ—Г—В—М –Є—Б—В–Є–љ–љ—Л–є. вАФ –Э–∞ –њ—Г—В—М... –Є—Б—В–Є–љ–љ—Л–є? –ѓ –љ–µ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—О... –І—В–Њ —Н—В–Њ –Ј–љ–∞—З–Є—В? вАФ –Ґ–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ —Б—В–∞—А—И–µ –Љ–µ–љ—П –Є –Њ–љ –Љ–µ–љ—П —Г—З–Є—В. –£—З–Є—В –ґ–Є—В—М –Є —Г—З–Є—В –±—Л—В—М –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–Љ... вАФ –Р-–∞... —В–µ–њ–µ—А—М –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—О. –Э–Њ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –Ь–Є—И–∞ —Е–Њ—В–µ–ї –њ–Њ–є—В–Є —Б –љ–∞–Љ–Є –≤ —В–µ–∞—В—А. –°–µ–≥–Њ–і–љ—П –≤–µ–і—М –Њ–љ –≤–∞—Б –љ–µ —Г—З–Є—В, –њ—А–∞–≤–і–∞? –Т—Л —Б –љ–∞–Љ–Є –њ–Њ–є–і–µ—В–µ? вАФ –Э–µ—В. вАФ –Я–Њ—З–µ–Љ—Г? вАФ —Г–і–Є–≤–Є–ї–∞—Б—М –Њ–љ–∞. ~ –Ь–Њ–є –Њ—В–µ—Ж —Г—З–Є–ї –Љ–µ–љ—П –љ–µ –Ј–∞–Є—Б–Ї–Є–≤–∞—В—М, –љ–µ –Є–і—В–Є –љ–∞ —Б–±–ї–Є–ґ–µ–љ–Є–µ —Б –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Њ–Ї–Њ–ї—М–љ—Л–Љ –њ—Г—В–µ–Љ... вАФ –Ю–Ї–Њ–ї—М–љ—Л–Љ –њ—Г—В–µ–Љ? вАФ –њ–µ—А–µ—Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї–∞ –Ы–∞–є–љ–µ, —А–∞—Б—В—П–≥–Є–≤–∞—П —Б–ї–Њ–≤–∞. вАФ –Ю–њ—П—В—М —П –љ–µ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—О. –І—В–Њ —Н—В–Њ –Ј–љ–∞—З–Є—В... ¬Ђ–Њ–Ї–Њ–ї—М–љ—Л–Љ –њ—Г—В–µ–Љ¬ї? вАФ –ѓ –љ–µ —Е–Њ—З—Г, —З—В–Њ–±—Л –Њ–љ –Ј–∞–њ–Њ–і–Њ–Ј—А–Є–ї, вАФ –њ–Њ—П—Б–љ–Є–ї –Э–Є–Ї–Є—В–∞, вАФ —З—В–Њ —П... –љ—Г, —Б–ї–Њ–≤–Њ–Љ, –њ—Л—В–∞—О—Б—М —Б–Њ–є—В–Є—Б—М —Б –љ–Є–Љ... –љ–∞ –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї—Г—О –љ–Њ–≥—Г.  вАФ –Э–∞ –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї—Г—О –љ–Њ–≥—Г? вАФ –њ–Њ–≤—В–Њ—А–Є–ї–∞ –Њ–љ–∞. вАФ –Ю, –≤–∞—И —Г–ґ–∞—Б–љ–Њ —В—А—Г–і–љ—Л–є —П–Ј—Л–Ї! –°–љ–∞—З–∞–ї–∞ ¬Ђ–Њ–Ї–Њ–ї—М–љ—Л–Љ –њ—Г—В–µ–Љ¬ї, –њ–Њ—В–Њ–Љ вАФ ¬Ђ–љ–∞ –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї—Г—О –љ–Њ–≥—Г¬ї. –Э–Њ —П –њ–Њ–љ—П–ї–∞! вАФ —А–∞—Б—Б–Љ–µ—П–ї–∞—Б—М –Њ–љ–∞. вАФ –Ф–∞, –≤—Л –њ—А–∞–≤—Л, –Є –Ь–Є—И–µ, —П –і—Г–Љ–∞—О, –њ—А–Є—П—В–љ–µ–µ –њ–Њ–±—Л—В—М –±–µ–Ј... –±–µ–Ј –Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є–Є вАФ —Б –•—Н–ї—М–Љ–Є. –Ч–љ–∞–µ—В–µ —З—В–Њ? –Т—Л —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ—Л? вАФ –Ф–∞. вАФ –Ґ–Њ–≥–і–∞ —П –≤–∞—Б –љ–µ –њ—Г—Й—Г –Њ—В —Б–µ–±—П –љ–∞ –≤–µ—Б—М –і–µ–љ—М... –•–Њ—А–Њ—И–Њ? –Р –≤—Л –њ—А–Є–≤–µ–Ј–ї–Є —Б —Б–Њ–±–Њ–є –Ї—А–∞—Б–Ї–Є? вАФ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї–∞ –Њ–љ–∞, –Ј–∞–Љ–µ—В–Є–≤ –µ–≥–Њ –≤–Ј–≥–ї—П–і, –±—А–Њ—И–µ–љ–љ—Л–є –љ–∞ —П—Й–Є–Ї —Б –∞–Ї–≤–∞—А–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є –Ї—А–∞—Б–Ї–∞–Љ–Є. вАФ –Я—А–Є–≤–µ–Ј. –Э–Њ –±–Њ—О—Б—М, —З—В–Њ –Њ–љ–Є —В–∞–Ї –Є –њ—А–Њ–ї–µ–ґ–∞—В –≤ —Г–≥–ї—Г, –њ–Њ–і —Б—В–Њ–ї–Њ–Љ. вАФ –Т —Г–≥–ї—Г –њ–Њ–і —Б—В–Њ–ї–Њ–Љ? –Я–Њ—З–µ–Љ—Г? вАФ –Ь–љ–µ –љ–µ–Ї–Њ–≥–і–∞ –і–∞–ґ–µ –≤–Ј–і–Њ—Е–љ—Г—В—М. вАФ –Ю, —Г –Љ–µ–љ—П —В–Њ–ґ–µ –Љ–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–±–Њ—В—Л –≤ –±–Њ–ї—М–љ–Є—Ж–µ. –ѓ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—О –≤–∞—Б. –Э–Њ –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г –ґ–Є—В—М –±–µ–Ј —Н—В–Њ–≥–Њ... –Т–Њ—В, –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–Є—В–µ... вАФ –Ю–љ–∞ —А–∞—Б–Ї—А—Л–ї–∞ –љ–∞ —Б—В–Њ–ї–µ –њ–∞–њ–Ї—Г. –Х–µ –∞–Ї–≤–∞—А–µ–ї–Є –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–∞–ї–Є –≥–∞–≤–∞–љ—М, –љ–∞–±–Є—В—Г—О —А—Л–±–Њ–ї–Њ–≤–љ—Л–Љ–Є —И—Е—Г–љ–∞–Љ–Є, —А—Л–±–∞–Ї–Њ–≤ –≤ –Љ–Њ—А–µ, —А–∞–Ј–≤–µ—И–∞–љ–љ—Л–µ –љ–∞ –Ї–Њ–ї—Л—И–Ї–∞—Е —Б–µ—В–Є, —Г–≥–Њ–ї–Ї–Є —Б—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤—М—П. –Э–Є–Ї–Є—В–∞ –њ–µ—А–µ–±–Є—А–∞–ї –Є—Е –Њ–і–љ—Г –Ј–∞ –і—А—Г–≥–Њ–є. вАФ –Р –≤–Њ—В вАФ –Љ–Њ–µ –Љ–Њ—А–µ, –Є–Ј –Њ–Ї–љ–∞ –Љ–Њ–µ–є –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В—Л... –Ь–Њ—А–µ... –Ґ–Њ –≥–ї–∞–і–Ї–Њ–µ, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –Ј–µ—А–Ї–∞–ї–Њ, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ —З–µ—В–Ї–Њ –ї–µ–ґ–∞—В —Б–Є–љ–Є–µ —В–µ–љ–Є –Ї–∞–Љ–љ–µ–є. –Ґ–Њ –ґ–µ–ї—В–Њ–µ, –њ–Њ–Ї—А—Л—В–Њ–µ –ї–µ–≥–Ї–Њ–є –Ї–Њ—А–Є—З–љ–µ–≤–Њ–є —А—П–±—М—О. –Ц–µ–Љ—З—Г–ґ–љ–Њ–µ –Є —Б–Є—А–µ–љ–µ–≤–Њ–µ, –≥–Њ–ї—Г–±–Њ–µ –Є –Є —Б–≤–µ—В–ї–Њ-–Ј–µ–ї–µ–љ–Њ–µ, —А–Њ–Ј–Њ–≤–Њ–µ –≤ –Њ—В—Б–≤–µ—В–µ –Ј–∞–Ї–∞—В–∞, –њ–Њ–ї–Њ—Б–∞—В–Њ–µ –≤ —Б–Њ–ї–љ–µ—З–љ–Њ–Љ —Б–≤–µ—В–µ –Є –≤ –ї—Г–љ–љ–Њ–Љ; –±—Г—А–љ–Њ–µ, —В–µ–Љ–љ–Њ-—Б—В–∞–ї—М–љ–Њ–µ, –≤ –њ–µ–љ–Є—Б—В—Л—Е –±–µ–ї—Л—Е –±–∞—А–∞—И–Ї–∞—Е –Є, –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –±–µ–Ј–і–Њ–љ–љ–Њ–µ, —З–µ—А–љ–Њ–µ вАФ –≤ —В–∞–Ї–Њ–Љ –Љ–Њ—А–µ –≥–Є–±–љ—Г—В —Б—Г–і–∞. вАФ –ѓ –њ—А–Њ—Б—Л–њ–∞—О—Б—М –Є –≤–Є–ґ—Г –µ–≥–Њ, вАФ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞ –Њ–љ–∞ –љ–∞ –Њ–Ї–љ–Њ, вАФ —П –≤—Б—В–∞—О –Є –Є–і—Г –Ї –љ–µ–Љ—Г –Є –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г –љ–∞ –љ–µ–≥–Њ... –љ–∞... –љ–∞—Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М—Б—П, вАФ —Б —В—А—Г–і–Њ–Љ –љ–∞—И–ї–∞ –Њ–љ–∞ –љ—Г–ґ–љ–Њ–µ —Б–ї–Њ–≤–Њ. вАФ –ѓ –Ј–∞—Б—Л–њ–∞—О, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ–Њ –≤—Б–µ –≤ –ї—Г–љ–љ–Њ–Љ —Б–≤–µ—В–µ. –ѓ, –Ї–∞–Ї –Є –≤—Л... –Љ–Њ—А—Б–Ї–∞—П –і—Г-—И–∞, вАФ –≤—Л–≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–∞ –Њ–љ–∞ –њ–Њ —Б–ї–Њ–≥–∞–Љ.  –Ґ–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ–∞ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–∞, –±—Л–ї–Њ –±–ї–Є–Ј–Ї–Њ –µ–Љ—Г, –µ–≥–Њ —Б–µ—А–і—Ж—Г —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞, –Ю–љ —А–∞–љ–љ–Є–Љ —Г—В—А–Њ–Љ, –њ–Њ—Б–ї–µ –њ–Њ–і—К–µ–Љ–∞, –≤—Л–є–і—П –љ–∞ –њ–∞–ї—Г–±—Г, –ї—О–±—Г–µ—В—Б—П, –Ї–∞–Ї –Є–≥—А–∞—О—В –Љ–Њ—А–µ –Є —Б–≤–µ—В –љ–∞ –≥–Њ–ї—Г–±—Л—Е –±–Њ—А—В–∞—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є вАФ –љ–µ—Б—В–µ—А–њ–Є–Љ–Њ —Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М –љ–∞ –љ–Є—Е, –≤ –≥–ї–∞–Ј–∞—Е –≤—Б–µ –њ–µ—Б—В—А–Є—В; –љ–∞ –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В–Є, –±—Г—Е—В—Л, –Ї–∞–Ї –≤ –Ј–µ—А–Ї–∞–ї–µ, –Ј–∞—Б—В—Л–≤–∞—О—В –±–ї–µ–і–љ–Њ-–ґ–µ–ї—В—Л–µ –Њ–±–ї–∞–Ї–∞; –љ–µ—Г—В–Њ–Љ–Є–Љ–Њ –±–µ–≥—Г—Й–Є–µ —В–µ–љ–Є –њ–µ—А–µ–Ї—А–∞—И–Є–≤–∞—О—В –ї–µ—Б –љ–∞ —В–Њ–Љ –±–µ—А–µ–≥—Г –Є–Ј –±–ї–µ–і–љ–Њ-–Ј–µ–ї–µ–љ–Њ–≥–Њ –≤ —З–µ—А–љ—Л–є. –Э–∞–±–µ–≥–∞–µ—В –ї–µ–≥–Ї–∞—П —А—П–±—М вАФ –≤–Є–і–љ–Њ –і–љ–Њ: —З–µ—А–љ—Л–µ –≤–Њ–і–Њ—А–Њ—Б–ї–Є —И–µ–≤–µ–ї—П—В—Б—П –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –Ї–∞–Љ–љ–µ–є, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –Ј–Љ–µ–Є. –Р –±—Л–≤–∞–µ—В, –≤—Л—Е–Њ–і–Є—И—М вАФ –Є –љ–Є—З–µ–≥–Њ —А–∞–Ј–≥–ї—П–і–µ—В—М –љ–µ–ї—М–Ј—П –≤ —В–µ—А–њ–Ї–Њ–Љ –≤–ї–∞–ґ–љ–Њ–Љ —В—Г–Љ–∞–љ–µ вАФ –љ–Є –ї–µ—Б–∞, –љ–Є –љ–µ–±–∞, –љ–Є –±–ї–Є–Ј–љ–µ—Ж–Њ–≤-–Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є. –Э–Њ –≤–Њ—В –ї—Г—З —Б–Њ–ї–љ—Ж–∞, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –њ—А–Њ–ґ–µ–Ї—В–Њ—А–љ—Л–є –ї—Г—З, –њ—А–Њ—А–µ–Ј–∞–µ—В —В—Г–Љ–∞–љ, –Є –Њ–љ –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В –Ї–ї—Г–±–Є—В—М—Б—П, —А–∞—Б—Б–µ–Є–≤–∞—В—М—Б—П, –Є –ї–µ–≥–Ї–∞—П –≤–Њ–ї–љ–∞ —Г–ґ–µ –Ј–∞–Ј–Њ–ї–Њ—В–Є–ї–∞—Б—М —Г —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –±–Њ—А—В–∞, –Є –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞—О—В –≥–Њ–ї—Г–±—Л–µ –Ї–Њ–љ—В—Г—А—Л –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П-—Б–Њ—Б–µ–і–∞, —Б–љ–∞—З–∞–ї–∞ вАФ –ї–Є—И—М –Њ—З–µ—А—В–∞–љ–Є—П –Љ–∞—З—В –Є –±–Њ—А—В–Њ–≤, –њ–Њ—В–Њ–Љ вАФ –ї—О–і–Є –љ–∞ –њ–∞–ї—Г–±–µ, –њ–Њ—В–Њ–Љ вАФ –≤–µ—Б—М –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М, –Њ—Б–≤–µ—Й–µ–љ–љ—Л–є —Б–Њ–ї–љ—Ж–µ–Љ –Њ—В –≤–∞—В–µ—А–ї–Є–љ–Є–Є –Є –і–Њ –Ї–ї–Њ—В–Є–Ї–∞, —В–∞–Ї–Њ–є –Ї—А–∞—Б–∞–≤–µ—Ж –≤ –љ–Њ–≤–Њ–Љ —Б–Њ–ї–љ–µ—З–љ–Њ–Љ –і–љ–µ... –Ш –≤–∞–ї—Г–љ—Л —Б—В–∞–љ–Њ–≤—П—В—Б—П —Б–≤–µ—В–ї–Њ-–Ї–Њ—А–Є—З–љ–µ–≤—Л–Љ–Є –Є –ґ–µ–ї—В—Л–Љ–Є вАФ –Њ–љ–Є —Б–Њ—В–љ—П–Љ–Є –ї–µ–ґ–∞—В –љ–∞ –Њ—В–Љ–µ–ї—П—Е, –Ї–∞–Ї –≤—Л–њ–Њ–ї–Ј—И–Є–µ –њ–Њ–≥—А–µ—В—М—Б—П –Љ–Њ—А–ґ–Є... –Ґ–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В, –Є –µ–є –±–ї–Є–Ј–Ї–Њ, —Е–Њ—В—П –Њ–љ–∞ –Є –љ–µ –≤—Б–µ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ—В: —Н—В–Њ—В —В—А—Г–і–љ—Л–є —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є —П–Ј—Л–Ї! –Ш–љ–Њ–≥–і–∞ –Ы–∞–є–љ–µ –Ј–∞–њ–Є–љ–∞–µ—В—Б—П, –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—П –љ–µ—Г–ї–Њ–≤–Є–Љ–Њ–µ —Б–ї–Њ–≤–Њ, –Є, –µ—Б–ї–Є –љ–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В –µ–≥–Њ, –≥–ї–∞–Ј–∞ –µ–µ –љ–∞—З–Є–љ–∞—О—В –њ—А–Њ—Б–Є—В—М: ¬Ђ–Э—Г, –њ–Њ–і—Б–Ї–∞–ґ–Є –ґ–µ. –Э—Г, –њ–Њ–і—Б–Ї–∞–ґ–Є¬ї. –Ъ–∞–Ї –љ–∞–Ј–ї–Њ, –Э–Є–Ї–Є—В–∞ —В–Њ–ґ–µ –љ–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В —В–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞. –Ш –Њ–љ–Є –љ–∞—З–Є–љ–∞—О—В —Б–Љ–µ—П—В—М—Б—П. –Ю–љ–∞ –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В: вАФ –Ь—Л –≤–µ–і—М —Ж–µ–ї—Л–є –≥–Њ–і –љ–µ –≤–Є–і–∞–ї–Є—Б—М. вАФ –Ф–∞. –Ф–ї–Є–љ–љ—Л–є –≥–Њ–і! вАФ –њ–Њ–і—Е–≤–∞—В—Л–≤–∞–µ—В –Э–Є–Ї–Є—В–∞. вАФ –£ –Љ–µ–љ—П –±—Л–ї–Є –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ—Л–µ —Н–Ї–Ј–∞–Љ–µ–љ—Л... вАФ –£ –Љ–µ–љ—П вАФ —В–Њ–ґ–µ. вАФ –ѓ –Є—Е —В–∞–Ї... –Ї–∞–Ї —Н—В–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М... –Њ—З–µ–љ—М —Б–Є–ї—М–љ–Њ ... –Ь–љ–µ –≤—Б–µ –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ —П... —В—А—А! вАФ –Є –њ—А–Њ–≤–∞–ї—О—Б—М –њ–Њ–і –і–Њ—Б–Ї–Є... –љ—Г, –њ–Њ–і –њ–Њ–ї...  вАФ –ѓ вАФ —В–Њ–ґ–µ! –Э–Њ —П –≤–µ—А–Є–ї, —З—В–Њ –≤—Л–і–µ—А–ґ—Г. –ѓ —Е–Њ—В–µ–ї —Б—В–∞—В—М –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–Љ. вАФ –ѓ –њ–Њ–Љ–љ—О, –≤—Л —Б–њ–∞—Б–ї–Є —Б–µ—В—М –і—П–і–Є –•–µ—А–Љ–∞–љ–љ–∞! вАФ –Ф–∞. –≠—В–Њ вАФ –≤ –Љ–Є—А–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П. –Э–Њ –µ—Б–ї–Є —Б–љ–Њ–≤–∞ –±—Г–і–µ—В –≤–Њ–є–љ–∞... вАФ –Я—Г—Б—В—М –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –µ–µ –±–Њ–ї—М—И–µ –љ–µ –±—Г–і–µ—В!.. вАФ –њ–µ—А–µ–±–Є–ї–∞ –Њ–љ–∞ –≥–Њ—А—П—З–Њ. вАФ –•–≤–∞—В–Є—В —Б –љ–∞—Б –Є –Њ–і–љ–Њ–є. 186 вАФ –Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, —Е–≤–∞—В–Є—В! –Э–Њ, –Ї —Б–Њ–ґ–∞–ї–µ–љ–Є—О, —Н—В–Њ –Њ—В –љ–∞—Б –љ–µ –Ј–∞–≤–Є—Б–Є—В. –Ф–∞, –Њ—В –љ–∞—Б —Н—В–Њ –љ–µ –Ј–∞–≤–Є—Б–Є—В, –Є –Љ—Л –≥–Њ—В–Њ–≤–Є–Љ —Б–µ–±—П. –Ф–∞, –≥–Њ—В–Њ–≤–Є–Љ –Ї –±–Њ—П–Љ. –Э–Њ –Є –Љ—Л, –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–µ, —Е–Њ—В–Є–Љ –Љ–Є—А–∞. –Ч–∞—З–µ–Љ —Г–Љ–Є—А–∞—В—М –Љ–Њ–ї–Њ–і—Л–Љ–Є? –Ц–Є–Ј–љ—М вАФ —Е–Њ—А–Њ—И–∞. –†–∞–Ј–≤–µ –љ–µ –ї—Г—З—И–µ —Е–Њ–і–Є—В—М –≤ –Ї—А—Г–≥–Њ—Б–≤–µ—В–љ—Л–µ –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є—П, –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В—М –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–µ –≥–ї—Г–±–Є–љ—Л? –£ –Љ–Њ—А—П –µ—Й–µ —Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ —В–∞–є–љ... –Ы–∞–є–љ–µ —А–∞—Б–њ–∞—Е–љ—Г–ї–∞ –Њ–Ї–љ–Њ. –Ь–Њ—А–µ –±—Л–ї–Њ –њ–Њ–і —Б–∞–Љ—Л–Љ–Є –Њ–Ї–љ–∞–Љ–Є. –Э–∞ –Ї–Њ—А–Є—З–љ–µ–≤—Л—Е –Є —З–µ—А–љ—Л—Е –Ї–∞–Љ–љ—П—Е —Б–Є–і–µ–ї–Є –Є —З–Є—Б—В–Є–ї–Є—Б—М —З–∞–є–Ї–Є. –Т –і–Њ–Љ –і–Њ–љ–Њ—Б–Є–ї–Є—Б—М –Є—Е –Ї—А–Є–Ї–ї–Є–≤—Л–µ –≥–Њ–ї–Њ—Б–∞. –Ш –њ–Њ–њ—Г–≥–∞–є –≤ –Ї–ї–µ—В–Ї–µ –≤—Л—А—Г–≥–∞–ї –Є—Е —Б–µ—А–і–Є—В–Њ –Є —Е—А–Є–њ–ї–Њ: ¬Ђ–Ъ—Г—А-—А–∞—В¬ї. –Т–і–∞–ї–Є –±—Л–ї –≤–Є–і–µ–љ –Љ–∞—П–Ї вАФ —В–Њ–ї—Б—В–∞—П –±–µ–ї–∞—П –±–∞—И–љ—П, –Њ–њ–Њ—П—Б–∞–љ–љ–∞—П —З–µ—А–љ—Л–Љ –Ї–Њ–ї—М—Ж–Њ–Љ; —З–µ—А–љ–µ–ї –ї–µ—Б –Ј–∞ –±—Г—Е—В–Њ–є. –Я–Њ–Ї–∞—З–Є–≤–∞—П—Б—М –љ–∞ –≤–Њ–ї–љ–∞—Е, –±—Л—Б—В—А–Њ —И–ї–∞ —Б–ї–µ–≤–∞ –љ–∞–њ—А–∞–≤–Њ —А—Л–±–∞—З—М—П –Љ–Њ—В–Њ—А–Ї–∞. вАФ –Ф—П–і—П –•–µ—А–Љ–∞–љ–љ –њ–Њ—И–µ–ї, вАФ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞ –Ы–∞–є–љ–µ. вАФ –Т—Л —Б –љ–Є–Љ –≤—Л—Е–Њ–і–Є–ї–Є? вАФ –Ю –і–∞! вАФ –≤–Њ—Б–Ї–ї–Є–Ї–љ—Г–ї–∞ –Њ–љ–∞, –Є –≥–ї–∞–Ј–∞ –µ–µ –Ј–∞–≥–Њ—А–µ–ї–Є—Б—М. вАФ –Ь–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј! –Т –Ї–∞–ґ–і—Л–є —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ—Л–є –і–µ–љ—М. –ѓ –Љ–Њ–≥–ї–∞ –±—Л –њ—А–Њ–ґ–Є—В—М –ґ–Є–Ј–љ—М —А—Л–±–∞—З–Ї–Њ–є! вАФ –Ш –≤ –љ–µ–њ–Њ–≥–Њ–і—Г? вАФ –Т –љ–µ-–њ–Њ-–≥–Њ-–і—Г? –Р, —Н—В–Њ –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤ –Љ–Њ—А–µ —И—В–Њ—А–Љ! –ѓ вАФ –љ–µ –±–Њ—О—Б—М. –Ь–Њ—А–µ вАФ –і—А—Г–≥.  –Ю–љ —Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї –љ–∞ –µ–µ —Б–Є–ї—М–љ—Л–µ, –љ–Њ –ґ–µ–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –Є –љ–µ–ґ–љ—Л–µ —А—Г–Ї–Є, –љ–∞ —Б–≤–µ—В–ї—Л–є –ї–Њ–Ї–Њ–љ –≤–Њ–Ј–ї–µ –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–≥–Њ –Є–Ј—П—Й–љ–Њ–≥–Њ —Г—Е–∞, –Є –Њ–љ–∞ –µ–Љ—Г –Ї–∞–Ј–∞–ї–∞—Б—М –Њ—З–µ–љ—М –Ї—А–∞—Б–Є–≤–Њ–є, —Е–Њ—В—П –±—Л–ї–∞ —Е–Њ—А–Њ—И–∞ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ—Б—В—М—О, —Б–≤–µ–ґ–µ—Б—В—М—О –Є —А—Г–Љ—П–љ—Ж–µ–Љ вАФ –љ–Њ—Б –Є –≥—Г–±—Л –Љ–Њ–≥–ї–Є –±—Л—В—М –Є –ї—Г—З—И–µ. –Э–Њ –≥–ї–∞–Ј–∞ —Г –љ–µ–µ вАФ –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Є–µ, –Ї–∞–Ї –Њ–Ј–µ—А–∞, –∞ –≤–Њ–ї–Њ—Б—Л вАФ –љ–µ–ґ–љ–Њ–≥–Њ —Ж–≤–µ—В–∞ —А–ґ–Є, –љ–∞—З–Є–љ–∞—О—Й–µ–є —Б–Њ–Ј—А–µ–≤–∞—В—М... вАФ –Я–Њ–є–і–µ–Љ—В–µ –Ї –і—А—Г–≥—Г? –Ю–љ–Є –≤—Л—И–ї–Є –≤ —Б–∞–і. –Ы–∞–є–љ–µ –Њ—В–Ї—А—Л–ї–∞ –Ї–∞–ї–Є—В–Ї—Г, –Є –Њ–љ–Є –Њ—З—Г—В–Є–ї–Є—Б—М –љ–∞ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ –±–µ—А–µ–≥—Г. –Я–Њ–і –љ–Њ–≥–∞–Љ–Є —И—Г—А—И–∞–ї–∞ –≥–∞–ї—М–Ї–∞. –Ф–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л–µ —И—Е—Г–љ—Л, –њ–Њ–і–љ—П—В—Л–µ –љ–∞ —Б—В–∞–њ–µ–ї—П—Е –≤–µ—А—Д–Є, –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ –љ–∞–і –Ј–µ–Љ–ї–µ–є, –Ї–∞–Ј–∞–ї–Є—Б—М –і—А–µ–≤–љ–Є–Љ–Є –ї–∞–і—М—П–Љ–Є –≤–Є–Ї–Є–љ–≥–Њ–≤. –І—Г—В—М –њ–Њ–і–∞–ї—М—И–µ —Б–µ—А–µ–ї –Ј–∞ –Њ–≥—А–∞–і–Њ–є —Е–Њ–ї–Љ–Є–Ї вАФ –љ–∞ –љ–µ–Љ –≤ –±–∞–љ–Ї–∞—Е —Б—В–Њ—П–ї–Є –њ–Њ–ї—Г—Г–≤—П–і—И–Є–µ —Е—А–Є–Ј–∞–љ—В–µ–Љ—Л. –°—О–і–∞ –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї –Э–Є–Ї–Є—В–∞ –Є –≤ –њ—А–Њ—И–ї–Њ–Љ –≥–Њ–і—Г. –Ч–і–µ—Б—М –ї–µ–ґ–∞—В –µ–≥–Њ —Б—В–∞—А—И–Є–µ —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–Є вАФ –Љ–Њ—А—П–Ї–Є... вАФ –ѓ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –њ–Њ–Љ–љ—О... —П –Њ—З–µ–љ—М —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –њ–Њ–Љ–љ—О, вАФ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞ –Ы–∞–є–љ–µ, вАФ —Е–Њ—В—П —П –±—Л–ї–∞ —В–Њ–≥–і–∞ –µ—Й–µ –і–µ–≤–Њ—З–Ї–Њ–є... –Ю–љ–Є –ї–µ–ґ–∞–ї–Є –љ–∞ –Ї–∞–Љ–љ—П—Е –Є –њ–µ—Б–Ї–µ –≤–Њ—В —В—Г—В, —Г —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А—П... –Т—Б–µ –Љ–Њ–ї–Њ–і—Л–µ, –Ї–∞–Ї –≤—Л... –Т–µ—В–µ—А —А–∞–Ј–≤–µ–≤–∞–ї –µ–µ —Б–≤–µ—В–ї—Л–є —И–∞—А—Д. –Ы–∞–є–љ–µ –≤—Л—В–µ—А–ї–∞ —Б–ї–µ–Ј—Л. вАФ –Т—Л –Ј–љ–∞–µ—В–µ, –Э–Є–Ї–Є—В–∞, –Ь–∞—А—В –†–∞—Г–і—Б–µ–њ–њ, –љ–∞—И –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–є –∞—А—Е–Є—В–µ–Ї—В–Њ—А, —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї, —З—В–Њ —А–µ—И–µ–љ–Њ –Ј–і–µ—Б—М –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї. –ѓ –≤–Є–і–µ–ї–∞ –Љ–љ–Њ–≥–Њ —Г–ґ–∞—Б–љ—Л—Е –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤... вАФ –ѓ —В–Њ–ґ–µ, вАФ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Э–Є–Ї–Є—В–∞. вАФ –•–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М –≤–Њ–Ј–Љ—Г—Й–∞—В—М—Б—П, –Ї—А–Є—З–∞—В—М –≤ –ї–Є—Ж–Њ —Н—В–Є–Љ —Б–Ї—Г–ї—М–њ—В–Њ—А–∞–Љ: –љ–µ –Њ—Б–Ї–Њ—А–±–ї—П–є—В–µ –њ–∞–Љ—П—В—М –≥–µ—А–Њ–µ–≤! вАФ –ѓ... –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—О –≤–∞—Б, вАФ –њ–Њ–і–љ—П–ї–∞ –Њ–љ–∞ –Ј–∞–њ–ї–∞–Ї–∞–љ–љ—Л–µ –≥–ї–∞–Ј–∞. вАФ –Ш –≤–Њ—В –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Љ–љ–µ –Ј–∞—Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М... –Љ–љ–µ –Ј–∞—Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М... –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—М –±–µ–ї—Г—О –њ–ї–Є—В—Г... –љ–∞ –љ–µ–є вАФ –Љ–Њ–Ј–∞–Є–Ї–∞... –Љ–Њ—А—П–Ї–Є –≤—Л—Е–Њ–і—П—В –Є–Ј –њ–µ–љ—Л... –Љ–Њ–ї–Њ–і—Л–µ, –Ї—А–∞—Б–Є–≤—Л–µ, –Љ—Г–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ... –Є... –Ї–∞–Ї —Н—В–Њ –њ–Њ-—А—Г—Б—Б–Ї–Є... –њ–Њ–і–Њ–ґ–і–Є—В–µ... —Б–µ–є—З–∞—Б —П —Б–Ї–∞–ґ—Г... –љ–∞–њ–Є—Б–∞—В—М... –≤–Њ—В... ¬Ђ–Т–µ—З–љ–Њ –ґ–Є–≤—Л–Љ¬ї. –Ґ–∞–Ї —П —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞? –Ш —З–µ—В—Л—А–µ –њ—А–Њ—Б—В—Л—Е —З–µ—А–љ—Л—Е —П–Ї–Њ—А—П –Є —З–µ—В—Л—А–µ –±–µ–ї—Л—Е –і–Њ—Б–Ї–Є. –Ш –љ–∞ –љ–Є—ЕвАФ –Є–Љ–µ–љ–∞. –Т—Л –Љ–µ–љ—П –њ–Њ–љ—П–ї–Є?  –Ю, –Њ–љ –Њ—В–ї–Є—З–љ–Њ –њ–Њ–љ—П–ї! вАФ –Я–Њ–є–і–µ–Љ—В–µ, —П –њ–Њ–Ї–∞–ґ—Г –≤–∞–Љ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–Њ, вАФ –≤–Ј—П–ї–∞ –Њ–љ–∞ –µ–≥–Њ –Ј–∞ —А—Г–Ї—Г. –Ю–љ –њ–Њ–і–љ—П–ї—Б—П –Ј–∞ –љ–µ–є –љ–∞ –Ї–ї–∞–і–±–Є—Й–µ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–Њ–≤ –Є —А—Л–±–∞–Ї–Њ–≤, –Ј–∞—А–Њ—Б—И–µ–µ –ґ–∞—Б–Љ–Є–љ–Њ–Љ –Є —Б–Є—А–µ–љ—М—О, —З–Є—Б—В–µ–љ—М–Ї–Њ–µ, –≤ —Ж–≤–µ—В–∞—Е, —Г–Ї—А–∞—И–∞–≤—И–Є—Е –Љ–Њ–≥–Є–ї—Л. вАФ –≠—В–Њ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ—Г, –њ–Њ–≥–Є–±—И–µ–Љ—Г –≤ –Љ–Њ—А–µ, вАФ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞ –Ы–∞–є–љ–µ. –Ф–µ–≤—Г—И–Ї–∞, –≤—Л—Б–µ—З–µ–љ–љ–∞—П –Є–Ј —З–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –Љ—А–∞–Љ–Њ—А–∞, —Б—В–Њ—П–ї–∞ –љ–∞ –Ї–Њ–ї–µ–љ—П—Е –љ–∞–і –Љ–Њ–≥–Є–ї–Њ–є –Њ—В—Ж–∞. –Ю–љ–∞ –і–µ—А–ґ–∞–ї–∞ –≤ —А—Г–Ї–∞—Е —З–µ—А–љ—Г—О —З–∞—И—Г вАФ –≤ –љ–µ–є –ї–µ–ґ–∞–ї–Є –Њ—Б–µ–љ–љ–Є–µ –ґ–Є–≤—Л–µ —Ж–≤–µ—В—Л. –Ъ–∞–њ–ї–Є –і–Њ–ґ–і—П, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ —Б–ї–µ–Ј—Л, —В–µ–Ї–ї–Є –њ–Њ –Љ—А–∞–Љ–Њ—А–љ—Л–Љ —З–µ—А–љ—Л–Љ —Й–µ–Ї–∞–Љ. вАФ –Ъ–∞–њ–Є—В–∞–љ –њ–Њ–≥–Є–± –Љ–љ–Њ–≥–Њ –ї–µ—В –љ–∞–Ј–∞–і, вАФ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞ –Ы–∞–є–љ–µ. вАФ –Ф–Њ—З—М –і–∞–≤–љ–Њ —Г–ґ–µ —Г–Љ–µ—А–ї–∞. –Э–Њ –Ј–µ–Љ–ї—П–Ї–Є –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–∞ –Є —Б–µ–є—З–∞—Б –њ—А–Є–љ–Њ—Б—П—В —Ж–≤–µ—В—Л вАФ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—П –Є –і—А—Г–≥–Є—Е, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Г–љ–µ—Б–ї–Њ –Љ–Њ—А–µ? –Ц–µ–љ—Й–Є–љ–∞ –≤ –≤—П–Ј–∞–љ–Њ–Љ —Б–≤–Є—В–µ—А–µ –Є –≤ —А—Л–±–∞—З—М–Є—Е –±–Њ–ї—М—И–Є—Е —Б–∞–њ–Њ–≥–∞—Е, –љ–µ–Љ–Њ–ї–Њ–і–∞—П, –љ–Њ —Б—В—А–Њ–є–љ–∞—П, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –і–µ–≤—Г—И–Ї–∞, –њ–Њ–і–Њ—И–ї–∞ –Ї –љ–Є–Љ –љ–µ—Б–ї—Л—И–љ–Њ, –Ї–∞–Ї –њ—А–Є–Ј—А–∞–Ї. –£ –љ–µ–µ –±—Л–ї–Є –і–ї–Є–љ–љ—Л–µ –Ї–Њ—Б—Л вАФ —В–∞–Ї–Є–µ —Б–≤–µ—В–ї—Л–µ, —З—В–Њ –Э–Є–Ї–Є—В–∞ –њ–Њ–љ—П–ї: —Б–µ–і—Л–µ. –Ю–љ–∞ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї–∞: вАФ –Ґ—Л вАФ –Ь–Є—И–∞? вАФ –Т—Л –Њ—И–Є–±–∞–µ—В–µ—Б—М. –Э–Є–Ї–Є—В–µ —Б—В–∞–ї–Њ –љ–µ –њ–Њ —Б–µ–±–µ. –Ы–∞–є–љ–µ —З—В–Њ-—В–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–µ –њ–Њ-—Н—Б—В–Њ–љ—Б–Ї–Є. –Э–Њ —В–∞ —Б–љ–Њ–≤–∞ –Ј–∞–≥–ї—П–љ—Г–ї–∞ –Э–Є–Ї–Є—В–µ –≤ –≥–ї–∞–Ј–∞ —В–Њ—Б–Ї—Г—О—Й–Є–Љ –Є –Є—Й—Г—Й–Є–Љ –≤–Ј–≥–ї—П–і–Њ–Љ –Є —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї–∞: вАФ –Ґ—Л вАФ –Т–∞–љ—П? –Ы–∞–є–љ–µ –Њ–њ—П—В—М —З—В–Њ-—В–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞ –µ–є –њ–Њ-—Н—Б—В–Њ–љ—Б–Ї–Є –Є –ї–∞—Б–Ї–Њ–≤–Њ –њ–Њ–≥–ї–∞–і–Є–ї–∞ –µ–µ —В–Њ–љ–Ї–Є–µ –і–ї–Є–љ–љ—Л–µ –њ–∞–ї—М—Ж—Л. –Ш —В–Њ–≥–і–∞ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞ –њ–Њ—И–ї–∞ –Њ—В –љ–Є—Е –ї–µ–≥–Ї–Њ–є –њ–Њ—Е–Њ–і–Ї–Њ–є –і–µ–≤—Г—И–Ї–Є, —З—В–Њ-—В–Њ –±–Њ—А–Љ–Њ—З–∞. вАФ –≠—В–Њ –Ґ–Є–ї—М–і–∞, вАФ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞ –Ы–∞–є–љ–µ, вАФ –Њ–љ–∞ –Њ—З–µ–љ—М –±–Њ–ї—М–љ–∞. –£ –љ–µ–µ... –£ —Б–µ–±—П –≤ –і–Њ–Љ–µ –Њ–љ–∞ –њ—А—П—В–∞–ї–∞ —В—А–µ—Е –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–≤. –Ю–љ–Є –≤—Б–µ –±—Л–ї–Є —А–∞–љ–µ–љ—Л–µ... –Х–µ... –Ї–∞–Ї —Н—В–Њ... –њ—Л—В–∞–ї–Є вАФ –і–∞, –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ —П –≥–Њ–≤–Њ—А—О? –Р –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–≤ –Њ–љ–∞ —Б–њ—А—П—В–∞–ї–∞ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ, –Є –Є—Е –љ–µ –љ–∞—И–ї–Є... –Ю–љ–∞ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞. –Ш –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–≤ —Б—В–∞—А—Л–є –°–µ–њ–њ —Б—Г–Љ–µ–ї –њ–µ—А–µ–±—А–Њ—Б–Є—В—М —З–µ—А–µ–Ј –±—Г—Е—В—Г, –≤ –ї–µ—Б, –Ї –њ–∞—А—В–Є–Ј–∞–љ–∞–Љ. –Э–Њ —В–µ–њ–µ—А—М –Њ–љ–∞ —В—Г—В, вАФ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞ –Ы–∞–є–љ–µ –љ–∞ –ї–Њ–±, вАФ —В—Г—В –±–Њ–ї—М–љ–∞. вАФ –Ґ–∞–Ї —Н—В–Њ –Њ–љ–∞ —Б–њ–∞—Б–ї–∞ –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–≤? вАФ –Э–Є–Ї–Є—В–∞ –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј –С–Њ—З–Ї–∞—А–µ–≤–∞. –Я—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В.  –Т–µ—А—О–ґ—Б–Ї–Є–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Т–Э–Р), –У–Њ—А–ї–Њ–≤ –Ю–ї–µ–≥ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Ю–Р–У), –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З (–Ь–Т–Т), –Ъ–°–Т. 198188. –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥, —Г–ї. –Ь–∞—А—И–∞–ї–∞ –У–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤–∞, –і–Њ–Љ 11/3, –Ї–≤. 70. –Ъ–∞—А–∞—Б–µ–≤ –°–µ—А–≥–µ–є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З, –∞—А—Е–Є–≤–∞—А–Є—Г—Б. karasevserg@yandex.ru
12.06.201309:5712.06.2013 09:57:20
–°—В—А–∞–љ–Є—Ж—Л:
–Я—А–µ–і.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
...
|
9
|
–°–ї–µ–і.
|