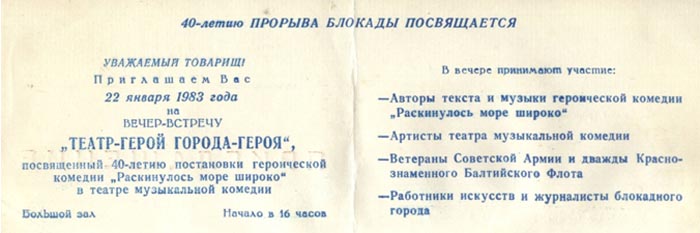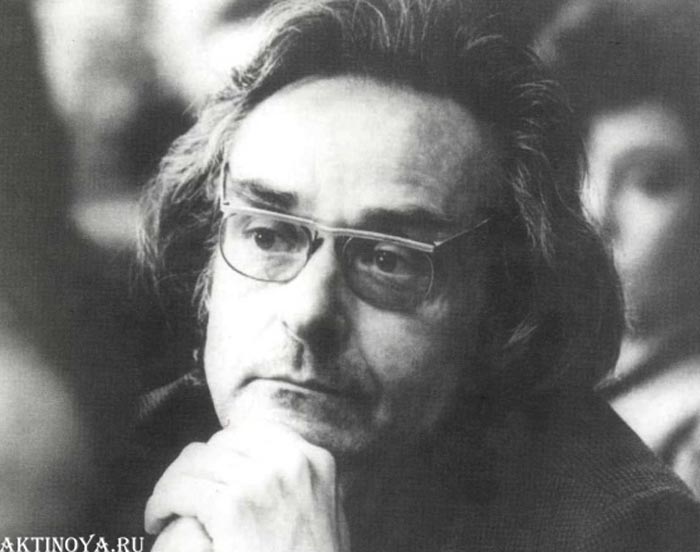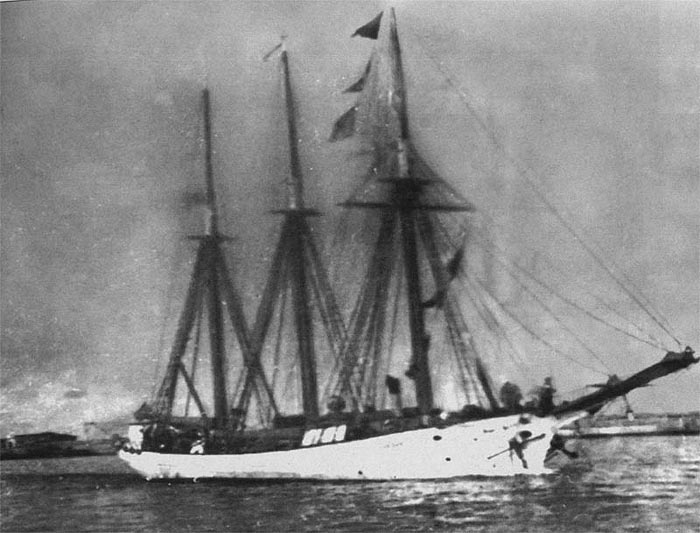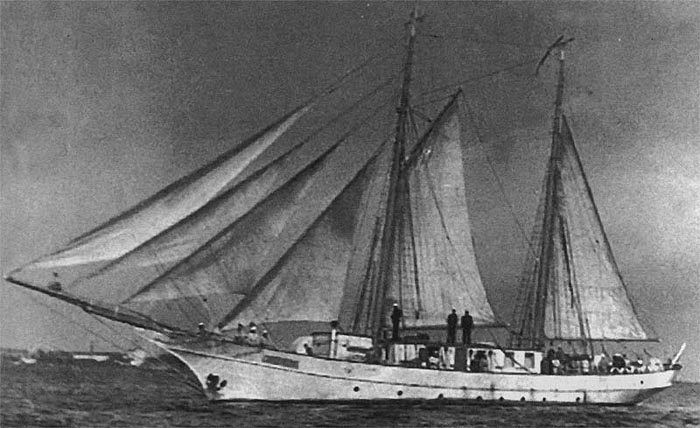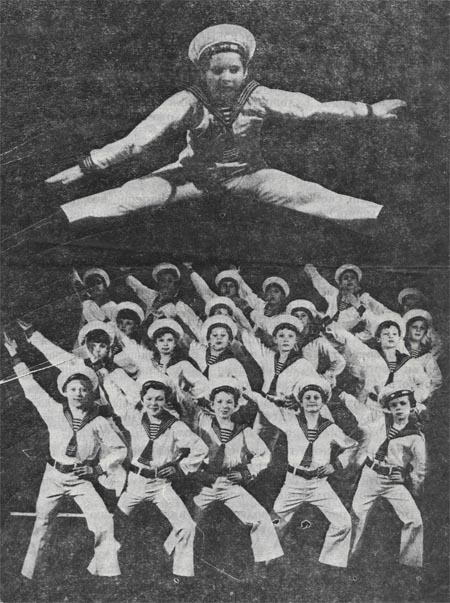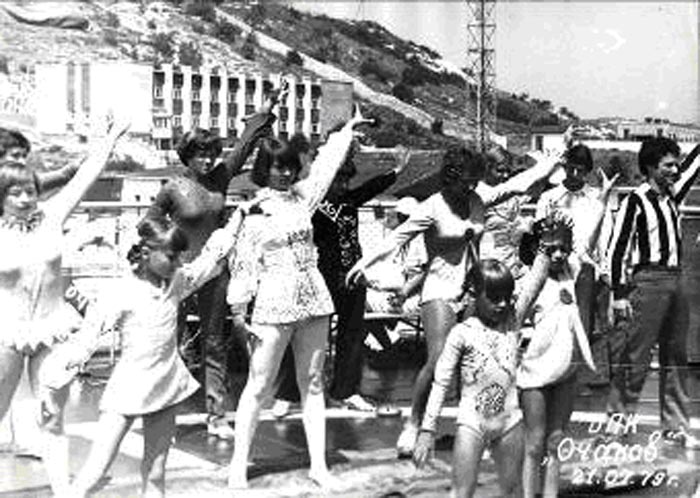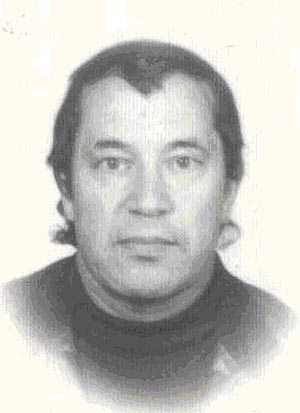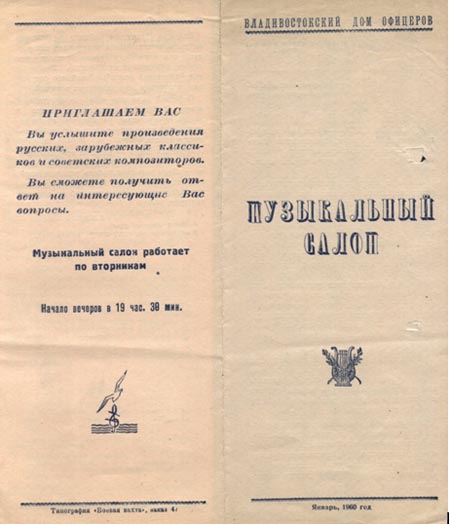–С–∞–љ–љ–µ—А

–Р–°–£ –Ґ–Я –љ–∞ –±–∞–Ј–µ —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї–ї–µ—А–∞
|
–Т—Б–Ї–Њ—А–Љ–ї—С–љ–љ—Л–µ —Б –Ї–Њ–њ—М—П - –°–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є—П –Ј–∞ –Љ–∞—А—В 2013 –≥–Њ–і–∞
0
31.03.201300:2131.03.2013 00:21:39
–Я—А–Є–Ї–∞–Ј–Њ–Љ –Э–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ –£–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –њ–Њ –і–µ–ї–∞–Љ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤ –Я.–†–∞—З–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –і–ї—П –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є—П –љ–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ–Њ–є —А–∞–±–Њ—В—Л —В–µ–∞—В—А–∞ –±—Л–ї –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ –≤–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–µ –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —В–µ–∞—В—А –і—А–∞–Љ—Л –Є–Љ. –Р.–°.–Я—Г—И–Ї–Є–љ–∞. –Ш–≥—А–∞–ї–Є—Б—М —Б—В–∞—А—Л–µ —Б–њ–µ–Ї—В–∞–Ї–ї–Є ¬Ђ–•–Њ–ї–Њ–њ–Ї–∞¬ї, ¬Ђ–Ґ—А–Є –Љ—Г—И–Ї–µ—В—С—А–∞¬ї, ¬Ђ–°–Є–ї—М–≤–∞¬ї, ¬Ђ–С–∞—П–і–µ—А–∞¬ї. –У—А–Є–Љ –Њ—В–Њ–≥—А–µ–≤–∞–ї–Є –љ–∞ –≥—А—Г–і–Є, –≥–Њ–ї–Њ—Б —Б–∞–і–Є–ї—Б—П –≤ —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ –∞—А–Є–Є. C —П–љ–≤–∞—А—П 1942 –≥–Њ–і–∞ –Є –Я—Г—И–Ї–Є–љ—Б–Ї–Є–є —В–µ–∞—В—А –њ–µ—А–µ—Б—В–∞–ї –њ–Њ–ї—Г—З–∞—В—М —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ—Н–љ–µ—А–≥–Є—О. –°–њ–µ–Ї—В–∞–Ї–ї–Є –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –Њ—В–Љ–µ–љ–Є—В—М, –љ–Њ —Н—В–Њ –≥—А–Њ–Ј–Є–ї–Њ –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ–Њ–є —Б–Љ–µ—А—В—М—О, —В–Њ–≥–і–∞ –Њ–±–µ—Б—Б–Є–ї–µ–≤—И–Є—Е –∞–Ї—В–µ—А–Њ–≤ –Ј–∞–≥—А—Г–Ј–Є–ї–Є —А–∞–±–Њ—В–Њ–є, –≤ –і–µ–љ—М –љ–∞–Ј–љ–∞—З–∞–ї–Є –њ–Њ –і–≤–µ-—В—А–Є —А–µ–њ–µ—В–Є—Ж–Є–Є, –≤—Б–µ—Е –∞–Ї—В–µ—А–Њ–≤ —А–∞–Ј–і–µ–ї–Є–ї–Є –љ–∞ –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В–љ—Л–µ –±—А–Є–≥–∞–і—Л, –≤—Б—В—А–µ—З–Є —Б –ї—О–±–Є–Љ—Л–Љ–Є –∞—А—В–Є—Б—В–∞–Љ–Є вАУ –Ъ–Њ–ї–µ—Б–љ–Є–Ї–Њ–≤–Њ–є, –Ъ–µ–і—А–Њ–≤—Л–Љ, –ѓ–љ–µ—В–Њ–Љ, –Я–µ–ї—М—Ж–µ—А, –°–≤–Є–і–µ—А—Б–Ї–Є–Љ, –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤—Л–Љ, –Ю—А–ї–Њ–≤—Л–Љ вАУ –њ—А–Є–љ–Њ—Б–Є–ї–Є –±–Њ–і—А–Њ—Б—В—М, —Н–љ–µ—А–≥–Є—О, –Њ–њ—В–Є–Љ–Є–Ј–Љ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ј–∞—Й–Є—В–љ–Є–Ї–∞–Љ –≥–Њ—А–Њ–і–∞, –љ–Њ –Є –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—П–Љ.  –Ч–∞—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–љ–∞—П –∞—А—В–Є—Б—В–Ї–∞ –°–°–°–† –Ы–Є–і–Є—П –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–љ–∞ –Ъ–Њ–ї–µ—Б–љ–Є–Ї–Њ–≤–∞, –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж–∞ –≥–µ—А–Њ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Х–ї–µ–љ—Л –≤ —Б–њ–µ–Ї—В–∞–Ї–ї–µ ¬Ђ–†–∞—Б–Ї–Є–љ—Г–ї–Њ—Б—М –Љ–Њ—А–µ —И–Є—А–Њ–Ї–Њ¬ї.  –Ь–Є—Е–∞–Є–ї –С–Њ–љ–і–∞—А–µ–љ–Ї–Њ –≤ —А–Њ–ї–Є –Љ–∞—В—А–Њ—Б–∞-–≤–µ—Б–µ–ї—М—З–∞–Ї–∞ –Ц–Њ—А–ґ–∞ –С–Њ—А–љ. –Ґ—А–Њ–≥–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–µ, –Є—Б–Ї—А–µ–љ–љ–Є–µ –њ–Є—Б—М–Љ–∞, —Ж–≤–µ—В—Л –њ–µ—А–µ–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–µ –≤–µ—В–Њ—З–Ї–∞–Љ–Є –Ј–µ–ї–µ–љ–Њ–є —Е–≤–Њ–Є. –Ю–і–љ–∞–ґ–і—Л –Я–µ–ї—М—Ж–µ—А –њ—А–µ–њ–Њ–і–љ–µ—Б–ї–Є –Ї–Њ—А–Ј–Є–љ—Г, —Б–Њ–ї–Є—Б—В –±–∞–ї–µ—В–∞ –Р.–Ъ–Њ–Љ–Ї–Њ–≤ –µ–і–≤–∞ –љ–µ –≤—Л—А–Њ–љ–Є–ї –µ–µ –Є–Ј —А—Г–Ї. –Ю–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –≤ –љ–µ–є –±—Л–ї–Є –Ї–∞—А—В–Њ—Д–µ–ї—М, –±—А—О–Ї–≤–∞, –Љ–Њ—А–Ї–Њ–≤—М –Є –≥–Њ–ї–Њ–≤–Ї–∞ –Ї–∞–њ—Г—Б—В—Л. –Т—Б–µ —Н—В–Њ –њ—А–Є–і–∞–≤–∞–ї–Њ —Б–Є–ї—Л –∞—А—В–Є—Б—В–∞–Љ. –Э–Њ –≤–µ–і—М –і–µ–ї–Њ —В–µ–∞—В—А–∞ вАУ —Б—В–∞–≤–Є—В—М —Б–њ–µ–Ї—В–∞–Ї–ї–Є, —Б—З–Є—В–∞–ї–Є —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї–Є, –і—Г–Љ–∞–ї–Є –Њ–± —Н—В–Њ–Љ –∞—А—В–Є—Б—В—Л вАУ –љ—Г–ґ–љ–Њ –≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В—М—Б—П –Ї –љ–Њ–≤–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є. –Ґ–µ–Љ—Г –С–∞–ї—В–Є–Ї–Є –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї –±–∞–ї—В–Є–µ—Ж –Т–Є—И–љ–µ–≤—Б–Ї–Є–є. –Ш—Б–Ї—А–µ–љ–љ—П—П –і—А—Г–ґ–±–∞ –∞–Ї—В–µ—А–Њ–≤ —Б –±–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Є–Љ–Є –Љ–Њ—А—П–Ї–∞–Љ–Є, —В–µ—Б–љ–Њ —Б–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–љ–∞—П –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –≤–Њ–є–љ—Л. –Ъ–Њ–љ—Ж–µ—А—В–љ—Л–µ –±—А–Є–≥–∞–і—Л —В–µ–∞—В—А–∞ —А–∞–±–Њ—В–∞–ї–Є –љ–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П—Е –≤ –Ъ—А–Њ–љ—И—В–∞–і—В–µ –Є –љ–∞ –Э–µ–≤–µ, –љ–∞ –њ–µ—А–µ–і–љ–µ–Љ –Ї—А–∞–µ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л –≤ —А–∞–є–Њ–љ–µ –†—Л–±–∞—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –Є —Г –Я—Г–ї–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е –≤—Л—Б–Њ—В, –љ–∞ –Ъ–∞—А–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–Љ —Г—З–∞—Б—В–Ї–µ —Д—А–Њ–љ—В–∞ –Є –≤ —А–∞–є–Њ–љ–µ –±–Њ–ї—М–љ–Є—Ж—Л –§–Њ—А–µ–ї—П, –љ–∞ –Ы–∞–і–Њ–≥–µ, –≥–і–µ —Б—В—А–Њ–Є–ї–∞—Б—М –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В–∞—П ¬Ђ–і–Њ—А–Њ–≥–∞ –ґ–Є–Ј–љ–Є¬ї, –Є –≤ –≥–Њ—Б–њ–Є—В–∞–ї—П—Е.  –У–∞–ї–Є–љ–∞ –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–љ–∞ –°–µ–Љ—З–µ–љ–Ї–Њ вАУ –Ъ–Њ—А–Њ–ї–µ–≤–∞ —И–µ—Д—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В–Њ–≤. –Э–∞—А–Њ–і–љ—Л–є –∞—А—В–Є—Б—В –Э.–ѓ–љ–µ—В –Є –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А —В–µ–∞—В—А–∞ –У.–Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –Њ–±—А–∞—В–Є–ї–Є—Б—М –Ї –љ–∞—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є–Љ—Б—П –≤ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–µ –і—А–∞–Љ–∞—В—Г—А–≥–∞–Љ –Т—Б–µ–≤–Њ–ї–Њ–і—Г –Т–Є—И–љ–µ–≤—Б–Ї–Њ–Љ—Г, –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А—Г –Ъ—А–Њ–љ—Г –Є –њ–Њ—Н—В—Г –Т—Б–µ–≤–Њ–ї–Њ–і—Г –Р–Ј–∞—А–Њ–≤—Г —Б –њ—А–Њ—Б—М–±–Њ–є –љ–∞–њ–Є—Б–∞—В—М –і–ї—П —В–µ–∞—В—А–∞ –њ—М–µ—Б—Г, –љ–Є–Ї—В–Њ –Є–Ј –љ–Є—Е –љ–µ –Ј–љ–∞–ї –ґ–∞–љ—А–∞ –Њ–њ–µ—А–µ—В—В—Л. –Э–µ –Ј–љ–∞–ї–∞ –Є –Є—Б—В–Њ—А–Є—П —В–µ–∞—В—А–∞ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ —Б–ї—Г—З–∞—П, –Ї–Њ–≥–і–∞ –њ—М–µ—Б–∞ —Б–Њ–Ј–і–∞–≤–∞–ї–∞—Б—М –љ–µ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, –∞ –њ–∞—А–∞–ї–ї–µ–ї—М–љ–Њ. –Я–µ—А–≤—Л–є –∞–Ї—В –њ–Є—Б–∞–ї –Ъ—А–Њ–љ, –≤—В–Њ—А–Њ–є –Т–Є—И–љ–µ–≤—Б–Ї–Є–є. –Ь—Г–Ј—Л–Ї—Г –њ–Є—Б–∞–ї–∞ –±—А–Є–≥–∞–і–∞ –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—В–Њ—А–Њ–≤ вАУ –Т.–Т–Є—В–ї–Є–љ, –Э.–Ь–Є–љ—Е, –Ы.–Ъ—А—Г—Ж. –Ц–µ–љ–∞ –Т–Є—И–љ–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ, —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є—Ж–∞ –°–Њ—Д—М—П –Ъ–∞—Б—М—П–љ–Њ–≤–∞, –і–µ–ї–∞–ї–∞ –Њ—Д–Њ—А–Љ–ї–µ–љ–Є–µ. –Ф–Њ–ї–≥–Њ –≤—Л–±–Є—А–∞–ї–Є –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ –і–ї—П –њ—М–µ—Б—Л, –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –±—Л–ї–Њ –љ–∞–є–і–µ–љ–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–љ–Њ–µ –Є —В–Њ—З–љ–Њ–µ ¬Ђ–†–∞—Б–Ї–Є–љ—Г–ї–Њ—Б—М –Љ–Њ—А–µ —И–Є—А–Њ–Ї–Њ¬ї. –І–µ—А–µ–Ј –і–≤–∞–і—Ж–∞—В—М –і–≤–∞ –і–љ—П, 7 –љ–Њ—П–±—А—П —Б–Њ—А–Њ–Ї –≤—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –≥–Њ–і–∞ –≤ –Њ—Б–∞–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–Љ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–µ, –≤–Њ–њ—А–µ–Ї–Є –љ–µ–і–Њ–µ–і–∞–љ–Є—О, –Њ–±—Б—В—А–µ–ї–∞–Љ, –њ—А–Њ–љ–Є–Ј—Л–≤–∞—О—Й–µ–Љ—Г —Е–Њ–ї–Њ–і—Г, –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–ї–Њ –Њ—Й—Г—Й–µ–љ–Є–µ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–∞. –†–∞–і–Є–Њ —В—А–∞–љ—Б–ї–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј—Л, –Љ—Г–Ј—Л–Ї—Г. –Э–Њ –Њ–і–љ–Є–Љ –Є–Ј –≥–ї–∞–≤–љ—Л—Е –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї–Њ–≤ —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–∞ —Б—В–∞–ї–Є —А–∞—Б–Ї–ї–µ–µ–љ–љ—Л–µ –њ–Њ –≥–Њ—А–Њ–і—Г —Б–Є–љ–Є–µ –∞—Д–Є—И–Є —Б –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–љ—Л–Љ –љ–∞ –љ–Є—Е —Б–Є–ї—Г—Н—В–Њ–Љ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П –Є –Ї—А—Г–њ–љ—Л–Љ–Є –±—Г–Ї–≤–∞–Љ–Є –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ —Б–њ–µ–Ї—В–∞–Ї–ї—П. –Я—А–µ–Љ—М–µ—А–∞ –љ–∞—З–∞–ї–∞—Б—М –≤ –њ—П—В—М —З–∞—Б–Њ–≤ –њ–Њ–њ–Њ–ї—Г–і–љ–Є. –Ю–±—Б—В—А–µ–ї –њ–Њ –≥–Њ—А–Њ–і—Г –≤ —В–Њ—В –і–µ–љ—М –≤–µ–ї—Б—П —П—А–Њ—Б—В–љ—Л–є, –љ–Њ –Ї—В–Њ –љ–∞ —Н—В–Њ –Њ–±—А–∞—Й–∞–ї –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ, –њ—А–µ–Љ—М–µ—А–∞ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–∞—Б—М, —И–Ї–≤–∞–ї –Њ–≤–∞—Ж–Є–є –≥—А–Њ–Љ—З–µ –≤—Б—П–Ї–Є—Е –Ї–∞–љ–Њ–љ–∞–і. ¬Ђ–≠—В–Њ—В —Б–њ–µ–Ї—В–∞–Ї–ї—М –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–µ–љ —В–Њ–є —Б–≤–Њ–µ–Њ–±—А–∞–Ј–љ–Њ–є –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О, вАУ –њ–Є—Б–∞–ї —В–Њ–≥–і–∞ –≤ ¬Ђ–Я—А–∞–≤–і–µ¬ї –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б–µ—Ж –Є —Е—А–Њ–љ–Є–Ї–µ—А –±–ї–Њ–Ї–∞–і–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Ґ–Є—Е–Њ–љ–Њ–≤, вАУ —З—В–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В –Ї–∞—А—В–Є–љ—Л –љ–µ –њ—А–Њ—И–ї–Њ–≥–Њ, –љ–µ –≤—З–µ—А–∞—И–љ–µ–≥–Њ, –∞ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П—И–љ–µ–≥–Њ –і–љ—П –≥–Њ—А–Њ–і–∞. –Ъ–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –±—Л, —З—В–Њ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞–Љ–Є –њ–Њ—З—В–Є —А–∞–Ј–≤–ї–µ–Ї–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–∞ —В—А—Г–і–љ–Њ –њ–µ—А–µ–і–∞—В—М —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј –Њ –Ј–∞—Й–Є—В–љ–Є–Ї–∞—Е –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–∞, –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –±—Л, —З—В–Њ —Б–∞–Љ–∞ –Љ—Л—Б–ї—М –Њ—В—А–∞–Ј–Є—В—М –≥–µ—А–Њ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —З–µ—А—В—Л –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–≤ –≤ –Ї—Г–њ–ї–µ—В–∞—Е –Є –њ–µ—Б–µ–љ–Ї–∞—Е, –≤–Њ –≤—Б–µ–є —И—Г–Љ–љ–Њ–є –љ–µ–њ—А–µ—А—Л–≤–љ–Њ–є –њ–µ—Б—В—А–Њ—В–µ –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–µ–і–Є–є–љ–Њ–≥–Њ —Б–њ–µ–Ї—В–∞–Ї–ї—П –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –Є–Љ–µ—В—М —Г—Б–њ–µ—Е. –Ш, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ, —Н—В–Њ –љ–µ —В–∞–Ї. –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Є–є –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–є –Њ–њ—В–Є–Љ–Є–Ј–Љ –ґ–Є–≤–µ—В –≤ –Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ –ґ–Є—В–µ–ї–µ вАУ –Ј–∞—Й–Є—В–љ–Є–Ї–µ –≥–Њ—А–Њ–і–∞, –Є —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ –Љ–µ—А—Л, –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ –њ—А–Є–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–µ –Ї –Ї–Њ–Љ–µ–і–Є–Є, –і–∞–ї–Њ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –љ–∞–њ–Є—Б–∞—В—М, –∞ –∞—А—В–Є—Б—В–∞–Љ —Б—Л–≥—А–∞—В—М –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ—Г—О –Ї–Њ–Љ–µ–і–Є—О. –У–µ—А–Њ–Є —Б—В–∞–ї–Є –≥–µ—А–Њ—П–Љ–Є, –Ј–ї–Њ–і–µ–Є —А–∞—Б–Ї—А—Л–ї–Є—Б—М –≤–Њ –≤—Б–µ–є —Б–≤–Њ–µ–є —З–µ—А–љ–Њ—В–µ, –Ї–∞—А—В–Є–љ—Л –±–Њ—А—М–±—Л –љ–µ –њ—А–Є–љ–Є–ґ–µ–љ—Л —В–∞–љ—Ж–∞–Љ–Є –Є –њ–µ—Б–љ—П–Љ–Є, –Є –Ј—А–Є—В–µ–ї—М –Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В —В–µ–∞—В—А –±–Њ–і—А—Л–Љ, –≤–µ—Б–µ–ї—Л–Љ, —Г–≤–µ—А–µ–љ–љ—Л–Љ¬ї.  –У–µ—А–Њ–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П 900-–і–љ–µ–≤–љ–∞—П –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–∞ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і вАУ –Њ–і–љ–∞ –Є–Ј —П—А—З–∞–є—И–Є—Е —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л. –Т –і–љ–Є –±–ї–Њ–Ї–∞–і—Л —А–∞–±–Њ—В–∞–ї–Њ —А–∞–і–Є–Њ, —З–µ—А–µ–Ј –≤—Б–µ –њ—А–µ–≥—А–∞–і—Л –љ–∞ –±–Њ–ї—М—И—Г—О –Ј–µ–Љ–ї—О –Ј–≤—Г—З–∞–ї –≤–Ј–≤–Њ–ї–љ–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є –ґ–µ–љ—Б–Ї–Є–є –≥–Њ–ї–Њ—Б, –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–љ—Л–є –Ї–Њ–ї–і–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Љ—Г–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –Ю–ї—М–≥–Є –С–µ—А–≥–Њ–ї—М—Ж. ¬Ђ вА¶ –ѓ –≥–Њ–≤–Њ—А—О —Б —В–Њ–±–Њ–є –њ–Њ–і —Б–≤–Є—Б—В —Б–љ–∞—А—П–і–Њ–≤, –£–≥—А—О–Љ—Л–Љ –Ј–∞—А–µ–≤–Њ–Љ –Њ–Ј–∞—А–µ–љ–∞. –ѓ –≥–Њ–≤–Њ—А—О —Б —В–Њ–±–Њ–є –Є–Ј –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–∞, –°—В—А–∞–љ–∞ –Љ–Њ—П, –њ–µ—З–∞–ї—М–љ–∞—П —Б—В—А–∞–љ–∞вА¶¬ї –Т–Њ–ї—И–µ–±–љ—Л–є –≥–Њ–ї–Њ—Б —Б–Ї–∞–Ј–Њ—З–љ–Є—Ж—Л –Ь–∞—А–Є–Є –Я–µ—В—А–Њ–≤–Њ–є –ґ–і–∞–ї–Є –Є –і–µ—В–Є –Є –≤–Ј—А–Њ—Б–ї—Л–µ. –§—А–Њ–љ—В–Њ–≤—Л–µ —А–µ–њ–Њ—А—В–∞–ґ–Є –≤–µ–ї –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–є —Д—А–Њ–љ—В–Њ–≤–Њ–є –Ї–Њ—А—А–µ—Б–њ–Њ–љ–і–µ–љ—В –Ы.–Ь–∞–≥—А–∞—З–µ–≤ —Б —Г–ї–Є—Ж, –Є–Ј —Ж–µ—Е–Њ–≤. –Т –±–Њ–Љ–±–Њ—Г–±–µ–ґ–Є—Й–µ –Ъ–Є—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–∞–≤–Њ–і–∞ –і–ї—П —А–∞–±–Њ—З–Є—Е —З–Є—В–∞–ї —Б–≤–Њ—О –љ–Њ–≤—Г—О –њ–Њ—Н–Љ—Г ¬Ђ–Ъ–Є—А–Њ–≤ —Б –љ–∞–Љ–Є¬ї –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Ґ–Є—Е–Њ–љ–Њ–≤. –Ч–≤—Г—З–∞–ї –Љ–µ—В—А–Њ–љ–Њ–Љ вАУ –њ—Г–ї—М—Б –ґ–Є–Ј–љ–Є –≥–Њ—А–Њ–і–∞.  –Т —Ж–µ–љ—В—А–µ –Ы–∞–Ј–∞—А—М –Ь–∞–≥—А–∞—З–µ–≤. –†–∞–±–Њ—В–∞–ї –С–ї–Њ–Ї–∞–і–љ—Л–є —В–µ–∞—В—А –Њ–њ–µ—А—Л –Є –±–∞–ї–µ—В–∞ вАУ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М –Э–∞–і–µ–ґ–і–∞ –Ы—М–≤–Њ–≤–љ–∞ –Т–µ–ї—М—В–µ—А, –∞–≤—В–Њ—А-–њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤—Й–Є–Ї –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—В–љ–Њ-–Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є ¬Ђ–Ъ–∞—А–Љ–µ–љ¬ї, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –і–∞–ї–∞ —В–Њ–ї—З–Њ–Ї –Ї —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є—О —Н—В–Њ–≥–Њ —В–µ–∞—В—А–∞.  –Э–∞–і–µ–ґ–і–∞ –Ы—М–≤–Њ–≤–љ–∞ –Т–µ–ї—М—В–µ—А вАУ –∞–≤—В–Њ—А-–њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤—Й–Є–Ї –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є ¬Ђ–Ъ–Р–†–Ь–Х–Э¬ї, —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М —Е–Њ—А–∞ "–Я–µ—А–≤–Њ–є –Ъ–Њ–љ–љ–Њ–є –Р—А–Љ–Є–Є –С—Г–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ", —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –љ–∞–Љ –Є—Б—В–Њ—А–Є—О —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —В–µ–∞—В—А–∞. –Т —П–љ–≤–∞—А–µ 1943 –≥–Њ–і–∞ –±—Л–ї–Њ –њ—А–Њ—А–≤–∞–љ–Њ –≤—А–∞–ґ–µ—Б–Ї–Њ–µ –Ї–Њ–ї—М—Ж–Њ, –њ—А–Є–±–ї–Є–ґ–∞–ї—Б—П –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–є –њ–µ—А–µ–ї–Њ–Љ –≤ —Е–Њ–і–µ –≤–Њ–є–љ—Л. –Э–∞—З–∞–ї —А–∞–±–Њ—В–∞—В—М –µ—Й–µ –Њ–і–Є–љ —В–µ–∞—В—А вАУ ¬Ђ–У–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–є –і—А–∞–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є¬ї –≤ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–Є –Я–∞—Б—Б–∞–ґ–∞, –∞ –≤ –Ј–∞–Ї–∞–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ –Ґ–µ–∞—В—А–µ –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–µ–і–Є–Є –≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї–∞—Б—М –Њ–і–љ–∞ –Є–Ј —В—А—Г–і–љ–µ–є—И–Є—Е –Ї–ї–∞—Б—Б–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Њ–њ–µ—А–µ—В—В вАУ ¬Ђ–Ы–µ—В—Г—З–∞—П –Љ—Л—И—М¬ї. –Ґ–µ–∞—В—А –љ—С—Б –Љ–Є—Б—Б–Є—О –≤—Л–ґ–Є–≤–∞–љ–Є—П, –≤–µ—А—Г –≤ —Б–ї–∞–±–µ—О—Й–Є–µ —Б–Є–ї—Л –≤—Б–µ—Е –ї–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Ж–µ–≤. –Р –µ—Б–ї–Є —В–∞–љ—Ж—Г–µ—В –Э–Є–љ–∞ –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–љ–∞ –Я–µ–ї—М—Ж–µ—А, –≤—Л–њ—А—Л–≥–љ—Г–≤ –Є–Ј –Љ—Г–ґ—Б–Ї–Є—Е –≤–∞–ї–µ–љ–Њ–Ї вАУ –њ–Њ–і–∞—А–µ–љ–љ—Л—Е –µ–є –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–Љ —В—А–∞–Љ–≤–∞–є–љ–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±—Л —В–Њ–≤. –°–Њ—А–Њ–Ї–∞, –њ–Њ—Б–ї–µ –µ—С –њ—А–Њ—Б—М–±—Л: ¬Ђ–°–њ–∞—Б–Є—В–µ –Љ–Њ–Є –љ–Њ–≥–Є!¬ї, вАУ –љ–∞ –њ—А–Њ–Љ—С—А–Ј–ї—Г—О —Б—Ж–µ–љ—Г, –Ј–љ–∞—З–Є—В вАУ –У–Њ—А–Њ–і –ґ–Є–≤—С—В, –Є —Б—В–Њ—П—В—М –±—Г–і–µ—В! –Э–µ –Ј—А—П –µ–µ —В–∞–љ—Ж—Л —Б—А–∞–≤–љ–Є–≤–∞–ї–Є —Б —А–∞–Ј–Њ—А–≤–∞–≤—И–µ–є—Б—П –±–Њ–Љ–±–Њ–є вАУ —Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–Є–ї—Л –Є —Н–љ–µ—А–≥–Є–Є –љ–µ—Б–ї–∞ —Н—В–∞ –љ–µ—Б–≥–Є–±–∞–µ–Љ–∞—П –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–∞—П, —В–Њ–љ–µ–љ—М–Ї–∞—П –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞. –І–µ—А–µ–Ј —Б–Њ—А–Њ–Ї –ї–µ—В, –љ–∞ —Н—В–Њ–Љ –≤–µ—З–µ—А–µ, –Э–∞—А–Њ–і–љ–∞—П –∞—А—В–Є—Б—В–Ї–∞ –Э–Є–љ–∞ –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–љ–∞ –Я–µ–ї—М—Ж–µ—А –њ–µ—А–µ—В–∞–љ—Ж–µ–≤–∞–ї–∞ —Б–Њ–ї–Є—Б—В–Њ–≤ –∞–љ—Б–∞–Љ–±–ї—П –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–Ї—А—Г–≥–∞.  –Э.–Т.–Я–µ–ї—М—Ж–µ—А –Є —Б–Њ–ї–Є—Б—В—Л –∞–љ—Б–∞–Љ–±–ї—П –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–Ї—А—Г–≥–∞. –°–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ—А–Є—П—В–љ—Л—Е –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–є –±—Л–ї–Њ –≤ —Н—В–Њ–Љ –Ј–∞–ї–µ –њ—А–Є –≤—Б—В—А–µ—З–µ –Т—Б–µ–≤–Њ–ї–Њ–і–∞ –С–Њ—А–Є—Б–Њ–≤–Є—З–∞ –Р–Ј–∞—А–Њ–≤–∞, –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј –∞–≤—В–Њ—А–Њ–≤ —Н—В–Њ–≥–Њ —Б–њ–µ–Ї—В–∞–Ї–ї—П.  –Т—Б–µ–≤–Њ–ї–Њ–і –С–Њ—А–Є—Б–Њ–≤–Є—З –Р–Ј–∞—А–Њ–≤. –У–Њ—А—П—З–Њ –њ—А–Є–≤–µ—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є –њ—А–Њ—В–Њ—В–Є–њ–∞ –≥–µ—А–Њ—П —Б–њ–µ–Ї—В–∞–Ї–ї—П –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В–∞ –Ъ–µ–і—А–Њ–≤–∞ вАУ –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–∞ –Њ—А–і–µ–љ–∞ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –Э–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –Ј–≤–µ–љ–∞ –Ї–∞—В–µ—А–Њ–≤ –І–µ—А–љ—Л—И–µ–≤–∞ –Ш–≥–Њ—А—П –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З–∞.  –Ш.–Я.–І–µ—А–љ—Л—И–µ–≤ вАУ –њ—А–Њ—В–Њ—В–Є–њ –≥–µ—А–Њ—П —Б–њ–µ–Ї—В–∞–Ї–ї—П –Ъ–µ–і—А–Њ–≤–∞.
31.03.201300:2131.03.2013 00:21:39
0
31.03.201300:1131.03.2013 00:11:32
–У–ї–∞–≤–∞ –њ—П—В–∞—П. ¬Ђ–Ф–Х–Ы–ђ–§–Ш–Э¬ї–° —Г—В—А–∞ –Љ–∞—В—А–Њ—Б—Л –љ–∞–і–µ–ї–Є –Њ–±–Љ—Г–љ–і–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ —Б—А–Њ–Ї–∞, –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Л вАФ –Љ—Г–љ–і–Є—А—Л. –°–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є–µ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Њ–≤–∞–ї–Њ —Б–≤–Њ—О –≥–Њ–і–Њ–≤—Й–Є–љ—Г. –Т —Н—В–Њ—В –і–µ–љ—М –≤ –Ї–∞—О—В-–Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є–Є –љ–∞ —Б—В–Њ–ї–µ –њ–Њ–і –Є–ї–ї—О–Љ–Є–љ–∞—В–Њ—А–∞–Љ–Є –ї–µ–ґ–∞–ї —В–Њ–ї—Б—В—Л–є –∞–ї—М–±–Њ–Љ –≤ –Ї—А–∞—Б–љ–Њ–Љ –Ї–Њ–ґ–∞–љ–Њ–Љ –њ–µ—А–µ–њ–ї–µ—В–µ. –≠—В–Њ –±—Л–ї–∞ –Є—Б—В–Њ—А–Є—П —Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є—П. –Я–Њ–ґ–µ–ї—В–µ–≤—И–Є–µ –≥–∞–Ј–µ—В—Л –Є –ї–Є—Б—В–Њ–≤–Ї–Є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, –љ–∞–Ї–ї–µ–µ–љ–љ—Л–µ –љ–∞ –ї–Є—Б—В—Л –њ–ї–Њ—В–љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞—А—В–Њ–љ–∞, —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –Њ –њ–Њ–µ–і–Є–љ–Ї–∞—Е –Ї–∞—В–µ—А–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Б —В–Њ—А–њ–µ–і–Њ–љ–Њ—Б—Ж–∞–Љ–Є, –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–Љ–Є –ї–Њ–і–Ї–∞–Љ–Є, –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П–Љ–Є, —В–Њ—А–њ–µ–і–љ—Л–Љ–Є –Ї–∞—В–µ—А–∞–Љ–Є, –Њ–± –Є—Е –њ—А–Њ—А—Л–≤–∞—Е –≤–Њ –≤—А–∞–ґ–µ—Б–Ї–Є–µ –њ–Њ—А—В—Л! ¬Ђ–Ъ—В–Њ –љ–µ –Ј–љ–∞–µ—В –і–µ—А–Ј–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞–±–µ–≥–∞ –Ї–∞—В–µ—А–Њ–≤ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–∞ —В—А–µ—В—М–µ–≥–Њ —А–∞–љ–≥–∞ –†—Л–љ–і–Є–љ–∞ –Є –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ-–ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В–∞ –У—Г—А–∞–Љ–Є—И–≤–Є–ї–Є –љ–∞ –њ–Њ—А—В, –Ј–∞–љ—П—В—Л–є –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–Њ–Љ? –Ъ–∞—В–µ—А–љ–Є–Ї–Є –≤–Њ—А–≤–∞–ї–Є—Б—М –≤ –њ–Њ—А—В –і–љ–µ–Љ, —В–Њ—А–њ–µ–і–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є —В—П–ґ–µ–ї–Њ –≥—А—Г–ґ–µ–љ—Л–µ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В—Л, –≤–і—А–µ–±–µ–Ј–≥–Є —А–∞–Ј–љ–µ—Б–ї–Є –њ—А–Є—З–∞–ї –Є –±–ї–∞–≥–Њ–њ–Њ–ї—Г—З–љ–Њ –≤–µ—А–љ—Г–ї–Є—Б—М –≤ –±–∞–Ј—Г¬ї. ¬Ђ–Ґ–∞–Ї –ґ–µ –і–µ—А–Ј–Ї–Њ, –Њ—В–≤–∞–ґ–љ–Њ –Є —Г–Љ–µ–ї–Њ –і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ –Ї–∞—В–µ—А–∞ –њ–Њ–і –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ —Б—В–∞—А—И–µ–≥–Њ –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В–∞ –†—Г—Б—М–µ–≤–∞. –Т–Њ–є–і—П –љ–Њ—З—М—О –≤ –Ј–∞–љ—П—В—Л–є –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–Њ–Љ –њ–Њ—А—В –Є –Њ—И–≤–∞—А—В–Њ–≤–∞–≤—И–Є—Б—М —Г –њ—А–Є—З–∞–ї–∞, –Ї–∞—В–µ—А–љ–Є–Ї–Є –≤—Л—Б–∞–і–Є–ї–Є –і–µ—Б–∞–љ—В –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В—З–Є–Ї–Њ–≤. –У–Є—В–ї–µ—А–Њ–≤—Ж—Л –њ—А–Є–љ—П–ї–Є –Ї–∞—В–µ—А –Ј–∞ —Б–≤–Њ–є. –Ш–Љ –Є –≤ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г –љ–µ –њ—А–Є—И–ї–Њ, —З—В–Њ –Љ–Њ—А—П–Ї–Є-—З–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Ж—Л –Љ–Њ–≥—Г—В –Њ—В–≤–∞–ґ–Є—В—М—Б—П –љ–∞ —В–∞–Ї—Г—О –і–µ—А–Ј–Њ—Б—В—М¬ї. ¬Ђ–Т—Л—Б–Њ–Ї–Њ–є –і–Њ–±–ї–µ—Б—В—М—О –Њ—В–ї–Є—З–∞–ї—Б—П —Б—В–∞—А—И–Є–љ–∞ –≤—В–Њ—А–Њ–є —Б—В–∞—В—М–Є –§–Њ–Ї–Є–є –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–Є—З –°–Њ–Љ–Њ–≤. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –µ–≥–Њ –Ї–∞—В–µ—А —В–Њ–љ—Г–ї, —Б—В–∞—А—И–Є–љ–∞ –Њ—В–і–∞–ї —Б–≤–Њ–є —Б–њ–∞—Б–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є –њ–Њ—П—Б —А–∞–љ–µ–љ–Њ–Љ—Г –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Г –Є –њ–Њ–Љ–Њ–≥ –µ–Љ—Г –њ—А–Њ–і–µ—А–ґ–∞—В—М—Б—П –љ–∞ –≤–Њ–і–µ, –њ–Њ–Ї–∞ –љ–µ –њ–Њ–і–Њ—Б–њ–µ–ї–∞ –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М. –І–µ—Б—В—М –Є —Б–ї–∞–≤–∞ –Љ–Њ—А—П–Ї—Г, —Б–њ–∞—Б—И–µ–Љ—Г —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–∞!¬ї  –§–Њ–Ї–Є–є –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–Є—З, –љ–∞—А—П–і–љ—Л–є, —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є, –њ—А–Њ–≥—Г–ї–Є–≤–∞–ї—Б—П –њ–Њ –њ–∞–ї—Г–±–µ. –Ъ –Њ–±–µ–і—Г –њ—А–Є–µ—Е–∞–ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є–є, –њ–ї–Њ—В–љ—Л–є, –њ–Њ–і–≤–Є–ґ–љ–Њ–є –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї. –°—В—А–µ–Љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤–Њ—И–µ–ї –Њ–љ –≤ –Ї–∞—О—В-–Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є—О, —Б–љ—П–ї —Д—Г—А–∞–ґ–Ї—Г, –њ—А–Њ–≤–µ–ї —А—Г–Ї–Њ–є –њ–Њ —В–µ–Љ–љ—Л–Љ, –±–µ–Ј —Б–µ–і–Є–љ—Л, –≤–Њ–ї–Њ—Б–∞–Љ. –Я–Њ–Ј–і—А–∞–≤–Є–≤ –≤—Б–µ—Е —Б –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Є –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–≤ –Њ –і–љ—П—Е –≤–Њ–є–љ—Л, –Њ–љ –њ–Њ—Б–Њ–≤–µ—В–Њ–≤–∞–ї –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–∞–Љ –±—А–∞—В—М –њ—А–Є–Љ–µ—А —Б —В—А–µ—Е –≥–µ—А–Њ–µ–≤, –љ–µ —Г—Б–њ–Њ–Ї–Њ–Є–≤—И–Є—Е—Б—П –љ–∞ –і–Њ—Б—В–Є–≥–љ—Г—В–Њ–Љ, –∞ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–≤—И–Є—Е —Г—З–Є—В—М—Б—П. вАФ –Ю–љ–Є –Њ–Ї–Њ–љ—З–Є–ї–Є –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—О –Є —Б–љ–Њ–≤–∞ —Б –љ–∞–Љ–Є, –Њ–±–Њ–≥–∞—Й–µ–љ–љ—Л–µ –љ–Њ–≤—Л–Љ–Є –Ј–љ–∞–љ–Є—П–Љ–Є. –†–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В—Л –љ–∞–ї–Є—Ж–Њ вАФ –≤—Л –≤—Б–µ –Ј–љ–∞–µ—В–µ –Є—В–Њ–≥–Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є—Е —Г—З–µ–љ–Є–є. –Ю—В–ї–Є—З–Є–ї–Є—Б—М —Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—В –†—Л–љ–і–Є–љ –Є –У—Г—А–∞–Љ–Є—И–≤–Є–ї–Є. –Ю–љ–Є —И–ї–Є –љ–∞ —А–∞–Ј—Г–Љ–љ—Л–є —А–Є—Б–Ї –≤ –±–Њ—П—Е –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л, вАФ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї, вАФ –Є —Б–Њ—З–µ—В–∞–ї–Є –µ–≥–Њ —Б –Њ—В–≤–∞–≥–Њ–є, –Љ–∞—Б—В–µ—А—Б—В–≤–Њ–Љ, –±–µ—Б—Б—В—А–∞—И–Є–µ–Љ, –Љ—Г–ґ–µ—Б—В–≤–Њ–Љ, –і–µ—А–Ј–Њ—Б—В—М—О. –Т—Б–µ —Н—В–Њ –њ–ї—О—Б —В—А–µ–Ј–≤—Л–є –Є —Б–Љ–µ–ї—Л–є —А–∞—Б—З–µ—В —Б–Њ—З–µ—В–∞–µ—В—Б—П —Г –љ–Є—Е —Б –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–ї–µ–њ–љ—Л–Љ –Ј–љ–∞–љ–Є–µ–Љ –і–µ–ї–∞, —Б —Н–Ї—Б–њ–µ—А–Є–Љ–µ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ, —Б –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ —Б–Љ–µ–ї–Њ–є –Љ–µ—З—В—Л. –Ю–љ–Є –≥–ї—П–і—П—В –≤–њ–µ—А–µ–і, –≤ –±—Г–і—Г—Й–µ–µ. –Ч–∞ —В–Њ, —З—В–Њ–±—Л –≤–∞—И–µ —Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є–µ —И–ї–Њ –≤–њ–µ—А–µ–і –Є –≤–њ–µ—А–µ–і, –Ј–∞ –≥–≤–∞—А–і–Є—О –І–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞! –Ч–∞—Е–ї–Њ–њ–∞–ї–Є –њ—А–Њ–±–Ї–Є, –§—А–Њ–ї, –њ–Њ–њ—А–Њ–±–Њ–≤–∞–≤ –≤ –њ–µ—А–≤—Л–є —А–∞–Ј –≤ –ґ–Є–Ј–љ–Є —И–∞–Љ–њ–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –њ–Њ–њ–µ—А—Е–љ—Г–ї—Б—П. вАФ –Ъ—Г—А—Б–∞–љ—В—Л? вАФ –Ј–∞–Љ–µ—В–Є–ї –љ–∞—Б –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї. вАФ –Ґ–∞–Ї —В–Њ—З–љ–Њ, –љ–∞—И–Є –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–љ–Є–Ї–Є, –њ—А–Є–µ—Е–∞–ї–Є –≤ –Њ—В–њ—Г—Б–Ї, вАФ –і–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї –Њ—В–µ—Ж. вАФ –І—В–Њ-—В–Њ –Њ—З–µ–љ—М –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Л–µ –ї–Є—Ж–∞, вАФ –њ—А–Є—Й—Г—А–Є–ї—Б—П –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї. вАФ –Я–Њ–Ј–≤–Њ–ї—М—В–µ, –і–∞ —П —Б –≤–∞–Љ–Є —Г–ґ–µ –Њ–і–Є–љ —А–∞–Ј –њ–Є–ї —И–∞–Љ–њ–∞–љ—Б–Ї–Њ–µ! вАФ —Г–ї—Л–±–љ—Г–ї—Б—П –Њ–љ –Љ–љ–µ. вАФ –Я–Њ–Љ–љ–Є—В–µ? –Ъ–Њ–≥–і–∞ –†—Л–љ–і–Є–љ—Г, –У—Г—А–∞–Љ–Є—И–≤–Є–ї–Є –Є –†—Г—Б—М–µ–≤—Г –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –њ—А–Є—Б–≤–Њ–Є–ї–Њ –Ј–≤–∞–љ–Є–µ –У–µ—А–Њ—П. –°—Л–љ? вАФ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї –Њ—В—Ж–∞ –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї. вАФ –Ґ–∞–Ї —В–Њ—З–љ–Њ, —Б—Л–љ. вАФ –Т—Л—А–Њ—Б. –§–Њ—А–Љ–µ–љ–љ—Л–є —Б—В–∞–ї –Љ–Њ—А—П–Ї. –Р –і—А—Г–≥–Њ–є вАФ –Ц–Є–≤—Ж–Њ–≤? вАФ –Ґ–∞–Ї —В–Њ—З–љ–Њ, –Ц–Є–≤—Ж–Њ–≤, —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї! вАФ –Э–∞—З–Є–љ–∞–ї–Є —Б–ї—Г–ґ–±—Г –љ–∞ –Ї–∞—В–µ—А–µ? вАФ –Т –љ–∞—И–µ–Љ –≥–≤–∞—А–і–µ–є—Б–Ї–Њ–Љ —Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є–Є...  вАФ –Т–µ—В–µ—А–∞–љ, –Ј–љ–∞—З–Є—В, вАФ –њ–Њ—Е–≤–∞–ї–Є–ї –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї. вАФ –Ґ–∞–Ї —В–Њ—З–љ–Њ, —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї, —П –љ–∞ –І–µ—А–љ–Њ–Љ –Љ–Њ—А–µ —А–Њ–і–Є–ї—Б—П –Є —Б–ї—Г–ґ–±—Г –љ–∞ ¬Ђ–І–µ-–µ—Д¬ї –љ–∞—З–Є–љ–∞–ї, вАФ —А–∞—Б—Ж–≤–µ–ї ¬Ђ–≤–µ—В–µ—А–∞–љ¬ї. вАФ –Э—Г —З—В–Њ –ґ, –ґ–µ–ї–∞—О –Њ—В–ї–Є—З–љ–Њ –Ї–Њ–љ—З–Є—В—М —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ. –С–µ—А–Є—В–µ –њ—А–Є–Љ–µ—А —Б –Њ—В—Ж–Њ–≤ –Є —Б–Њ —Б—В–∞—А—И–Є—Е —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–µ–є. –Я–Њ—Б–ї–µ –Њ–±–µ–і–∞ –љ–∞ ¬Ђ–Ф–µ–ї—М—Д–Є–љ¬ї –њ—А–Є—И–ї–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—В–µ–є. –Я—А–Є–µ—Е–∞–ї –°–µ—А–≥–Њ —Б –Ъ–ї–∞–≤–і–Є–µ–є –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–љ–Њ–є. –Ю–љ–∞ –Љ–љ–µ –љ–∞ —Н—В–Њ—В —А–∞–Ј –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞—Б—М –Љ–µ–љ–µ–µ –љ–µ–њ—А–Є—П—В–љ–Њ–є, —З–µ–Љ —В–Њ–≥–і–∞, –≤ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–µ. –†–∞—Б—Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞–ї–∞ –Њ–± –Р–љ—В–Њ–љ–Є–љ–µ, –±–µ—Б–µ–і–Њ–≤–∞–ї–∞ —Б–Њ –Љ–љ–Њ–є –Њ–± —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ. –Я—А–Є—И–µ–ї –Є –±—Л–≤—И–Є–є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А —Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї—П–ї –Љ–µ–љ—П –Є –§—А–Њ–ї–∞ –≤ –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–µ. –Ґ–µ–њ–µ—А—М –Њ–љ –±—Л–ї –≤ –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї—М—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ–≥–Њ–љ–∞—Е, –≥—А—Г–Ј–љ—Л–є, —Б —З–Є—Б—В–Њ –≤—Л–±—А–Є—В–Њ–є –≥–Њ–ї–Њ–≤–Њ–є, —З—Г—В—М –њ–Њ—Б—В–∞—А–µ–≤—И–Є–є. –Ю–љ —Б—А–∞–Ј—Г —Г–Ј–љ–∞–ї –Є –Љ–µ–љ—П, –Є –§—А–Њ–ї–∞, —Б—В–∞–ї —А–∞—Б—Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞—В—М, –≥–і–µ –Љ—Л –±—Л–ї–Є –љ–∞ –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–µ. –Т—Б–µ —Н—В–Є –≥–Њ–і—Л –Њ–љ –љ–µ –Ј–∞–±—Л–≤–∞–ї –љ–∞—Б. ¬Ђ–Т—Л вАФ –љ–∞—И–Є –Ї–∞—В–µ—А–љ–Є–Ї–Є¬ї, вАФ –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї –Њ–љ –≤ –њ–Є—Б—М–Љ–∞—Е. –Ґ–µ–њ–µ—А—М –Њ–љ —А–∞–±–Њ—В–∞–ї —Г–ґ–µ –≤ —И—В–∞–±–µ —Д–ї–Њ—В–∞. вАФ –Р –≤–µ–і—М –Љ—Л –µ—Й–µ —Б –≤–∞–Љ–Є –≤—Б—В—А–µ—В–Є–Љ—Б—П –Є, –љ–∞–і–µ—О—Б—М, –њ–Њ–њ–ї–∞–≤–∞–µ–Љ –≤–Љ–µ—Б—В–µ! вАФ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Њ–љ —Г–≤–µ—А–µ–љ–љ–Њ. –Ю—В–µ—Ж –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї –≥–Њ—Б—В—П–Љ –Ї–∞—В–µ—А–∞ –Є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М, –±—Л–ї —А–∞–і—Г—И–љ—Л–Љ –Є –≥–Њ—Б—В–µ–њ—А–Є–Є–Љ–љ—Л–Љ —Е–Њ–Ј—П–Є–љ–Њ–Љ, –љ–Њ —П —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї, —З—В–Њ –µ–Љ—Г –љ–µ–≤–µ—Б–µ–ї–Њ. –Ь–Њ–ї–Њ–і–∞—П –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞ –≤ –ґ–µ–ї—В–Њ–Љ –њ–ї–∞—В—М–µ, —Б –њ—Л—И–љ–Њ –≤–Ј–±–Є—В—Л–Љ–Є —Б–≤–µ—В–ї—Л–Љ–Є –≤–Њ–ї–Њ—Б–∞–Љ–Є, —Б–µ—Б—В—А–∞ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ —А–∞–љ–≥–∞, –Ј–∞ —Г–ґ–Є–љ–Њ–Љ —Б–Є–і–µ–ї–∞ —А—П–і–Њ–Љ —Б –Њ—В—Ж–Њ–Љ, –љ–Њ –Њ–љ –±—Л–ї —А–∞—Б—Б–µ—П–љ –Є –Њ—В–≤–µ—З–∞–ї, –њ–Њ-–≤–Є–і–Є–Љ–Њ–Љ—Г, –љ–µ–≤–њ–Њ–њ–∞–і. –С—Л—В—М –Љ–Њ–ґ–µ—В, –Є –Њ–љ, –Ї–∞–Ї –Є —П, –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї —В–Њ—В, —В–Њ–ґ–µ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є—З–љ—Л–є –≤–µ—З–µ—А, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Љ—Л –њ–Њ—И–ї–Є —Б –љ–Є–Љ –љ–∞ –Ъ–Њ—А–∞–±–µ–ї—М–љ—Г—О, –≤ –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Є–є –±–µ–ї—Л–є , –≥–і–µ –ґ–Є–ї–∞ —В–Њ–≥–і–∞ –Љ–∞–Љ–∞...  –ѓ –≤–Њ—И–µ–ї –њ–µ—А–≤—Л–Љ. ¬Ђ–І—В–Њ —Б–ї—Г—З–Є–ї–Њ—Б—М, –Э–Є–Ї–Є—В–∞?¬ї вАФ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї–∞ –Њ–љ–∞ –і—А–Њ–≥–љ—Г–≤—И–Є–Љ –≥–Њ–ї–Њ—Б–Њ–Љ. вАФ ¬Ђ–Ь–∞–Љ–∞, –њ–∞–њ–µ –њ—А–Є—Б–≤–Њ–Є–ї–Є –Ј–≤–∞–љ–Є–µ –У–µ—А–Њ—П¬ї. ¬Ђ–Ѓ—А–Є–є! вАФ –њ–Њ–Ј–≤–∞–ї–∞ –Њ–љ–∞. вАФ –Ш–і–Є —Б–Ї–Њ—А–µ–є, —П —В–µ–±—П —А–∞—Б—Ж–µ–ї—Г—О!¬ї –Р —В–µ–њ–µ—А—М –љ–Є–Ї—В–Њ –љ–µ –ґ–і–∞–ї –љ–∞—Б –љ–∞ –Ъ–Њ—А–∞–±–µ–ї—М–љ–Њ–є... –°–њ—Г—Б—В–Є–ї—Б—П –≤–µ—З–µ—А. ¬Ђ–Ф–µ–ї—М—Д–Є–љ¬ї –≤–µ—Б—М –Њ—Б–≤–µ—В–Є–ї—Б—П. –Э–∞—З–∞–ї–Є—Б—М —В–∞–љ—Ж—Л –љ–∞ –њ–∞–ї—Г–±–µ. –†–∞–Ј–≤–µ–≤–∞—О—Й–Є–µ—Б—П –њ–ї–∞—В—М—П –±—Л–ї–Є –њ–Њ—Е–Њ–ґ–Є –љ–∞ –Ї—А—Л–ї—М—П —В—А–µ–њ–µ—Й—Г—Й–Є—Е –±–∞–±–Њ—З–µ–Ї. –Т—Б–µ —В–∞–љ—Ж–µ–≤–∞–ї–Є вАФ –°–µ—А–≥–Њ, –Ы–∞–њ—В–µ–≤, –†—Г—Б—М–µ–≤, –≤—Б–µ, –Ї—А–Њ–Љ–µ –Њ—В—Ж–∞. –Ц–µ–љ—Й–Є–љ–∞ —Б —Б–≤–µ—В–ї—Л–Љ–Є –≤–Њ–ї–Њ—Б–∞–Љ–Є —З—В–Њ-—В–Њ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–∞ –µ–Љ—Г. –Ю–љ–Є –њ–Њ–і–Њ—И–ї–Є –Ї —Д–∞–ї—М—И–±–Њ—А—В—Г; –Њ–љ–∞ –≤—Б–µ –±–Њ–ї—В–∞–ї–∞; –ї–Є—Ж–Њ –Њ—В—Ж–∞ —Б—В–∞–ї–Њ —Б—В—А–∞–і–∞–ї—М—З–µ—Б–Ї–Є–Љ, –Є –Њ–љ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї: вАФ –Я—А–Њ—И—Г –њ—А–Њ—И–µ–љ–Є—П, –Љ–љ–µ –љ–∞–і–Њ –Є–і—В–Є. –Ю—В–Ї–Њ–Ј—Л—А–љ—Г–≤, –Њ–љ —Г—И–µ–ї –≤–љ–Є–Ј. –Ь–љ–µ –Ј–∞—Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М –љ–∞–є—В–Є –µ–≥–Њ, —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М —З—В–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М, —П –љ–µ –Ј–љ–∞–ї вАФ —З—В–Њ. –Т –Ї–∞—О—В-–Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є–Є –µ–≥–Њ –љ–µ –±—Л–ї–Њ. –ѓ –љ–∞—И–µ–ї –µ–≥–Њ –≤ –Ї–∞—О—В–µ. –Ф–≤–µ—А—М –±—Л–ї–∞ –њ—А–Є–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–∞. –Ю–љ —Б–Є–і–µ–ї —Г —Б—В–Њ–ї–∞, –њ–Њ–і–њ–µ—А–µ–≤ —А—Г–Ї–Њ–є –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г, –Є –Њ–±–µ—А–љ—Г–ї—Б—П –љ–∞ –Љ–Њ–є –ї–µ–≥–Ї–Є–є —Б—В—Г–Ї. вАФ –Р, –Ъ–Є—В! –Т—Е–Њ–і–Є –Є –Ј–∞—В–≤–Њ—А–Є –і–≤–µ—А—М. –°–∞–і–Є—Б—М. –Ь—Л –Љ–Њ–ї—З–∞–ї–Є. –°–≤–µ—А—Е—Г –њ—А–Є–≥–ї—Г—И–µ–љ–љ–Њ –і–Њ–љ–Њ—Б–Є–ї–∞—Б—М –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞, –Ј–∞ –Њ—В–Ї—А—Л—В—Л–Љ–Є –Є–ї–ї—О–Љ–Є–љ–∞—В–Њ—А–∞–Љ–Є –њ–ї–µ—Б–Ї–∞–ї–∞—Б—М –≤–Њ–і–∞.  вАФ –І–µ–≥–Њ –±—Л —П –љ–µ –і–∞–ї, –ї–Є—И—М –±—Л –Њ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –ґ–Є–≤–∞! вАФ –≤–Ј–≥–ї—П–љ—Г–ї –Њ—В–µ—Ж –љ–∞ –њ–Њ—А—В—А–µ—В. вАФ –Ю—Е, —В—П–ґ–µ–ї–Њ, –Э–Є–Ї–Є—В–∞! –Х—Б–ї–Є –± —В—Л —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ј–љ–∞–ї, –Ъ–Є—В, –Ї–∞–Ї –Љ–љ–µ —В—П–ґ–µ–ї–Њ! –Э–∞–≤–µ—А—Е—Г —Б—В–∞–ї–Є –±–Є—В—М —Б–Ї–ї—П–љ–Ї–Є. –Ю—В–µ—Ж –≤–Ј–і–Њ—Е–љ—Г–ї: вАФ –Я–Њ—А–∞ –Ї –≥–Њ—Б—В—П–Љ. –ѓ –≤–µ–і—М –≤—Б–µ –ґ–µ вАФ —Е–Њ–Ј—П–Є–љ. –Ш–і–Є —В—Л –≤–њ–µ—А–µ–і, –Э–Є–Ї–Є—В–∞. –Ш —П –њ–Њ–і–љ—П–ї—Б—П –њ–Њ —В—А–∞–њ—Г, —В—Г–і–∞, –≥–і–µ –≤—Б–µ —В–∞–љ—Ж–µ–≤–∞–ї–Є –Є –≤—Б–µ —Б–≤–µ—А–Ї–∞–ї–Њ –≤–µ—Б–µ–ї—Л–Љ–Є –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є—З–љ—Л–Љ–Є –Њ–≥–љ—П–Љ–Є... * * * –Ю—В–µ—Ж –Є –Р–љ–і—А–µ–є –§–Є–ї–Є–њ–њ–Њ–≤–Є—З —Б–і–µ—А–ґ–∞–ї–Є —Б–≤–Њ–Є –Њ–±–µ—Й–∞–љ–Є—П. –Ь—Л —Е–Њ–і–Є–ї–Є –љ–∞ —В–Њ—А–њ–µ–і–љ—Л–µ —Б—В—А–µ–ї—М–±—Л. –Я—А–Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–∞—Е ¬Ђ—В–Њ—А–њ–µ–і—Л —В–Њ–≤—Б—М!¬ї, ¬Ђ–њ–ї–Є!¬ї –Љ–љ–µ –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –њ–µ—А–µ–і–Њ –Љ–љ–Њ–є –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–є –≤—А–∞–ґ–µ—Б–Ї–Є–є —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤–Њ —З—В–Њ –±—Л —В–Њ –љ–Є —Б—В–∞–ї–Њ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –њ–Њ—В–Њ–њ–Є—В—М. –Э–∞—Б—В—Г–њ–Є–ї –і–µ–љ—М –Њ—В—К–µ–Ј–і–∞. –Р–љ–і—А–µ–є –§–Є–ї–Є–њ–њ–Њ–≤–Є—З —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї, —З—В–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є—П –љ–∞–Љ–Є –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ. вАФ –Ь—Л —Г–±–µ–ґ–і–µ–љ—Л, —З—В–Њ –Є –љ–∞ —Б—В–∞—А—И–Є—Е –Ї—Г—А—Б–∞—Е –≤—Л –љ–µ —Г–і–∞—А–Є—В–µ –ї–Є—Ж–Њ–Љ –≤ –≥—А—П–Ј—М, –Є –±—Г–і–µ–Љ –љ–∞–і–µ—П—В—М—Б—П, —З—В–Њ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤ –љ–∞—И–µ —Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є–µ –њ—А–Є–і–µ—В–µ —Б–ї—Г–ґ–Є—В—М, вАФ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Њ–љ, –њ—А–Њ—Й–∞—П—Б—М. вАФ –ѓ, –љ–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ, –±—Г–і—Г —В–Њ–≥–і–∞ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ —Б—В–∞—А–Є–Ї–Њ–Љ, вАФ –≥–Њ—А—М–Ї–Њ —Г—Б–Љ–µ—Е–љ—Г–ї—Б—П –Њ–љ, –≤–Ј–≥–ї—П–љ—Г–≤ –≤ –Ј–µ—А–Ї–∞–ї–Њ. –Я—А–Њ—Й–∞—В—М—Б—П —Б –Њ—В—Ж–Њ–Љ –±—Л–ї–Њ —В—П–ґ–µ–ї–Њ. –ѓ –Ј–љ–∞–ї, —З—В–Њ —В–µ–њ–µ—А—М –µ–≥–Њ –љ–µ —Б–Ї–Њ—А–Њ —Г–≤–Є–ґ—Г. –Ь—Л –Ї–∞–Ї-—В–Њ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –Ј–∞ —Н—В–Њ—В –Љ–µ—Б—П—Ж —Б–і—А—Г–ґ–Є–ї–Є—Б—М, –њ–Њ –љ–Њ—З–∞–Љ –≤–µ–ї–Є –і–Њ–ї–≥–Є–µ —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А—Л, –Є —П –≤—Б–ї—Г—И–Є–≤–∞–ї—Б—П –≤ —Б–Њ–≤–µ—В—Л –Њ—В—Ж–∞ –Є –Ј–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї –Є—Е. –Э–∞ –њ—А–Њ—Й–∞–љ—М–µ –Њ–љ –њ–Њ–ґ–µ–ї–∞–ї –Љ–љ–µ —Г—Б–њ–µ—Е–Њ–≤. –Р —П —В–≤–µ—А–і–Њ —А–µ—И–Є–ї, —З—В–Њ, –і–∞–ґ–µ –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–Ї–Њ–љ—З—Г —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ, —П –≤—Б–µ–≥–і–∞ –±—Г–і—Г —Б–Њ–≤–µ—В–Њ–≤–∞—В—М—Б—П —Б –Њ—В—Ж–Њ–Љ.  –Я–Њ–µ–Ј–і —Г—Е–Њ–і–Є–ї –њ–Њ–Ј–і–љ–Њ –≤–µ—З–µ—А–Њ–Љ. —Б–≤–µ—А–Ї–∞–ї —А–Њ—Б—Б—Л–њ—М—О —А–∞–Ј–љ–Њ—Ж–≤–µ—В–љ—Л—Е –Њ–≥–љ–µ–є. –Ґ–Њ–њ–Њ–ї—П –Њ—В–±—А–∞—Б—Л–≤–∞–ї–Є –љ–∞ –Ј–∞–ї–Є—В—Г—О –ї—Г–љ–љ—Л–Љ —Б–≤–µ—В–Њ–Љ –њ–ї–∞—В—Д–Њ—А–Љ—Г —Б–Є–љ–Є–µ —В–µ–љ–Є. –£–µ–Ј–ґ–∞—В—М –љ–µ —Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М. –§—А–Њ–ї –±—Л–ї –Љ—А–∞—З–µ–љ, —Г–≥—А—О–Љ; –ї–Є—И—М –њ–Њ–µ–Ј–і —В—А–Њ–љ—Г–ї—Б—П, –Њ–љ –њ–Њ–≥–∞—Б–Є–ї –≤ –Ї—Г–њ–µ —Б–≤–µ—В –Є —Б—В–∞–ї —Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М –≤ —В–µ–Љ–љ–Њ—В—Г. –Я–Њ–µ–Ј–і —Г—Б–Ї–Њ—А–Є–ї —Е–Њ–і вАФ –Є –≤—Б–Ї–Њ—А–µ –Ј–∞ –Њ–Ї–љ–∞–Љ–Є –њ—А–Њ–Љ–µ–ї—М–Ї–љ—Г–ї–Є –Љ–∞–љ—П—Й–Є–µ –Њ–≥–љ–Є –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є... –Т—Б—В—А–µ—З–∞ —Б –Њ—В—Ж–Њ–Љ, –Ї–∞—В–µ—А–∞, –§–Њ–Ї–Є–є –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–Є—З, –Р–љ—В–Њ–љ–Є–љ–∞ вАФ –≤—Б–µ –Њ—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –њ–Њ–Ј–∞–і–Є... –У–ї–∞–≤–∞ —И–µ—Б—В–∞—П. –Ю–Я–ѓ–Ґ–ђ –Т –Ы–Х–Э–Ш–Э–У–†–Р–Ф–Х–Ш –≤–Њ—В вАФ –Љ—Л —Б–љ–Њ–≤–∞ –≤ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ–і–љ—П–ї–Є—Б—М —Н—В–∞–ґ–Њ–Љ –≤—Л—И–µ, –љ–∞ –≤—В–Њ—А–Њ–є –Ї—Г—А—Б. –Ґ–Њ–≤–∞—А–Є—Й–Є –≤–µ—А–љ—Г–ї–Є—Б—М –Є–Ј –Њ—В–њ—Г—Б–Ї–∞. –С—Г–±–µ–љ—Ж–Њ–≤ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї:  вАФ –Я—А–Є–µ–Ј–ґ–∞—О —П –≤ . –Ь–Њ—А—П–Ї —В–∞–Љ вАФ —А–µ–і–Ї–Њ—Б—В—М, –і–Њ –Љ–Њ—А—П –Њ—В –°—Г–Љ, –Ї–∞–Ї –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—Б—П, —В—А–Є –і–љ—П —Б–Ї–∞—З–Є, –љ–µ –і–Њ—Б–Ї–∞—З–µ—И—М. –Т—Б–µ –Њ–≥–ї—П–і—Л–≤–∞—О—В—Б—П, –Є –Љ–љ–µ –≤—Б–µ –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, —З—В–Њ –Ї–∞–ґ–і—Л–є —Б–Љ–Њ—В—А–Є—В –љ–∞ –Љ–µ–љ—П —Б —Г–Ї–Њ—А–Є–Ј–љ–Њ–є. –Я–Њ–і—Е–Њ–ґ—Г —П –Ї —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г –і–Њ–Љ–Є–Ї—Г, –≤–µ—З–µ—А —Г–ґ–µ, –Ј–љ–∞—З–Є—В, –і—Г–Љ–∞—О, –і–Њ–Љ–∞ –Љ–∞—В—М, –∞ –њ–Њ—Б—В—Г—З–∞—В—М –љ–µ —А–µ—И–∞—О—Б—М. –Э–Њ –љ–µ —Б—В–Њ—П—В—М –ґ–µ –≤–µ—Б—М –≤–µ—З–µ—А –љ–∞ —Г–ї–Є—Ж–µ. –Я–Њ—Б—В—Г—З–∞–ї! ¬Ђ–Ъ—В–Њ —В–∞–Љ?¬ї вАФ —Б–ї—Л—И—Г –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Л–є –≥–Њ–ї–Њ—Б. ¬Ђ–ѓ, –Љ–∞–Љ–∞, —П!¬ї вАФ ¬Ђ–Р—А–Ї–∞—И–∞? –Ь–Є–ї—Л–є —В—Л –Љ–Њ–є, —А–Њ–і–љ–Њ–є!¬ї –Т—Л–±–µ–ґ–∞–ї–∞, –Њ–±–љ–Є–Љ–∞–µ—В, —Ж–µ–ї—Г–µ—В, –≤–µ–і–µ—В –≤ –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В—Г. ¬Ђ–¶–µ–ї—Л–є –≥–Њ–і —П —В–µ–±—П –љ–µ –≤–Є–і–∞–ї–∞, –і–∞–є —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А—О –њ–Њ–ї—Г—З—И–µ!¬ї –£—Б–∞–ґ–Є–≤–∞–µ—В –Ј–∞ —Б—В–Њ–ї, —Е–ї–Њ–њ–Њ—З–µ—В, –і–Њ—Б—В–∞–µ—В —З—В–Њ-—В–Њ –Є–Ј –њ–µ—З–Ї–Є... –∞ –Љ–µ–љ—П —В–∞–Ї –Є –њ–Њ–і–Љ—Л–≤–∞–µ—В —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М: ¬Ђ–Ь–∞–Љ–∞, —П –Њ—З–µ–љ—М –≤–Є–љ–Њ–≤–∞—В –њ–µ—А–µ–і —В–Њ–±–Њ—О, –љ–Њ —В–µ–њ–µ—А—М –Љ–Њ–≥—Г —Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М —В–µ–±–µ –≤ –≥–ї–∞–Ј–∞, –љ–µ —Б—В—Л–і—П—Б—М. –Т–Њ—В —Е–Њ—З—Г –≤—Б–µ —Н—В–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М вАФ –Є –љ–Є–Ї–∞–Ї –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г —А–µ—И–Є—В—М—Б—П. –Ш –≤–і—А—Г–≥ –Њ–љ–∞ –њ–Њ–љ—П–ї–∞: –њ–Њ–і—Е–Њ–і–Є—В –Ї–Њ –Љ–љ–µ, –њ—А–Є–ґ–Є–Љ–∞–µ—В –Ї –≥—А—Г–і–Є: ¬Ђ–ѓ, вАФ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В, вАФ –≤—Б–µ –Ј–љ–∞—О, —Б—Л–љ–Њ–Ї, —В–≤–Њ–Є —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–Є –Љ–љ–µ –≤—Б–µ —Е–Њ—А–Њ—И–µ–µ –Њ —В–µ–±–µ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї–Є. –Э—Г, –∞ —З–µ–≥–Њ —П –љ–µ –Ј–љ–∞—О, —П —Б–µ—А–і—Ж–µ–Љ —З—Г–≤—Б—В–≤—Г—О! –Ь–Њ–ґ–µ—И—М –љ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М, –Р—А–Ї–∞—И–∞, —Б–µ–±—П –±–Њ–ї—М—И–µ –љ–µ –Љ—Г—З–Є—В—М. –Ю–± –Њ–і–љ–Њ–Љ —П –њ—А–Њ—И—Г: –ґ–Є–≤–Є —В—Л —В–∞–Ї, –Ї–∞–Ї —В–≤–Њ–є –Њ—В–µ—Ж –ґ–Є–ї¬ї. –Ґ—Г—В –Љ—Л, –Э–Є–Ї–Є—В–∞, —Б –љ–µ—О –≤—Б–њ–ї–∞–Ї–љ—Г–ї–Є, вАФ —Е–Њ—А–Њ—И–Є–є –Њ–љ –±—Л–ї, –Љ–Њ–є –Њ—В–µ—Ж, –∞ –њ–Њ—Б–ї–µ –Њ–љ–∞ —Г–ґ–µ –±–Њ–ї—М—И–µ –љ–Є —А–∞–Ј—Г –Љ–љ–µ –љ–Є –Њ —З–µ–Љ –љ–µ –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї–∞. –Ш —В—Л –Ј–љ–∞–µ—И—М, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Љ–µ–љ—П –љ–µ –±—Л–ї–Њ –≤ –°—Г–Љ–∞—Е, –Њ–љ–∞ –њ–Њ –≤–µ—З–µ—А–∞–Љ –љ–Є–Ї—Г–і–∞ –љ–µ —Е–Њ–і–Є–ї–∞, –∞ –њ—А–Є–µ—Е–∞–ї —П вАФ –Ї–∞–ґ–і—Л–є –і–µ–љ—М —Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞–µ—В: ¬Ђ–Ь–Њ–ґ–µ—В, –њ—А–Њ–є–і–µ–Љ—Б—П, –Р—А–Ї–∞—И–µ–љ—М–Ї–∞?¬ї –Ш –Є–і–µ–Љ –Љ—Л —Б –љ–µ–є –љ–∞ –±—Г–ї—М–≤–∞—А –Є–ї–Є –≤ —В–µ–∞—В—А, –Њ–љ–∞ –Є–і–µ—В —А—П–і–Њ–Љ, –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–∞—П, –≤ –Њ—З–Ї–∞—Е, –≤—Б–µ –µ–є –Ї–ї–∞–љ—П—О—В—Б—П, –µ–µ –≤ –°—Г–Љ–∞—Е –≤—Б–µ –Ј–љ–∞—О—В. –Р –Њ–љ–∞, —З—Г–≤—Б—В–≤—Г—О, –Љ–љ–Њ—О –≥–Њ—А–і–Є—В—Б—П: ¬Ђ–°—Л–љ, –Љ–Њ–ї, –Ї–∞–Ї–Њ–є —Г –Љ–µ–љ—П: –Ї—Г—А—Б–∞–љ—В, –Љ–Њ—А—П–Ї, –±—Г–і—Г—Й–Є–є –Њ—Д–Є—Ж–µ—А!¬ї –Э—Г, –Ї–∞–Ї–Є–Љ –±—Л —П –±—Л–ї –і—Г—А–∞–Ї–Њ–Љ, –Ъ–Є—В, –µ—Б–ї–Є –±—Л –і–Њ —В–Њ–≥–Њ –і–Њ–Ї–∞—В–Є–ї—Б—П, —З—В–Њ –Љ–µ–љ—П –±—Л –Є–Ј —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞ –≤—Л–≥–љ–∞–ї–Є! вАФ –Ф–∞, –Р—А–Ї–∞–і–Є–є, —Б—З–∞—Б—В—М–µ —В–≤–Њ–µ, —З—В–Њ —Н—В–Њ–≥–Њ –љ–µ —Б–ї—Г—З–Є–ї–Њ—Б—М! –Ш–ї—О—И–∞ —Г–≥–Њ—Й–∞–ї —П–±–ї–Њ–Ї–∞–Љ–Є: вАФ –Я–Њ–Ї—Г—И–∞–є, –њ–Њ–ґ–∞–ї—Г–є—Б—В–∞. –Ю–љ –Є—Е –њ—А–Є–≤–µ–Ј —Ж–µ–ї—Л—Е –і–≤–∞ —З–µ–Љ–Њ–і–∞–љ–∞. вАФ –£ –љ–∞—Б –≤ вАФ –ґ–Є–Ј–љ—М, –Ї–∞–Ї –≤ —А–∞—О.  вАФ –Р —В—Л —А–∞–є —А–∞–Ј–≤–µ –≤–Є–і–µ–ї? вАФ –Ґ–∞–Ї —П –ґ–µ —В–µ–±–µ –≥–Њ–≤–Њ—А—О: —Е–Њ—З–µ—И—М —А–∞–є –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М вАФ –њ–Њ–µ–Ј–ґ–∞–є –≤ –Ч–µ—Б—В–∞—Д–Њ–љ–Є! –ѓ–±–ї–Њ–Ї–Є, –≥—А—Г—И–Є, –њ–µ—А—Б–Є–Ї–Є вАФ –≤—Б–µ–≥–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ! –Ю—В–µ—Ж —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–µ–є —Б —Д–ї–Њ—В–∞ –њ—А–Є–≤–µ–Ј, –Ї–∞–Ї –Љ—Л –Є—Е —Г–≥–Њ—Й–∞–ї–Є! –Р –њ–Њ—В–Њ–Љ –≤ –Ґ–±–Є–ї–Є—Б–Є —П –µ–Ј–і–Є–ї —Б –Њ—В—Ж–Њ–Љ –Ї –і–≤–Њ—О—А–Њ–і–љ–Њ–Љ—Г –±—А–∞—В—Г. –Ґ—Л –Ј–љ–∞–µ—И—М –µ–≥–Њ, –®–∞–ї–Є–Ї–Њ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤ –±–∞–ї–µ—В–µ —В–∞–љ—Ж—Г–µ—В. –Ъ–∞–ґ–і—Л–є –≤–µ—З–µ—А —Е–Њ–і–Є–ї–Є –≤ —В–µ–∞—В—А. –Ш –±—А–∞—В, –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ—И—М, –Ї–∞–ґ–і—Л–є –≤–µ—З–µ—А —Б—В—А–∞–і–∞–ї –Њ—В –ї—О–±–≤–Є: –≤ ¬Ђ–Ы–µ–±–µ–і–Є–љ–Њ–Љ –Њ–Ј–µ—А–µ¬ї вАФ —Б–њ–ї–Њ—И–љ–Њ–µ —Б—В—А–∞–і–∞–љ–Є–µ, –≤ ¬Ђ–Ц–Є–Ј–µ–ї–Є¬ї вАФ —В–Њ–ґ–µ —Б–њ–ї–Њ—И–љ–Њ–µ —Б—В—А–∞–і–∞–љ–Є–µ, –Є –≤ ¬Ђ–°–µ—А–і—Ж–µ –≥–Њ—А¬ї вАФ —В–Њ–ґ–µ. –Р –≤ –ґ–Є–Ј–љ–Є вАФ –≤—Б–µ –љ–∞–Њ–±–Њ—А–Њ—В: –Њ–љ –ґ–µ–љ—Г –ї—О–±–Є—В, –Њ–љ–∞ –µ–≥–Њ —В–Њ–ґ–µ, –Є –Њ–±–∞ —В–Њ –Є –і–µ–ї–Њ —Б–Љ–µ—О—В—Б—П. –Ф–∞, —В—Л –Ј–љ–∞–µ—И—М, вАФ –≤–і—А—Г–≥ –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї –Ш–ї—О—И–∞, вАФ —П —Г –Я—А–Њ—В–∞—Б–Њ–≤–∞ –≤ –≥–Њ—Б—В—П—Е –±—Л–ї. вАФ –£ —Б—В–∞—А—И–Є–љ—Л? вАФ –£ –љ–µ–≥–Њ! –Ш–і—Г –њ–Њ –њ—А–Њ—Б–њ–µ–Ї—В—Г –†—Г—Б—В–∞–≤–µ–ї–Є, –∞ –Я—А–Њ—В–∞—Б–Њ–≤ вАФ –љ–∞–≤—Б—В—А–µ—З—Г, –і–∞ –љ–µ –Њ–і–Є–љ, –∞ —Б –ґ–µ–љ–Њ–є. –£–Ј–љ–∞–ї, –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ—И—М, –Ї —Б–µ–±–µ –њ–Њ—В–∞—Й–Є–ї! –¶–µ–ї—Л–є –≤–µ—З–µ—А –Љ—Л –≤—Б–µ—Е –≤–∞—Б –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї–Є. –Р –Ї–Њ–≥–і–∞ —П —Б–Њ–±—А–∞–ї—Б—П —Г–ґ–µ —Г—Е–Њ–і–Є—В—М, –Я—А–Њ—В–∞—Б–Њ–≤ –і–Њ—Б—В–∞–µ—В –Є–Ј –Ї–Њ–Љ–Њ–і–∞ –Ї–Њ—А–Њ–±–Ї—Г —В–±–Є–ї–Є—Б—Б–Ї–Є—Е ¬Ђ–Ґ–µ–Љ–њ–Њ–≤¬ї. ¬Ђ–Я–µ—А–µ–і–∞–є—В–µ, –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В, –§—А–Њ–ї—Г –Ц–Є–≤—Ж–Њ–≤—Г. –Ґ–µ–њ–µ—А—М –µ–Љ—Г, –њ–Њ–і–Є, –Ї—Г—А–Є—В—М —А–∞–Ј—А–µ—И–∞—О—В. –Э–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є—В–µ, –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В, –Ї–∞–Ї —П —Г –љ–µ–≥–Њ –Њ—В–Њ–±—А–∞–ї —Н—В–Є ¬Ђ–Ґ–µ–Љ–њ—Л¬ї. –Э—Г, –Є –Њ–±–Њ–Ј–ї–Є–ї—Б—П –Ц–Є–≤—Ж–Њ–≤ —В–Њ–≥–і–∞ –љ–∞ –Љ–µ–љ—П!¬ї –Ш–ї—О—И–∞ –≤—Л—В–∞—Й–Є–ї –Є–Ј –Ї–∞—А–Љ–∞–љ–∞ –Ї–Њ—А–Њ–±–Ї—Г –Є –њ—А–Њ—В—П–љ—Г–ї –§—А–Њ–ї—Г. вАФ –Ф–µ—А–ґ–Є, –і–Њ—А–Њ–≥–Њ–є. вАФ –І—Г–і–µ—Б–∞! вАФ —Г–і–Є–≤–Є–ї—Б—П –§—А–Њ–ї. вАФ –Ъ–Є—В, –∞ –≤–µ–і—М –љ–∞–Љ —Б —В–Њ–±–Њ–є –Ј–і–Њ—А–Њ–≤–Њ –≤–ї–µ—В–µ–ї–Њ —В–Њ–≥–і–∞. –Ъ –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї—Г –≤–Њ–і–Є–ї–Є... –Ґ—Л –њ–Њ–Љ–љ–Є—И—М? вАФ –Э—Г, –µ—Й–µ –±—Л –љ–µ –њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М! вАФ –Р–є, –і–∞ –Я—А–Њ—В–∞—Б–Њ–≤! –Ф–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї... –Я—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В.  –Т–µ—А—О–ґ—Б–Ї–Є–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Т–Э–Р), –У–Њ—А–ї–Њ–≤ –Ю–ї–µ–≥ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Ю–Р–У), –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З (–Ь–Т–Т), –Ъ–°–Т. 198188. –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥, —Г–ї. –Ь–∞—А—И–∞–ї–∞ –У–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤–∞, –і–Њ–Љ 11/3, –Ї–≤. 70. –Ъ–∞—А–∞—Б–µ–≤ –°–µ—А–≥–µ–є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З, –∞—А—Е–Є–≤–∞—А–Є—Г—Б. karasevserg@yandex.ru
31.03.201300:1131.03.2013 00:11:32
0
30.03.201300:5130.03.2013 00:51:15
–Я–Њ—З–µ–Љ—Г –љ–µ—В —Б—Ж–µ–љ–∞—А–Є—П, –Њ –Ї–∞–Ї–Њ–Љ –њ—А–Њ–≥–Њ–љ–µ —И–ї–∞ —А–µ—З—М, –њ–Њ—З–µ–Љ—Г —П –Њ–± —Н—В–Њ–Љ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –Ј–љ–∞–ї–∞? –Р –Ј–љ–∞—В—М –і–Њ–ї–ґ–љ–∞, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –Љ–µ—А–Њ–њ—А–Є—П—В–Є–µ –≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї–Њ—Б—М –љ–∞ –±–∞–Ј–µ —В–≤–Њ–µ–≥–Њ –і–≤–Њ—А—Ж–∞ –Є –≤ –Њ—В–≤–µ—В–µ –Ј–∞ –љ–µ–≥–Њ —В—Л. –ѓ –і–Њ–≤–µ—А–Є–ї–∞—Б—М –Њ—З–µ–љ—М –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–Љ –ї—О–і—П–Љ, –љ–Њ –Њ–і–љ–Њ –і–µ–ї–Њ —А–∞–±–Њ—В–∞ –Љ—Г–Ј–µ—П, –і—А—Г–≥–Њ–µ вАУ –њ—Г–±–ї–Є—Ж–Є—Б—В–Є–Ї–∞ –љ–∞ –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –Ј–∞–ї. –ѓ –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–љ–∞ –Є–љ–Є—Ж–Є–∞—В–Њ—А—Г –њ—А–Њ–≥–Њ–љ–∞ –Ј–∞ —В–µ —В—А–Є –і–љ—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ–Њ–Љ–Њ–≥–ї–Є –љ–∞–Љ –љ–µ —Б–Њ—А–≤–∞—В—М —Н—В—Г –≤—Б—В—А–µ—З—Г. –£ –љ–∞—Б –±—Л–ї–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —В—А–Є –і–љ—П. –®—В–∞–± ¬Ђ—Б–µ–і—М–Љ–Њ–є¬ї –±—Л–ї —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ –≤ —Д–Њ–є–µ –ї–µ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–ї–∞, —Б—Ж–µ–љ–∞—А–Є–є –њ–Є—Б–∞–ї–∞ —В–∞–Љ –ґ–µ, –љ–∞—И–Є –Є–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Њ—А–∞ —А–∞–±–Њ—В–∞–ї–Є –њ–Њ –і–≤–µ–љ–∞–і—Ж–∞—В—М —З–∞—Б–Њ–≤. –•—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї –°–µ—А–≥–µ–є –Ы–∞–Ј–∞—А–µ–≤, —Г–ї–Њ–≤–Є–≤ –Ј–∞–Љ—Л—Б–µ–ї –њ–Њ –Њ—Д–Њ—А–Љ–ї–µ–љ–Є—О —Б—Ж–µ–љ—Л, —А–∞–±–Њ—В–∞–ї –љ–∞–і —Н—Б–Ї–Є–Ј–∞–Љ–Є. –Ь–∞—И–Є–љ–Є—Б—В —Б—Ж–µ–љ—Л –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –•–Њ—Е–ї–Њ–≤ –Ї–∞–Ї–Є–Љ-—В–Њ —З—Г–і–Њ–Љ –і–Њ—Б—В–∞–ї 48 –љ–Њ–≤—Л—Е —Б—В—Г–ї—М–µ–≤ –і–ї—П –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї–µ–є —Б–µ–і—М–Љ–Њ–є —Б–Є–Љ—Д–Њ–љ–Є–Є. –Я—А–Є–≤–µ–Ј–ї–Є –Є–Ј –Љ—Г–Ј–µ—П –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ—Л–µ –Є–љ—Б—В—А—Г–Љ–µ–љ—В—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –Ї—А–∞—Б–љ–Њ–є –≥–≤–Њ–Ј–і–Є–Ї–Њ–є –±–µ—А–µ–ґ–љ–Њ –≤–Њ–Ј–ї–∞–≥–∞–ї–Є—Б—М –≤ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –≤–µ—З–µ—А–∞ –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–Њ –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—П, –љ–µ –і–Њ–ґ–Є–≤—И–µ–≥–Њ –і–Њ —Н—В–Њ–≥–Њ –і–љ—П. –≠—В–Њ –±—Л–ї–∞ –Ї—Г–ї—М–Љ–Є–љ–∞—Ж–Є—П, –≤ —Н—В–Њ–Љ –Љ—Л –љ–µ –Њ—И–Є–±–ї–Є—Б—М!  –Я–µ—А–≤—Л–µ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї–Є –°–µ–і—М–Љ–Њ–є —Б–Є–Љ—Д–Њ–љ–Є–Є. –†—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ–Љ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ —Б—Ж–µ–љ–∞—А–Є–є, –Ј–∞–ї–Є—В–Њ–≤–∞–љ –≤ –У–Њ—А–ї–Є—В–µ. –°—Е–≤–∞—В–Є–≤ –µ–≥–Њ, –њ–Њ–Љ—З–∞–ї–∞—Б—М –≤ —В–µ–∞—В—А ¬Ђ–Ъ–Њ–Љ–Є—Б—Б–∞—А–ґ–µ–≤—Б–Ї–Њ–є¬ї –Ї –Э–∞—А–Њ–і–љ–Њ–Љ—Г –∞—А—В–Є—Б—В—Г –Ш–≤–∞–љ—Г –Ъ—А–∞—Б–Ї–Њ. –° –µ–≥–Њ —Д–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–є –њ–∞–Љ—П—В—М—О –µ–Љ—Г –њ—А–µ–і—Б—В–Њ—П–ї–Њ –≤—Л—В—П–љ—Г—В—М –≤–µ—Б—М –≤–µ—З–µ—А, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —В–µ–Ї—Б—В–∞ –±—Л–ї–Њ –љ–∞ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж, –і–∞ –Є —Б–∞–Љ–Њ –і–µ–є—Б—В–≤–Њ –Њ—Е–≤–∞—В—Л–≤–∞–ї–Њ —Б—Ж–µ–љ—Г, –Ј–∞–ї –Є –ї–Њ–ґ–Є вАУ –Є –≤—Б–µ —Н—В–Њ –±–µ–Ј –µ–і–Є–љ–Њ–є —А–µ–њ–µ—В–Є—Ж–Є–Є, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –њ–Њ–і–Ї–ї—О—З–Є—В—М—Б—П –Є –Љ–љ–µ. –Ґ–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –≤–µ—З–µ—А ¬Ђ–°–Њ–Ј–≤—Г—З–љ–Њ –њ–Њ–і–≤–Є–≥—Г¬ї, –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ—Л–є –°–µ–і—М–Љ–Њ–є —Б–Є–Љ—Д–Њ–љ–Є–Є, —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї—Б—П, –≤ —В–∞–Ї–Њ–є –±–Њ–µ–≤–Њ–є –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–µ 18 —Б–µ–љ—В—П–±—А–µ 1982 –≥–Њ–і–∞. –Т–µ—З–µ—А –Њ—В–Ї—А—Л–ї –Э–∞—А–Њ–і–љ—Л–є –∞—А—В–Є—Б—В, –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—В–Њ—А –Р–љ–і—А–µ–є –Я–µ—В—А–Њ–≤. –Ш –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ–µ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ!  –Ъ–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—В–Њ—А, –Э–∞—А–Њ–і–љ—Л–є –∞—А—В–Є—Б—В –°–°–°–† –Р–љ–і—А–µ–є –Я–µ—В—А–Њ–≤, –Э–∞—А–Њ–і–љ—Л–є –∞—А—В–Є—Б—В, –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї –Ш–≤–∞–љ –Ъ—А–∞—Б–Ї–Њ –Є —П. –Ґ–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–Є–µ —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–Є –Њ—Б–∞–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ—А–Њ–і–∞ —Б–Њ –≤—Б–µ–Љ–Є –ї–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Ж–∞–Љ–Є —Б—А–∞–ґ–∞–ї–Є—Б—М —Б–≤–Њ–Є–Љ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ–Љ. –Т —Е–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В–µ –љ–∞ –С–Њ–ї—М—И–Њ–є –Я—Г—И–Ї–∞—А—Б–Ї–Њ–є –њ–Є—И–µ—В –У–µ—А–Њ–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О —Б–µ–і—М–Љ—Г—О —Б–Є–Љ—Д–Њ–љ–Є—О –Ф.–®–Њ—Б—В–∞–Ї–Њ–≤–Є—З. –° –њ–µ—А–≤—Л—Е –і–љ–µ–є –≤–Њ–є–љ—Л –Ф.–Ф.–®–Њ—Б—В–∞–Ї–Њ–≤–Є—З вАУ –±–Њ–µ—Ж –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–є –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ґ–∞—А–љ–Њ–є –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л. –Х–≥–Њ –њ–Њ—Б—В вДЦ 5 –≤ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–Є –Ї–Њ–љ—Б–µ—А–≤–∞—В–Њ—А–Є–Є. –Ю–љ –µ–Ј–і–Є—В –Є –љ–∞ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–љ—Л–µ —А–∞–±–Њ—В—Л. –Т –Ї–Њ–љ—Ж–µ –Є—О–љ—П –Ф–Љ–Є—В—А–Є–є –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–Є—З –≤—Б—В—Г–њ–∞–µ—В –≤ —А—П–і—Л –Њ–њ–Њ–ї—З–µ–љ–Є—П. 16 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П –®–Њ—Б—В–∞–Ї–Њ–≤–Є—З –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞–µ—В –њ–Њ —А–∞–і–Є–Њ: ¬Ђ–ѓ –≥–Њ–≤–Њ—А—О —Б –Т–∞–Љ–Є –Є–Ј –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–∞ –≤ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П, –Ї–∞–Ї —Г —Б–∞–Љ—Л—Е –≤–Њ—А–Њ—В –Є–і—Г—В –ґ–µ—Б—В–Њ–Ї–Є–µ –±–Њ–Є, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —З—В–Њ —П –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–ї –і–≤–µ —З–∞—Б—В–Є —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є—П, –µ—Б–ї–Є —Н—В–Њ —Б–Њ—З–Є–љ–µ–љ–Є–µ –Љ–љ–µ —Г–і–∞—Б—В—Б—П –љ–∞–њ–Є—Б–∞—В—М —Е–Њ—А–Њ—И–Њ.., –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Г–і–µ—В –љ–∞–Ј–≤–∞—В—М –µ–≥–Њ ¬Ђ–°–µ–і—М–Љ–Њ–є —Б–Є–Љ—Д–Њ–љ–Є–µ–є¬ї. –ѓ —Б–Њ–Њ–±—Й–∞—О –Њ–± —Н—В–Њ–Љ –і–ї—П —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ–±—Л —А–∞–і–Є–Њ—Б–ї—Г—И–∞—В–µ–ї–Є, —В–µ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Љ–µ–љ—П —Б–µ–є—З–∞—Б —Б–ї—Г—И–∞—О—В, –Ј–љ–∞–ї–Є, —З—В–Њ –ґ–Є–Ј–љ—М –љ–∞—И–µ–≥–Њ –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –Є–і–µ—В –љ–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ–Њ. –Т—Б–µ –Љ—Л —Б–µ–є—З–∞—Б –љ–µ—Б—С–Љ —Б–≤–Њ—О –±–Њ–µ–≤—Г—О –≤–∞—Е—В—Г. –ѓ –і—Г–Љ–∞—О –Њ –≤–µ–ї–Є—З–Є–Є –љ–∞—И–µ–≥–Њ –≥–Њ—А–Њ–і–∞, –Њ –µ–≥–Њ –ї—Г—З—И–Є—Е –Є–і–µ–∞–ї–∞—Е —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б—В–≤–∞, –Њ –≥—Г–Љ–∞–љ–Є–Ј–Љ–µ, –Њ –Ї—А–∞—Б–Њ—В–µ –Є –љ–∞—И–µ–є –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ–є –њ—А–Є—А–Њ–і–µ. –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–µ –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–љ—В—Л, –њ–Њ–Љ–љ–Є—В–µ: –љ–∞—И–µ–Љ—Г –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤—Г –≥—А–Њ–Ј–Є—В –≤–µ–ї–Є–Ї–∞—П –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В—М, –Є —З–µ–Љ –ї—Г—З—И–µ –љ–∞—И–µ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–Њ, —В–µ–Љ –±–Њ–ї—М—И–µ —Г –љ–∞—Б –±—Г–і–µ—В —Г–≤–µ—А–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М, —З—В–Њ –µ–≥–Њ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞, –Є –љ–Є–Ї—В–Њ –љ–µ —А–∞–Ј—А—Г—И–Є—В¬ї. 30 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—В–Њ—А –±—Л–ї —Н–≤–∞–Ї—Г–Є—А–Њ–≤–∞–љ –≤ –Ъ—Г–є–±—Л—И–µ–≤. 27 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 1941 –≥–Њ–і–∞ –Ф–Љ–Є—В—А–Є–є –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–Є—З –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –љ–∞ –њ–∞—А—В–Є—В—Г—А–µ —В–Њ—З–Ї—Г –Є –љ–∞ —В–Є—В—Г–ї—М–љ–Њ–Љ –ї–Є—Б—В–µ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї: ¬Ђ–Я–Њ—Б–≤—П—Й–∞–µ—В—Б—П –≥–Њ—А–Њ–і—Г –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Г¬ї. 27 –і–µ–Ї–∞–±—А—П вАУ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–µ –≤—Л—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ —Б–Є–Љ—Д–Њ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—А–Ї–µ—Б—В—А–∞ —А–∞–і–Є–Њ–Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞ –Є–Ј —Б—В—Г–і–Є–Є –і–ї—П –®–≤–µ—Ж–Є–Є. –У–Є–±–ї–Є —Е–Њ—А–Њ—И–Є–µ –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–љ—В—Л. –Ю–њ—Г—Е—И–Є–є –Њ—В –≥–Њ–ї–Њ–і–∞ —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–і–Є–Њ –ѓ–Ї–Њ–≤ –С–∞–±—Г—И–Ї–Є–љ –і–Є–Ї—В–Њ–≤–∞–ї –Љ–∞—И–Є–љ–Є—Б—В–Ї–µ: ¬Ђ–Я–µ—А–≤–∞—П —Б–Ї—А–Є–њ–Ї–∞ —Г–Љ–Є—А–∞–µ—В, –±–∞—А–∞–±–∞–љ —Г–Љ–µ—А, –≤–∞–ї—В–Њ—А–љ–∞ –њ—А–Є —Б–Љ–µ—А—В–Є¬ї. 27 –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–љ—В–Њ–≤ —Г–Љ–µ—А–ї–Є –Ј–Є–Љ–Њ–є 1941-1942 –≥–Њ–і–Њ–≤, –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–µ –Є—Б—В–Њ—Й–µ–љ—Л –і–Њ –њ—А–µ–і–µ–ї–∞. –Э–∞—Б—В—Г–њ–Є–ї–∞ —В—А–∞–≥–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –њ–∞—Г–Ј–∞. –Э–Њ –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞ –љ–µ —Б–Љ–Њ–ї–Ї–∞–ї–∞. –Ю—Б—В–∞–ї–∞—Б—М –±–Њ–µ–≤–∞—П –µ–і–Є–љ–Є—Ж–∞ вАУ –Ї–≤–∞—А—В–µ—В –њ–Њ–і —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В–Љ–µ–є—Б—В–µ—А–∞ –Њ—А–Ї–µ—Б—В—А–∞ –°–µ–Љ–µ–љ–∞ –Р—А–Ї–∞–і—М–µ–≤–Є—З–∞ –Р—А–Ї–Є–љ–∞. –°–љ–Њ–≤–∞ –Ј–≤—Г—З–Є—В –≤ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–µ –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞ –У–ї–Є–љ–Ї–Є, –І–∞–є–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –С–Њ—А–Њ–і–Є–љ–∞, –У–ї–∞–Ј—Г–љ–Њ–≤–∞. 23 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 1942 –≥–Њ–і–∞ –Ї–≤–∞—А—В–µ—В –њ—А–µ–Ї—А–∞—В–Є–ї —Б–≤–Њ—О —А–∞–±–Њ—В—Г, –±–Њ–ї—М—И–µ –љ–µ –±—Л–ї–Њ —Б–Є–ї —Е–Њ–і–Є—В—М, –љ–Њ—Б–Є—В—М –Є–љ—Б—В—А—Г–Љ–µ–љ—В—Л. –Ъ.–Ш.–≠–ї–Є–∞—Б–±–µ—А–≥–∞, –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–Є–Љ—Д–Њ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–Є—А–Є–ґ–µ—А–∞ –Є –µ–≥–Њ –ґ–µ–љ—Г вАУ –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В–Љ–µ–є—Б—В–µ—А–∞ –Э.–Ф. –С—А–Њ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤—Г –≤ —Д–µ–≤—А–∞–ї–µ –љ–∞ —Б–∞–љ–Ї–∞—Е –Њ—В–≤–µ–Ј–ї–Є –≤ —Б—В–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞—А.  –Ш–і–µ—П –Њ–± –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–Є –°–µ–і—М–Љ–Њ–є —Б–Є–Љ—Д–Њ–љ–Є–Є –≤ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–µ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–ї–∞ —Г –Ј–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї—П –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—П —А–∞–і–Є–Њ–Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞ . –Т–µ—Б–љ–Њ–є 1942 –≥–Њ–і–∞ —З–µ—А–µ–Ј –ї–Є–љ–Є—О —Д—А–Њ–љ—В–∞ –±–ї–Њ–Ї–∞–і–љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ—А–Њ–і–∞ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–Љ —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В–Њ–Љ вАУ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–є –ї–µ—В—З–Є–Ї –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є –°–µ–Љ–µ–љ–Њ–≤–Є—З –Ы–Є—В–≤–Є–љ–Њ–≤ вАУ –±—Л–ї–∞ –і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–∞ –њ–∞—А—В–Є—В—Г—А–∞ –°–µ–і—М–Љ–Њ–є —Б–Є–Љ—Д–Њ–љ–Є–Є –Є–Ј –Ъ—Г–є–±—Л—И–µ–≤–∞. ¬Ђ вА¶–Ш –љ–∞–Ј–≤–∞–≤—И–Є —Б–µ–±—П - "–°–µ–і—М–Љ–∞—П", –Э–∞ –љ–µ—Б–ї—Л—Е–∞–љ–љ—Л–є –Љ—З–∞–ї–∞—Б—М –њ–Є—А, –Я—А–Є—В–≤–Њ—А–Є–≤—И–Є—Б—М –љ–Њ—В–љ–Њ–є —В–µ—В—А–∞–і–Ї–Њ–є, –Ч–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В–∞—П –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–Ї–∞ –Т–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞–ї–∞—Б—М –≤ —А–Њ–і–љ–Њ–є —Н—Д–Є—А¬ї. –Р–љ–љ–∞ –Р—Е–Љ–∞—В–Њ–≤–∞. –°–Є–Љ—Д–Њ–љ–Є—П –±—Л–ї–∞ –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–∞ –≤ –≥–Њ—А–Њ–і–µ –Ъ—Г–є–±—Л—И–µ–≤–∞ —Б–Є–Љ—Д–Њ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –Њ—А–Ї–µ—Б—В—А–Њ–Љ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–љ—Б–µ—А–≤–∞—В–Њ—А–Є–Є –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Њ—А—Б–Ї–Њ-–њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–∞ —Б—В—Г–і–µ–љ—В–Њ–≤ –Є –∞—Б–њ–Є—А–∞–љ—В–Њ–≤. –≠—В–Є–Љ –ґ–µ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Њ–Љ —Б–Є–Љ—Д–Њ–љ–Є—П –±—Л–ї–∞ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–∞ –≤ –≥–Њ—А–Њ–і–µ –°–∞—А–∞—В–Њ–≤–µ, –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ 1942 –≥–Њ–і–∞. –°–µ–і—М–Љ–∞—П —Б–Є–Љ—Д–Њ–љ–Є—П —А–∞—Б—Б—З–Є—В–∞–љ–∞ –і–ї—П —Г–і–≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А–Ї–µ—Б—В—А–∞ вАУ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ —З–µ–Љ –≤ —Б—В–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї. –Т–µ—Б–љ–Њ–є 1942 –≥–Њ–і–∞ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї–Є —А–∞–і–Є–Њ–Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞ –Є —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л, –њ—А–Є –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї–µ –њ–∞—А—В–Є–є–љ–Њ–≥–Њ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –≥–Њ—А–Њ–і–∞, —А–µ—И–Є–ї–Є –≤–Њ–Ј—А–Њ–і–Є—В—М —Б–Є–Љ—Д–Њ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Њ—А–Ї–µ—Б—В—А, –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —А–∞–Ј –њ–Њ —А–∞–і–Є–Њ –±—Л–ї–Њ –њ–µ—А–µ–і–∞–љ–Њ –Њ–±—К—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ, —Б –њ—А–Њ—Б—М–±–Њ–є –≤—Б–µ–Љ –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–љ—В–∞–Љ –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –Ј–∞—А–µ–≥–Є—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –≤ —А–∞–і–Є–Њ–Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–µ. –Я–Њ–Ј–і–љ–µ–µ –љ–∞ –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ—Г —Б–Њ—Б—В–∞–≤—Г вАУ –њ–Њ —А–µ—И–µ–љ–Є—О —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –≥–Њ—А–Њ–і–∞ вАУ –њ—А–Є—И–ї–Є –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–µ –њ—А—П–Љ–Њ —Б —Д—А–Њ–љ—В–∞, –Є–Ј –Њ—А–Ї–µ—Б—В—А–Њ–≤, –њ–Њ—Б–ї–∞–≤—И–Є–µ –ї—Г—З—И–Є—Е —Б–≤–Њ–Є—Е –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–љ—В–Њ–≤ –њ–Њ–і –љ–∞—З–∞–ї–Њ –Ъ–∞—А–ї–∞ –Ш–ї—М–Є—З–∞ –≠–ї–Є–∞—Б–±–µ—А–≥–∞. –Ъ.–Ш.–≠–ї–Є–∞—Б–±–µ—А–≥ –њ—А–Њ–≤–µ–ї –њ–µ—А–≤—Г—О —А–µ–њ–µ—В–Є—Ж–Є—О –Њ—А–Ї–µ—Б—В—А–∞ –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ 48 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–∞—Б—М –≤—Б–µ–≥–Њ 40 –Љ–Є–љ—Г—В. –Ь—Г–Ј—Л–Ї–∞–љ—В—Л –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є –і–Њ–ї–≥–Њ —Б–Є–і–µ—В—М, –і–µ—А–ґ–∞—В—М –Є–љ—Б—В—А—Г–Љ–µ–љ—В—Л. –Ъ–∞–ґ–і–∞—П —А–µ–њ–µ—В–Є—Ж–Є—П —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–∞—Б—М –њ–Њ–і–≤–Є–≥–Њ–Љ. ¬Ђ–Ґ–≤–Њ—А–Є—В—М вАУ –Ј–љ–∞—З–Є—В —Г–±–Є–≤–∞—В—М —Б–Љ–µ—А—В—М¬ї, вАУ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –†–Њ–Љ–∞–љ –†–Њ–ї–ї–∞–љ. –°–µ–і—М–Љ–∞—П —Б–Є–Љ—Д–Њ–љ–Є—П, —А–Њ–ґ–і–µ–љ–љ–∞—П –≤ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–µ, –њ–Њ—З—В–Є –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–љ–∞—П –≤ –љ–µ–Љ, –Ј–∞–Ї–∞–ї–µ–љ–љ–∞—П –Њ–≥–љ–µ–Љ –Є –≥–Њ–ї–Њ–і–Њ–Љ, –Ї–∞–Ї –µ–µ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї–Є –Є —Б–ї—Г—И–∞—В–µ–ї–Є. 9 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 1942 –≥–Њ–і–∞ –Ј–≤—Г—З–∞–ї–∞ –≤–Њ –Є–Љ—П –ґ–Є–Ј–љ–Є, –≤–Њ –Є–Љ—П –Я–Њ–±–µ–і—Л. ¬Ђ–Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–µ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ –±—Л–ї–Њ —Б–≤–Њ–µ, –ї–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–µ, —В–Њ, —З—В–Њ —Б–ї–Є–≤–∞–ї–Њ –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ—Г—О –±—Г—А—О —Б –±–Њ–µ–≤–Њ–є –±—Г—А–µ–є, –љ–Њ—Б—П—Й–µ–є—Б—П –љ–∞–і –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–Љ¬ї, вАУ –њ–Є—Б–∞–ї –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Ґ–Ш–•–Ю–Э–Ю–Т. –Я—А–Њ—И–ї–Њ 40 –ї–µ—В, –Є –Љ—Л –Є–Љ–µ–ї–Є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –≤ –љ–∞—И–µ–Љ –Ј–∞–ї–µ –њ—А–Є–≤–µ—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї–µ–є –≥–µ—А–Њ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Б–Є–Љ—Д–Њ–љ–Є–Є –®–Њ—Б—В–∞–Ї–Њ–≤–Є—З–∞, —З—М–Є –Є–Љ–µ–љ–∞ –љ–∞–≤–µ—З–љ–Њ –≤–њ–Є—Б–∞–љ—Л –≤ –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б—М –±–ї–Њ–Ї–∞–і–љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ—А–Њ–і–∞.  –Т.–Ъ.–Я–µ—В—А–Њ–≤–∞ вАУ –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Є–є —А–Њ–ґ–Њ–Ї. –У.–§.–§–µ—Б–µ—З–Ї–Њ вАУ –≤—В–Њ—А–∞—П —Б–Ї—А–Є–њ–Ї–∞, –Є.–Њ. –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А–∞ –Ї–Њ–љ—Б–µ—А–≤–∞—В–Њ—А–Є–Є –≤ –≥–Њ–і—Л –≤–Њ–є–љ—Л. –Ь–Є—Е–∞–Є–ї –Х—Д–Є–Љ–Њ–≤–Є—З –°–Ь–Ю–Ы–ѓ–Ъ вАУ —В—А–Њ–Љ–±–Њ–љ, –Њ–љ –ґ–µ –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –У—А–Є–≥–Њ—А–Є–µ–Љ –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–Є—З–µ–Љ –§–Х–°–Х–І–Ъ–Ю —Г—З–∞—Б—В–≤—Г–µ—В –≤ –њ–µ—А–µ–њ–Є—Б–Ї–µ —Б–Є–Љ—Д–Њ–љ–Є–Є 80 –њ–∞—А—В–Є–є. –Я–∞–≤–µ–ї –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ–Њ–≤–Є—З –Ю–†–Х–•–Ю–Т вАУ –≤–∞–ї—В–Њ—А–љ–∞, –љ—Л–љ–µ –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Њ—А –Ї–Њ–љ—Б–µ—А–≤–∞—В–Њ—А–Є–Є. –У—А–Є–≥–Њ—А–Є–є –Ч–∞—Е–∞—А–Њ–≤–Є—З –Х–†–Х–Ь–Ъ–Ш–Э вАУ —Д–∞–≥–Њ—В, –љ—Л–љ–µ –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Њ—А –Ї–Њ–љ—Б–µ—А–≤–∞—В–Њ—А–Є–Є. –Т–Є–Ї—В–Њ—А –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З –Ю–†–Ы–Ю–Т–°–Ъ–Ш–Щ вАУ —В—А–Њ–Љ–±–Њ–љ, —Б–Њ–ї–Є—Б—В, –і–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є —А–∞–±–Њ—В–∞–ї –≤ –∞–љ—Б–∞–Љ–±–ї–µ –Ш–≥–Њ—А—П –Ь–Ю–Ш–°–Х–Х–Т–Р, –њ—А–Є–µ—Е–∞–ї –Є–Ј –Ъ–Є–µ–≤–∞. –Ц–∞–≤–і–∞—В –Ъ–Р–†–Р–Ь–Р–Ґ–£–Ы–Ы–Ю–Т–Ш–І –Р–Щ–Ф–Р–†–Ю–Т вАУ —Г–і–∞—А–љ—Л–µ –Є–љ—Б—В—А—Г–Љ–µ–љ—В—Л, —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –ї–µ–≥–µ–љ–і–∞—А–љ–Њ–є –±–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є, –С—Г–і–µ–љ–Њ–≤—Б–Ї–Є–є —В—А—Г–±–∞—З, –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–µ—В –≤ –Ъ–∞–Ј–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–љ—Б–µ—А–≤–∞—В–Њ—А–Є–Є. –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З –Э–Ю–°–Ю–Т вАУ —В—А—Г–±–∞, –Њ–љ –Є–≥—А–∞–ї –≤ –і–ґ–∞–Ј–µ –Ы.–£–Ґ–Х–°–Ю–Т–Р. –Э–∞ –њ—А–µ–Љ—М–µ—А–µ —Б–µ–і—М–Љ–Њ–є –Њ–љ –±—Л–ї —Б–Њ–ї–Є—Б—В–Њ–Љ. –Ь–Є—Е–∞–Є–ї –Я–∞—А—Д–µ–љ–Њ–≤–Є—З –Я–Р–†–§–Х–Э–Ю–Т вАУ –≤–∞–ї—В–Њ—А–љ–∞, —Б—В–∞—А—И–Є–љ–∞ –Њ—А–Ї–µ—Б—В—А–∞ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д—А–Њ–љ—В–∞, —А–∞–±–Њ—В–∞–µ—В –њ–µ–і–∞–≥–Њ–≥–Њ–Љ. –°–µ–Љ–µ–љ –С–Њ—А–Є—Б–Њ–≤–Є—З –У–Ю–†–Х–Ы–Ш–Ъ вАУ –≤–∞–ї—В–Њ—А–љ–Є—Б—В —А–∞–±–Њ—В–∞–µ—В –њ–µ–і–∞–≥–Њ–≥–Њ–Љ. –°–µ—А–≥–µ–є –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ–Њ–≤–Є—З –Ъ–Ю–†–Х–Ы–ђ–°–Ъ–Ш–• вАУ —Д–ї–µ–є—В–∞-–њ–Є–Ї–Ї–Њ–ї–Њ. –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–Є—З –Я–Ю–Ъ–Ы–Р–Ф–Р вАУ —В—А—Г–±–∞—З, –њ—А–Є–ї–µ—В–µ–ї –Є–Ј –Ю–і–µ—Б—Б—Л. –С–Њ—А–Є—Б –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З –Я–Х–Ґ–†–Ю–Т вАУ –≤–∞–ї—В–Њ—А–љ–∞, —А–µ–±—П—В–∞ –Є—Б–Ї–∞–ї–Є –µ–≥–Њ 14 –ї–µ—В, –љ–∞ –і–љ—П—Е –≤—Л—П—Б–љ–Є–ї–Њ—Б—М вАУ –ґ–Є–≤–µ—В –≤ –Ъ–Є—А–Є—И–∞—Е. –°–∞–Љ—Г–Є–ї –Р—А–Њ–љ–Њ–≤–Є—З –Ш–Ф–Х–Ы–ђ–°–Ю–Э вАУ —В—А–Њ–Љ–±–Њ–љ, –њ—А–Є—И–µ–ї –Є–Ј –Њ—А–Ї–µ—Б—В—А–∞ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д—А–Њ–љ—В–∞. –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З –Ъ–£–Ы–Ш–Ъ–Ю–Т вАУ —Г–і–∞—А–љ–Є–Ї, –њ—А–Є—И–µ–ї –Є–Ј –Њ—А–Ї–µ—Б—В—А–∞ –Ь–Т–Ф. –Ю–љ —Б–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–∞–Љ–Є –њ–Њ —Г–і–∞—А–љ–Њ–є –≥—А—Г–њ–њ–µ —А–∞–Ј–≤–Є–≤–∞–ї –≤ —Б–Є–Љ—Д–Њ–љ–Є–Є —В–µ–Љ—Г –њ—А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –±–∞—А–∞–±–∞–љ–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –і–ї—П –≤—Б–µ–≥–Њ –Љ–Є—А–∞ –∞—Б—Б–Њ—Ж–Є–Є—А—Г–µ—В—Б—П —Б –≤—А–∞–ґ–µ—Б–Ї–Є–Љ –љ–∞—И–µ—Б—В–≤–Є–µ–Љ. –Э–Є–ї –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З –С–Х–Ы–ѓ–Х–Т вАУ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞–ї –≤ —Н—Д–Є—А –Ј–≤—Г—З–∞–љ–Є–µ –°–µ–і—М–Љ–Њ–є –љ–∞ –≤—Б–µ –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є–µ —Б—В—А–∞–љ—Л. –Ь–Є—Е–∞–Є–ї –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З –Ь–Р–Ґ–Т–Х–Х–Т вАУ –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—В–Њ—А, —Г—З–µ–љ–Є–Ї –Ф.–Ф.–®–Њ—Б—В–∞–Ї–Њ–≤–Є—З–∞, —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞. –Ъ—Б–µ–љ–Є—П –Ь–∞—А—М—П–љ–Њ–≤–љ–∞ –Ь–Р–Ґ–£–° вАУ –≥–Њ–±–Њ–Є—Б—В–Ї–∞, —Б—В—Г–і–µ–љ—В–∞ –Ї–Њ–љ—Б–µ—А–≤–∞—В–Њ—А–Є–Є. –У–∞–ї–Є–љ–∞ –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–љ–∞ –Х–†–®–Ю–Т–Р вАУ —Д–ї–µ–є—В–∞, –њ—А–Є—И–ї–∞ —Б –Ј–∞–≤–Њ–і–∞, –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є–≤ –°–µ–і—М–Љ—Г—О —Б–Є–Љ—Д–Њ–љ–Є—О, –≤—Б–Ї–Њ—А–µ —Г—И–ї–∞ –љ–∞ —Д—А–Њ–љ—В. –У—А–Є–≥–Њ—А–Є–є –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–Є—З –§–Х–°–Х–І–Ъ–Ю вАУ –≤—В–Њ—А–∞—П —Б–Ї—А–Є–њ–Ї–∞, –≤ –≥–Њ–і—Л –≤–Њ–є–љ—Л –Є—Б–њ–Њ–ї–љ—П–ї –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А–∞ –Ї–Њ–љ—Б–µ—А–≤–∞—В–Њ—А–Є–Є. –Т–µ—А–∞ –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ–Њ–≤–љ–∞ –Я–Х–Ґ–†–Ю–Т–Р вАУ –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Є–є —А–Њ–ґ–Њ–Ї. –°–µ–і—М–Љ–∞—П —Б–Є–Љ—Д–Њ–љ–Є—П –≤ –і–µ–љ—М –њ—А–µ–Љ—М–µ—А—Л 1942 –≥–Њ–і–∞ —В—А–∞–љ—Б–ї–Є—А–Њ–≤–∞–ї–∞—Б—М –љ–∞ –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Є—Е –≤–Њ–ї–љ–∞—Е –љ–∞ –Х–≤—А–Њ–њ—Г. –≠—В—Г –њ–µ—А–µ–і–∞—З—Г, –Ї–∞–Ї –Є –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –і—А—Г–≥–Є–µ, –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞–ї –≤ —Н—Д–Є—А –Ј–≤—Г–Ї–Њ—А–µ–ґ–Є—Б—Б–µ—А —А–∞–і–Є–Њ–Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞ –С–Х–Ы–ѓ–Х–Т –Э–Є–ї –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З. –Ь—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ—Л–Љ —А–µ–і–∞–Ї—В–Њ—А–Њ–Љ –Њ—А–Ї–µ—Б—В—А–∞ –±—Л–ї–∞ –§–∞–љ–љ–Є –Э–∞—Г–Љ–Њ–≤–љ–∞ –У–Ю–£–•–С–Х–†–У. 18 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 1982 –≥–Њ–і–∞ —А–∞–±–Њ—В–∞–ї–Є —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–µ –Є –ї–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–µ —В–µ–ї–µ–≤–Є–і–µ–љ–Є–µ, —Б–Њ —Б–≤–µ—В–Њ–Љ –Є –Ј–≤—Г–Ї–Њ–Љ –≤—Б–µ –±—Л–ї–Њ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ. –°–љ—П—В —Д–Є–ї—М–Љ ¬Ђ–Ь—Г–Ј—Л –љ–µ –Љ–Њ–ї—З–∞–ї–Є¬ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ—А–Њ—И–µ–ї –њ–Њ —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–Љ—Г —В–µ–ї–µ–≤–Є–і–µ–љ–Є—О –љ–µ –Њ–і–Є–љ —А–∞–Ј. –Т —В–Є—В—А–∞—Е —Б—В–Њ—П–ї–Њ: –љ–∞–і —Д–Є–ї—М–Љ–Њ–Љ —А–∞–±–Њ—В–∞–ї–Є –Р–Є–і–∞ –Ш–ї—М–Є–љ–∞, –Ш–≤–∞–љ –Ъ—А–∞—Б–Ї–Њ. –Ш —Н—В–Њ –љ–µ–њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ –Є —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –љ–µ—Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ —В—А—Г–і –±—Л–ї –Њ—З–µ–љ—М –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –Љ—Г–Ј–µ—П –Є –µ–≥–Њ –∞–Ї—В–Є–≤–Є—Б—В–Њ–≤ вАУ –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –Є–Љ –ґ–Є–≤–∞ –њ–∞–Љ—П—В—М –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ, –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—П –°–µ–і—М–Љ–Њ–є —Б–Є–Љ—Д–Њ–љ–Є–Є –Є –≤—Б–µ—Е —В–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–Є—Е —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –±–ї–Њ–Ї–∞–і–љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ—А–Њ–і–∞. –Ь—Г–Ј–µ–є —А–∞–±–Њ—В–∞–µ—В –±–Њ–ї–µ–µ –њ—П—В–Є–і–µ—Б—П—В–Є –ї–µ—В, –љ–∞—А–Њ–і–љ–∞—П —В—А–Њ–њ–∞ –Ї –љ–µ–Љ—Г –љ–µ –Ј–∞—А–∞—Б—В–∞–µ—В, –ґ–Є–≤ —В—А—Г–і –Х–≤–≥–µ–љ–Є—П –Ы–Є–љ–і–∞ –Є –≤—Б–µ—Е –њ–µ—А–≤—Л—Е —Б–ї–µ–і–Њ–њ—Л—В–Њ–≤. –Э–Є–Ј–Ї–Є–є –Є–Љ –≤—Б–µ–Љ –њ–Њ–Ї–ї–Њ–љ. –£—Б–њ–µ—Е–Њ–≤ –Є—Е –њ—А–Є–µ–Љ–љ–Є–Ї–∞–Љ.  –Я–µ—А–≤–Њ–µ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ –°–µ–і—М–Љ–Њ–є —Б–Є–Љ—Д–Њ–љ–Є–Є –Ф.–Ф.–®–Њ—Б—В–∞–Ї–Њ–≤–Є—З–∞ –≤ –±–ї–Њ–Ї–∞–і–љ–Њ–Љ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–µ 09.08.1942 –≥–Њ–і–∞. –Ф–Є—А–Є–ґ—С—А –Ъ.–Ш.–≠–ї–Є–∞—Б–±–µ—А–≥. –Т–µ—З–µ—А, –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ—Л–є —Б–Њ—А–Њ–Ї–∞–ї–µ—В–Є—О —А–∞–±–Њ—В—Л –Ґ–µ–∞—В—А–∞ –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–µ–і–Є–Є –≤ –±–ї–Њ–Ї–∞–і–љ–Њ–Љ –≥–Њ—А–Њ–і–µ, –≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї–Є —Б–∞–Љ–Є. –І–µ—А–µ–Ј –≥–µ—А–Њ–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –Ї–Њ–Љ–µ–і–Є—О ¬Ђ–†–∞—Б–Ї–Є–љ—Г–ї–Њ—Б—М –Љ–Њ—А–µ —И–Є—А–Њ–Ї–Њ¬ї –Љ—Л —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є –Њ–± –∞–≤—В–Њ—А–∞—Е –Є –≥–µ—А–Њ—П—Е —Н—В–Њ–≥–Њ —Б–њ–µ–Ї—В–∞–Ї–ї—П, –Њ –ґ–Є–Ј–љ–Є –Є —А–∞–±–Њ—В–µ –∞—А—В–Є—Б—В–Њ–≤ —В–µ–∞—В—А–∞, –µ–≥–Њ –Ј—А–Є—В–µ–ї—П—Е. 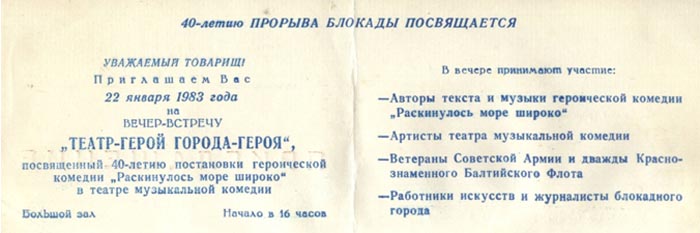  –Т –њ–µ—А–≤—Л–µ –Љ–µ—Б—П—Ж—Л –≤–Њ–є–љ—Л –ї–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Є–µ —В–µ–∞—В—А—Л –±—Л–ї–Є —Н–≤–∞–Ї—Г–Є—А–Њ–≤–∞–љ—Л, –∞ —В–µ–∞—В—А—Г –Њ–њ–µ—А–µ—В—В—Л вАУ –ї–µ–≥–Ї–Њ–Љ—Г –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–Љ—Г, –≤–µ—Б–µ–ї–Њ–Љ—Г –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤—Г –і–Њ–≤–µ–ї–Њ—Б—М –њ—А–Њ–є—В–Є —Б –ї–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Ж–∞–Љ–Є –≤—Б–µ 900 –і–љ–µ–є –±–ї–Њ–Ї–∞–і—Л. –Я–µ—А–µ–ґ–Є–≤ —Б –љ–Є–Љ–Є –≤—Б–µ —Г–ґ–∞—Б—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤—Л–њ–∞–ї–Є –љ–∞ –Є—Е –≥–Њ—А–Њ–і, –Ґ–µ–∞—В—А-–±–Њ–µ—Ж –і–Њ—Б—В–Њ–є–љ–Њ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–Є–ї –±–µ—Б–њ—А–µ—Ж–µ–і–µ–љ—В–љ—Г—О –Љ–Є—Б—Б–Є—О –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞.919 —Б–њ–µ–Ї—В–∞–Ї–ї–µ–є —Н—В–Њ–≥–Њ —В–µ–∞—В—А–∞ –≤ –≥–Њ–і—Л –≤–Њ–є–љ—Л –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї–Є –Њ–і–Є–љ –Љ–Є–ї–ї–Є–Њ–љ 300 —В—Л—Б—П—З –Ј—А–Є—В–µ–ї–µ–є.16 –њ—А–µ–Љ—М–µ—А –Є –≤–Њ–Ј–Њ–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Ї–ї–∞—Б—Б–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б–њ–µ–Ї—В–∞–Ї–ї–µ–є –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–∞ –Є –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї—Г –љ–Њ–≤—Л—Е —Б–њ–µ–Ї—В–∞–Ї–ї–µ–є –љ–∞ –∞–Ї—В—Г–∞–ї—М–љ—Л–µ —В–µ–Љ—Л . –Э–∞ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–µ —Г—В—А–Њ вАУ –Њ–±—К—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ –≤–Њ–є–љ—Л вАУ –≤–µ—Б—М –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤ —В–µ–∞—В—А–∞ –і–∞–ї –Ї–ї—П—В–≤—Г —Б–і–µ–ї–∞—В—М –≤—Б—С –і–ї—П —А–∞–Ј–≥—А–Њ–Љ–∞ –≤—А–∞–≥–∞: —Б–Њ–Ј–і–∞–≤–∞–ї–Є —Б–њ–µ–Ї—В–∞–Ї–ї–Є, –њ–Њ—Б–ї–µ —А–µ–њ–µ—В–Є—Ж–Є–є —Г—Е–Њ–і–Є–ї–Є –≤ –Љ–Њ–±–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–µ –њ—Г–љ–Ї—В—Л, —А–∞–±–Њ—В–∞–ї–Є –≤ –≥–Њ—Б–њ–Є—В–∞–ї—П—Е, —Г—З–Є–ї–Є—Б—М —Б—В—А–µ–ї—П—В—М, —В—Г—И–Є–ї–Є –Ј–∞–ґ–Є–≥–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –±–Њ–Љ–±—Л, —А–∞–Ј–±–Є—А–∞–ї–Є –Ј–∞–≤–∞–ї—Л, –≤—Л–љ–Њ—Б–Є–ї–Є –њ–Њ—Б—В—А–∞–і–∞–≤—И–Є—Е –Њ—В –±–Њ–Љ–±–µ–ґ–µ–Ї. –Ф–∞–≤–∞–ї–Є –њ–Њ –і–≤–∞ —Б–њ–µ–Ї—В–∞–Ї–ї—П –≤ –і–µ–љ—М, –≤–Њ–Ј–і—Г—И–љ—Л–µ —В—А–µ–≤–Њ–≥–Є –њ—А–µ—А—Л–≤–∞–ї–Є –і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ. –Ъ –љ–µ—Б—З–∞—Б—В—М—О –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–ї–Њ—Б—М, –Ј–і–∞–љ–Є–µ –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–µ–і–Є–Є –љ–∞ —Г–ї–Є—Ж–µ –†–∞–Ї–Њ–≤–∞ –љ–µ –Є–Љ–µ–ї–Њ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –±–Њ–Љ–±–Њ—Г–±–µ–ґ–Є—Й–∞, –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –њ—А–µ—А—Л–≤–∞—В—М —Б–њ–µ–Ї—В–∞–Ї–ї—М –Є –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї—П—В—М –Ј—А–Є—В–µ–ї–µ–є –≤ —Г–±–µ–ґ–Є—Й–µ –њ–Њ —Б–Њ—Б–µ–і—Б—В–≤—Г –≤ –§–Є–ї–∞—А–Љ–Њ–љ–Є—О. –Р –њ—П—В–Њ–≥–Њ –љ–Њ—П–±—А—П –Њ—В —Г–њ–∞–≤—И–µ–є —Д—Г–≥–∞—Б–љ–Њ–є –±–Њ–Љ–±—Л –Ј–і–∞–љ–Є–µ —Б–Є–ї—М–љ–Њ –њ–Њ—Б—В—А–∞–і–∞–ї–Њ. 
30.03.201300:5130.03.2013 00:51:15
0
30.03.201300:4230.03.2013 00:42:22
–Ф–∞, –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї—Б—П –Є 1965 –≥–Њ–і. –Х—Й–µ —Б–ї—Г—З–∞–є, –љ–Њ —Г–ґ–µ –љ–µ –∞–≤–∞—А–Є–є–љ—Л–є. –Ь–µ–ґ—Д–ї–Њ—В—Б–Ї–Є–µ —Б–Њ—Б—В—П–Ј–∞–љ–Є—П –љ–∞ –њ—А–Є–Ј –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ –Т–Ь–§ –њ–Њ —В–Њ—А–њ–µ–і–љ–Њ–є —Б—В—А–µ–ї—М–±–µ. –Ь—Л, –Я–Ы ¬Ђ–°-150¬ї, –љ–∞ —З–µ—В–≤–µ—А—В–Њ–є, –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–є –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є –њ–Њ–Є—Б–Ї–∞ –≤ –њ–Њ–ї–Њ—Б–µ —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Њ—В—А—П–і–∞ –±–Њ–µ–≤—Л—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є (–Ю–С–Ъ). –Ю–С–Ъ –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ: –Ї—А–µ–є—Б–µ—А –њ—А. 68 –±–Є—Б –≤ –±–ї–Є–ґ–љ–µ–Љ –Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є–Є —В—А–µ—Е –≠–Ь –њ—А. 57, –≤ –њ–µ—А–µ–і–Њ–≤–Њ–Љ –Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є–Є —В—А–µ—Е –Я–Ы–Ъ –њ—А. 159, –≤ –≤–Њ–Ј–і—Г—Е–µ –і–≤–∞ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–ї–Њ–і–Њ—З–љ—Л—Е —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В–∞ –С–µ-6. –Я–Њ —А–∞–і–Є–Њ–њ–µ—А–µ—Е–≤–∞—В—Г –†–Ф–Ю –Њ—В –њ–µ—А–≤—Л—Е –і–≤—Г—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї —П—Б–љ–Њ, —З—В–Њ –Є—Е –∞—В–∞–Ї–Є –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є—Б—М –љ–µ—Г—Б–њ–µ—И–љ—Л–Љ–Є, –≠–Ф–¶ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є–≤—Л. –Ф–Њ–љ–µ—Б–µ–љ–Є–µ –Њ—В —В—А–µ—В—М–µ–є –ї–Њ–і–Ї–Є –њ–µ—А–µ—Е–≤–∞—В–Є—В—М –љ–µ —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М, —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В—Л –Ј–∞–≥–љ–∞–ї–Є –љ–∞—Б –љ–∞ –≥–ї—Г–±–Є–љ—Г. –Р—В–∞–Ї–∞ —З–Є—Б—В–Њ –∞–Ї—Г—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П. –°–µ–љ—В—П–±—А—М. –У–Є–і—А–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞ –і—А—П–љ—М: —Б–ї–Њ–є —Б–Ї–∞—З–Ї–∞ —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В–Є –Ј–≤—Г–Ї–∞ –љ–∞ –≥–ї—Г–±–Є–љ–µ 25-30 –Љ, –≤ –њ—А–Є–њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В–љ–Њ–Љ —Б–ї–Њ–µ –Є–Ј–Њ—В–µ—А–Љ–Є—П вАФ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П —А–µ—Д—А–∞–Ї—Ж–Є—П –Ј–≤—Г–Ї–Њ–≤—Л—Е –ї—Г—З–µ–є, —И—Г–Љ—Л –≤–Є–љ—В–Њ–≤ –љ–∞–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є –њ—А–Њ—Б–ї—Г—И–Є–≤–∞—О—В—Б—П —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –љ–∞ —Б—А–∞–≤–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –і–Є—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є. –Э–Њ –љ–∞ —Н—В–Њ–є –≥–ї—Г–±–Є–љ–µ –љ–∞ –Ї—А–µ–є—Б–µ—А –љ–µ –њ–Њ–є–і–µ—И—М вАФ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ–Њ–њ–∞—Б—В—М –њ–Њ–і —В–∞—А–∞–љ–љ—Л–є —Г–і–∞—А, –і–∞ –Є —Б –≤–Њ–Ј–і—Г—Е–∞ —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В—Л –Љ–Њ–≥—Г—В –Ј–∞–Љ–µ—В–Є—В—М, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г –Ї–∞–Ї –њ—А–Њ–Ј—А–∞—З–љ–Њ—Б—В—М –≤–Њ–і—Л –≤ –ѓ–њ–Њ–љ—Б–Ї–Њ–Љ –Љ–Њ—А–µ 25вАФ30 –Љ –Є –±–µ–ї–Њ-–Ї—А–∞—Б–љ—Л–µ –∞–≤–∞—А–Є–є–љ–Њ-—Б–Є–≥–љ–∞–ї—М–љ—Л–µ –±—Г–Є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є –≤–Є–і–љ—Л —Е–Њ—А–Њ—И–Њ. –Э–∞—А—Г—И–Є—В—Б—П —Б–Ї—А—Л—В–љ–Њ—Б—В—М вАФ –љ–µ–Ј–∞—З–µ—В. –Я–Њ–і —Б–ї–Њ–µ–Љ –ґ–µ —Б–Ї–∞—З–Ї–∞ —А–µ—Д—А–∞–Ї—Ж–Є—П –Њ—В—А–Є—Ж–∞—В–µ–ї—М–љ–∞—П –Є –і–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М —И—Г–Љ–Њ–њ–µ–ї–µ–љ–≥–Њ–≤–∞–љ–Є—П –љ–∞–і–≤–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–∞ –≥–µ–Њ–Љ–µ—В—А–Є–µ–є —Е–Њ–і–∞ –Ј–≤—Г–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –ї—Г—З–∞. –≠–ї–µ–Љ–µ–љ—В—Л –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є –њ–µ—А–µ–і–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є—П –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є–ї–Є –≤—Б–µ –ґ–µ –љ–∞ –≥–ї—Г–±–Є–љ–µ —Е–Њ–і–∞ 25 –Љ. –Ш–і—Г—В –Ј–Є–≥–Ј–∞–≥–Њ–Љ 30 –≥—А–∞–і—Г—Б–Њ–≤ –≤ —Б—В—А–Њ—О —Д—А–Њ–љ—В–∞, —Е–Њ–і 18 —Г–Ј. –Т –Ј–≤–Њ–љ–µ –≥–Є–і—А–Њ–ї–Њ–Ї–∞—В–Њ—А–Њ–≤ –Є –≤ —И—Г–Љ–µ –Є—Е –≤–Є–љ—В–Њ–≤ –љ–Є —Н—Б–Љ–Є–љ—Ж–µ–≤, –љ–Є –Ї—А–µ–є—Б–µ—А–∞ –љ–µ —Б–ї—Л—И–љ–Њ. –Я–µ—А–µ–і–Њ–≤–Њ–µ –Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ –њ—А–Њ—А—Л–≤–∞–µ–Љ –њ–Њ–і —Б–ї–Њ–µ–Љ —Б–Ї–∞—З–Ї–∞ –Љ–µ–ґ–і—Г –і–≤—Г–Љ—П –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П–Љ–Є. –†–∞–Ј–Њ—И–ї–Є—Б—М, –∞ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–є —Ж–µ–ї–Є –љ–µ —Б–ї—Л—И–љ–Њ, –Ј–Њ–љ–∞ —В–µ–љ–Є. –£—Е–Њ–і–Є–Љ –≥–ї—Г–±–ґ–µ. –Х—Б—В—М —И—Г–Љ—Л –≤–Є–љ—В–Њ–≤ —В—П–ґ–µ–ї—Л—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є! –Х—Б—В—М –њ–µ–ї–µ–љ–≥ –љ–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є –Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є—П!.. –Х—Б—В—М, –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –њ–µ–ї–µ–љ–≥ –Є –љ–∞ –Ї—А–µ–є—Б–µ—А! –°–Ї–Њ—А–Њ—Б—В—М –µ–≥–Њ —Е–Њ–і–∞ –њ–Њ –Њ–±–Њ—А–Њ—В–∞–Љ –≤–Є–љ—В–Њ–≤ 26вАФ28 —Г–Ј! –Я–µ–ї–µ–љ–≥ –±—Л—Б—В—А–Њ –Љ–µ–љ—П–µ—В—Б—П –≤–њ—А–∞–≤–Њ. –Э–∞ —В–Њ—А–њ–µ–і–љ–Њ–Љ –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В–µ —Б—В—А–µ–ї—М–±—Л —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ –Њ–ґ–Є–і–∞–µ–Љ—Л–є –Ї—Г—А—Б –њ–Њ –і–∞–љ–љ—Л–Љ –њ–µ—А–µ–і–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є—П. –Р–≤—В–Њ–Љ–∞—В–љ—Л–є –Є –љ–∞–±–ї—О–і–∞–µ–Љ—Л–є –∞–Ї—Г—Б—В–Є–Ї–∞–Љ–Є –њ–µ–ї–µ–љ–≥ –љ–µ —Б–Њ–≤–њ–∞–і–∞—О—В –љ–∞ –Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ –Ј–∞–Љ–µ—А–µ. –Т–≤–Њ–ґ—Г –Ї–Њ—А—А–µ–Ї—В—Г—А—Л –Ї—Г—А—Б–∞, –і–Є—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є.., –љ–Њ –і–Њ–±–Є—В—М—Б—П —Б–Њ–≤–њ–∞–і–µ–љ–Є—П –њ–µ–ї–µ–љ–≥–Њ–≤ –љ–µ —Г—Б–њ–µ–≤–∞—О. –Я–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –≤–Њ—В-–≤–Њ—В –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л—В—М –њ–Њ–≤–Њ—А–Њ—В —Ж–µ–ї–Є. –Я–µ–ї–µ–љ–≥ –≤—Б—В–∞–ї! –†–µ–Ј–Ї–Њ –њ–Њ—И–µ–ї –≤–ї–µ–≤–Њ вАФ –њ–Њ–≤–Њ—А–Њ—В —Ж–µ–ї–Є! –Ъ–Њ—А—А–µ–Ї—В—Г—А–∞ –Ї—Г—А—Б–∞ –љ–∞ –≤–µ—А–Њ—П—В–љ—Л–є —Г–≥–Њ–ї –њ–Њ–≤–Њ—А–Њ—В–∞ –љ–∞ –Ј–Є–≥–Ј–∞–≥–µ 45¬∞, –љ–Њ... –њ–µ–ї–µ–љ–≥ –љ–∞–±–ї—О–і–µ–љ–љ—Л–є –Њ–њ—П—В—М –Њ–њ–µ—А–µ–ґ–∞–µ—В –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В–љ—Л–є! –Т–≤–Њ–ґ—Г –Ї–Њ—А—А–µ–Ї—В—Г—А—Г –Ї—Г—А—Б–∞ —Ж–µ–ї–Є, –і–Є—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є, –∞ –Њ–љ (–њ–µ–ї–µ–љ–≥) –Њ–њ—П—В—М –±–µ–ґ–Є—В –≤–њ–µ—А–µ–і–Є –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В–љ–Њ–≥–Њ! –£–≥–Њ–ї –≥–Є—А–Њ—Б–Ї–Њ–њ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–±–Њ—А–∞ —В–Њ—А–њ–µ–і —В–Њ–ґ–µ –±—Л—Б—В—А–Њ —Г–≤–µ–ї–Є—З–Є–≤–∞–µ—В—Б—П.  вАФ –Ы–µ–≤–Њ –љ–∞ –±–Њ—А—В! –Ю–±–∞ –Љ–Њ—В–Њ—А–∞ –≤–њ–µ—А–µ–і –њ–Њ–ї–љ—Л–є! –Ы–Њ–і–Ї–∞ –і–∞–ґ–µ –Ј–∞–і—А–Њ–ґ–∞–ї–∞... –Р–њ–њ–∞—А–∞—В—Л —Г–ґ–µ ¬Ђ—В–Њ–≤—Б—М¬ї. –Э–∞–і–Њ —Б—В—А–µ–ї—П—В—М. –Ш–љ–∞—З–µ —Г–є–і–µ—В! –Э–∞ –Љ–Є–≥ –Ї—А–∞–µ–Љ –≥–ї–∞–Ј–∞ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—О —А–∞—Б—И–Є—А–µ–љ–љ—Л–µ –Њ—И–µ–ї–Њ–Љ–ї–µ–љ–љ—Л–µ –≥–ї–∞–Ј–∞ –ї—О–і–µ–є –≤ —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –њ–Њ—Б—В—Г, –љ–∞—Б–Љ–µ—И–ї–Є–≤—Л–µ –≥–ї–∞–Ј–∞ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї—П –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ —И—В–∞–±–∞ –Т–Ь–§. вАФ –Ґ–∞–Ї –і–µ—А–ґ–∞—В—М! –Ю–±–∞ –Љ–∞–ї—Л–є! –Ъ–Њ–љ—В—А–Њ–ї—М–љ—Л–є –Ј–∞–Љ–µ—А! –Ф–Њ–Ї–ї–∞–і —Б—В–∞—А–њ–Њ–Љ–∞: ¬Ђ–Р–Ї—Г—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –њ–Њ–њ—А–∞–≤–Ї–∞ 3 –≥—А–∞–і—Г—Б–∞¬ї. –Т –≥—А—Г–і–Є –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Л–є —Е–Њ–ї–Њ–і–Њ–Ї, ¬Ђ–њ—А—Г–ґ–Є–љ–∞¬ї, –∞ –≤ –≥–Њ–ї–Њ–≤–µ –њ—А–Њ–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П ¬Ђ–£–є–і–µ—В, —З–µ—А—В! –Э–µ—Г–ґ–µ–ї–Є, –Є —Г –Љ–µ–љ—П –љ–µ—Г–і–∞—З–∞?¬ї. –Ф–Њ–Ї–ї–∞–і —В–Њ—А–њ–µ–і–љ–Њ–≥–Њ —Н–ї–µ–Ї—В—А–Є–Ї–∞: ¬Ђ–Ъ–Њ–љ—В—А–Њ–ї—М–љ—Л–є –Ј–∞–Љ–µ—А –≤–≤–µ–і–µ–љ. –Р–≤—В–Њ–Љ–∞—В–љ—Л–є –Њ—В—Б—В–∞–ї –љ–∞ 7 –≥—А–∞–і—Г—Б–Њ–≤!¬ї, –∞ —П –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О: вАФ –Р–Ї—Г—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –њ–Њ–њ—А–∞–≤–Ї—Г 21 –≥—А–∞–і—Г—Б –≤–ї–µ–≤–Њ –≤–≤–µ—Б—В–Є! вАФ –Р–≤—В–Њ–Љ–∞—В –Њ—В—А–∞–±–Њ—В–∞–ї! –Ш–Ј 1-–≥–Њ –Њ—В—Б–µ–Ї–∞ –≥–Њ–ї–Њ—Б –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –С–І-1–Я: ¬Ђ–Ю–Љ–µ–≥–∞ 33 –≤–ї–µ–≤–Њ!¬ї. вАФ –Р–њ–њ–∞—А–∞—В—Л вАФ –њ–ї–Є! вАФ –Ґ–Њ—А–њ–µ–і—Л –≤—Л—И–ї–Є! –Ф–≤–µ —В–Њ—А–њ–µ–і—Л —Б —Г–≥–ї–Њ–Љ —А–∞—Б—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є—П –Ј–∞–ї–њ–∞ –Є–Ј —З–µ—В—Л—А–µ—Е —В–Њ—А–њ–µ–і –њ–Њ–љ–µ—Б–ї–Є—Б—М –Ї —Ж–µ–ї–Є. –Т —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –њ–Њ—Б—В—Г –≤–Њ—Ж–∞—А–Є–ї–∞—Б—М —В–Є—И–Є–љ–∞. –Ю—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—О—Б—М. –°—В–∞—А–њ–Њ–Љ —Б–Љ–Њ—В—А–Є—В –љ–∞ –Љ–µ–љ—П —Б –Є–Ј—Г–Љ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ. –Ч–∞–Љ–µ—З–∞—О –≤—А–∞—З–∞, –≤ –µ–≥–Њ –≥–ї–∞–Ј–∞—Е –±–µ—Б–њ–Њ–Ї–Њ–є—Б—В–≤–Њ. –Т—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О... –≤ —Е–Њ–і–µ –∞—В–∞–Ї–Є –Њ–љ —Б—Г–љ—Г–ї –Љ–љ–µ –≤ —А—Г–Ї—Г –њ–Њ–ї—Б—В–∞–Ї–∞–љ–∞ –њ—А–Њ–Ј—А–∞—З–љ–Њ–є –ґ–Є–і–Ї–Њ—Б—В–Є (—П –µ–µ –≤—Л–њ–Є–ї, –љ–µ –Ј–∞–Љ–µ—В–Є–≤ –≤–Ї—Г—Б–∞). –°–њ—А–∞—И–Є–≤–∞—О: —З—В–Њ –±—Л–ї–Њ –≤ —Б—В–∞–Ї–∞–љ–µ? –У–ї—О–Ї–Њ–Ј–∞! –†–∞–Ј–≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞—О, –∞ —Б–∞–Љ –њ–∞—А–∞–ї–ї–µ–ї—М–љ–Њ –≤ —Г–Љ–µ –њ–µ—А–µ—Б—З–Є—В—Л–≤–∞—О: –Т–Ш–Я 7 –≥—А–∞–і—Г—Б–Њ–≤ –≤ –Љ–Є–љ—Г—В—Г, –Ј–∞ 3 –Љ–Є–љ—Г—В—Л —Е–Њ–і–∞ —В–Њ—А–њ–µ–івАФ 21 –≥—А–∞–і—Г—Б, –∞ –∞–Ї—Г—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –њ–Њ–њ—А–∞–≤–Ї—Г 3 –≥—А–∞–і—Г—Б–∞ –Ј–∞–±—Л–ї –њ—А–Є–±–∞–≤–Є—В—М! –Ф–∞ –ї–∞–і–љ–Њ! –ѓ –ґ–µ –љ–µ —Б—З–Є—В–∞–ї. 21 –≥—А–∞–і—Г—Б вАФ —Н—В–Њ –ґ–µ –њ–Њ –љ–∞–Є—В–Є—О! –Ґ–µ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ —З—В–Њ –љ–µ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–∞ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П –і–Є—Б—В–∞–љ—Ж–Є—П –Ј–∞–ї–њ–∞. –Ґ–µ–Љ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–µ–Љ –њ–Њ—Б–ї–µ–Ј–∞–ї–њ–Њ–≤–Њ–µ –Љ–∞–љ–µ–≤—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Њ, —И—Г–Љ—Л —В–Њ—А–њ–µ–і –і–∞–≤–љ–Њ —Б–Њ—Б—В–≤–Њ—А–Є–ї–Є—Б—М —Б —Ж–µ–ї—М—О, –≥–Њ—А–Є–Ј–Њ–љ—В —З–Є—Б—В. –Я–Њ—А–∞ –≤—Б–њ–ї—Л–≤–∞—В—М.  –Т—Б–њ–ї—Л–ї–Є. –Т—Л—Б–Ї–∞–Ї–Є–≤–∞–µ–Љ –љ–∞ –Љ–Њ—Б—В–Є–Ї. –Я–Њ –Ї–Њ—А–Љ–µ –≤ –і–Є—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –њ–Њ—А—П–і–Ї–∞ 10вАФ15 –Ї–± –≤ –і—А–µ–є—Д–µ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є –Ю–С–Ъ, –≤ –≤–Њ–Ј–і—Г—Е–µ –Ї—А—Г–ґ–Є—В . –° –Ї—А–µ–є—Б–µ—А–∞ —Б–µ–Љ–∞—Д–Њ—А: ¬Ђ–°—А–Њ—З–љ–Њ –њ–Њ–≥—А—Г–Ј–Є—В—М—Б—П –Ї—Г—А—Б–Њ–Љ... –≥—А–∞–і—Г—Б–Њ–≤ –љ–∞ –≥–ї—Г–±–Є–љ—Г 30 –Љ–µ—В—А–Њ–≤, –њ—А–Њ–є—В–Є 10 –Љ–Є–љ—Г—В —Б—А–µ–і–љ–Є–Љ —Е–Њ–і–Њ–Љ, –≤—Б–њ–ї—Л—В—М –Є –њ–Њ–і–Њ–є—В–Є –Ї–Њ –Љ–љ–µ –љ–∞ –≥–Њ–ї–Њ—Б–Њ–≤—Г—О —Б–≤—П–Ј—М. –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є–є –Ґ–Ю–§¬ї. –Т—Л–њ–Њ–ї–љ–Є–≤ –Љ–∞–љ–µ–≤—А, –њ–Њ–і–Њ—И–ї–Є –Ї –Ї—А–µ–є—Б–µ—А—Г –љ–∞ –≥–Њ–ї–Њ—Б–Њ–≤—Г—О —Б–≤—П–Ј—М. –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є–є —Д–ї–Њ—В–Њ–Љ –њ–Њ –≥—А–Њ–Љ–Ї–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А—П—Й–µ–є –њ–∞–ї—Г–±–љ–Њ–є —В—А–∞–љ—Б–ї—П—Ж–Є–Є –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–Є—В –Ј–∞ —Г—Б–њ–µ—И–љ—Г—О –∞—В–∞–Ї—Г вАФ –Њ–±–µ —В–Њ—А–њ–µ–і—Л –њ—А–Њ—И–ї–Є –њ–Њ–і –Ї—А–µ–є—Б–µ—А–Њ–Љ, –њ–Њ–і –њ–µ—А–≤–Њ–є –Њ—А—Г–і–Є–є–љ–Њ–є –±–∞—И–љ–µ–є –Є –њ–Њ–і –≤—В–Њ—А–Њ–є —В—А—Г–±–Њ–є. –Я–Њ–≥—А—Г–Ј–Є—В—М—Б—П –Ј–∞—Б—В–∞–≤–Є–ї –і–ї—П —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В–∞, –µ–Љ—Г –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –Њ–љ –ї–Њ–і–Ї—Г –≤ —Е–Њ–і–µ –∞—В–∞–Ї–Є –Ј–∞–Љ–µ—В–Є–ї, –љ–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ –њ—А–Њ–≤–µ—А–Ї–Є –Њ—В —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є—П –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П. –Э–µ—Г–ґ–µ–ї–Є –Є –љ–∞ —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В–µ –±—Л–ї –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї–µ—А –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ —И—В–∞–±–∞? –Я—А–Є—И–ї–Є –≤ –±–∞–Ј—Г. –°—А–∞–Ј—Г —А–∞–Ј–±–Њ—А –∞—В–∞–Ї –њ–Њ —З–µ—А–љ–Њ–≤—Л–Љ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞–Љ, –њ–Њ —И—В—Г—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –њ–ї–∞–љ—И–µ—В—Г –Є –Ј–∞–њ–Є—Б—П–Љ –≥—А—Г–њ–њ –љ–∞–±–ї—О–і–µ–љ–Є—П. –°–њ–µ—Ж—Л —В–Њ—А–њ–µ–і–љ–Њ–є –љ–∞—Г–Ї–Є –≤—Б—В–∞–ї–Є –љ–∞ –і—Л–±—Л вАФ –Љ–Њ–ї, –љ–µ –њ–Њ –њ—А–∞–≤–Є–ї–∞–Љ! –Р –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї—М –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–Є –≥–ї–∞–≤–Ї–Њ–Љ–∞ –њ–Њ–і—Л—В–Њ–ґ–Є–ї вАФ –њ–Њ–±–µ–і–Є—В–µ–ї–µ–є –љ–µ —Б—Г–і—П—В! –Я—А–Є–Ј –≥–ї–∞–≤–Ї–Њ–Љ–∞ –љ–∞—И! –Р —П –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї ¬Ђ—Е–Њ–ї–Њ–і–Њ–Ї –Є –њ—А—Г–ґ–Є–љ—Г –≤ –≥—А—Г–і–Є¬ї... –Ґ–µ–Љ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–µ–Љ —А–µ–Љ–Њ–љ—В –Ј–∞—Е–ї–Њ–њ–Њ–Ї –≤–Њ–Ј–і—Г—Е–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–і–∞ –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–µ–љ, –Є –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П–Љ –Ї–Њ–љ–µ—Ж. –Я—А–Њ–≤–µ—А–Є–ї–Є –њ—А–Њ—З–љ—Л–є –Ї–Њ—А–њ—Г—Б –љ–∞ –≥–µ—А–Љ–µ—В–Є—З–љ–Њ—Б—В—М, –њ–Њ–≥—А—Г–Ј–Є–ї–Є—Б—М –Є –њ–Њ—И–ї–Є –і–∞–ї—М—И–µ. –Т –Њ–±–µ–і, –Ї–∞–Ї –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Њ, –њ–Њ–і–љ—П–ї–Є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Г—О —З–∞—А–Ї—Г ¬Ђ–Ч–∞ —З–Є—Б–ї–Њ –≤—Б–њ–ї—Л—В–Є–є, —А–∞–≤–љ–Њ–µ —З–Є—Б–ї—Г –њ–Њ–≥—А—Г–ґ–µ–љ–Є–є, –Є –љ–∞ –Њ–і–љ–Њ –±–Њ–ї—М—И–µ!¬ї. –Я—А–Њ —Б–µ–±—П —А–µ—И–Є–ї вАФ ¬Ђ–≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ—О—О –њ–ї–∞–љ–Ї—Г¬ї –±–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ–і–љ—П—В—М –љ–∞ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ—Г–љ–Ї—В–Њ–≤ –≤—Л—И–µ. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –Ї–Њ–≥–і–∞ –ґ–µ —Н—В–Њ –≤—Б–µ-—В–∞–Ї–Є –љ–∞—З–∞–ї–Њ—Б—М? –Ъ–Њ–≥–і–∞ –≤ –њ–µ—А–≤—Л–є —А–∞–Ј –±—Л–ї–Њ —Н—В–Њ –њ—А–µ–і—З—Г–≤—Б—В–≤–Є–µ –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є, —Н–Ї—Б—В—А–µ–Љ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В–∞? –Ъ–Њ–≥–і–∞ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ—П—П ¬Ђ–њ—А—Г–ґ–Є–љ–∞¬ї –њ–Њ–і—В–Њ–ї–Ї–љ—Г–ї–∞ –≤ –њ–µ—А–≤—Л–є —А–∞–Ј –Ї –≤–µ—А–љ–Њ–Љ—Г –Є —Б–≤–Њ–µ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г —А–µ—И–µ–љ–Є—О? –Т—Б–µ–≥–і–∞ –±—Л –Љ–љ–µ —З—Г—В–Ї–Њ –њ—А–Є—Б–ї—Г—И–Є–≤–∞—В—М—Б—П –Ї —Н—В–Њ–Љ—Г –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ–Љ—Г –≥–ї–∞—Б—Г! –Ф–∞ —В–∞–Ї —П, –њ–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г, –≤—Б–µ–≥–і–∞ –Є –і–µ–ї–∞–ї. –Р —Н–Ї—Б—В—А–µ–Љ–∞–ї—М–љ—Л—Е —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є–є –±—Л–ї–Њ –Є –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–є —Б–ї—Г–ґ–±–µ –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–і–Є–љ —А–∞–Ј —П –Ј–∞–Љ–µ—И–Ї–∞–ї—Б—П... –Є –њ–Њ–≤–Њ—А–Њ—В —Б—Г–і—М–±—Л. 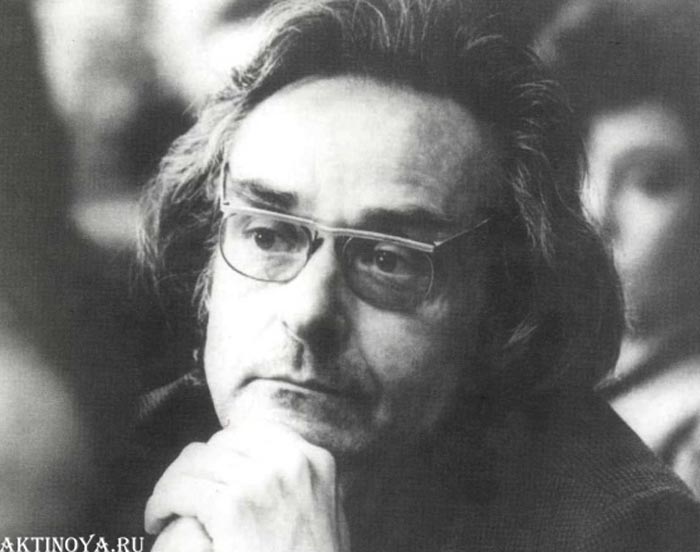 –Ш–љ—В—Г–Є—Ж–Є—О –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В —И–µ—Б—В—Л–Љ —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–Љ, —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є—В–µ–ї–Є вАУ –∞–љ–≥–µ–ї–Њ–Љ-—Е—А–∞–љ–Є—В–µ–ї–µ–Љ. –Т–µ—А–љ—Л–є, –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Є–є –Њ—В–≤–µ—В –Њ –µ–µ –њ—А–Є—А–Њ–і–µ –Є –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є –і–∞–ї –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д . –Ю–њ—П—В—М –Є—О–ї—М. –У–Њ–і –і—А—Г–≥–Њ–є, 1978-–є. –Ъ–∞–Љ—З–∞—В–Ї–∞. –ѓ, –Ј–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї—М –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–Є–ї–Є–µ–є –∞—В–Њ–Љ–љ—Л—Е –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї, —Б—В–∞—А—И–Є–є –љ–∞ –±–Њ—А—В—Г —А–∞–Ї–µ—В–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Ї—А–µ–є—Б–µ—А–∞ —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П (–†–Я–Ъ–°–Э), –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П—О—Й–µ–≥–Њ –≤—Б–њ–ї—Л—В–Є–µ –њ–Њ—Б–ї–µ –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ–≤–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–≥—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –љ–∞ –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—М–љ–Њ–Љ –≤—Л—Е–Њ–і–µ –њ–µ—А–µ–і –±–Њ–µ–≤–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±–Њ–є. –Р–Ї—Г—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –≥–Њ—А–Є–Ј–Њ–љ—В –Њ—В —А–∞–±–Њ—З–µ–є –≥–ї—Г–±–Є–љ—Л –њ–Њ–≥—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –і–Њ 40 –Љ —З–Є—Б—В, –љ–Њ –≥–Є–і—А–Њ–ї–Њ–≥–Њ-–∞–Ї—Г—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞ –њ–Њ-–ї–µ—В–љ–µ–Љ—Г —Б–ї–Њ–ґ–љ–∞—П: –љ–∞ –≥–ї—Г–±–Є–љ–µ 20вАФ25 –Љ –Љ–Њ—Й–љ–µ–є—И–Є–є —Б–ї–Њ–є —Б–Ї–∞—З–Ї–∞ —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В–Є –Ј–≤—Г–Ї–∞. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –і–µ–ї–∞–µ—В—Б—П –љ–∞ –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В–Є, –њ–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г, –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ. –Э–∞–і–µ–ґ–і–∞ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞—О—Й–Є–є –†–Я–Ъ–°–Э, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –љ–∞ –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В–Є –≤ –љ–∞–і–≤–Њ–і–љ–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є –Є –≥–і–µ —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є –Њ–±–Њ–Є—Е –†–Я–Ъ–°–Э, –≥—А–∞–Љ–Њ—В–љ–Њ —А–∞–Ј–±–µ—А–µ—В—Б—П –≤ –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–µ –Є –њ—А–Є–Љ–µ—В –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ–µ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –њ–Њ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є—О –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є –≤—Б–њ–ї—Л–≤–∞—О—Й–µ–≥–Њ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П. –Э–∞ –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Њ–Љ –Є–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–∞–ґ–µ –њ–µ—А–µ–і –≤—Л—Е–Њ–і–Њ–Љ –≤ –Љ–Њ—А–µ –≤—А–Њ–і–µ –≤—Б–µ –±—Л–ї–Њ –Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–µ–љ–Њ –Є —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Њ–≤–∞–љ–Њ. –Я–µ—А–µ–і –љ–∞–Љ–Є –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ–≤–Њ–і–љ–Њ–µ –њ–Њ–≥—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П–ї –Њ–љ, –∞ –Љ—Л –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞–ї–Є. –Э–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ —В—А—Г–і–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є—П –Ј–≤—Г–Ї–Њ–њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є —Б–≤—П–Ј–Є –Є —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –Љ–µ—Б—В–∞ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ–Њ–≥—А—Г–ґ–∞—О—Й–µ–є—Б—П –ї–Њ–і–Ї–Є, –Љ—Л –Њ—В—А–∞–±–Њ—В–∞–ї–Є —З–µ—В–Ї–Њ. –Ґ–µ–њ–µ—А—М –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞–µ—В –Њ–љ, –≤—Б–њ–ї—Л–≤–∞–µ–Љ –Љ—Л. –Ъ—Г—А—Б –≤—Б–њ–ї—Л—В–Є—П вАФ –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –Њ—В–Ї—А—Л—В–Њ–≥–Њ –Њ–Ї–µ–∞–љ–∞, –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –Њ—В –њ–Њ–ї–Њ—Б—Л –Љ–∞–љ–µ–≤—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞—О—Й–µ–≥–Њ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П. –Ч–≤—Г–Ї–Њ–њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є —Б–≤—П–Ј–Є —Б –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞—О—Й–Є–Љ –†–Я–Ъ–°–Э, –Ї —Б–Њ–ґ–∞–ї–µ–љ–Є—О, —Б –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –њ–Њ—А –љ–µ—В вАФ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞—О—Й–Є–є –љ–µ —Г–і–µ—А–ґ–∞–ї —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –Љ–µ—Б—В–∞ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Г—А–∞–≤–љ–Є—В–µ–ї—П. –Ш—В–∞–Ї, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –†–Я–Ъ–°–Э –њ–Њ–і–љ—П–ї—Б—П –≤ –±–Њ–µ–≤—Г—О —А—Г–±–Ї—Г, –∞ —П –Њ—Б—В–∞–ї—Б—П –≤ —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –њ–Њ—Б—В—Г —А—П–і–Њ–Љ —Б –±–Њ—Ж–Љ–∞–љ–Њ–Љ —Г –њ—Г–ї—М—В–∞ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П —А—Г–ї—П–Љ–Є. –Э–∞—З–∞–ї–Є –≤—Б–њ–ї—Л—В–Є–µ —Б –≥–ї—Г–±–Є–љ—Л 40 –Љ–µ—В—А–Њ–≤ –њ–Њ–і –њ–µ—А–Є—Б–Ї–Њ–њ. –°–Љ–Њ—В—А—О –љ–∞ –≥–ї—Г–±–Є–љ–Њ–Љ–µ—А вАФ –Є –Њ—Й—Г—Й–∞—О –љ–∞—А–∞—Б—В–∞–љ–Є–µ —В—А–µ–≤–Њ–≥–Є –Є –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є.., ¬Ђ—Е–Њ–ї–Њ–і–Њ–Ї¬ї.., ¬Ђ–њ—А—Г–ґ–Є–љ–Ї—Г¬ї вАФ —Г–ґ–µ –≥–Њ—В–Њ–≤ —Б–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞—В—М: ¬Ђ–°—В–Њ–њ –≤—Б–њ–ї—Л—В–Є–µ¬ї, –љ–Њ —Г–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–µ—В –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ –љ–µ–≤–Љ–µ—И–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –і–Њ –њ–Њ—А—Л –і–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –≤ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ (—Б–∞–Љ –љ–µ –ї—О–±–Є–ї, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Љ–µ—И–∞—О—В, –і–∞ –≤—А–Њ–і–µ –Є –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–є –љ–µ—В вАФ –і–µ–ї–∞–µ—В –≤—Б–µ –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ) –Є –≤—Б–µ –ґ–µ –≤ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –Љ—П–≥–Ї–Њ–≥–Њ —В–Њ–ї—З–Ї–∞ —Г–ґ–µ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О: вАФ –†—Г–ї–Є –љ–∞ –њ–Њ–≥—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ! –Ю–±–µ —В—Г—А–±–Є–љ—Л –≤–њ–µ—А–µ–і —Б—А–µ–і–љ–Є–є! –Ф–µ—А–ґ–∞—В—М –≥–ї—Г–±–Є–љ—Г 40 –Љ–µ—В—А–Њ–≤! –Ю—Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М—Б—П –≤ –Њ—В—Б–µ–Ї–∞—Е! –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –Ј–∞–њ–Њ–Ј–і–∞–ї—Л–µ. –Э–∞ –њ–µ—А–≤—Л–є –≤–Ј–≥–ї—П–і –љ–Є—З–µ–≥–Њ —Б—В—А–∞—И–љ–Њ–≥–Њ, –љ–Њ –Є–Ј –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ї—А–∞–љ–Є–Ї–∞ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —В–Њ—А–њ–µ–і–љ–Њ–≥–Њ –∞–њ–њ–∞—А–∞—В–∞ –њ–Њ–і—В–µ–Ї–∞–µ—В –Ј–∞–±–Њ—А—В–љ–∞—П –≤–Њ–і–∞. –ѓ—Б–љ–Њ вАФ —А–∞–Ј–≥–µ—А–Љ–µ—В–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–∞ –њ–µ—А–µ–і–љ—П—П –Ї—А—Л—И–Ї–∞ —В–Њ—А–њ–µ–і–љ–Њ–≥–Њ –∞–њ–њ–∞—А–∞—В–∞, –Ј–љ–∞—З–Є—В ¬Ђ–Љ–Њ—А–і–∞¬ї –њ–Њ–Љ—П—В–∞. –Р —З—В–Њ —Б —В–µ–Љ, –Ї—В–Њ –љ–∞–≤–µ—А—Е—Г? –Ш –Ї—В–Њ —Н—В–Њ? –Т—Б–њ–ї—Л–≤ –≤ –љ–∞–і–≤–Њ–і–љ–Њ–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ, —Г—П—Б–љ—П–µ–Љ, —З—В–Њ —Н—В–Њ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞—О—Й–Є–є –†–Я–Ъ–°–Э, –њ—Л—В–∞—П—Б—М –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М —Б –љ–∞–Љ–Є —Б–≤—П–Ј—М, ¬Ђ–Ј–∞–±—А–µ–ї¬ї –≤ –љ–∞—И—Г –њ–Њ–ї–Њ—Б—Г –Љ–∞–љ–µ–≤—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П. –Ґ—Г—В-—В–Њ –Љ—Л –Є –≤—Б—В—А–µ—В–Є–ї–Є—Б—М!  (—А–µ—З—М –Њ "–Ъ-171" –Є " ". –Т–Њ–Ј–≤—А–∞—В–Є–ї–Є—Б—М –≤ –±–∞–Ј—Г. –Я–Њ–≤—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П —Г—Б—В—А–∞–љ–Є–ї–Є –≤ —Б—А–∞–≤–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Є–є —Б—А–Њ–Ї, –љ–Њ —Б–≤–Њ–µ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–є –≤—Л—Е–Њ–і –љ–∞ –±–Њ–µ–≤–Њ–µ –њ–∞—В—А—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Њ–±–Њ–Є—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є —Б–Њ—А–≤–∞–љ. –І–Я!!! –Ф–ї–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ —А–∞—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–є –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–Є, –і–ї–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є –њ–Њ–Є—Б–Ї –≤–∞—А–Є–∞–љ—В–∞ –≤–Њ–Ј–Љ–µ–Ј–і–Є—П. –Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –≤ –љ–Њ—П–±—А–µ –љ–∞–є–і–µ–љ–∞ –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ —Г–љ–Є—З–Є–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В—М вАФ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –Њ—В–і–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Њ–љ–∞ –∞–≤–∞—А–Є–є–љ–Њ-—Б–њ–∞—Б–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —Б—Г–і–Њ–≤ –Ъ–Т–§. –Ш –њ–Њ–і–µ–ї–Њ–Љ! –Э–∞–і–Њ —Г–≤–∞–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—М—Б—П –Ї –≥–Њ–ї–Њ—Б—Г ¬Ђ—Б–≤—Л—И–µ¬ї, —Е–Њ—В—П –Є –Є–і–µ—В –Њ–љ –Є–Ј–љ—Г—В—А–Є! –У–Њ—А—М–Ї–Њ —И—Г—З—Г, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –≤–Њ –≤—Б–µ–≤—Л—И–љ–µ–≥–Њ –љ–µ –≤–µ—А—Г—О. –Т–њ–µ—А–µ–і–Є –±—Л–ї–Њ –µ—Й–µ 10 –ї–µ—В —Б–ї—Г–ґ–±—Л. –Ш –±—Л–ї–Є –Њ–њ—П—В—М —Н–Ї—Б—В—А–µ–Љ–∞–ї—М–љ—Л–µ —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є–Є, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –≤ –≥–Њ–і—Л —Б–ї—Г–ґ–±—Л –≤ –∞–≤–∞—А–Є–є–љ–Њ-—Б–њ–∞—Б–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±–µ (–Р–°–°), –љ–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–≤ —В–Њ—В –≥–Њ—А—М–Ї–Є–є —Г—А–Њ–Ї, —П –≤—Б–µ–≥–і–∞ —В–µ–њ–µ—А—М —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ—Г вАФ —Б–ї—Г—И–∞–є —Б–µ–±—П, –≤–µ—А—М —Б–µ–±–µ, —Б–≤–Њ–Є–Љ –Ј–љ–∞–љ–Є—П–Љ, –Њ–њ—Л—В—Г! –Э–Њ –Ї–Њ–≥–і–∞ –ґ–µ –≤—Б–µ-—В–∞–Ї–Є ¬Ђ–≠–Ґ–Ю¬ї –љ–∞—З–∞–ї–Њ—Б—М?! –Ъ–∞–Ї-—В–Њ, —Г–ґ–µ –≤ –љ–∞—И–µ –≤—А–µ–Љ—П, —Б–Є–і–Є–Љ –Ј–∞ –і—А—Г–ґ–µ—Б–Ї–Є–Љ —Б—В–Њ–ї–Њ–Љ –њ–Њ—Б–ї–µ –њ–∞—А–Є–ї–Ї–Є –і–Њ–Љ–∞ —Г –Т–∞–ї–Є –°–Њ—Д—А–Њ–љ–Њ–≤–∞. –ѓ –Љ–µ–ґ–і—Г –і–µ–ї–Њ–Љ –њ–Њ–і–µ–ї–Є–ї—Б—П —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П–Љ–Є, –Є –Ы–µ–љ—П –Э–µ—З–∞–µ–≤, —Г–љ–Є–Ї–∞–ї—М–љ—Л–є —Е—А–∞–љ–Є—В–µ–ї—М –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ—Б—В–µ–є –љ–∞—И–µ–≥–Њ ¬Ђ–≤–Њ—Б–њ–Є—В–Њ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ¬ї –і–µ—В—Б—В–≤–∞, –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В: вАФ –Ш—Й–Є –Є—Б—В–Њ–Ї–Є —В–∞–Љ, –≤ –і–µ—В—Б—В–≤–µ, –≤ –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ...  –°–Њ—Д—А–Њ–љ–Њ–≤ –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ –Т—Б–µ–≤–Њ–ї–Њ–і–Њ–≤–Є—З, –У–µ–љ–µ—А–∞–ї-–Љ–∞–є–Њ—А-–Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А, —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–є –њ–Њ –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—О —П–і–µ—А–љ—Л—Е –≤–Ј—А—Л–≤–Њ–≤ –Є –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є–є –≤ –Ь–Є–љ–Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л. –Э–µ—З–∞–µ–≤ –Ы–µ–Њ–љ–Є–і –Р–љ–∞—В–Њ–ї—М–µ–≤–Є—З, —Д–ї–∞–≥–Љ–∞–љ—Б–Ї–Є–є –Љ–Є–љ–µ—А –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є –Я–Ы. –Ш –≤–µ—А–љ–Њ. –Т—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О... –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –ї–∞–≥–µ—А—М –љ–∞ –Њ–Ј–µ—А–µ –°—Г—Г–ї–Њ—П—А–≤–Є. –®–ї—О–њ–Ї–∞ вАФ —И–µ—Б—В–µ—А–Ї–∞ –њ–Њ–і –њ–∞—А—Г—Б–Њ–Љ. –Ь–Є—И–∞ –°–Њ—Д—А–Њ–љ–Њ–≤, —Б—В–∞—А—И–Є–љ–∞ 1-–є —Б—В–∞—В—М–Є, –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–∞-–≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞—В–µ–ї—П –љ–∞—И–µ–≥–Њ –Ї–ї–∞—Б—Б–∞, –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –і–Њ–≤–µ—А–Є–ї –Љ–љ–µ —А—Г–Љ–њ–µ–ї—М —И–ї—О–њ–Ї–Є. –Я–Њ–≥–Њ–і–∞ —Б–Њ–ї–љ–µ—З–љ–∞—П, –њ–Њ—А—Л–≤–Є—Б—В—Л–є –≤–µ—В–µ—А. –Ш–і–µ–Љ —Е–Њ–і–Ї–Њ, —Б –Ї—А–µ–љ–Њ–Љ –≤ –±–µ–є–і–µ–≤–Є–љ–і. –Т–Њ–і–∞ –њ–Њ –њ—А–∞–≤–Њ–Љ—Г –±–Њ—А—В—Г –њ–Њ–і —Б–∞–Љ—Л–Љ –њ–ї–∞–љ—И–Є—А–µ–Љ. –І—Г—В—М –і–≤–Є–љ–µ—И—М —А—Г–ї–µ–Љ –Є–ї–Є —З—Г—В—М —Б–Є–ї—М–љ–µ–µ –њ–Њ—А—Л–≤ –≤–µ—В—А–∞ вАФ –Є —Б–µ—А–µ–±—А–Є—Б—В—Л–µ —Б—В—А—Г–Є —З–µ—А–µ–Ј –њ–ї–∞–љ—И–Є—А—М –≤–ї–µ—В–∞—О—В –≤ —И–ї—О–њ–Ї—Г. –Т –і—Г—И–µ –≤ —Н—В–Њ—В –Љ–Є–≥, –њ–Њ–ґ–∞–ї—Г–є, —В–Њ –ґ–µ —Б–∞–Љ–Њ–µ —Й–µ–Љ—П—Й–µ–µ —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ. –Ъ–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ –±–∞–ї–∞–љ—Б–Є—А—Г–µ—И—М –љ–∞ —В–Њ–љ–Ї–Њ–є –≥—А–∞–љ–Є –љ–∞–і –±–µ–Ј–і–љ–Њ–є! –І—Г—В—М –љ–∞–ґ–Љ–µ—И—М –љ–∞ —А—Г–Ї–Њ—П—В–Ї—Г —А—Г–Љ–њ–µ–ї—П вАФ —Й–µ–Љ–Є—В.., —З—Г—В—М –Њ—В–≤–µ–і–µ—И—М вАФ –Њ—В–њ—Г—Б—В–Є—В! –Э–∞–≤–µ—А–љ–Њ, —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ —Б—В—А–∞—Е–∞, –Є–љ—Б—В–Є–љ–Ї—В —Б–∞–Љ–Њ—Б–Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є—П –≤—Б–µ–≥–Њ –ґ–Є–≤–Њ–≥–Њ.  –Ф–∞, –Љ–Њ—А—Б–Ї–∞—П –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–∞ —Б–љ–∞—З–∞–ї–∞ –љ–∞ –Њ–Ј–µ—А–µ –≤ –ї–∞–≥–µ—А–µ, –њ–Њ—В–Њ–Љ –љ–∞ –±–∞—А–Ї–∞—Б–∞—Е –≤ —И—В–Њ—А–Љ–Њ–≤–Њ–є –Ы–∞–і–Њ–≥–µ, –њ–Њ—В–Њ–Љ –љ–∞ –њ–∞—А—Г—Б–љ–Њ-–Љ–Њ—В–Њ—А–љ—Л—Е —И—Е—Г–љ–∞—Е ¬Ђ–£—З–µ–±–∞¬ї –Є ¬Ђ–Э–∞–і–µ–ґ–і–∞¬ї –≤ —И—В–Њ—А–Љ–Њ–≤–Њ–є –С–∞–ї—В–Є–Ї–µ —Г—З–Є–ї–∞ –љ–∞—Б –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–≤–∞—В—М —Н—В–Њ—В –њ–µ—А–≤–Њ—А–Њ–і–љ—Л–є —Б—В—А–∞—Е, –љ–Њ —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –Є –њ—А–µ–і—З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ–є –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є. –Ф–∞, —Н—В–Њ –њ—А–∞–≤–і–∞, –Є—Б—В–Њ–Ї–Є –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–є –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –Є–љ—В—Г–Є—Ж–Є–Є, –љ–∞—И–Є—Е –Ј–љ–∞–љ–Є–є –Є –Њ–њ—Л—В–∞ —В–∞–Љ, –≤ –і–µ—В—Б—В–≤–µ, –≤ –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –і–µ—В—Б—В–≤–µ. –Ш —П –µ–Љ—Г –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–µ–љ. 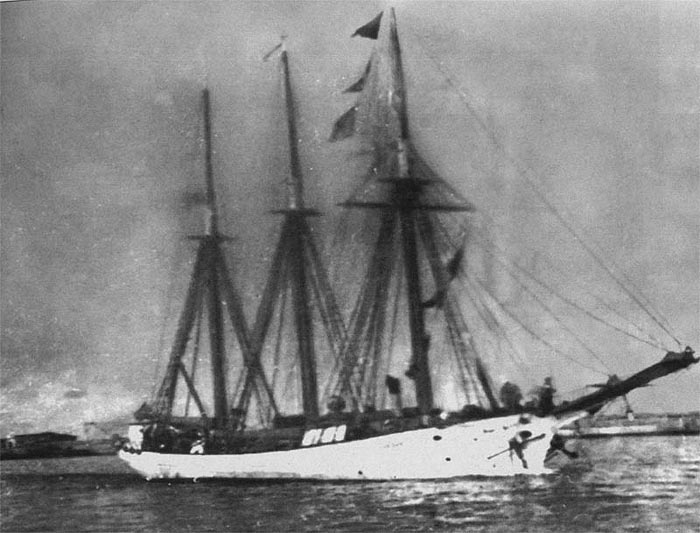 –®—Е—Г–љ–∞ ¬Ђ–£—З–µ–±–∞¬ї 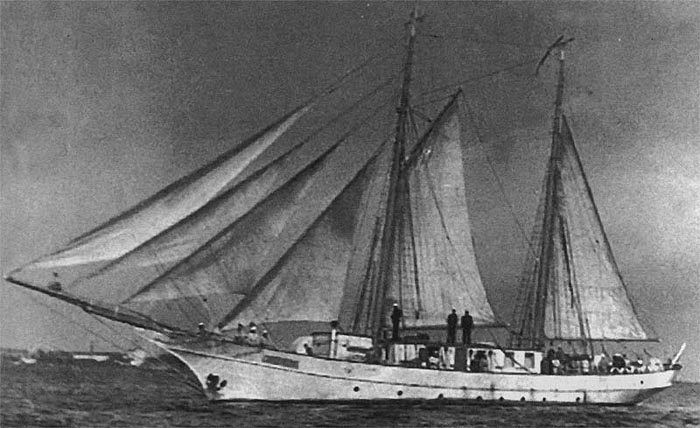 –®—Е—Г–љ–∞ ¬Ђ–Э–∞–і–µ–ґ–і–∞¬ї. –Ы–µ—В–љ—П—П –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–∞ –њ–Њ –Љ–∞—А—И—А—Г—В—Г –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і вАФ –†–Є–≥–∞ вАФ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і. 1950 –≥–Њ–і –Я—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В.  –Т–µ—А—О–ґ—Б–Ї–Є–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Т–Э–Р), –У–Њ—А–ї–Њ–≤ –Ю–ї–µ–≥ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Ю–Р–У), –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З (–Ь–Т–Т), –Ъ–°–Т. 198188. –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥, —Г–ї. –Ь–∞—А—И–∞–ї–∞ –У–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤–∞, –і–Њ–Љ 11/3, –Ї–≤. 70. –Ъ–∞—А–∞—Б–µ–≤ –°–µ—А–≥–µ–є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З, –∞—А—Е–Є–≤–∞—А–Є—Г—Б. karasevserg@yandex.ru
30.03.201300:4230.03.2013 00:42:22
0
29.03.201300:3229.03.2013 00:32:35
 –Т—Б—В—А–µ—З–∞ –≥–Њ—Б—В–µ–є. –Т —Ж–µ–љ—В—А–µ вАУ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї –Ф–Ю–§ –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї –Р.–Э.–Ы—Г–Ї—М—П–љ–Њ–≤. –Т—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї–Є –њ—А–Є–µ–Љ –Э.–°.–•—А—Г—Й–µ–≤–∞ –Є –Ь–Є–љ–Є—Б—В—А–∞ –Ю–±–Њ—А–Њ–љ—Л –Ь–∞—А—И–∞–ї–∞ –У—А–µ—З–Ї–Њ –≤ –і–љ–Є –°—В–Њ–ї–µ—В–Є—П –Т–ї–∞–і–Є–≤–Њ—Б—В–Њ–Ї–∞. –®–ї–Є –Ї–∞–і—А—Л –љ–µ–Љ–Њ–≥–Њ –Ї–Є–љ–Њ, –Є –љ–∞—И–∞ –њ–∞–Љ—П—В—М –Њ–Ј–≤—Г—З–Є–≤–∞–ї–∞ –Є—Е. –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З, —Б–љ—П–≤ —Б–≤–Њ–є –њ–∞—А–∞–і–љ—Л–є –Љ—Г–љ–і–Є—А, –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б —А–∞–±–Њ—З–Є–Љ–Є –Љ–µ–љ—П–µ—В –і–µ–Ї–Њ—А–∞—Ж–Є—О, –љ–µ –Ј–∞–±—Л–≤–∞—П —А–∞–Ј–і–∞–≤–∞—В—М –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Л. –ѓ —Б –∞—А—В–Є—Б—В–∞–Љ–Є –Р–љ—Б–∞–Љ–±–ї—П –њ–µ—Б–љ–Є –Є –њ–ї—П—Б–Ї–Є –Ґ–Є—Е–Њ–Њ–Ї–µ–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –§–ї–Њ—В–∞ –Є —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –љ–∞—И–µ–є —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —Б–∞–Љ–Њ–і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –Љ–Њ—В–∞–µ–Љ—Б—П –≤ –∞–≤—В–Њ–±—Г—Б–∞—Е –њ–Њ –Љ–∞—А—И—А—Г—В—Г –Э.–°.–•—А—Г—Й–µ–≤–∞, –љ–∞ —Б–ї—Г—З–∞–є –љ–∞–і–Њ–±–љ–Њ—Б—В–Є –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В–∞ –≤ –њ–µ—А–Є–Њ–і –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—В–і—Л—Е–∞. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞ —В—А–µ—В–Є–є –і–µ–љ—М –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є ¬Ђ–Њ—В–±–Њ–є¬ї –Ј–∞ –љ–µ–љ–∞–і–Њ–±–љ–Њ—Б—В—М—О. –Ю—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ–∞—П –њ–Њ–µ–Ј–і–Ї–∞ –Ј–∞–≤–µ—А—И–Є–ї–∞—Б—М –њ—А–Є–µ–Љ–Њ–Љ –≤ –±–Њ–ї—М—И–Њ–Љ –Ј–∞–ї–µ –Ф–Њ–Љ–∞ –Ю—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤, –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–∞—П 100-–ї–µ—В–Є—О –≥–Њ—А–Њ–і–∞. –°–µ—А–≤–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ —Б—В–Њ–ї—Л, –Є–Ј–Њ–±–Є–ї–Є–µ –Љ–Њ—А–µ–њ—А–Њ–і—Г–Ї—В–Њ–≤, –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –±—Л–ї–Є –њ—А–Є–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ—Л —Б—В–Њ –Є–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–љ—Л—Е –±–ї—О–і –њ–Њ–≤–∞—А–∞–Љ–Є –≤—Л—Б–Њ—З–∞–є—И–µ–≥–Њ –Ї–ї–∞—Б—Б–∞. –Ю–±—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞–ї–Є –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–љ—В—Л, –≤—Б–µ –Ї–∞–Ї –љ–∞ –њ–Њ–і–±–Њ—А вАУ –Ї—А–∞—Б–∞–≤—Ж—Л, –љ–µ –Ј–љ–∞—О –Ї–∞–Ї–Њ–є —И–Ї–Њ–ї—Л, –љ–Њ –ї–Њ—Б–Ї –±—Л–ї –љ–∞–ї–Є—Ж–Њ. –Э–∞—З–∞–ї–Є —Б —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е —А–µ—З–µ–є, –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В–∞ –Р–љ—Б–∞–Љ–±–ї—П —Д–ї–Њ—В–∞, –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є–ї–Є –Ј–∞—Б—В–Њ–ї—М–љ—Л–Љ–Є –њ–µ—Б–љ—П–Љ–Є –≤ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–Є —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –≤–µ—З–µ—А–∞. –° —А–∞–Ј–љ—Л—Е –Ї–Њ–љ—Ж–Њ–≤ –Ј–∞–ї–∞ –љ–µ—Б–ї–Є—Б—М —Б–≤–Њ–Є –Ј–∞–і—Г—И–µ–≤–љ—Л–µ –Є –Ј–∞–Ј–і—А–∞–≤–љ—Л–µ, –∞ –≤ –Ј–∞–≤–µ—А—И–µ–љ–Є–µ вАУ –Њ–±—Й–∞—П –њ–µ—Б–љ—П - ¬Ђ–Ш –љ–∞ –Ґ–Є—Е–Њ–Љ –Њ–Ї–µ–∞–љ–µ —Б–≤–Њ–є –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–ї–Є –њ–Њ—Е–Њ–і...¬ї –Я–Њ–µ–Ј–і–Ї–∞ –Э.–°.–•—А—Г—Й–µ–≤–∞ –љ–∞ –Ф–∞–ї—М–љ–Є–є –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–ї–∞—Б—М –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –Љ–Њ—Й–љ—Л–Љ –≥—А–∞–і–Њ—Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ, –Ї —А–∞–і–Њ—Б—В–Є –≤—Б–µ—Е –ґ–Є—В–µ–ї–µ–є –Т–ї–∞–і–Є–≤–Њ—Б—В–Њ–Ї–∞. –Ш —А—Л–±–љ—Л–Љ –і–µ—Д–Є—Ж–Є—В–Њ–Љ, –Ї –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ—Г –љ–µ—Г–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Є—О –≤—Б–µ—Е –і–∞–ї—М–љ–µ–≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Њ–≤. –Т—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї–Є –≤–µ—З–µ—А, –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ—Л–є –њ–µ—А–≤–Њ–Љ—Г –њ–Њ–ї–µ—В—Г –љ–∞ –Ы—Г–љ—Г, –Ї—Г–і–∞ –±—Л–ї –і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ –≤—Л–Љ–њ–µ–ї вАУ –У–µ—А–± –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞. –Ь—Л –≤ —Б–≤–Њ–Є—Е —Д–∞–љ—В–∞–Ј–Є—П—Е –њ–Њ—И–ї–Є –і–∞–ї—М—И–µ. –Ю—В–њ–µ—З–∞—В–∞–≤ –У–µ—А–± –љ–∞ —В–Њ–љ–Ї–Њ–є –Ї–∞—А—В–Њ–љ–љ–Њ–є –±—Г–Љ–∞–≥–µ, —А–µ—И–Є–ї–Є—Б—М –і–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М –µ–≥–Њ –љ–∞—И–Є–Љ –≥–Њ—Б—В—П–Љ –љ–∞ –њ–∞—А–∞—И—О—В–Є–Ї–∞—Е –њ—А—П–Љ–Њ —Б –њ–Њ—В–Њ–ї–Ї–∞, –љ–∞–і–µ—П—Б—М –љ–∞ –Є—Е –±—Л—Б—В—А—Г—О —А–µ–∞–Ї—Ж–Є—О –њ–Њ–є–Љ–∞—В—М –≤ –њ–Њ–ї–µ—В–µ. –Э–µ —Г—З–ї–Є –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ: –±–µ–Ј —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–Ї–Є —В–∞–Ї–Є–µ –љ–Њ–Љ–µ—А–∞ –љ–µ –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ—Л. –Т–Њ—В –≥–і–µ –±—Л–ї –Љ—Г—А–∞–≤–µ–є–љ–Є–Ї, –Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–∞ –Ї–Њ–ї–µ–љ–Ї–∞—Е —Б–Њ–±–Є—А–∞–ї–Є –≤—Б–µ–Љ –Љ–Є—А–Њ–Љ –њ–Њ–і –љ–Њ–≥–∞–Љ–Є —В–∞–љ—Ж—Г—О—Й–Є—Е –≤—Л–Љ–њ–µ–ї—Л —Б—В—А–∞–љ—Л. –Я—А–Њ–љ–µ—Б–ї–ЊвА¶ –° —Г–ї—Л–±–Ї–Њ–є –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї–Є –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤ –Є–Ј –і–µ–Љ–Њ–Ї—А–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б—В—А–∞–љ. –°—В–Є—Е–Є –Т.–Ь–∞—П–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ ¬Ђ–Ю –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–Љ –њ–∞—Б–њ–Њ—А—В–µ¬ї —З–Є—В–∞–ї –Њ—Д–Є—Ж–µ—А –У–µ—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –Ф–µ–Љ–Њ–Ї—А–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –†–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Є –љ–∞ —Б—Ж–µ–љ–µ –Ф–Њ–Љ–∞ –Ю—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤, –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї–Є –Є —А–µ–∞–Ї—Ж–Є—О —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є—Е –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤. –Т—Б–µ –µ—Й–µ —Б–≤–µ–ґ–∞ –±—Л–ї–∞ –њ–∞–Љ—П—В—М –Њ –≤–Њ–є–љ–µ. –Э–∞ –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В–µ –≤—Б—С –±—Л–ї–Њ –Ї–Њ—А—А–µ–Ї—В–љ–Њ, –≤ —Б–µ—А–і—Ж–∞—Е - —В—П–ґ–µ–ї–Њ. –Т–Њ –≤—А–µ–Љ—П –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–Є —Н—В–Њ–≥–Њ –Я—А–∞–Ј–і–љ–Є—З–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В–∞ –љ–∞ –±–∞–Ј–µ —З–∞—Б—В–Є –≤ –С–Њ–ї—М—И–Њ–Љ –£–ї–Є—Б—Б–µ, –≥–і–µ –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞–ї–Є –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Л –Є–Ј –і–µ–Љ–Њ–Ї—А–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б—В—А–∞–љ вАУ –Ѓ–≥–Њ—Б–ї–∞–≤–Є–Є, –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–Є, –І–µ—Е–Њ—Б–ї–Њ–≤–∞–Ї–Є–Є, –Я–Њ–ї—М—И–Є, –С–Њ–ї–≥–∞—А–Є–Є вАУ –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є–µ –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї—Г –љ–∞ –Ґ–Є—Е–Њ–Њ–Ї–µ–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ —Д–ї–Њ—В–µ, —П –љ–µ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞—Б—М —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж–µ–є –љ–µ–ї–Є—Ж–µ–њ—А–Є—П—В–љ—Л—Е –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є. –Я—А–Њ—Е–Њ–і—П —З–µ—А–µ–Ј –Ї—Г–±—А–Є–Ї –≤ –Ј–∞–ї –і–ї—П —А–µ–њ–µ—В–Є—Ж–Є–Є, –Љ–∞—И–Є–љ–∞–ї—М–љ–Њ –љ–∞–Ї–ї–Њ–љ–Є–ї–∞—Б—М –њ–Њ–і–љ—П—В—М —Г–њ–∞–≤—И–µ–µ –њ–Њ–ї–Њ—В–µ–љ—Ж–µ, –Љ–љ–µ –љ–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї–Є. –Т–Њ—И–ї–∞ –≤ —А–µ–њ–µ—В–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є –Ј–∞–ї, –≤ –≥–ї–∞–Ј–∞ –±—А–Њ—Б–Є–ї–∞—Б—М –≥–Њ—А–∞ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Б–Ї–Є—Е —Д—Г—А–∞–ґ–µ–Ї –љ–∞ –±–Њ–ї—М—И–Њ–Љ –њ–Њ–і–Њ–Ї–Њ–љ–љ–Є–Ї–µ, –∞ –љ–∞ –і—А—Г–≥–Њ–Љ вАУ —Б–Ї—А–Њ–Љ–љ–µ–љ—М–Ї–Њ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –≥–Њ–ї–Њ–≤–љ—Л—Е —Г–±–Њ—А–Њ–≤. –Я–Њ–Ј–і–љ–µ–µ —Г–Ј–љ–∞–ї–∞, —З—В–Њ —Н—В–Њ –±—Л–ї –њ—А–Њ—В–µ—Б—В —Д–∞—И–Є–Ј–Љ—Г. –°–Є–ї—М–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –±–Њ–ї—М —Г –ї—О–і–µ–є, –∞ —Н—В–Њ –±—Л–ї –Є—О–ї—М —И–µ—Б—В–Є–і–µ—Б—П—В–Њ–≥–Њ –≥–Њ–і–∞. –° —Г–ї—Л–±–Ї–Њ–є –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї–Є –Є —Г—А–Њ–Ї–Є –љ–∞—И–µ–є –±–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є.  –Ф–Ю–§. –Ы–Њ–ґ–∞ –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ –Ґ–Є—Е–Њ–Њ–Ї–µ–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ —Д–ї–Њ—В–Њ–Љ. –Ъ–Њ—А–Њ—В–Ї–Њ–µ —Б–Њ–≤–µ—Й–∞–љ–Є–µ —Б –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—С—А–∞–Љ–Є –њ–µ—А–µ–і –Њ—З–µ—А–µ–і–љ—Л–Љ –Љ–µ—А–Њ–њ—А–Є—П—В–Є–µ–Љ. –Э–∞ –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В–µ –∞—А—В–Є—Б—В–Њ–≤ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —В–µ–∞—В—А–∞ –љ–∞–і–Њ –±—Л–ї–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ —Б–ї—Г–ґ–±–∞–Љ –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є ¬Ђ–Њ–±–µ–Ј–Њ—А—Г–ґ–Є—В—М¬ї –љ–∞—А—Г—И–Є—В–µ–ї—П –≤ –Ј—А–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ –Ј–∞–ї–µ. –Ф–Њ–Љ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤ –±—Л–ї –Њ—Ж–µ–њ–ї–µ–љ —Б–ї—Г–ґ–µ–±–љ—Л–Љ–Є –Љ–∞—И–Є–љ–∞–Љ–Є, –ї—О–і–Є –≤ —И—В–∞—В—Б–Ї–Њ–Љ —Б–Њ–±—А–∞–ї–Є—Б—М –≤ –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В–µ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞. –Ш—Е –±—Л–ї–Њ, –љ—Г, –Њ—З–µ–љ—М –Љ–љ–Њ–≥–Њ. –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З, –і–∞–≤ –Љ–љ–µ —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є–µ, –Ј–∞–љ—П–ї –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—О –≤ –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В–µ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –Ј–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї—П. –Я–µ—А–µ–і–Њ –Љ–љ–Њ–є –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є –Ј–∞–і–∞—З—Г вАУ —В–Є—Е–Њ –њ–µ—А–µ—Б–∞–і–Є—В—М —З–µ—В—Л—А–µ—Е –Ј—А–Є—В–µ–ї–µ–є –≤ –ї–Њ–ґ—Г –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ. –°–≤–Њ–±–Њ–і–љ—Л—Е –Љ–µ—Б—В –љ–µ –±—Л–ї–Њ, –љ–∞ —Н—В–Є, –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–і–Є–≤—И–Є–µ—Б—П –Љ–µ—Б—В–∞, –њ–Њ—Б–∞–і–Є—В—М –ї—О–і–µ–є, –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Ј–∞ —Н—В—Г –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є—О. –Т—Б—С –±—Л–ї–Њ —З–µ—В–Ї–Њ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Њ –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В–∞ —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О —Б—В–∞—А—И–µ–≥–Њ –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї–µ—А–∞. –Т –∞–љ—В—А–∞–Ї—В–µ –і–≤–Њ–µ –Љ—Г–ґ—З–Є–љ –ї–Њ–≤–Ї–Њ –њ—А–Њ–њ—Г—Б—В–Є–≤ –Њ–і–љ—Г –њ–∞—А—Г, –њ–Њ–і—Е–≤–∞—В–Є–≤ –њ–Њ–і —А—Г–Ї–Є —Б–Є–і—П—Й–µ–≥–Њ –≤–њ–µ—А–µ–і–Є, –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –њ–Њ–і–Њ–Ј—А–µ–≤–∞—О—Й–µ–≥–Њ –Љ—Г–ґ—З–Є–љ—Г –Є –Љ–≥–љ–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ –≤—Л–≤–µ–ї–Є –µ–≥–Њ —З–µ—А–µ–Ј —Б–ї—Г–ґ–µ–±–љ—Л–є —Е–Њ–і. –Я–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—П –і–Њ—А–Њ–≥—Г, –њ—А–µ–њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–∞ –≤—Б–µ—Е –≤ –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞. –Ґ–∞–Љ —Г–ґ–µ –ґ–і–∞–ї–Є. –Э–∞ –њ—А–∞–≤–∞—Е ¬Ђ—Г—З–∞—Б—В–љ–Є—Ж—Л –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–Є¬ї, –Ј–∞—В–µ—А—П–ї–∞—Б—М –≤ –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В–µ. –Р —Б–µ—А–і—Ж–µ –±–Є–ї–Њ—Б—М, –∞ –ї—О–±–Њ–њ—Л—В—Б—В–≤–Њ –њ—А–µ–Њ–±–ї–∞–і–∞–ї–Њ –љ–∞–і –≤—Б–µ–Љ–Є —Б—В—А–∞—Е–∞–Љ–Є. –Ю—В –љ–∞—А—Г—И–Є—В–µ–ї—П —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї–Є —Б–і–∞—В—М –Њ—А—Г–ґ–Є–µ. –Ь–Њ–ї–Њ–і–Њ–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –љ–µ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—П –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞, –Љ–Њ–ї—З–∞–ї, –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –њ–Њ–љ—П–ї, —З—В–Њ –љ—Г–ґ–љ–Њ –њ—А–Њ—Б—В–Њ —А–∞–Ј–Њ—А—Г–ґ–Є—В—М—Б—П, –Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ –і–Њ—Б—В–∞–ї –Є–Ј —И—В–∞–љ–Њ–≤ –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В –Є –Њ—В–і–∞–ї –≤ —А—Г–Ї–Є. –Т–Є–і –µ–≥–Њ –±—Л–ї –ґ–∞–ї–Ї–Є–є, –љ–Њ –≤—Л–Ј—Л–≤–∞—О—Й–Є–є –њ–Њ–і–Њ–Ј—А–µ–љ–Є–µ вАУ –Њ–і–љ–Є —П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Є–µ —В–∞–њ–Њ—З–Ї–Є —Б –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л–Љ –њ–∞–ї—М—Ж–µ–Љ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є, —З—В–Њ —Н—В–Њ вАУ –љ–µ –љ–∞—И —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї. –Ъ —А–∞–і–Њ—Б—В–Є –≤—Б–µ—Е, –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –Ј–∞–ґ–Є–≥–∞–ї–Ї–Њ–є, –∞ –±–µ–і–Њ–ї–∞–≥–∞ вАУ –±—А–∞—В–Њ–Љ —В–Њ—А–≥–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А—П–Ї–∞. –Ю—В –њ—А–Є–≥–ї–∞—И–µ–љ–Є—П –љ–∞ –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В –Њ–љ –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П. –°—Л–љ –љ–∞—И–µ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–µ–љ–і–∞–љ—В–∞, —Г–≤–Є–і–µ–ї —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ —Б –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В–Њ–Љ –≤ —В—Г–∞–ї–µ—В–µ, –њ—А–Њ—П–≤–Є–ї –±–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М. –Ф–Њ–ї–≥ –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ вАУ –±—Л—В—М –±–і–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ! –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Њ —Б–≤–Њ–µ–є —Б–µ–Љ—М–µ, –Њ —Б–≤–Њ–µ–є —А–∞–±–Њ—В–µ –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А–∞ –Ш–љ—В—Г—А–Є—Б—В–∞, –≥–і–µ –Љ–µ–љ—П –Ј–љ–∞—О—В. –Х—Й–µ –±—Л, –Њ–љ –љ–∞ –Ї–∞–ґ–і–Њ–є –њ–ї–∞–љ–µ—А–Ї–µ –≥—А–Њ–Ј–Є–ї—Б—П –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ –Р–Є–і–Њ–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–љ–Њ–є, —З—В–Њ –љ–µ—В –Љ–µ–љ—П –љ–∞ –љ–Є—Е. –Ь–љ–µ –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є—П—В–љ–Њ, –љ–Њ –Њ—В –њ—А–Є–≥–ї–∞—И–µ–љ–Є—П —А–∞–±–Њ—В–∞—В—М –≤ –Ш–љ—В—Г—А–Є—Б—В–µ –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –Ъ–Є–µ–≤–∞ —П –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞—Б—М. –ѓ–Ї–Њ—А—М –±—А–Њ—И–µ–љ –≤ –§–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ –Ј–∞–ї–Є–≤–µ вАУ –љ–∞–≤—Б–µ–≥–і–∞!.. –Т—Б—П –ґ–Є–Ј–љ—М –њ–Њ —Б–њ–Є—А–∞–ї–Є... –Р —З—В–Њ –ґ–µ —Б –Є–і–µ–µ–є —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є—П –∞–љ—Б–∞–Љ–±–ї—П? –Т–µ—Б—М —Г—З–µ–±–љ—Л–є –≥–Њ–і вАУ –±—Л–ї —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є–µ–Љ —Н—В–Њ–є –Є–і–µ–Є, –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤ –љ–µ–є —Б –љ–∞–Є–±–Њ–ї—М—И–µ–є —Б–Є–ї–Њ–є —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А –°–∞–ї–Њ–Љ–∞—В–Њ–≤–∞, –њ—А–Њ–±—Г–і–Є–ї—Б—П –Є–љ—В–µ—А–µ—Б —А–µ–±—П—В –Ї —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є –Є—Е –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–∞, —Б–Њ—Б—В–Њ—П—Й–µ–≥–Њ –Є–Ј –і–≤—Г—Е—Б–Њ—В —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї. –®–ї–∞ —А–∞–±–Њ—В–∞ –љ–∞–і —А–µ–њ–µ—А—В—Г–∞—А–Њ–Љ, –±—Л–ї–Є –≤—Л–і–µ–ї–µ–љ—Л —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –Ю–±–Ї–Њ–Љ–Њ–Љ –њ—А–Њ—Д—Б–Њ—О–Ј–∞ —В–Њ—А–≥–Њ–≤–ї–Є вАУ 54 —В—Л—Б—П—З–Є —А—Г–±–ї–µ–є –љ–∞ –њ–Њ—И–Є–≤ –Ї–Њ—Б—В—О–Љ–Њ–≤ вАУ –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ —В–∞–Ї–Є–µ –і–µ–љ—М–≥–Є –љ–∞ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–∞! –Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж –≤–µ—Б–љ–∞ вАУ –њ–µ—А–≤—Л–є –Њ—В—З–µ—В–љ—Л–є –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В —Е–Њ—А–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–∞ вАУ —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –°–∞–ї–Њ–Љ–∞—В–Њ–≤. –Ґ–µ–∞—В—А–∞–ї—М–љ–∞—П —Б—Ж–µ–љ–∞, –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –Ј–∞–ї, —Б–≤–µ—А–Ї–∞—О—Й–∞—П –ї—О—Б—В—А–∞ –Ј–∞–ї–Є–≤–∞–µ—В –Њ—Б–ї–µ–њ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ —Б–≤–µ—В–Њ–Љ –≥–Њ—Б—В–µ–є, —В—А–µ—В–Є–є –Ј–≤–Њ–љ–Њ–Ї. –Ъ–Њ–љ—Ж–µ—А—В –Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞–µ—В –Ї–ї–∞—Б—Б–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Я–Њ–ї–Њ–љ–µ–Ј вАУ –Љ–Њ—П –і–∞–≤–љ—П—П –Љ–µ—З—В–∞ —Б–±—Л–ї–∞—Б—М. –Ю–љ —Б–Њ–Ј–і–∞–µ—В –ї–µ–≥–Ї–Њ—Б—В—М –Є –Є–Ј—П—Й–љ–Њ—Б—В—М —З—Г–≤—Б—В–≤, –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ –∞–Ї–Ї–Њ—А–і—Г. –°–Њ—А–Њ–Ї –Љ–∞–ї—М—З–Є–Ї–Њ–≤ –Є –і–µ–≤–Њ—З–µ–Ї –≤—Л—А–∞–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ–µ—А–µ–і–∞—О—В –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П —Д–Є–≥—Г—А, –љ–µ–њ—А–Є–љ—Г–ґ–і–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –њ–Њ–Ј –≤ –µ–і–Є–љ–Њ–Љ –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–Љ —А–Є—В–Љ–µ. –Ч–∞ –љ–Є–Љ вАУ –≤ –≤–Є—Е—А–µ –Э–∞—А–Њ–і–љ—Л—Е —В–∞–љ—Ж–µ–≤ —И–µ—Б—В–љ–∞–і—Ж–∞—В–Є —А–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї, —Г—З–Є—В—Л–≤–∞—П —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А, —В–µ–Љ–њ–µ—А–∞–Љ–µ–љ—В, —Н—В–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —А–∞–Ј–ї–Є—З–Є—П вАУ —А–µ–±—П—В–∞ –≤ –Ї—А–∞—Б–Њ—З–љ—Л—Е –Ї–Њ—Б—В—О–Љ–∞—Е –±–ї–µ—Б—В—П—Й–µ —А–∞—Б–Ї—А—Л–≤–∞—О—В –љ–µ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ—Л–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А –Ї–∞–ґ–і–Њ–є –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є, –±—А–∞—В—Б—В–≤–Њ, –ї—О–±–Њ–≤—М –Є –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–Њ –Є—Е –Њ–±—Й–µ–є –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –µ–і–Є–љ–Њ–є –°—В—А–∞–љ—Л. –У–ї–∞–≤–љ–Њ–µ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –Ј—А–Є—В–µ–ї—П –њ—А–Є–≤–ї–µ–Ї–∞–µ—В –ґ–Є–≤–Њ–є, —Н–љ–µ—А–≥–Є—З–љ—Л–є, –ї–Є—Е–Њ–є –Љ–∞—В—А–Њ—Б—Б–Ї–Є–є —В–∞–љ–µ—Ж вАУ –≤–µ—А—И–Є–љ–∞ –≤—Б–µ–≥–Њ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–∞. –°–Њ—Б—В–Њ—П–ї–Њ—Б—М! –Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–Њ—Б—М —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ –Р–љ—Б–∞–Љ–±–ї—П ¬Ђ–Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Є–є —Б—Г–≤–µ–љ–Є—А¬ї! –≠—В–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Њ 30 –∞–њ—А–µ–ї—П 1983 –≥–Њ–і–∞ –≤ –≥–Њ—А–Њ–і–µ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–µ, –љ–∞ —Г–ї–Є—Ж–µ –Ф–µ–Ї–∞–±–Є—Б—В–Њ–≤,34, –≤–Њ –Ф–≤–Њ—А—Ж–µ –Ъ—Г–ї—М—В—Г—А—Л –Є–Љ–µ–љ–Є –Я–µ—А–≤–Њ–є –њ—П—В–Є–ї–µ—В–Ї–Є. 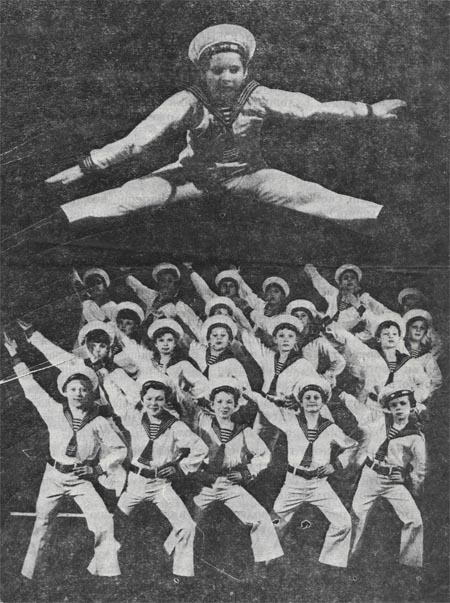 –°–µ–≥–Њ–і–љ—П ¬Ђ–Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Є–є —Б—Г–≤–µ–љ–Є—А¬ї –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є—В –µ–ґ–µ–≥–Њ–і–љ—Л–µ –Њ—В—З–µ—В–љ—Л–µ –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В—Л –≤ –Ю–Ї—В—П–±—А—М—Б–Ї–Њ–Љ –Ј–∞–ї–µ. –£ –љ–Є—Е –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–∞—П –ґ–Є–Ј–љ—М, —З–∞—Б—В—Л–µ –њ—А–Є–≥–ї–∞—И–µ–љ–Є—П –Ј–∞–≥—А–∞–љ–Є—Ж—Г. –Ф–µ–ї–Њ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –°–∞–ї–Њ–Љ–∞—В–Њ–≤–∞ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞—О—В –µ–≥–Њ —Б—Г–њ—А—Г–≥–∞ –Ы—О–і–Љ–Є–ї–∞ –Є –Є—Е —Б—Л–љ вАУ –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ. ¬Ђ–Э–µ –≤–µ—Б—М —Г–Љ—А—Г¬ї... –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –≤ —Д–∞–Љ–Є–ї—М–љ–Њ–Љ –≥–µ—А–±–µ –Ю–≥—О—Б—В–∞ –Ь–Њ–љ—Д–µ—А—А–∞–љ–∞ вАУ —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Њ–≥–Њ –∞—А—Е–Є—В–µ–Ї—В–Њ—А–∞, —Б–Њ–Ј–і–∞—В–µ–ї—П –Ш—Б–∞–∞–Ї–Є–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±–Њ—А–∞ –Є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Є–є—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–ї–Њ–љ–љ—Л. –Ь–љ–µ –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, —Н—В–Є —Б–ї–Њ–≤–∞ –Њ—В–љ–Њ—Б—П—В—Б—П –Є –Ї —В–∞–ї–∞–љ—В–ї–Є–≤–Њ–Љ—Г –њ–µ–і–∞–≥–Њ–≥—Г, –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ—Г —В—А—Г–ґ–µ–љ–Є–Ї—Г –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А—Г –°–∞–ї–Њ–Љ–∞—В–Њ–≤—Г. –Ф–Њ—А–Њ–≥–Є–µ –Љ–Њ–Є —В—А—Г–ґ–µ–љ–Є—Ж—Л вАУ —Б–µ—О—Й–Є–µ —А–∞–Ј—Г–Љ–љ–Њ–µ –≤–µ—З–љ–Њ–µ вАУ –њ–Њ—А–∞ –Є –Т–∞–Љ –≤—Л—Е–Њ–і–Є—В—М –љ–∞ –њ–µ—А–≤—Л–є –њ–ї–∞–љ. –°–Ї—А–Њ–Љ–љ–∞—П –љ–∞—И–∞ –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є—П –Ї—Г–ї—М—В—А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї-–Ї—Г–ї—М—В—Г—А–Њ–ї–Њ–≥, –Є–ї–Є –Ї–∞–Ї –µ—С –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В вАУ ¬Ђ–≥–ї–∞–≤–љ—Л–є –Є–і–µ–Њ–ї–Њ–≥¬ї вАУ –±–Њ–≥–∞—В–∞ –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ –Њ–±—К–µ–Љ–Њ–Љ –Ј–љ–∞–љ–Є–є –≤ –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л, –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞, –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А—Л –Є –љ–∞—Г–Ї–Є, –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є, —Н—В–Є–Ї–Є, —Н—Б—В–µ—В–Є–Ї–Є, –њ—Г–±–ї–Є—Ж–Є—Б—В–Є–Ї–Є –Є –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–Є. –Ю–љ–∞, –Ї–∞–Ї –љ–Є –Ї–∞–Ї–∞—П –і—А—Г–≥–∞—П, —Б–Њ–≤–Љ–µ—Й–∞–µ—В –≤ —Б–µ–±–µ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–є: —Д—Г–љ–і–∞–Љ–µ–љ—В –µ—С вАУ –њ–µ–і–∞–≥–Њ–≥–Є–Ї–∞ вАУ –ґ–µ–ї–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –Њ—В –С–Њ–≥–∞. –Ц—Г—А–љ–∞–ї–Є—Б—В–Є–Ї–∞ вАУ –ї—О–±–Њ–µ –Є–љ—В–µ—А–≤—М—О —В—Л –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—А–∞—В—М –Њ–±—К–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ –≥—А–∞–Љ–Њ—В–љ–Њ, —Б –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Є —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є —В–µ–Љ–Њ–є –Њ–±—П–Ј–∞–љ –Њ–±—Й–∞—В—М—Б—П –љ–∞ –Т–Ђ, —Г–≥–ї—Г–±–ї–µ–љ–љ–Њ, –≤–Є–і–µ—В—М —Б–∞–Љ–Њ–µ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–µ –Є –Њ—В—А–∞–Ј–Є—В—М —Б–∞–Љ–Њ–µ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ–µ. –°—Ж–µ–љ–∞—А–Є—Б—В–∞ вАУ –ї—Г—З—И–µ —В–µ–±—П –љ–Є–Ї—В–Њ –љ–µ —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–Є—В —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–µ –Є —Д–Њ—А–Љ—Г —В–≤–Њ–µ–≥–Њ –Ј–∞–Љ—Л—Б–ї–∞. –Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, —В–µ–±–µ –љ–∞–і–Њ –љ–∞–є—В–Є –Є –њ–µ—А–µ–ї–Њ–њ–∞—В–Є—В—М –Ї—Г—З—Г –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–∞. –†–µ–ґ–Є—Б—Б—Г—А–∞ вАУ –љ–∞—Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ–і–≤–Є–ґ–љ–∞ –Є –љ–µ–њ—А–µ–і—Б–Ї–∞–Ј—Г–µ–Љ–∞ –≤ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П, –љ–Є–Ї—В–Њ, –Ї—А–Њ–Љ–µ —В–µ–±—П, –љ–µ –≤—Л—Б—В—А–Њ–Є—В —В–≤–Њ–µ–≥–Њ –Ј–∞–Љ—Л—Б–ї–∞, –љ–Є –Њ–і–Є–љ —А–µ–ґ–Є—Б—Б–µ—А, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г –Ї–∞–Ї —В—Л —В–≤–Њ—А–µ—Ж –њ—А—П–Љ–Њ–≥–Њ —Н—Д–Є—А–∞, —Б–Њ –≤—Б–µ–Љ–Є –≤—Л—В–µ–Ї–∞—О—Й–Є–Љ–Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є—П–Љ–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–∞–Ї—В–Њ—А–∞. –Ш –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е —А–µ–њ–µ—В–Є—Ж–Є–є, –≤—Б—С –≤–ґ–Є–≤—Г—О. –Т—Б—В–∞–≤–Ї–Є, –љ–∞—А–µ–Ј–Ї–Є вАУ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л. –Ш –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж! вАУ –Я—А–Є –≤–µ–і–µ–љ–Є–Є –≤—Л—Б—В—А–∞–і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —В–Њ–±–Њ–є –і–µ—В–Є—Й–∞, –і–µ—А–ґ–∞—В—М –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –Ј—А–Є—В–µ–ї–µ–є, –њ–Њ —Е–Њ–і—Г –Љ–µ–љ—П—В—М –Љ–Є–Ј–∞–љ—Б—Ж–µ–љ—Л, –њ—А–∞–≤–Є—В—М —В–µ–Ї—Б—В—Л –њ—А–Є–і—С—В—Б—П —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —В–µ–±–µ. –Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –љ–µ —Е—Г–і–Њ –Є–Љ–µ—В—М —Е–Њ—В—П –±—Л –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Є–µ –∞–Ї—В–µ—А—Б–Ї–Є–µ –і–∞–љ–љ—Л–µ. –Т–µ–і—М –љ–µ –љ–∞ –Ї–∞–ґ–і–Њ–µ –Љ–µ—А–Њ–њ—А–Є—П—В–Є–µ вАУ –Є—Е –≤ –Љ–µ—Б—П—Ж –±–Њ–ї–µ–µ —В—А–Є–і—Ж–∞—В–Є вАУ –Є–Љ–µ–ї–∞—Б—М –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –њ—А–Є–≥–ї–∞—И–∞—В—М –∞—А—В–Є—Б—В–∞ –љ–∞ —А–Њ–ї—М –≤–µ–і—Г—Й–µ–≥–Њ. –Ь—Л –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–ї–Є —Б–µ–±–µ —Н—В—Г —А–Њ—Б–Ї–Њ—И—М –≤ —Б–∞–Љ—Л—Е –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л—Е —Б–ї—Г—З–∞—П—Е.  –Х–≤–≥–µ–љ–Є–є –Ы–Є–љ–і вАУ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М –Љ—Г–Ј–µ—П. –Я–Њ –Є–љ–Є—Ж–Є–∞—В–Є–≤–µ –Х–≤–≥–µ–љ–Є—П –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–Є—З–∞ –Ы–Є–љ–і–∞ вАУ –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А–∞ –Є —Б–Њ–Ј–і–∞—В–µ–ї—П –Љ—Г–Ј–µ—П ¬Ђ–Ь—Г–Ј—Л –љ–µ –Љ–Њ–ї—З–∞–ї–Є¬ї —А–µ—И–Є–ї–Є –њ—А–Њ–≤–µ—Б—В–Є —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –≤–µ—З–µ—А, –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ—Л–є, —Б–Њ—А–Њ–Ї–∞–ї–µ—В–Є—О –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П –°–µ–і—М–Љ–Њ–є —Б–Є–Љ—Д–Њ–љ–Є–Є –Ф.–®–Њ—Б—В–∞–Ї–Њ–≤–Є—З–∞. –°–ї–µ–і–Њ–њ—Л—В–∞–Љ–Є вАУ —Г—З–∞—Й–Є–Љ–Є—Б—П 235 —И–Ї–Њ–ї—Л, –љ–µ –Њ–і–љ–Є–Љ –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ вАУ –≤–ї–Њ–ґ–µ–љ —В–Є—В–∞–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —В—А—Г–і –≤ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є–µ —Н—В–Њ–≥–Њ —Г–љ–Є–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Љ—Г–Ј–µ—П –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤ –±–ї–Њ–Ї–∞–і–љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ—А–Њ–і–∞.  –Я–µ—А–≤—Л–µ ¬Ђ—Б–ї–µ–і–Њ–њ—Л—В—Л¬ї –Љ—Г–Ј–µ—П. –° –Є—Е –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О –Є –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О —Б—В—Г–і–µ–љ—В–Њ–≤ –Т—Л—Б—И–µ–є –њ—А–Њ—Д—Б–Њ—О–Ј–љ–Њ–є —И–Ї–Њ–ї—Л –±—Л–ї —Б–Њ–±—А–∞–љ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї –Њ –Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї–µ —Б–Є–Љ—Д–Њ–љ–Є–Є. –Э–∞–Љ–Є –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–µ—Б—П—Ж–µ–≤ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–∞—П —А–∞–±–Њ—В–∞. –Р–Ї—В–Є–≤–Є—Б—В—Л –Љ—Г–Ј–µ—П –њ–Њ–і–±–Є—А–∞–ї–Є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї –Њ –Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї–µ —Б–Є–Љ—Д–Њ–љ–Є–Є. –Ю—В–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ—Л –њ–Є—Б—М–Љ–∞-–њ—А–Є–≥–ї–∞—И–µ–љ–Є—П –≤ —А–∞–Ј–љ—Л–µ –≥–Њ—А–Њ–і–∞ —Б—В—А–∞–љ—Л, –≤—А—Г—З–µ–љ—Л –њ—А–Є–≥–ї–∞—И–µ–љ–Є—П –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Є–Љ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—П–Љ. –°–Њ–≥–ї–∞—Б–Њ–≤–∞–љ–∞ —Б–Љ–µ—В–∞ –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –≤–µ—З–µ—А–∞, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –≤—Е–Њ–і–Є–ї–Є —А–∞—Б—Е–Њ–і—Л –љ–∞ –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞–љ–Є–µ –≥–Њ—Б—В–µ–є. –С—Л–ї–∞ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–∞ –њ–Њ—Н–Љ–∞ ¬Ђ–Я–∞–Љ—П—В–Є –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П —Б–µ–і—М–Љ–Њ–є —Б–Є–Љ—Д–Њ–љ–Є–Є¬ї, –∞–≤—В–Њ—А вАУ –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–љ—Б–µ—А–≤–∞—В–Њ—А–Є–Є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –£—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–Є–є. –Ю—А–Ї–µ—Б—В—А —А–∞–і–Є–Њ –Є —В–µ–ї–µ–≤–Є–і–µ–љ–Є—П –њ–Њ–і —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –°.–Ъ.–У–Њ—А–Ї–Њ–≤–µ–љ–Ї–Њ –њ—А–Є—Б—В—Г–њ–Є–ї –Ї —А–µ–њ–µ—В–Є—Ж–Є—П–Љ –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є—П.  –≠—Б—В—А–∞–і–љ–Њ-—Б–Є–Љ—Д–Њ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Њ—А–Ї–µ—Б—В—А –ї–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–і–Є–Њ –Є —В–µ–ї–µ–≤–Є–і–µ–љ–Є—П –Є–Љ–µ–љ–Є –Т.–Я.–°–Њ–ї–Њ–≤—М–µ–≤–∞-–°–µ–і–Њ–≥–Њ –њ–Њ–і —Г–њ—А. –°.–Ъ.–У–Њ—А–Ї–Њ–≤–µ–љ–Ї–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ—П–µ—В ¬Ђ–Я–Њ—Н–Љ—Г –њ–∞–Љ—П—В–Є –Я–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П –°–µ–і—М–Љ–Њ–є —Б–Є–Љ—Д–Њ–љ–Є–Є –Ф.–Ф.–®–Њ—Б—В–∞–Ї–Њ–≤–Є—З–∞¬ї. –Я–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–µ –ї–µ—В—З–Є–Ї–∞ –Т–∞—Б–Є–ї–Є—П –°–µ–Љ–µ–љ–Њ–≤–Є—З–∞ –Ы–Є—В–≤–Є–љ–Њ–≤–∞, –Њ–љ –і–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –Є–Ј —А—Г–Ї —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –∞–≤—В–Њ—А–∞ —В—Г –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В—Г—О ¬Ђ–ї–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–Ї—Г¬ї –Є–Ј –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –Ъ—Г–є–±—Л—И–µ–≤–∞ —З–µ—А–µ–Ј –ї–Є–љ–Є—О —Д—А–Њ–љ—В–∞ –≤ –±–ї–Њ–Ї–∞–і–љ—Л–є –≥–Њ—А–Њ–і. –Я—А–Є–≥–ї–∞—Б–Є–ї–Є –≤–µ—В–µ—А–∞–љ–Њ–≤-–∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—Б—В–Њ–≤ –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–Љ —И—В–∞–±–∞ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д—А–Њ–љ—В–∞ –Т–∞—Б–Є–ї–Є–µ–Љ –Я–Њ–ї–Є–Ї–∞—А–њ–Њ–≤–Є—З–µ–Љ –У–Ю–†–Ф–Х–Х–Т–Ђ–Ь, –Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–Љ –Њ–≥–љ–µ–≤–Њ–≥–Њ –≤–Ј–≤–Њ–і–∞ –Ы—М–≤–Њ–Љ –Э–∞—Г–Љ–Њ–≤–Є—З–µ–Љ –Т–Ю–Ы–ђ–°–Ъ–Ш–Ь, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞–ї–Є –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є—О ¬Ђ–®–Ї–≤–∞–ї¬ї, —З—В–Њ–±—Л –њ–Њ –≥–Њ—А–Њ–і—Г –љ–µ –±—Л–ї–Њ –≤—Л–њ—Г—Й–µ–љ–Њ –љ–Є –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —Б–љ–∞—А—П–і–∞ –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–є —Б–Є–Љ—Д–Њ–љ–Є–Є. –°–Њ–≤–µ—В –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—В–Њ—А–Њ–≤ –Ї—Г—А–Є—А–Њ–≤–∞–ї –і–∞–љ–љ–Њ–µ –Љ–µ—А–Њ–њ—А–Є—П—В–Є–µ. –У–Њ—В–Њ–≤–Є–ї–Є –њ—А–Є–≤–µ—В—Б—В–≤–Є—П —Б—В—Г–і–µ–љ—В—Л –ї–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–љ—Б–µ—А–≤–∞—В–Њ—А–Є–Є, –Њ—А–Ї–µ—Б—В—А –і–µ—В—Б–Ї–Њ–є –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–є —И–Ї–Њ–ї—Л –Є–Љ–µ–љ–Є –†–Є–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ-–Ъ–Њ—А—Б–∞–Ї–Њ–≤–∞, —В–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б–Њ—О–Ј—Л –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–∞, —Г—З–∞—Й–Є–µ—Б—П —И–Ї–Њ–ї. –£—З–∞—Б—В–Є–µ –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї–Є –Є –љ–∞—И–Є –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤—Л. –Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–∞–љ, –Њ—В–њ–µ—З–∞—В–∞–љ –Є —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ –њ—А–Є–≥–ї–∞—Б–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є –±–Є–ї–µ—В –љ–∞ —В—Л—Б—П—З—Г –і–≤–µ—Б—В–Є –Љ–µ—Б—В –≤ —В–µ–∞—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –Ј–∞–ї–µ. –Я–Њ –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–µ –≤—А–Њ–і–µ –≤—Б–µ –њ–Њ–ї—Г—З–∞–ї–Њ—Б—М, –Ј–∞ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ–Љ —Б—Ж–µ–љ–∞—А–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –µ—Й—С –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П –≤ –і–Њ—А–∞–±–Њ—В–Ї–µ, –Є –љ–µ –±—Л–ї–Њ –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–µ –≤–µ–і—Г—Й–µ–є вАУ –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ—Л –Ы–µ–Њ–љ—В—М–µ–≤–Њ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –і–∞–ї–∞ —Б–≤–Њ–µ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є—П –љ–∞ –≤–µ–і–µ–љ–Є–µ –≤–µ—З–µ—А–∞. –Ф–Њ –љ–∞—З–∞–ї–∞ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–µ—З–µ—А–∞ –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М —В—А–Є –і–љ—П. –ѓ –љ–µ –Њ–њ–Є—Б—Л–≤–∞—О —Н–Љ–Њ—Ж–Є–Є —В—Г–њ–Њ —Б—В–Њ—П—Й–µ–є —Д–Є–≥—Г—А—Л –љ–∞ —Б—Ж–µ–љ–µ –≤ ¬Ђ–ї—Г—З–∞—Е¬ї –і–µ–ґ—Г—А–љ–Њ–≥–Њ —Б–≤–µ—В–∞, –љ–µ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ–є –Њ—В–≤–µ—В–Є—В—М –љ–Є –љ–∞ –Њ–і–Є–љ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б. –Р –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–≤ –±—Л–ї–Њ –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–є –Я–∞—А—В–Є–Є, –£–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л, –Ю–±–ї—Б–Њ–≤–њ—А–Њ—Д–∞, –Э–∞—А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є –µ—Й–µ –Ї–Њ–≥–Њ-—В–Њ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ—А–Є—И–ї–Є –љ–∞ –њ—А–Њ–≥–Њ–љ –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–µ—А–Њ–њ—А–Є—П—В–Є—П. –Я—А–Є—И–ї–Є —А–µ–ґ–Є—Б—Б–µ—А—Л —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Є –ї–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В–µ–ї–µ–≤–Є–і–µ–љ–Є—П –і–ї—П —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Є —Б–≤–µ—В–Њ–Ј–≤—Г–Ї–Њ–≤–Њ–є –∞–њ–њ–∞—А–∞—В—Г—А—Л. –Ч–∞–Љ. –Я—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—П –°–Њ—О–Ј–∞ –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—В–Њ—А–Њ–≤ —В–Њ–≤. –Ь–∞—В–≤–µ–µ–≤ вАУ –Є–љ—В–µ–ї–ї–Є–≥–µ–љ—В–љ–µ–є—И–Є–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї вАУ –Ї–∞–Ї-—В–Њ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–≤—И–Є—Б—М —А—П–і–Њ–Љ —Б–Њ –Љ–љ–Њ–є –љ–∞ —Б—Ж–µ–љ–µ, –≤–Є–і–Є–Љ–Њ, –Є–Ј —Б–Њ–ї–Є–і–∞—А–љ–Њ—Б—В–Є, —Б —Б–Њ—З—Г–≤—Б—В–≤–Є–µ–Љ –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї –љ–∞ –Љ–µ–љ—П –Є —В–Є—Е–Њ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї: ¬Ђ–І—В–Њ –ґ–µ –±—Г–і–µ—В? –Э–∞–і–Њ –≤—Б—С –Њ—В–Љ–µ–љ—П—В—М?!¬ї –С–µ–Ј–љ–∞–і–µ–ґ–љ–Њ –≤–≥–ї—П–і—Л–≤–∞—П—Б—М –≤ –Њ–±–µ—Б–Ї—Г—А–∞–ґ–µ–љ–љ–Њ–µ –µ–≥–Њ –ї–Є—Ж–Њ, —А–µ—И–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Њ—В–≤–µ—З–∞—О: ¬Ђ–Т—Б—С –±—Г–і–µ—В. –Э–µ –Ј–љ–∞—О –Ї–∞–Ї, –љ–Њ –±—Г–і–µ—В!¬ї  –Ь.–Р.–Ь–∞—В–≤–µ–µ–≤ вАУ –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—В–Њ—А, —Г—З–µ–љ–Є–Ї –Ф.–Ф.–®–Њ—Б—В–∞–Ї–Њ–≤–Є—З–∞, —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –≤ –≥–Њ–і—Л –≤–Њ–є–љ—Л.
29.03.201300:3229.03.2013 00:32:35
0
29.03.201300:2229.03.2013 00:22:13
вАФ –Ъ—В–Њ? вАФ –њ–Њ–±–∞–≥—А–Њ–≤–µ–ї –§—А–Њ–ї.  вАФ –Ю–≥–Њ! –Э—Г, —Е–Њ—А–Њ—И–Њ, –≤ —Н—В–Њ–Љ –љ–µ—В –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ —Б–µ–Ї—А–µ—В–∞: –Њ–љ вАФ –ї–∞—Г—А–µ–∞—В , —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М –Ї—А—Г–ґ–Ї–∞ –≤ –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В–µ, –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А –Р–Ї–∞–Ї–Є–є –Э–∞—Е—Г—Ж—А–Є—И–≤–Є–ї–Є. –° —В–µ–±—П –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ? –Я–Њ–≥–Њ–і–Є, вАФ –њ—А–µ–і—Г–њ—А–µ–і–Є–ї–∞ –Њ–љ–∞ –§—А–Њ–ї–∞, –њ—Л—В–∞–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –≤—Б–Ї–Њ—З–Є—В—М, вАФ –µ–Љ—Г —И–µ—Б—В—М–і–µ—Б—П—В –і–≤–∞ –≥–Њ–і–∞, –Є –Њ–љ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В, —З—В–Њ –µ—Б–ї–Є –±—Л –Њ–љ –±—Л–ї –љ–∞ —В—А–Є–і—Ж–∞—В—М –і–≤–∞ –≥–Њ–і–∞ –Љ–Њ–ї–Њ–ґ–µ, –Њ–љ –±—Л —Б–і–µ–ї–∞–ї –Љ–љ–µ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –Є –љ–µ–Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ –±—Л –љ–∞ –Љ–љ–µ –ґ–µ–љ–Є–ї—Б—П! –Ю–љ–∞ —А–∞—Б—Е–Њ—Е–Њ—В–∞–ї–∞—Б—М –Њ—В –≤—Б–µ–є –і—Г—И–Є, –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–∞—П —В–µ–Љ, —З—В–Њ –µ–є —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –њ–Њ–і—А–∞–Ј–љ–Є—В—М –§—А–Њ–ї–∞. вАФ –§—А–Њ–ї, –Љ–Є–ї—Л–є, вАФ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞ –Њ–љ–∞ –љ–∞—Б—Г–њ–Є–≤—И–µ–Љ—Г—Б—П –§—А–Њ–ї—Г, вАФ –і–∞ –љ–µ—Г–ґ–µ–ї–Є —В—Л –і—Г–Љ–∞–µ—И—М, —З—В–Њ —П –≤—Л–є–і—Г –Ј–∞–Љ—Г–ґ, –њ–Њ–Ї–∞ –љ–µ –Њ–Ї–Њ–љ—З—Г –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В –Є –љ–µ –≤—Б—В–∞–љ—Г –љ–∞ –љ–Њ–≥–Є? –ѓ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –≤ –ґ–Є–Ј–љ–Є –љ–µ –±—Г–і—Г –Ј–∞–≤–Є—Б–µ—В—М –Њ—В –Љ—Г–ґ–∞! –Ш –љ–µ—Г–ґ–µ–ї–Є —В—Л –і—Г–Љ–∞–µ—И—М, вАФ –Њ–љ–∞ —Б–і–µ–ї–∞–ї–∞ –њ–∞—Г–Ј—Г, вАФ —З—В–Њ —П –≤—Л–є–і—Г –Ј–∞ –Ї–Њ–≥–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М –Ј–∞–Љ—Г–ґ –±–µ–Ј —В–≤–Њ–µ–≥–Њ —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є—П? вАФ –°–њ—А–Њ—Б–Є—И—М? вАФ –°–њ—А–Њ—И—Г. вАФ –Р –µ—Б–ї–Є —П –Ј–∞–њ—А–µ—Й—Г? вАФ –Э–µ –њ–Њ–є–і—Г! вАФ –Я–Њ–Ї–ї—П–љ–Є—Б—М! вАФ –Ъ–ї—П–љ—Г—Б—М –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—М–µ–Љ –њ–∞–њ—Л! вАФ –Э—Г, —В–Њ-—В–Њ! –Ь–Є—А –±—Л–ї –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ.  –Ь—Л –≤—Л—И–ї–Є –≤ —Б–∞–і. –°–Њ–ї–љ—Ж–µ –Ј–∞–і–µ–ї–Њ –Њ–≥–љ–µ–љ–љ—Л–Љ –Ї—А–∞–µ–Љ –Љ–Њ—А–µ, –Є –≤–Њ–і–∞, –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —В–∞–Љ –њ–ї–∞–≤–Є–ї–∞—Б—М –Є –Ї–Є–њ–µ–ї–∞. –Я–Њ—В–Њ–Љ –Њ–Ї—Г–љ—Г–ї–Њ—Б—М –≤ –Љ–Њ—А–µ, –Є—Б—З–µ–Ј–ї–Њ –Ј–∞ –≥–Њ—А–Є–Ј–Њ–љ—В–Њ–Љ, —Б—А–∞–Ј—Г —Б—В–∞–ї–Њ —В–µ–Љ–љ–Њ, –Є —Б –≥–Њ—А –њ–Њ—В—П–љ—Г–ї–Њ —Е–Њ–ї–Њ–і–Њ–Љ. –Ь—Л —Б–Є–і–µ–ї–Є –љ–∞ —В—А–∞–≤–µ –≤ —В–µ–Љ–љ–Њ—В–µ. –Ы–µ—В–∞–ї–Є —Б–≤–µ—В–ї—П—З–Ї–Є, –њ–∞—Е–ї–Њ —З–µ–Љ-—В–Њ –њ—А—П–љ—Л–Љ, –і—Г—И–Є—Б—В—Л–Љ; –≥–і–µ-—В–Њ –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Њ –Ї—А–Є–Ї–љ—Г–ї–∞ –њ—В–Є—Ж–∞, –і—А—Г–≥–∞—П –Њ—В–Ї–ї–Є–Ї–љ—Г–ї–∞—Б—М –Є–Ј–і–∞–ї–µ–Ї–∞. –Я—А—П—В–∞–≤—И–∞—П—Б—П –Ј–∞ –Њ–±–ї–∞–Ї–∞–Љ–Є –ї—Г–љ–∞ –≤–і—А—Г–≥ –Њ—Б–≤–µ—В–Є–ї–∞ —З–∞—Б—В—М –Љ–Њ—А—П, –Є –њ–Њ —Б–≤–µ—В–ї–Њ–Љ—Г –њ—П—В–љ—Г –Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ –Ј–∞—Б–Ї–Њ–ї—М–Ј–Є–ї–∞ —З–µ—А–љ–∞—П —В–Њ—З–Ї–∞ вАФ —А—Л–±–∞—З–Є–є –±–∞—А–Ї–∞—Б. –°—В—Н–ї–ї–∞ –њ–Њ–і–љ—П–ї–∞—Б—М –Є –њ–Њ—И–ї–∞ –≤–љ–Є–Ј —Б –≥–Њ—А—Л. вАФ –§—А–Њ–ї! вАФ –њ–Њ–Ј–≤–∞–ї–∞ –Њ–љ–∞. вАФ –Ш–і–µ–Љ, —П —В–µ–±–µ —З—В–Њ-—В–Њ —Б–Ї–∞–ґ—Г! –§—А–Њ–ї –љ–µ—Г–Ї–ї—О–ґ–µ –њ–Њ–і–љ—П–ї—Б—П, –њ–µ—А–µ–њ—Г–≥–∞–≤ —Б–≤–µ—В–ї—П—З–Ї–Њ–≤, —А–∞—Б—Б—Л–њ–∞–≤—И–Є—Е—Б—П, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –њ–∞—А–Њ–≤–Њ–Ј–љ—Л–µ –Є—Б–Ї—А—Л. вАФ –ѓ —З–∞—Б—В–Њ —Б–Є–ґ—Г –≤–Њ—В —В–∞–Ї –≤–µ—З–µ—А–Њ–Љ –Є —Б–Љ–Њ—В—А—О –љ–∞ –Љ–Њ—А–µ, вАФ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞ –Р–љ—В–Њ–љ–Є–љ–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –§—А–Њ–ї –Є—Б—З–µ–Ј –≤ —В–µ–Љ–љ–Њ—В–µ. вАФ –Ш –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О —В–µ–±—П... –Ь–љ–µ –≤—Б–µ –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, —З—В–Њ —В–≤–Њ–є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М –≥–і–µ-—В–Њ —В–∞–Љ, –≤ –Љ–Њ—А–µ, —Е–Њ—В—П —П –Ј–љ–∞—О, —З—В–Њ —В—Л вАФ –љ–∞ –С–∞–ї—В–Є–Ї–µ. вАФ –Ґ–µ–±–µ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –Ј–і–µ—Б—М? вАФ –Ф–∞, –Њ—З–µ–љ—М. –Ю–љ–∞ –љ–∞—З–∞–ї–∞ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М, –Ї–∞–Ї–Є–Љ–Є —З—Г–і–µ—Б–∞–Љ–Є –љ–∞–њ–Њ–ї–љ–µ–љ –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞–≤—И–Є–є –љ–∞—Б —Б–∞–і, –Ї–∞–Ї —Е–Њ—А–Њ—И–Њ, –≤—Б—В–∞–≤ –љ–∞ —А–∞—Б—Б–≤–µ—В–µ, —Г–є—В–Є –≤ –≥–Њ—А—Л –Є –њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞—В—М—Б—П –≤—Б–µ –≤—Л—И–µ –Є –≤—Л—И–µ... вАФ –Х—Б–ї–Є –±—Л —В—Л –±—Л–ї –Ј–і–µ—Б—М, —Б–Њ –Љ–љ–Њ–є! –ѓ –±—Л –±—Л–ї–∞ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ —Б—З–∞—Б—В–ї–Є–≤–∞!  –ѓ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї –µ–µ –Њ –®–∞–ї–≤–µ –•—А–Є—Б—В–Њ—Д–Њ—А–Њ–≤–Є—З–µ. вАФ –Ф–µ–і –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–ї –Ї–љ–Є–≥—Г, –Ї –љ–∞–Љ –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Є –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї–Є –Є —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–Є, –Є —П –Є–Љ —З–Є—В–∞–ї–∞ —В—А–Є –≤–µ—З–µ—А–∞. –Ъ–љ–Є–≥—Г –Њ—З–µ–љ—М —Е–≤–∞–ї–Є–ї–Є. –Ш –µ–µ —Б–і–∞–ї–Є —Г–ґ–µ –≤ —В–Є–њ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—О. –Ф–µ–і –ґ–і–µ—В –љ–µ –і–Њ–ґ–і–µ—В—Б—П, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ–∞ –≤—Л–є–і–µ—В, –Є —Б–Њ–±–Є—А–∞–µ—В—Б—П –њ–Є—Б–∞—В—М –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ. –≠—В–Њ –њ—А–Є–±–∞–≤–Є—В –µ–Љ—Г –і–µ—Б—П—В—М –ї–µ—В –ґ–Є–Ј–љ–Є... –Ф–∞, —В—Л –≤–µ–і—М –Ј–љ–∞–µ—И—М вАФ –Њ—В–µ—Ж –ґ–µ–љ–Є–ї—Б—П... вАФ –Ю–љ–∞ —В–∞–Ї–∞—П –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–∞—П! вАФ –Э–µ—В, –Њ–љ–∞ —Б–Є–Љ–њ–∞—В–Є—З–љ–∞—П –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞ –Є –љ–µ–≥–ї—Г–њ–∞—П! –ѓ –±—Л–ї–∞ —Г –љ–Є—Е –≤ –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї–µ; –Њ–љ–∞ –Ї–Њ –Љ–љ–µ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П –Є, —З—В–Њ —Б–∞–Љ–Њ–µ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–µ, –љ–µ –њ—Л—В–∞–µ—В—Б—П –Є–≥—А–∞—В—М —А–Њ–ї—М –Љ–∞—В–µ—А–Є. –ѓ –µ–є –Њ—З–µ–љ—М –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–љ–∞ –Ј–∞ —Н—В–Њ. –Р –Њ—В–µ—Ж –Њ—В –Љ–µ–љ—П –≥–ї–∞–Ј–∞ –њ—А—П—З–µ—В. –Ш –њ–Њ—З–µ–Љ—Г-—В–Њ –≤—Б–µ –њ–Њ–≤—В–Њ—А—П–µ—В, —З—В–Њ –Љ–µ–љ—П –Њ—З–µ–љ—М –ї—О–±–Є—В, —Е–Њ—В—П —П –Є –±–µ–Ј –љ–µ–≥–Њ —Н—В–Њ –Ј–љ–∞—О. –Ґ—Л –≤–Є–і–µ–ї –µ–≥–Њ? вАФ –Э–µ—В –µ—Й–µ. –Ю–љ –±—Л–ї –≤ –Љ–Њ—А–µ. вАФ –Ф–∞, –Љ–љ–µ —А–µ–і–Ї–Њ —Б –љ–Є–Љ –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –≤–Є–і–µ—В—М—Б—П. –Ш —В–µ–±—П —П –љ–µ –±—Г–і—Г –≤–Є–і–µ—В—М –њ–Њ–і–Њ–ї–≥—Г. –Ґ—Л –±—Г–і–µ—И—М –њ–ї–∞–≤–∞—В—М... вАФ –Р —З—В–Њ, –Р–љ—В–Њ–љ–Є–љ–∞, –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –ї—Г—З—И–µ –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є–є? –ѓ —Е–Њ—З—Г –±—Л—В—М –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–Љ, –Ј–љ–∞—О—Й–Є–Љ –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–Љ. вАФ –Ш —В—Л –Є–Љ –±—Г–і–µ—И—М, —П –≤–µ—А—О... –Ґ–≤–Њ–Є –і–Њ—А–Њ–≥–∞ вАФ –≤ –Љ–Њ—А—П—Е... –ѓ —Б—В–∞—А–∞—О—Б—М —Б–µ–±—П –њ—А–Є—Г—З–Є—В—М –Ї —Н—В–Њ–є –Љ—Л—Б–ї–Є. –Ш –Ї —В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –Љ–љ–µ –њ—А–Є–і–µ—В—Б—П —В–µ—А–њ–µ–ї–Є–≤–Њ –ґ–і–∞—В—М —В–µ–±—П, —А–∞–і–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –Ї–∞–ґ–і–Њ–є –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Њ–є –≤—Б—В—А–µ—З–µ –Є... –Є —Б –≥–Њ—А–і–Њ—Б—В—М—О –Њ—В–≤–µ—З–∞—В—М, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Љ–µ–љ—П —Б–њ—А–Њ—Б—П—В, –≥–і–µ —В—Л: ¬Ђ–Ю–љ вАФ –≤ –Љ–Њ—А–µ, –≥–і–µ –ґ–µ –µ–Љ—Г –±–Њ–ї—М—И–µ –±—Л—В—М?¬ї  вАФ –Я–Њ—Б—В–Њ–є, вАФ –≤–Ј—П–ї–∞ –Њ–љ–∞ –Љ–µ–љ—П –Ј–∞ —А—Г–Ї—Г, вАФ –∞ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, —Н—В–Њ –≤—Б–µ –њ—Г—Б—В—Л–µ –Љ–µ—З—В—Л, –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, —П —В–µ–±–µ –љ–µ –љ—Г–ґ–љ–∞ –≤–Њ–≤—Б–µ? –Ґ—Л –ї—Г—З—И–µ –њ—А—П–Љ–Њ —Б–Ї–∞–ґ–Є... вАФ –Р–љ—В–Њ–љ–Є–љ–∞! вАФ –Э–µ—В, —В—Л –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—И—М –ї–≥–∞—В—М; —В–≤–Њ–Є –њ–Є—Б—М–Љ–∞, –Э–Є–Ї–Є—В–∞, –љ–µ –ї–≥—Г—В, вАФ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–∞ –Њ–љ–∞. вАФ –ѓ –Ј–љ–∞—О, —В—Л —Б–∞–Љ—Л–є —А–Њ–і–љ–Њ–є –Љ–љ–µ –Є —Б–∞–Љ—Л–є –±–ї–Є–Ј–Ї–Є–є... –У–Њ—А—П—З–Є–µ –≥—Г–±—Л –њ—А–Є–ґ–∞–ї–Є—Б—М –Ї –Љ–Њ–Є–Љ –≥—Г–±–∞–Љ. –†—П–і–Њ–Љ —Е—А—Г—Б—В–љ—Г–ї–∞ –≤–µ—В–Ї–∞, –Є —П —Г—Б–ї—Л—И–∞–ї –≤ —В–µ–Љ–љ–Њ—В–µ –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞—Б –°—В—Н–ї–ї—Л: вАФ –Р –≤–Њ—В –Є –Љ—Л! –Ь—Л —Б–њ—Г—Б—В–Є–ї–Є—Б—М –і–Њ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А—П. –£—Е, –Є –±–µ–ґ–∞–ї–Є –ґ–µ –Љ—Л –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ –≤ –≥–Њ—А—Г! –Р –≤—Б–µ –ґ–µ —В—Л –Љ–µ–љ—П –љ–µ –і–Њ–≥–љ–∞–ї, –§—А–Њ–ї! вАФ –І—Г–і–∞—З–Ї–∞, –і–∞ —А–∞–Ј–≤–µ —В–µ–±—П, –±—Л—Б—В—А–Њ–љ–Њ–≥—Г—О, –≤ —В–µ–Љ–љ–Њ—В–µ –і–Њ–≥–Њ–љ–Є—И—М? –І—Г—В—М –љ–Њ–≥ –љ–µ –њ–µ—А–µ–ї–Њ–Љ–∞–ї! –§—А–Њ–ї —А–∞—Б—В—П–љ—Г–ї—Б—П –љ–∞ —В—А–∞–≤–µ, –Ј–∞–Ї–Є–љ—Г–≤ —А—Г–Ї–Є –Ј–∞ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г. вАФ –Т—Л–і–Њ—Е—Б—П! вАФ –љ–µ —Г–і–µ—А–ґ–∞–ї–∞—Б—М, —З—В–Њ–±—Л –љ–µ –њ–Њ–і–і—А–∞–Ј–љ–Є—В—М, –°—В—Н–ї–ї–∞, –љ–Њ –§—А–Њ–ї –Њ—В–њ–∞—А–Є—А–Њ–≤–∞–ї: вАФ –Ь–Њ—А—П–Ї–Є –љ–µ –≤—Л–і—Л—Е–∞—О—В—Б—П, –Њ–љ–Є –Њ—В–і—Л—Е–∞—О—В. –Я–Њ—В–Њ–Љ –§—А–Њ–ї —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї, —З—В–Њ –Љ—Л –±—Л–ї–Є –≤ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–µ —Г —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ ¬Ђ–љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ¬ї –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞, –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–∞. вАФ –Э–µ-–µ—В, –њ—А–∞–≤–і–∞? вАФ –≤–Њ—Б–Ї–ї–Є–Ї–љ—Г–ї–∞ –°—В—Н–ї–ї–∞. вАФ –Я—А–Є–µ–і—Г –≤ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і, –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ–Њ–є–і—Г –Ї –љ–µ–Љ—Г –≤ –≥–Њ—Б—В–Є. вАФ –Ш –Њ–љ –±—Г–і–µ—В –≤ –≤–Њ—Б—В–Њ—А–≥–µ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤—Б—В—А–µ—В–Є—В –і–µ—А–Ј–Ї—Г—О –і–µ–≤—З–Њ–љ–Ї—Г, –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–≤—И—Г—О –µ–≥–Њ –њ—А—П–Љ–Њ –љ–∞ —Г–ї–Є—Ж–µ, вАФ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –§—А–Њ–ї –µ—Е–Є–і–љ–Њ. вАФ –Э—Г, –Є —З—В–Њ –ґ–µ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ? –Ґ—Л –њ–ї–Њ—Е–Њ —Г—З–Є–ї—Б—П, –і–∞, –і–∞, –љ–µ –Ї—А—П—Е—В–Є, –§—А–Њ–ї, –Є —В—Л –±—Л–ї –њ–ї–Њ—Е–Њ –і–Є—Б—Ж–Є–њ–ї–Є–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ, –Є —Б —В–µ–±—П –і–∞–ґ–µ —Б–љ—П–ї–Є –ї–µ–љ—В–Њ—З–Ї—Г –Є –њ–Њ–≥–Њ–љ—Л. –ѓ —В–µ–±–µ –≥–Њ–≤–Њ—А—О, –§—А–Њ–ї, –љ–µ –Ї—А—П—Е—В–Є –Є –љ–µ –Ј–ї–Є—Б—М; –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ —Б—В—Л–і–љ–Њ –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М —В–Њ, —З—В–Њ –±—Л–ї–Њ, –µ—Б–ї–Є —В—Л –њ–Њ—Б–ї–µ –Є—Б–њ—А–∞–≤–Є–ї —Б–≤–Њ–Є –Њ—И–Є–±–Ї–Є. –ѓ –≤—Б—В—А–µ—В–Є–ї–∞ –љ–∞ —Г–ї–Є—Ж–µ –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–∞ –Є —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї–∞ –µ–≥–Њ –Њ —В–µ–±–µ. –Р –Њ–љ –Ј–∞–Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞–ї—Б—П, –Њ—В–Ї—Г–і–∞ —П —В–µ–±—П –Ј–љ–∞—О, –Є –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї, —З—В–Њ —В—Л –Є—Б–њ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П, —Б—В–∞–ї –Њ—В–ї–Є—З–љ–Є–Ї–Њ–Љ. ¬Ђ–Ґ—Л –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–∞, –і–µ–≤–Њ—З–Ї–∞?¬ї вАФ ¬Ђ–Ю—З–µ–љ—М –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–∞¬ї, вАФ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞ —П. –Р –Њ–љ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї, –Ї–∞–Ї –Љ–µ–љ—П –Ј–Њ–≤—Г—В, –Є —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї, —З—В–Њ —Г –Љ–µ–љ—П –Ї—А–∞—Б–Є–≤–Њ–µ –Є–Љ—П. –≠—В–Њ –±—Л–ї–Њ —В—А–Є... –љ–µ—В, —З–µ—В—Л—А–µ –≥–Њ–і–∞ –љ–∞–Ј–∞–і, –∞ –Ї–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ –≤—З–µ—А–∞! –Ю–љ –Њ—З–µ–љ—М —Б–Њ—Б—В–∞—А–Є–ї—Б—П? вАФ –°–Њ–≤—Б–µ–Љ –љ–µ —Б–Њ—Б—В–∞—А–Є–ї—Б—П. –Ю–љ –Љ–Њ–ї–Њ–ґ–µ –і—А—Г–≥–Є—Е –Љ–Њ–ї–Њ–і—Л—Е. вАФ –Ь–∞–ї—М—З–Є–Ї–Є, вАФ –≤–і—А—Г–≥ —Б–њ–Њ—Е–≤–∞—В–Є–ї–∞—Б—М –°—В—Н–ї–ї–∞, вАФ –≤—Л, –љ–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ, —Б–љ–Њ–≤–∞ –≥–Њ–ї–Њ–і–љ—Л–µ!  –Я—А–µ–ґ–і–µ, —З–µ–Љ –Љ—Л —Г—Б–њ–µ–ї–Є –µ–µ —Г–і–µ—А–ґ–∞—В—М, –°—В—Н–ї–ї–∞ —Б–±–µ–≥–∞–ї–∞ –≤ –і–Њ–Љ, –њ—А–Є–љ–µ—Б–ї–∞ –Є –Ј–∞—Б—В–∞–≤–Є–ї–∞ –љ–∞—Б —Б—К–µ—Б—В—М –њ–Њ –і–≤–∞ —Б—В–∞–Ї–∞–љ–∞. –§—А–Њ–ї —Г–њ–Є—А–∞–ї—Б—П, –љ–Њ –°—В—Н–ї–ї–∞ —Г–≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–∞: ¬Ђ–≠—В–Њ –Њ—З–µ–љ—М –њ–Њ–ї–µ–Ј–љ–Њ, –љ–µ–і–∞—А–Њ–Љ –≤ –У—А—Г–Ј–Є–Є –ґ–Є–≤—Г—В –і–Њ —Б—В–∞ –Є –і–Њ –њ–Њ–ї—Г—В–Њ—А–∞—Б—В–∞ –ї–µ—В, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –µ–і—П—В –Ї–∞–ґ–і—Л–є –і–µ–љ—М –Љ–∞—Ж–Њ–љ–Є¬ї. –§—А–Њ–ї –њ–Њ–≤–µ—А–Є–ї –µ–є –Є —Б—К–µ–ї, —З—В–Њ–±—Л –і–Њ–ґ–Є—В—М –і–Њ —Б—В–∞ –ї–µ—В. –С–∞–≥—А–Њ–≤–∞—П –ї—Г–љ–∞ –њ–Њ–і–љ—П–ї–∞—Б—М –љ–∞–і –Ї–Є–њ–∞—А–Є—Б–∞–Љ–Є. –Т –і–Њ–Љ–µ –≥–Њ—А–µ–ї –ї–Є—И—М –Њ–і–Є–љ –Њ–≥–Њ–љ–µ–Ї, –≤ –Љ–µ–Ј–Њ–љ–Є–љ–µ, –≤ —А–∞–±–Њ—З–µ–Љ –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В–µ –С–Њ—А–Є—Б–∞ –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ–Њ–≤–Є—З–∞. –Ф–∞–ї–µ–Ї–Њ –Ј–∞ –≥–Њ—А–Њ–є, –≤ –і–µ—А–µ–≤–љ–µ, –ґ–µ–љ—Б–Ї–Є–є –≥–Њ–ї–Њ—Б —Б—А–µ–і–Є –љ–Њ—З–Є –њ–µ–ї –≥—А—Г—Б—В–љ—Г—О –≥—А—Г–Ј–Є–љ—Б–Ї—Г—О –њ–µ—Б–љ—О. –Ь–Њ—А–µ —Б–≤–µ—В–Є–ї–Њ—Б—М. –Ч–∞ –±–∞—А–Ї–∞—Б–Њ–Љ, —Б–Ї–Њ–ї—М–Ј–Є–≤—И–Є–Љ –њ–Њ –≤–Њ–і–µ, –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–∞—Б—М —Д–Њ—Б—Д–Њ—А–µ—Б—Ж–Є—А—Г—О—Й–∞—П –і–Њ—А–Њ–ґ–Ї–∞. –Я–Њ—А–∞ –±—Л–ї–Њ —Г—Е–Њ–і–Є—В—М. –Р–љ—В–Њ–љ–Є–љ–∞ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞: вАФ –Ь—Л –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–Љ –≤–∞—Б –і–Њ –і–Њ—А–Њ–≥–Є. вАФ –Р –≤—Л –љ–µ –±–Њ–Є—В–µ—Б—М? вАФ –Э—Г, –Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞–Љ –±–Њ—П—В—М—Б—П? вАФ –Ґ—Л –≤–µ–і—М —Б–∞–Љ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї, —З—В–Њ —П –љ–µ –Є—Б–њ—Г–≥–∞—О—Б—М –Є —З–µ—А—В–∞! вАФ –Ј–∞—Б–Љ–µ—П–ї–∞—Б—М –°—В—Н–ї–ї–∞. –Р–љ—В–Њ–љ–Є–љ–∞ —Б–±–µ–≥–∞–ї–∞ –≤ –і–Њ–Љ, –≤–µ—А–љ—Г–ї–∞—Б—М –≤ –њ–ї–∞—Й–µ –Є –њ—А–Њ—В—П–љ—Г–ї–∞ –і—А—Г–≥–Њ–є –њ–ї–∞—Й –°—В—Н–ї–ї–µ. –°—В—Н–ї–ї–∞, –љ–∞–Ї–Є–љ—Г–≤ –µ–≥–Њ, –њ–Њ—И–ї–∞ –≤–њ–µ—А–µ–і, –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—П –і–Њ—А–Њ–≥—Г. –І—В–Њ-—В–Њ –Љ—П–≥–Ї–Њ–µ —В–Ї–љ—Г–ї–Њ—Б—М –Љ–љ–µ –≤ –љ–Њ–≥–Є. –Р–љ—В–Њ–љ–Є–љ–∞ –≤–Њ—Б–Ї–ї–Є–Ї–љ—Г–ї–∞: вАФ –Т–Њ—В –Є –њ—А–Њ–≤–Њ–і–љ–Є–Ї! –Ъ–∞—А–Њ, –Ъ–∞—А–Њ, –Є–і–µ–Љ —Б –љ–∞–Љ–Є!  –С–Њ–ї—М—И–∞—П –Ј–∞–њ—А—Л–≥–∞–ї–∞, –њ—Л—В–∞—П—Б—М –ї–Є–Ј–љ—Г—В—М –Р–љ—В–Њ–љ–Є–љ—Г –≤ –ї–Є—Ж–Њ. –Т —В–µ–Љ–љ–Њ—В–µ —Б–∞–і –Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –±–µ—Б–Ї–Њ–љ–µ—З–љ—Л–Љ, –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л–Љ –ї–µ—Б–Њ–Љ, –Є —П —Г–і–Є–≤–ї—П–ї—Б—П, –Ї–∞–Ї –Р–љ—В–Њ–љ–Є–љ–∞ –Є –°—В—Н–ї–ї–∞ –≤ –Ј–∞—А–Њ—Б–ї—П—Е –љ–∞—Е–Њ–і—П—В –і–Њ—А–Њ–≥—Г. –Т—Л—Б–Њ–Ї–Њ –љ–∞–і –љ–∞–Љ–Є, –љ–∞ –≥–Њ—А–∞—Е —Д–∞–љ—В–∞—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є —Б–≤–µ—А–Ї–∞–ї —Б–љ–µ–≥, –∞ –љ–∞ —Б–≤–µ—В—П—Й–µ–Љ—Б—П –њ—П—В–љ–µ –Љ–Њ—А—П —З–µ—А–љ–µ–ї–Є —Б–Є–ї—Г—Н—В—Л –≤–µ–ї–Є–Ї–∞–љ–Њ–≤ вАФ —Н—В–Њ –±—Л–ї–Є —Н–≤–Ї–∞–ї–Є–њ—В—Л. –Т–і–∞–ї–Є –ї–µ–ґ–∞–ї –≤ –ї—Г–љ–љ–Њ–Љ —Б–≤–µ—В–µ –≤–µ—Б—М –±–µ–ї—Л–є, —Г—Б–љ—Г–≤—И–Є–є —Б–Ї–∞–Ј–Њ—З–љ—Л–є –≥–Њ—А–Њ–і. вАФ –§—А–Њ–ї, –љ–µ –Ј–∞–±—Л–≤–∞–є, вАФ –њ–Њ–њ—А–Њ—Б–Є–ї–∞ –°—В—Н–ї–ї–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Б—В–Њ—А–Њ–ґ –≤—Л–њ—Г—Б—В–Є–ї –љ–∞—Б –Ј–∞ –≤–Њ—А–Њ—В–∞. вАФ –Я–Є—И–Є, —Б–Љ–Њ—В—А–Є, –∞ —В–Њ –Њ—В–µ—Ж –љ–∞–і–Њ –Љ–љ–Њ–є –Є–Ј–і–µ–≤–∞–µ—В—Б—П вАФ —П –њ–Њ —Г—В—А–∞–Љ –≤—Б–µ –ї–∞–Ј–∞—О –≤ —П—Й–Є–Ї. –Ы–µ–љ—М –њ–Є—Б–∞—В—М –±—Г–і–µ—В, –љ–∞–њ–Є—И–Є –Њ–і–љ–Њ —Б–ї–Њ–≤–Њ ¬Ђ–ґ–Є–≤¬ї, —Б—Г–љ—М –≤ –Ї–Њ–љ–≤–µ—А—В –Є –љ–∞–і–њ–Є—И–Є –∞–і—А–µ—Б. –Ь–Њ–ґ–љ–Њ –і–∞–ґ–µ –±–µ–Ј –Љ–∞—А–Ї–Є. –Т—Л –Ї—Г–і–∞ —Б–µ–є—З–∞—Б, –≤ –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—М? вАФ –У–ї—Г–њ—Л–є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б! –Ґ—Л –≤–µ–і—М –Ј–љ–∞–µ—И—М, —П –љ–∞ –љ–µ–≥–Њ –љ–µ –Њ—В–≤–µ—З—Г. вАФ –Ч–љ–∞—О! –Т–Њ–µ–љ–љ–∞—П —В–∞–є–љ–∞. вАФ –Я–Њ—А–∞ –±—Л –њ—А–Є–≤—Л–Ї–љ—Г—В—М –Є –љ–µ –Ј–∞–і–∞–≤–∞—В—М –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л—Е –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–≤! –Ь–∞—И–Є–љ–∞, –Њ—Б–ї–µ–њ–Є–≤ –љ–∞—Б, –њ—А–Њ–Љ—З–∞–ї–∞—Б—М —В–∞–Ї –±—Л—Б—В—А–Њ, —З—В–Њ –Љ—Л –љ–µ —Г—Б–њ–µ–ї–Є –њ–Њ–і–љ—П—В—М —А—Г–Ї. вАФ –Ґ–∞–Ї –≤—Л –Є –і–Њ —Г—В—А–∞ –љ–µ —Г–µ–і–µ—В–µ! –°—В—Н–ї–ї–∞ –≤—Б—В–∞–ї–∞ –њ–Њ—Б—А–µ–і–Є –і–Њ—А–Њ–≥–Є, –Є —Д–∞—А—Л —П—А–Ї–Њ –Њ—Б–≤–µ—В–Є–ї–Є –µ–µ —Б—В—А–Њ–є–љ—Г—О —Д–Є–≥—Г—А–Ї—Г —Б –њ–Њ–і–љ—П—В–Њ–є —А—Г–Ї–Њ–є –љ–∞ —Д–Њ–љ–µ –љ–∞—З–Є–љ–∞–≤—И–µ–≥–Њ —Б–≤–µ—В–ї–µ—В—М –љ–µ–±–∞. –Ь–∞—И–Є–љ–∞ —А–µ–Ј–Ї–Њ –Ј–∞—В–Њ—А–Љ–Њ–Ј–Є–ї–∞. –°—В—Н–ї–ї–∞ –њ–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–∞ —Б –≤–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–Љ, –Є –Њ–љ, –≤—Л—Б—Г–љ—Г–≤—И–Є—Б—М –Є–Ј –Ї–∞–±–Є–љ—Л, –њ—А–Є–≤–µ—В–ї–Є–≤–Њ –њ—А–Є–≥–ї–∞—Б–Є–ї: вАФ –Я—А–Њ—И—Г, –њ–Њ–ґ–∞–ї—Г–є—Б—В–∞, –≥–µ–љ–∞—Ж–≤–∞–ї–µ! вАФ –Ф–Њ —Б–≤–Є–і–∞–љ–Є—П... –ї—О–±–Є–Љ–∞—П! вАФ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї —П –Р–љ—В–Њ–љ–Є–љ–µ.  –Ь—Л –ґ–Є–≤–Њ –Ј–∞–±—А–∞–ї–Є—Б—М –≤ . вАФ –Ф–Њ —Б–Ї–Њ—А–Њ–є –≤—Б—В—А–µ—З–Є! вАФ –Ї—А–Є—З–∞–ї–Є –љ–∞–Љ –њ–Њ–і—А—Г–≥–Є. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –Љ—Л —З–µ—А–µ–Ј –њ–Њ–ї—З–∞—Б–∞ –њ–Њ–і—К–µ–Ј–ґ–∞–ї–Є –Ї –≥–Њ—А–Њ–і—Г, –љ–µ–±–Њ –њ–Њ—А–Њ–Ј–Њ–≤–µ–ї–Њ; –њ–Њ—А–Њ–Ј–Њ–≤–µ–ї–Є –±—Л—Б—В—А–Њ –±–µ–≥—Г—Й–Є–µ –Њ–±–ї–∞–Ї–∞, –Є —Б–љ–µ–≥ –љ–∞ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Є—Е –≥–Њ—А–∞—Е —В–Њ–ґ–µ —Б—В–∞–ї —А–Њ–Ј–Њ–≤—Л–Љ. –Т –і–Њ–Љ–∞—Е, –њ–Њ—Е–Њ–ґ–Є—Е –љ–∞ –±–Њ–ї—М—И–Є–µ –±–µ–ї—Л–µ —П—Й–Є–Ї–Є, –±–ї–µ—Б—В–µ–ї–Є –≤—Б–µ —Б—В–µ–Ї–ї–∞. –Ь—Л –≤—Л—И–ї–Є –љ–∞ –њ–Є—А—Б, –Є –§–Њ–Ї–Є–є –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–Є—З –њ—А–Є–≤–µ—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –љ–∞—Б —Б–Њ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –Ї–∞—В–µ—А–∞, –њ–Њ–Ї–∞—З–Є–≤–∞–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –љ–∞ –Њ–≥–љ–µ–љ–љ–Њ-–ґ–µ–ї—В–Њ–є –≤–Њ–ї–љ–µ. –Я—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В.  –Т–µ—А—О–ґ—Б–Ї–Є–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Т–Э–Р), –У–Њ—А–ї–Њ–≤ –Ю–ї–µ–≥ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Ю–Р–У), –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З (–Ь–Т–Т), –Ъ–°–Т. 198188. –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥, —Г–ї. –Ь–∞—А—И–∞–ї–∞ –У–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤–∞, –і–Њ–Љ 11/3, –Ї–≤. 70. –Ъ–∞—А–∞—Б–µ–≤ –°–µ—А–≥–µ–є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З, –∞—А—Е–Є–≤–∞—А–Є—Г—Б. karasevserg@yandex.ru
29.03.201300:2229.03.2013 00:22:13
0
28.03.201300:4228.03.2013 00:42:49
–Ю–±–Ј–Њ—А–љ–∞—П —Н–Ї—Б–Ї—Г—А—Б–Є—П –њ–Њ –Ъ—А–Њ–љ—И—В–∞–і—В—Г –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Ж—Л 2-–≥–Њ –Ї—Г—А—Б–∞ —Б –њ–µ–і–∞–≥–Њ–≥–Њ–Љ-–Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—В–Њ—А–Њ–Љ –Х.–Т.–§–Є–ї—П–µ–≤—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ–±—Л–≤–∞–ї–Є –љ–∞ –Њ–±–Ј–Њ—А–љ–Њ–є —Н–Ї—Б–Ї—Г—А—Б–Є–Є –≤ –Ъ—А–Њ–љ—И—В–∞–і—В–µ.  –†–µ–±—П—В–∞ —Г–Ј–љ–∞–ї–Є –Њ–± —Г–љ–Є–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–Є –Ъ—А–Њ–љ—И—В–∞–і—В–∞ –Ї–∞–Ї –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–Њ—А–њ–Њ—Б—В–∞, –Њ–± –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –≥–Њ—А–Њ–і–∞, –љ–µ—А–∞–Ј—А—Л–≤–љ–Њ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б –Я–µ—В—А–Њ–Љ I, –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–Љ–Є –Є–Ј–Њ–±—А–µ—В–µ–љ–Є—П–Љ–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е —Г—З–µ–љ—Л—Е, –≥–µ—А–Њ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є —Б–Њ–±—Л—В–Є—П–Љ–Є –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л.  –≠–Ї—Б–Ї—Г—А—Б–Є—П –љ–∞—З–∞–ї–∞—Б—М –Њ—В –і–∞–Љ–±—Л - —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –Ј–∞—Й–Є—Й–∞–µ—В —Б–µ–≤–µ—А–љ—Г—О —Б—В–Њ–ї–Є—Ж—Г –Њ—В –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–і, –њ–Њ—Б–µ—В–Є–ї–Є –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —Д–Њ—А—В ¬Ђ–Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ¬ї.  –£–≤–Є–і–µ–ї–Є —Г–љ–Є–Ї–∞–ї—М–љ—Л–µ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –Є –њ–µ—А–≤—Л–є –≤ –Љ–Є—А–µ —Б–∞–Љ–Њ—Б–ї–Є–≤–љ–Њ–є –Ї–∞–љ–∞–ї-–і–Њ–Ї –Я–µ—В—А–∞ I.  –Я–Њ—Б–µ—В–Є–ї–Є –≥–ї–∞–≤–љ—Г—О –і–Њ—Б—В–Њ–њ—А–Є–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –≥–Њ—А–Њ–і–∞ - –Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–є —Б–Њ–±–Њ—А, –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї –≤—Б–µ–Љ —З–Є–љ–∞–Љ —Д–ї–Њ—В–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –љ–µ –Є–Љ–µ—О—Й–Є–є —Б–µ–±–µ —А–∞–≤–љ—Л—Е –њ–Њ –Њ—В–і–µ–ї–Ї–µ —Б—А–µ–і–Є —Б–Њ–±–Њ—А–Њ–≤ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є. –£—А–Њ–Ї –±–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –≤ –Ј–Њ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –Љ—Г–Ј–µ–µ –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Ж—Л 7 –Ї–ї–∞—Б—Б–∞, —Г—З–Є—В–µ–ї—М –±–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –Ш.–Т.–Ъ–∞–ї–∞–Љ–∞—Ж–Ї–∞—П, –њ–µ–і–∞–≥–Њ–≥-–Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—В–Њ—А 3 –Ї—Г—А—Б–∞ –Р.–Т.–°–Є–≤–Ї–Њ–≤ , –њ–Њ—Б–µ—В–Є–ї–Є –Ч–Њ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Љ—Г–Ј–µ–є –Ч–Њ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В–∞ –†–Р–Э.  –Ч–Њ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Љ—Г–Ј–µ–є –≤ –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–µ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Ї—А—Г–њ–љ–µ–є—И–Є–Љ –Љ—Г–Ј–µ–µ–Љ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—Д–Є–ї—П –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Є –Њ–і–љ–Є–Љ –Є–Ј —Б–∞–Љ—Л—Е –Ї—А—Г–њ–љ—Л—Е –≤ –Љ–Є—А–µ.  –Х–≥–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є—П —Б–≤—П–Ј–∞–љ–∞ —Б –Ъ—Г–љ—Б—В–Ї–∞–Љ–µ—А–Њ–є вАУ –њ–µ—А–≤—Л–Љ –Љ—Г–Ј–µ–µ–Љ –†–Њ—Б—Б–Є–Є, —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–љ—Л–Љ –Я–µ—В—А–Њ–Љ –Я–µ—А–≤—Л–Љ –≤ 1714 –≥–Њ–і—Г.  –Ь—Г–Ј–µ–є–љ—Л–є —Д–Њ–љ–і –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ –њ–Њ–њ–Њ–ї–љ—П–µ—В—Б—П —Н–Ї—Б–њ–Њ–љ–∞—В–∞–Љ–Є, –њ—А–Є–≤–µ–Ј–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –Є–Ј —Н–Ї—Б–њ–µ–і–Є—Ж–Є–є.  –Ю–±—Й–∞—П –њ–ї–Њ—Й–∞–і—М —Н–Ї—Б–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В –±–Њ–ї–µ–µ 6 —В—Л—Б. –Ї–≤. –Љ. –Т –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П –≤ —Н–Ї—Б–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є –≤—Л—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Њ –±–Њ–ї–µ–µ 30 —В—Л—Б. –≤–Є–і–Њ–≤ –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л—Е. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, —Д–Њ–љ–і—Л –Љ—Г–Ј–µ—П –љ–∞—Б—З–Є—В—Л–≤–∞—О—В –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 15 –Љ–ї–љ. —Н–Ї–Ј–µ–Љ–њ–ї—П—А–Њ–≤ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–є —Д–∞—Г–љ—Л.  –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Ж—Л –њ–Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є–ї–Є—Б—М —Б –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–Љ–Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є –ґ–Є–≤–Њ—В–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Є—А–∞ - –Њ—В –њ—А–Њ—Б—В–µ–є—И–Є—Е –і–Њ –њ—А–Є–Љ–∞—В–Њ–≤. 17-–є –†–µ–≥–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–є —Д–µ—Б—В–Є–≤–∞–ї—М —И–Ї–Њ–ї—М–љ—Л—Е —В–µ–∞—В—А–Њ–≤ –љ–∞ –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Њ–Љ —П–Ј—Л–Ї–µ 14-15 –Љ–∞—А—В–∞ 2013 –≤ –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–µ –≤ –Р–љ–Є—З–Ї–Њ–≤–Њ–Љ –і–≤–Њ—А—Ж–µ –љ–∞ —Б—Ж–µ–љ–µ –Ґ–µ–∞—В—А–∞ —О–љ–Њ—И–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–∞ (–Ґ–Ѓ–Ґ) –°–Я–± –У–Ф–Ґ–Ѓ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї—Б—П 17-–є –†–µ–≥–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–є —Д–µ—Б—В–Є–≤–∞–ї—М —И–Ї–Њ–ї—М–љ—Л—Е —В–µ–∞—В—А–Њ–≤ –љ–∞ –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Њ–Љ —П–Ј—Л–Ї–µ.  –Т–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–љ–Є–Ї–Є 3 –Ї—Г—А—Б–∞, –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В–µ–ї—М –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞ –Р.–°.–Э–µ–≤–Ј–Њ—А–Њ–≤–∞, –њ–Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є–ї–Є—Б—М —Б —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–Њ–Љ —И–Ї–Њ–ї—М–љ—Л—Е —В–µ–∞—В—А–∞–ї—М–љ—Л—Е –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–Њ–≤.  –Т—Л—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–Њ–≤ –Њ—В–ї–Є—З–∞–ї–Є —П—А–Ї–Њ–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ, –Ї—А–µ–∞—В–Є–≤–љ–Њ—Б—В—М, –∞–Ї—В—Г–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М.  –Ґ–∞–љ—Ж—Л, –Є–Љ–њ—А–Њ–≤–Є–Ј–∞—Ж–Є—П, –њ–µ—Б–љ–Є –Є –ґ–Є–≤–Њ–є –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є–є —П–Ј—Л–Ї –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–ї–Є –љ–∞ –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Ж–µ–≤ —П—А–Ї–Њ–µ –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є–µ.  –Ь–µ—А–Њ–њ—А–Є—П—В–Є—П, –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ—Л–µ –Ф–љ—О –Љ–Њ—А—П–Ї–∞-–њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–∞ –Ь–µ—А–Њ–њ—А–Є—П—В–Є—П, –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ—Л–µ –Ф–љ—О –Љ–Њ—А—П–Ї–∞-–њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–∞ –Т 5-—Е –Ї–ї–∞—Б—Б–∞—Е, –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї 1 —Г—З–µ–±–љ–Њ–≥–Њ –Ї—Г—А—Б–∞ –Ш.–С.–Ъ—А—П–ґ–µ–≤, –њ–µ–і–∞–≥–Њ–≥-–Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—В–Њ—А –Э.–Р.–Ъ—Г–Ј—М–Љ–µ–љ–Ї–Њ, –њ—А–Њ—И–ї–Є –Љ–µ—А–Њ–њ—А–Є—П—В–Є—П, –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ—Л–µ –Ф–љ—О –Љ–Њ—А—П–Ї–∞-–њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–∞.  22 –Љ–∞—А—В–∞ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–∞—Б—М –≤—Б—В—А–µ—З–∞ —Б –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞ 1965 –≥–Њ–і–∞, –У–µ—А–Њ–µ–Љ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Ї–Њ–љ—В—А-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–Њ–Љ –Р.–Р.–С–µ—А–Ј–Є–љ—Л–Љ.  –Т —Е–Њ–і–µ –≤—Б—В—А–µ—З–Є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Њ –≥–Њ–і–∞—Е —Г—З–µ–±—Л –≤ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–Љ –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ, –Њ —Б–ї—Г–ґ–±–µ, –Њ –љ–∞–≥—А–∞–і–∞—Е –Є –±–Њ–µ–≤—Л—Е –њ–Њ—Е–Њ–і–∞—Е –љ–∞ –°–µ–≤–µ—А–љ—Л–є –њ–Њ–ї—О—Б.  –Т—Б—В—А–µ—З–∞ –њ—А–Њ–і–ї–Є–ї–∞—Б—М –±–Њ–ї–µ–µ —З–∞—Б–∞, –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Ж—Л —Б –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–Љ —Б–ї—Г—И–∞–ї–Є —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, –њ—А–Њ—И–µ–і—И–µ–≥–Њ –њ—Г—В—М –Њ—В –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Ж–∞ –і–Њ –Ї–Њ–љ—В—А-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–∞, –У–µ—А–Њ—П –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є.  24 –Љ–∞—А—В–∞ –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Ж—Л –њ–Њ—Б–µ—В–Є–ї–Є –Љ—Г–Ј–µ–є ¬Ђ–Я–Њ–і–≤–Њ–і–љ–∞—П –ї–Њ–і–Ї–∞ –°-189¬ї. –≠—В–Њ—В –њ—А–Њ–µ–Ї—В (613) –±—Л–ї —Б–∞–Љ–Њ–є –Љ–∞—Б—Б–Њ–≤–Њ–є —Б–µ—А–Є–µ–є –Є–Ј 215 –µ–і–Є–љ–Є—Ж.  –Я–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–љ–∞—П –љ–∞ –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ –Ј–∞–≤–Њ–і–µ –≤ 1955 –≥–Њ–і—Г, –њ–Њ—Б–ї–µ 35 –ї–µ—В —Б–ї—Г–ґ–±—Л –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞, –ї–Њ–і–Ї–∞ –њ—А–Є—И–ї–∞ –≤ –њ–Њ–ї–љ—Г—О –љ–µ–≥–Њ–і–љ–Њ—Б—В—М –Є –Ј–∞—В–Њ–љ—Г–ї–∞ –≤ –Ъ—А–Њ–љ—И—В–∞–і—В–µ –≤ 1990-—Е –≥–Њ–і–∞—Е.  –Т 2005 –≥–Њ–і—Г –ї–Њ–і–Ї—Г –њ–Њ–і–љ—П–ї–Є –Є –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї–Є –љ–∞ –Ъ–∞–љ–Њ–љ–µ—А—Б–Ї–Є–є —Б—Г–і–Њ—А–µ–Љ–Њ–љ—В–љ—Л–є –Ј–∞–≤–Њ–і, –≥–і–µ –µ–µ –Њ—В—А–µ–Љ–Њ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є –Є –њ–µ—А–µ–Њ–±–Њ—А—Г–і–Њ–≤–∞–ї–Є.  –Т –Њ—В—Б–µ–Ї–∞—Е "–°-189" —Б–Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–∞ —А–µ–∞–ї—М–љ–∞—П –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞ —Б–ї—Г–ґ–±—Л –Є –±—Л—В–∞ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤.  –£ –Љ—Г–Ј–µ—П-–ї–Њ–і–Ї–Є –µ—Б—В—М –Є —Б–≤–Њ–є —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ - –≤–µ—В–µ—А–∞–љ—Л-–њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞—О—В —Б–Њ—Е—А–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М –њ–Њ–і–ї–Њ–і–Ї–Є, –њ—А–Њ–≤–Њ–і—П—В —Н–Ї—Б–Ї—Г—А—Б–Є–Є –і–ї—П –њ–Њ—Б–µ—В–Є—В–µ–ї–µ–є.   –Т–µ—А—О–ґ—Б–Ї–Є–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Т–Э–Р), –У–Њ—А–ї–Њ–≤ –Ю–ї–µ–≥ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Ю–Р–У), –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З (–Ь–Т–Т), –Ъ–°–Т. 198188. –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥, —Г–ї. –Ь–∞—А—И–∞–ї–∞ –У–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤–∞, –і–Њ–Љ 11/3, –Ї–≤. 70. –Ъ–∞—А–∞—Б–µ–≤ –°–µ—А–≥–µ–є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З, –∞—А—Е–Є–≤–∞—А–Є—Г—Б. karasevserg@yandex.ru
28.03.201300:4228.03.2013 00:42:49
0
28.03.201300:3428.03.2013 00:34:09
–У–∞–ї–Њ—З–Ї–∞, –∞ —Б–∞–Љ—Л–Љ –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–µ–Љ –љ–∞—И–µ–≥–Њ —В—А—Г–і–∞ –±—Л–ї–Є –і–µ—В–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –љ–∞—И–ї–Є —Б–µ–±—П –≤ —Б–≤–Њ–µ–є –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Є, –≤ —Б–≤–Њ–µ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є, —З–∞—Й–µ –Є–Ј –Њ—З–µ–љ—М —Б–ї–Њ–ґ–љ—Л—Е —Б–µ–Љ–µ–є. –Ь–љ–Њ–≥–Є–µ –Є–Ј –љ–Є—Е –Њ–Ї–Њ–љ—З–Є–ї–Є –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–µ —Ж–Є—А–Ї–Њ–≤–Њ–µ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ вАУ –±—А–∞—В—М—П –Ы–∞—А–Є–љ—Л, –Ь–∞—И–∞ –Ю—А–ї–Њ–≤–∞, –Ы–∞—А–Є—Б–∞ –Ъ–Њ—А–љ—Л—И–µ–≤–∞, –°–∞—И–µ–љ—М–Ї–∞ –Я–µ—В—А–Њ–≤–∞, –Э–∞—В–∞—И–∞ –°–∞–≤–Є—З–µ–≤–∞, –µ—Й–µ –Њ–і–љ–Є –Ю—А–ї–Њ–≤—Л вАУ –Ъ–∞—В—П –Є –Ь–∞—И–∞. –°—В–∞–ї–Є —В–∞–ї–∞–љ—В–ї–Є–≤—Л–Љ–Є –њ–µ–і–∞–≥–Њ–≥–∞–Љ–Є –Ь–∞—И–∞ –Ю—А–ї–Њ–≤–∞, –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ –°—В—А—Г–ї—М—З–Є–љ—Б–Ї–Є–є, –Ы–µ–љ–∞ –Ы–Њ–≥–≤–Є–љ–Њ–≤–∞, —Б–Љ–µ—И–љ—Л–µ –±—А–∞—В—М—П –Ь–Є—В—А–Њ—Д–∞–љ–Њ–≤—Л. –Э–Њ —Б–∞–Љ—Л–є –љ–µ–Ј–∞–±—Л–≤–∞–µ–Љ—Л–є вАУ –°–µ—А–µ–ґ–∞ –У–Њ—А–±—Г–љ–Њ–≤ –Є–Ј 259 —И–Ї–Њ–ї—Л, —И–µ—Б—В—М –ї–µ—В —Б—В–Њ—П–≤—И–Є–є –љ–∞ —Г—З–µ—В–µ –≤ –Љ–Є–ї–Є—Ж–Є–Є. –Э–Є –≤–Њ —З—В–Њ –љ–µ –≤–µ—А–Є–ї, –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е –∞–≤—В–Њ—А–Є—В–µ—В–Њ–≤ –љ–µ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–≤–∞–ї, –љ–Є–Ї–Њ–≥–Њ –љ–µ —Г–≤–∞–ґ–∞–ї. –®–Ї–Њ–ї–∞ –≤—Б—В—А–µ—З–∞–ї–∞ –≤–µ—В–µ—А–∞–љ–Њ–≤ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л, –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ –≤ –Ї–Њ—А–Є–і–Њ—А–µ –њ–Њ—П–≤–Є–ї—Б—П –°–µ—А–µ–ґ–∞ –Є —Б –≤–Њ–Ј–Љ—Г—Й–µ–љ–љ—Л–Љ –≤–Є–і–Њ–Љ –≤–Њ –≤–µ—Б—М –≥–Њ–ї–Њ—Б: ¬Ђ–Р —Н—В–Њ —З—В–Њ –Ј–∞ –Љ–∞—Е–љ–Њ–≤—Ж—Л –≤ –љ–∞—И–µ–є —И–Ї–Њ–ї–µ?¬ї вАУ —Н—В–Њ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞–Љ, –≤–µ—В–µ—А–∞–љ–∞–Љ –У—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л! –Э–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤, –њ–Њ–Ї–∞ –љ–µ –Ј–∞–≥–ї—П–љ—Г–ї –≤ –љ–∞—И —Ж–Є—А–Ї –Є ... –Њ—Б—В–∞–ї—Б—П, –њ–Њ—Б–≤—П—В–Є–≤ —Б–µ–±—П —Н—В–Њ–Љ—Г —В—А—Г–і–љ–Њ–Љ—Г, —А–Є—Б–Ї–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–Љ—Г –і–µ–ї—Г. –†–∞–±–Њ—В–∞–µ—В —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –≤ –љ–∞—И–µ–Љ –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–Љ —Ж–Є—А–Ї–µ. –ѓ –і–Њ–ї–≥–Њ —Е—А–∞–љ–Є–ї–∞ –њ–µ—А–Њ—З–Є–љ–љ—Л–є –љ–Њ–ґ –Є –Ї–∞–Ј–∞—Ж–Ї—Г—О –њ–ї—С—В–Ї—Г, –њ—А–Є–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Г—О –і–ї—П –Љ–µ–љ—П. –≠—В–Њ—В ¬Ђ–њ–Њ–і–∞—А–Њ–Ї¬ї –Њ—В–і–∞–ї –Љ–љ–µ –°–µ—А–µ–ґ–∞, —Б–њ—Г—Б—В—П –Љ–љ–Њ–≥–Њ –ї–µ—В, —Б –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–љ–Њ—Б—В—М—О. –Т—Б–µ—Е —А–µ–±—П—В –љ–µ –њ–µ—А–µ—З–Є—Б–ї–Є—В—М, –Ї–Њ–Љ—Г –±—Л–ї–∞ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–∞ –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М –≤–Ј—А–Њ—Б–ї–Њ–≥–Њ, –Ї—В–Њ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–ї –Є—Е –Є –Њ—В–љ–Њ—Б–Є–ї—Б—П –Ї –љ–Є–Љ —Б —Г–≤–∞–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ. –°–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є–Љ —А–µ–±—П—В–∞–Љ –Я—П—В–Є–ї–µ—В–Њ—З–Ї–∞ –±—Л–ї–∞ —Б—В–∞—А—В–Њ–≤–Њ–є –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Ї–Њ–є –њ–µ—А–µ–і –≤—Л—Е–Њ–і–Њ–Љ –≤ –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –Љ–Є—А. –Ъ–∞–Ї–Є–µ –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ—Л, —Б–њ–µ–Ї—В–∞–Ї–ї–Є —Б–Њ–Ј–і–∞–≤–∞–ї–Є —Б–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є –њ–µ–і–∞–≥–Њ–≥–∞–Љ–Є —А–µ–±—П—В–∞. –Я—А–Є–≥–ї–∞—И–∞–ї–Є —Б—Ж–µ–љ–∞—А–Є—Б—В–Њ–≤, –ї–Є—В–µ—А–∞—В–Њ—А–Њ–≤, –њ–Њ—Н—В–Њ–≤, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ —Б –Є—Е –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О –њ–µ—А–µ–і–µ–ї—Л–≤–∞–ї–Є –≤—Б–µ –њ–Њ-—Б–≤–Њ–µ–Љ—Г. –°–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤–ї–Њ–ґ–µ–љ–Њ –Є—Е —В—А—Г–і–∞ –≤ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є–µ –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ –љ–Њ–Љ–µ—А–∞, —А–µ–Ї–≤–Є–Ј–Є—В–∞, –њ–Њ—И–Є–≤–∞ –Ї–Њ—Б—В—О–Љ–Њ–≤. –Т–µ–і—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б –Ї–Њ–љ—Ж–∞ —Б–µ–Љ–Є–і–µ—Б—П—В—Л—Е –Љ—Л –Љ–Њ–≥–ї–Є –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М—Б—П —Г—Б–ї—Г–≥–∞–Љ–Є –Љ–∞—Б—В–µ—А—Б–Ї–Є—Е –Ъ–Є—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В–µ–∞—В—А–∞. –Р –Ї—В–Њ –љ–µ –њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤–∞–ї –≤–µ—З–љ—Г—О –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Г —Б —В—А–Є–Ї–Њ—В–∞–ґ–µ–Љ? –°–њ–∞—Б–Є–±–Њ —В—А—Г–ґ–µ–љ–Є—Ж–∞–Љ —В–µ–∞—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Љ–∞—Б—В–µ—А—Б–Ї–Њ–є –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–∞, —Б –Є—Е –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О –Љ—Л –Ј–∞–±—Л–ї–Є –Њ –љ–µ–є. –Т –Ї–∞–Ї–Є—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е —А–∞–±–Њ—В–∞–ї–Є —Н—В–Є –Љ–∞—Б—В–µ—А–Є—Ж—Л, —Б–Њ–Ј–і–∞—В–µ–ї–Є –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —В–µ–∞—В—А–∞–ї—М–љ—Л—Е –Ї–Њ—Б—В—О–Љ–Њ–≤ вАУ –љ–µ –њ–Њ–Ј–∞–≤–Є–і—Г–µ—И—М. –Ю–љ–Є –Є —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –≤ –Љ–Њ–µ–є –њ–∞–Љ—П—В–Є –Ї–∞–Ї –ґ–Є–≤—Л–µ, —Б–Є–і—П—Й–Є–µ –Ј–∞ —Б–≤–Њ–Є–Љ —А—Г—З–љ—Л–Љ —В—А—Г–і–Њ–Љ —З—Г—В—М –ї–Є –љ–Є –њ—А–Є –ї—Г—З–Є–љ–∞—Е, –≤ –Љ–∞–ї—О—Б–µ–љ—М–Ї–Њ–Љ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–Є. –Ъ–∞–Ї —Е—А–∞–љ–Є–ї–Є –Њ–љ–Є —Б–≤–Њ–Є —И–µ–і–µ–≤—А—Л –±–µ–Ј –Њ—Е—А–∞–љ—Л? –Я—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Л –±—Л–ї–Є –Є –±—Г–і—Г—В –≤—Б–µ–≥–і–∞, –≤–∞–ґ–љ–Њ –Є—Е —А–µ—И–∞—В—М. –Ъ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ—Г –Њ–≥–Њ—А—З–µ–љ–Є—О, –У–∞–ї–Њ—З–Ї–∞, —В—Л –≤–љ–Њ–≤—М —А–µ—И–∞–µ—И—М –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Г –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П, –љ–∞ —Н—В–Њ—В —А–∞–Ј –±–µ–Ј –Љ–µ–љ—П. –Ъ —Б–Њ–ґ–∞–ї–µ–љ–Є—О, —П –Љ–Њ–≥—Г –Т–∞—Б –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–∞—В—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ–Њ, –Є —В–Њ –љ–∞ –Ї–∞–Ї–Њ–Љ —А–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є. –Э–Њ —В—Л –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –±—Л—В—М –≤—Б–µ–≥–і–∞ —Г–≤–µ—А–µ–љ–∞, —З—В–Њ —В–≤–Њ–µ –Љ–Њ—Й–љ–Њ–µ, —Н–љ–µ—А–≥–Є—З–љ–Њ–µ –і–µ—В–Є—Й–µ –љ–Є–≥–і–µ –Є –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –њ—А–Њ–њ–∞–і–µ—В. –Т–µ–і—М –њ–µ—А–µ–ґ–Є–ї–Є –Ї—А–Є–Ј–Є—Б, –Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–∞—И—Г "–Я—П—В–Є–ї–µ—В–Њ—З–Ї—Г" –њ—А–µ–і–∞–ї–Є, –≤—Л-—В–Њ –њ–Њ–њ–∞–ї–Є –њ–µ—А–≤—Л–Љ–Є –њ–Њ–і —Н—В–Њ—В –±–µ—Б–њ—А–µ–і–µ–ї. –Ъ —Б—З–∞—Б—В—М—О, –њ—А–Є—О—В–Є–ї–∞ –Т–∞—Б —Б –∞–љ—Б–∞–Љ–±–ї–µ–Љ ¬Ђ–Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Є–є —Б—Г–≤–µ–љ–Є—А¬ї, –Ф–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А –Ф–Я–® вАУ –љ—Л–љ–µ –Ф–Њ–Љ –Ф–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ґ–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–∞ вАУ –Ь—Г–Ј–µ–ї—М –≠—В–µ–ї—М –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–љ–∞. –Т–∞–Љ –±—Л–ї–Њ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Њ —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ–µ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ –≤—Б–µ—Е –≤–∞—И–Є—Е —Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Є –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л—Е —Б–Є–ї –≤ –ї–Є—Е–Њ–ї–µ—В—М–µ.  –Ъ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ—Г —Г–ґ–∞—Б—Г, –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–∞ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П –і–ї–Є—В—Б—П –±–µ–Ј –Љ–∞–ї–Њ–≥–Њ –њ—П—В—М–і–µ—Б—П—В –ї–µ—В. –Я–Њ–≤–µ—А—М, —Н—В–Њ –љ–µ –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ, —Н—В–Њ вАУ —Б–і–≤–Є–≥ –≤—Б–µ—Е —Б–Є–ї –љ–∞ –≤–Њ–Ј—А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ. –Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –љ–Њ–≤—Л–µ –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є—П, –љ–Њ –љ–µ –≥–Є–±–µ–ї—М. –°–µ–≥–Њ–і–љ—П —Б —В–Њ–±–Њ–є –љ–µ–Ј–∞–Љ–µ–љ–Є–Љ—Л–є –і—А—Г–≥ –Є –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї вАУ –Ф–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –ї–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Ж–Є—А–Ї–∞ , –Ф–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А –Ф–≤–Њ—А—Ж–∞ –Ь–Њ–ї–Њ–і–µ–ґ–Є –Х—Б–µ–ї–Є–љ–∞ –Ы—О–±–Њ–≤—М –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–љ–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –њ—А–Є—О—В–Є–ї–∞ –Т–∞—Б, –Є —Г–≤–µ—А–µ–љ–∞, –Њ–љ–∞ —Б–Њ–Ј–і–∞—Б—В –Љ–∞–Ї—Б–Є–Љ–∞–ї—М–љ—Л–µ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П –і–ї—П —А–∞–±–Њ—В—Л, —Г–≤–µ—А–µ–љ–∞ –≤ –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–∞ –°–∞–ї–Њ–Љ–∞—В–Њ–≤–∞ вАУ –Ч–∞–Љ. –Ф–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А–∞ –≤–∞—И–µ–≥–Њ –і–≤–Њ—А—Ж–∞, –Њ–љ –ґ–µ —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М –Р–љ—Б–∞–Љ–±–ї—П ¬Ђ–Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Є–є —Б—Г–≤–µ–љ–Є—А¬ї. –Э–Х –Я–Ш–©–Р–Ґ–ђ, –Т–∞—И–Є–Љ –і–µ—В—П–Љ –љ—Г–ґ–љ—Л –Т–Ђ! –Я—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ—В—М —Б–µ–±—П, –Я—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ—В—М –±–µ–і—Г, –Э–∞–є—В–Є —Б–µ–±—П, –Э–∞–є—В–Є —Б–≤–Њ—О –Ј–≤–µ–Ј–і—Г вАУ –Ш –ґ–Є–Ј–љ—М —Г–і–∞—Б—В—Б—П! –Ц–Є–Ј–љ–Є –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –љ–∞—И–Є—Е –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Г–і–∞–ї–Є—Б—М, –љ–∞–і–Њ –і—Г–Љ–∞—В—М –Њ –љ–Њ–≤–Њ–Љ –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є–Є. –У–∞–ї–Њ—З–Ї–∞, —Б–Њ—А–Њ–Ї –њ—П—В—Г—О –≥–Њ–і–Њ–≤—Й–Є–љ—Г –Э–∞—А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —Ж–Є—А–Ї–∞ ¬Ђ–†–Њ–≤–µ—Б–љ–Є–Ї¬ї –Љ—Л –±—Г–і–µ–Љ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Њ–≤–∞—В—М –Њ—В–Ї—А—Л—В–Є–µ–Љ –і–µ—В—Б–Ї–Њ–є —И–Ї–Њ–ї—Л —Ж–Є—А–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞ –≤ –≥–Њ—А–Њ–і–µ –љ–∞ –Э–µ–≤–µ. –Э–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М. –Р —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –ґ–Є–≤–Є—В–µ, —Б–Њ–Ј–Є–і–∞–є—В–µ, —А–∞–і—Г–є—В–µ —Б–≤–Њ–Є–Љ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–Њ–Љ –±–ї–Є–ґ–љ–µ–µ –Є –і–∞–ї—М–љ–µ–µ –Ј–∞—А—Г–±–µ–ґ—М—П. –Т –љ–∞—И–µ –≤—А–µ–Љ—П –љ–∞–Љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–ї–Њ–ґ–љ–µ–µ –±—Л–ї–Њ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –≤—Л–≤–µ–Ј—В–Є –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤ –≤ –і—А—Г–≥–Њ–є –≥–Њ—А–Њ–і. –Я—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Л —Б–Њ–Ј–і–∞–≤–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–∞—Е, —В–Њ –ї–Є –њ–Њ –љ–µ–ґ–µ–ї–∞–љ–Є—О, —В–Њ –ї–Є –њ–Њ –≥–ї—Г–њ–Њ—Б—В–Є, —В–Њ –ї–Є –Є–Ј –Ј–∞–≤–Є—Б—В–Є –Є–ї–Є –Љ–µ–ї–Њ—З–љ—Л—Е —Б—З–µ—В–Њ–≤. –° —Б–Њ–і—А–Њ–≥–∞–љ–Є–µ–Љ –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О –љ–∞—И—Г –њ–Њ–µ–Ј–і–Ї—Г –≤ –≥–Њ—А–Њ–і-–≥–µ—А–Њ–є –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—М. –Э—Г –љ–µ —Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М –љ–∞—И–µ–є –Р–ї–ї–µ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–љ–µ вАУ –Ј–∞–Љ. –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А–∞ –і–≤–Њ—А—Ж–∞ –Њ—В–њ—Г—Б–Ї–∞—В—М –љ–∞—Б –≤ –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—М, –Є–Ј ¬Ђ–±–Њ–ї—М—И–Њ–є –ї—О–±–≤–Є¬ї –Ї —Н—В–Њ–Љ—Г –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤—Г. –•–Њ—В—М –Њ–љ–∞ –љ–µ –Є–Љ–µ–ї–∞ –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П –Ї –љ–∞–Љ, –љ–Њ —Б–Њ–Ј–і–∞—В—М –Љ–µ–ї–Ї–Є–µ –њ–∞–Ї–Њ—Б—В–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –љ–∞–Љ –Њ–±–Њ—И–ї–Є—Б—М –љ–µ–њ–Њ–Љ–µ—А–љ–Њ–є —Ж–µ–љ–Њ–є, –Њ–љ–∞ —Б–µ–±–µ –≤ —Н—В–Њ–Љ –љ–µ –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞. –Ь—Л-—В–Њ –≤—Б–µ —А–∞–≤–љ–Њ —А–≤–∞–љ—Г–ї–Є —В—Г–і–∞ –њ–Њ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є —Б –≥–Њ—А–Ї–Њ–Љ–Њ–Љ –Ї–Њ–Љ—Б–Њ–Љ–Њ–ї–∞, –љ–µ —Б—В–∞–љ–µ–Љ –ґ–µ –Љ—Л –љ–∞—А—Г—И–∞—В—М —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П –љ–∞—И–µ–≥–Њ –Ї–Њ–љ—В—А–∞–Ї—В–∞. –¶–Є—А–Ї –њ—А–Є–±—Л–ї –Њ–±—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞—В—М –њ–Є–Њ–љ–µ—А—Б–Ї–Є–µ –ї–∞–≥–µ—А—П –≤–µ—Б—М –Є—О–ї—М –Љ–µ—Б—П—Ж! –Р –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї –њ–Є–Њ–љ–µ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –ї–∞–≥–µ—А—П –љ–∞ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–є –і–µ–љ—М –Њ–±—К—П–≤–ї—П–µ—В: ¬Ђ–Ъ–∞—А–∞–љ—В–Є–љ, –±–µ–Ј –њ—А–∞–≤–∞ –≤—Л—Е–Њ–і–∞ –Ј–∞ –µ–≥–Њ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—О¬ї. –Ю—И–µ–ї–Њ–Љ–Є–≤ –љ–∞—Б —Н—В–Є–Љ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–Є–µ–Љ, –Є—Б–њ—Л—В—Л–≤–∞—П —З—Г–і–Њ–≤–Є—Й–љ—Г—О –љ–µ—Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ—Б—В—М –њ–Њ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—О –Ї –і–µ—В—П–Љ вАУ –±—Л—В—М –љ–∞ –І–µ—А–љ–Њ–Љ –Љ–Њ—А–µ –Є –љ–µ –Њ–Ј–і–Њ—А–Њ–≤–Є—В—М —Е–Њ—В—М —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М –ї–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Є—Е —А–µ–±—П—В вАУ –љ–µ–і–Њ–њ—Г—Б—В–Є–Љ–Њ. –†–µ–±—П—В–∞ —В–∞–Ї –і–Њ–ї–≥–Њ –≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї–Є—Б—М –Ї —Н—В–Њ–є –њ–Њ–µ–Ј–і–Ї–µ! –Р –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–∞ —Б –±–Є–ї–µ—В–∞–Љ–Є –љ–∞ –Њ–±—А–∞—В–љ—Л–є –њ—Г—В—М –≤ –ї–µ—В–љ–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П, –њ–ї—О—Б –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Б–њ–ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є —Б–≤–Њ–є –ї–µ—В–љ–Є–є –Њ—В–і—Л—Е –≤–љ–µ –≥–Њ—А–Њ–і–∞, –Ї–Њ–Љ—Г –њ—А–Є–≤–µ–Ј–µ–Љ –і–µ—В–µ–є?! –Р –Ї–Њ–Љ—Г –Љ—Л –Ј–і–µ—Б—М –љ—Г–ґ–љ—Л –Ї—А–Њ–Љ–µ –Ї–∞—А–∞–љ—В–Є–љ–∞?! –†–µ–±—П—В–∞ —Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї–Є –љ–∞ –љ–∞—Б, –Ї–∞–Ї –љ–∞ —Б–њ–∞—Б–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є –Ї—А—Г–≥ –≤ –±–µ–Ј–±—А–µ–ґ–љ–Њ–Љ .  –Я–µ—А–≤–∞—П –Љ—Л—Б–ї—М вАУ —Б—Е–≤–∞—В–Є—В—М –≤—Б–µ—Е –Є –њ—А–Є–≤–µ–Ј—В–Є –Ї –Љ–Њ–Є–Љ –і–Њ—А–Њ–≥–Є–Љ –Ґ–Њ—А–Њ–њ–Ї–Њ–≤—Л–Љ, –≤ –Є—Е —В—А–µ—Е–Ї–Њ–Љ–љ–∞—В–љ—Г—О –Ї–≤–∞—А—В–Є—А—Г, –і–≤–∞–і—Ж–∞—В—М-—В–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї?! –°–ї–∞–≤–∞ –С–Њ–≥—Г, —Г–Љ–∞ —Е–≤–∞—В–Є–ї–Њ. –Э–Њ –Ґ–Њ—А–Њ–њ–Ї–Њ–≤—Л —Б—А–∞–±–Њ—В–∞–ї–Є –Љ–∞–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є. –°—В–Њ–Є–ї–Њ –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М, вАУ –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є –Ь–µ—Д–Њ–і—М–µ–≤–Є—З, –Ы—О–і–Љ–Є–ї–∞ –Т–Є—В–Њ–ї—М–і–Њ–≤–љ–∞, –Ґ–Є—Е–Њ–Њ–Ї–µ–∞–љ—Б–Ї–Є–є –Є —В–µ–њ–µ—А—М —Г–ґ–µ –І–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–є –§–Ы–Ю–Ґ–Ђ! –Э–µ—В –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–≥–Њ –±–µ–Ј –њ—А–Њ—И–ї–Њ–≥–Њ. –Ю–љ–Є —Б–њ–∞—Б—Г—В –љ–∞—И—Г –±–µ–Ј–љ–∞–і–µ–ґ–љ—Г—О —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є—О! –І–µ—А–µ–Ј –Ґ–Њ—А–Њ–њ–Ї–Њ–≤—Л—Е –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є—Б—М —Б —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –њ–Є–Њ–љ–µ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –ї–∞–≥–µ—А—П —Г—Б—В—А–Њ–Є—В—М –≤ –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ –љ–∞—И–Є—Е —А–µ–±—П—В, —Б —Ж–µ–ї—М—О –Ј–∞–±—А–∞—В—М –Є—Е –љ–∞ –≤—В–Њ—А–Њ–є –і–µ–љ—М. –Ч–∞–Ї–ї—О—З–Є–≤ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А —Б –Ф–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А–Њ–Љ –Ф–Њ–Љ–∞ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л ¬Ђ–Ь–Ю–†–ѓ–Ъ–Ю–Т¬ї –Њ –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞–љ–Є–Є –љ–∞ –Є—Е –±–∞–Ј–µ. –Э–Њ –≥–і–µ –Ј–∞ —Б—Г—В–Ї–Є –і–Њ—Б—В–∞—В—М –≤—Б–µ –њ–Њ—Б—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є, —А–µ—И–Є—В—М –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Л –њ–Є—В–∞–љ–Є—П, —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–∞, –і–Њ–±–Є—В—М—Б—П –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є—П –љ–∞ –њ–ї–∞—В–љ—Л–µ –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В—Л?! –Ъ–∞–Ї–∞—П –љ–∞–Є–≤–љ–Њ—Б—В—М, –њ–ї–∞—В–љ—Л–µ –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В—Л, –±–µ–Ј —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є—П –≤—Б–µ—Е –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–є. –Ф–ї—П –љ–∞—Б —Н—В–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–µ–є –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞—Б—М –Р–ї–ї–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–љ–∞. –Ґ–∞–Ї –Є —Е–Њ—З–µ—В—Б—П —Б–µ–є—З–∞—Б –µ–µ —Б–њ—А–Њ—Б–Є—В—М; ¬Ђ–Р–ї–ї–Њ—З–Ї–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–љ–∞, –љ—Г –≤ —З–µ–Љ –њ—А–Є—З–Є–љ–∞ –Т–∞—И–µ–є –љ–µ–ї—О–±–≤–Є –Ї –љ–∞–Љ, –њ–Њ—З–µ–Љ—Г –љ–µ –≤—Л–і–∞–ї–Є –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—В –љ–∞—И–Є—Е –±–Є–ї–µ—В–Њ–≤ –њ–Њ —А–∞–љ–љ–µ–є –Њ–±—Й–µ–є –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є?.. –Р-–∞-–∞?! –Ь—Л-—В–Њ –≤—Б–µ —А–∞–≤–љ–Њ –Њ–±–Њ—И–ї–Є—Б—М¬ї. –Э–µ—В –±–µ–Ј–≤—Л—Е–Њ–і–љ—Л—Е —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є–є, –µ—Б—В—М —Е–Њ—А–Њ—И–Є–µ –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –ї—О–і–Є вАУ –Љ–Њ—А—П–Ї–Є-—З–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Ж—Л –≤–Њ –≥–ї–∞–≤–µ —Б –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є–Љ –§–ї–Њ—В–Њ–Љ –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–Њ–Љ –•–Њ–≤—А–Є–љ—Л–Љ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–Љ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З–µ–Љ. –Э–Њ–≥–Є —Б–∞–Љ–Є –њ—А–Є–љ–µ—Б–ї–Є –≤ –®—В–∞–± —Д–ї–Њ—В–∞, –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Л –Њ—Б—Л–њ–∞–ї–Є—Б—М, –Ї–∞–Ї –ї–Є—Б—В–≤–∞ —Б –і–µ—А–µ–≤–∞ –њ—А–Є –Љ–Њ—Й–љ–Њ–Љ –≤–µ—В—А–µ. –Э–∞—Б –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є –і–ї—П —И–µ—Д—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞–љ–Є—П –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–Є—Е —З–∞—Б—В–µ–є –Є –њ–Њ–і—А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є–є, –≤–Ї–ї—О—З–∞—П –Ф–Њ–Љ –Ю—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤. –†–µ—И–µ–љ–∞ –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–∞ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–∞, –њ–Є—В–∞–љ–Є—П. –Ъ–∞–Ї –љ–∞–≥—А–∞–і—Г, –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є –њ—А–Є–≥–ї–∞—И–µ–љ–Є–µ вАУ —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –≤ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–µ –Ф–љ—П –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –§–ї–Њ—В–∞. –Т–Њ—В —Н—В–Њ –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М! –£—А–∞-–Р-–Р –І–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ—Г —Д–ї–Њ—В—Г! –Ь—Л –љ—Г–ґ–љ—Л –ї—О–і—П–Љ! –Ю–≥—А–Њ–Љ–љ–Њ–µ —А–µ–±—П—З—М–µ —Б–њ–∞—Б–Є–±–Њ, –і–Њ—А–Њ–≥–Є–Љ –Ґ–Њ—А–Њ–њ–Ї–Њ–≤—Л–Љ, —Б –Є—Е –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О –Љ—Л —А–µ—И–Є–ї–Є –≤—Б–µ –±—Л—В–Њ–≤—Л–µ –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Л. –Т–Њ –Ф–≤–Њ—А—Ж–µ –Ъ—Г–ї—М—В—Г—А—Л ¬Ђ–†—Л–±–∞–Ї–Њ–≤¬ї –і–∞–ї–Є –њ–ї–∞—В–љ—Л–є –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В, —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –њ–Њ—И–ї–Є –љ–∞ –њ—А–Њ–µ–Ј–і–љ—Л–µ –±–Є–ї–µ—В—Л –і–Њ–Љ–Њ–є, –љ–∞ –њ–Є—В–∞–љ–Є–µ, –љ–∞ –ї–Є—З–љ—Л–µ —А–∞—Б—Е–Њ–і—Л –Љ–Њ–ї–Њ–і—Л–Љ –∞—А—В–Є—Б—В–∞–Љ –Є –њ–Њ–і–∞—А–Ї–Є –Є—Е —А–Њ–і–Є—В–µ–ї—П–Љ. –Ь–Њ—А—П–Ї–Є-—З–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Ж—Л –љ–∞—Б –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–ї–Є —Б–≤–Њ–Є–Љ —Й–µ–і—А—Л–Љ –≥–Њ—Б—В–µ–њ—А–Є–Є–Љ—Б—В–≤–Њ–Љ вАУ —Г–≥–Њ—Й–∞–ї–Є —Д–ї–Њ—В—Б–Ї–Є–Љ –±–Њ—А—Й–Њ–Љ, –≥—А–µ—З–љ–µ–≤–Њ–є –Ї–∞—И–µ–є —Б –Љ—П—Б–Њ–Љ, –Ї–Њ–Љ–њ–Њ—В–∞–Љ–Є! 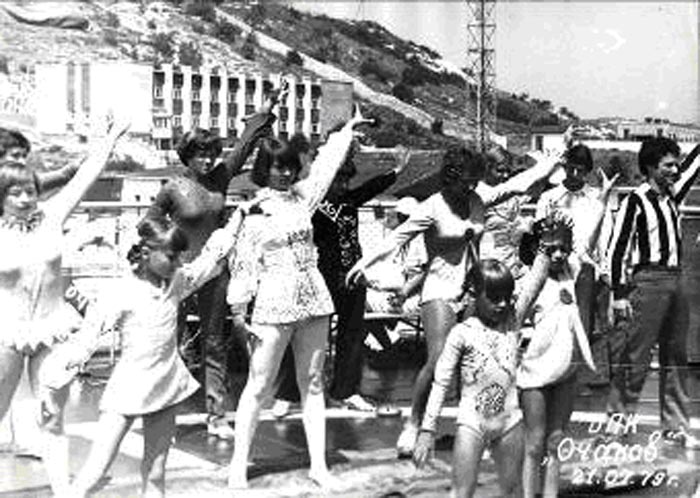 –Т—Л—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ –љ–∞ –С–Я–Ъ ¬Ђ–Ю—З–∞–Ї–Њ–≤¬ї. –°–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–∞–ї–Є –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В–Њ–≤, —П –Є –љ–µ –њ–Њ–Љ–љ—О, –≤ –њ–∞–Љ—П—В–Є –Њ—Б—В–∞–ї–Є—Б—М –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є ¬Ђ–Ь–Њ—Б–Ї–≤–∞¬ї, ¬Ђ–Ю—З–∞–Ї–Њ–≤¬ї вАУ –≤—Л—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П –њ—А—П–Љ–Њ –љ–∞ –њ–∞–ї—Г–±–µ –њ–Њ–і –Њ—В–Ї—А—Л—В—Л–Љ –љ–µ–±–Њ–Љ, –Љ–∞—В—А–Њ—Б—Л –њ—А–Є–і—Г–Љ–∞–ї–Є –≤—Б–µ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–Ї–Є, –і–ї—П –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є —А–µ–±—П—В. –Ф–µ–љ—М –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞ –±—Л–ї —А–∞—Б–њ–Є—Б–∞–љ –њ–Њ –Љ–Є–љ—Г—В–∞–Љ: –≤ –і–µ—Б—П—В—М —Г—В—А–∞ –љ–∞ —Б—В–∞–і–Є–Њ–љ–µ, –≤–µ—З–µ—А–Њ–Љ –љ–∞ –У—А–∞—Д—Б–Ї–Њ–є –љ–∞–±–µ—А–µ–ґ–љ–Њ–є –≤ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є—З–љ–Њ–Љ –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В–µ. –Ю—Б–≤–µ—Й–µ–љ–љ—Л–µ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є, –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞, —Б–∞–ї—О—В, —Б—З–∞—Б—В–ї–Є–≤—Л–µ –ї–Є—Ж–∞ —Б–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—М—Ж–µ–≤, –≤–Њ—Б—В–Њ—А–≥–Є —А–µ–±—П—В. –Т—А–µ–Љ—П –±–µ—Б—Б–Є–ї—М–љ–Њ —Б–≥–ї–∞–і–Є—В—М –Є–Ј –њ–∞–Љ—П—В–Є –љ–µ–Ј–∞–±—Л–≤–∞–µ–Љ—Л–µ –≤—Б—В—А–µ—З–Є —Б –Љ–Њ—А—П–Ї–∞–Љ–Є-—З–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Ж–∞–Љ–Є. –Ю–љ–Є –±–µ—А–µ–ґ–љ–Њ —Е—А–∞–љ—П—В—Б—П –≤ –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б–Є —Ж–Є—А–Ї–∞ –Є –≤ —А–µ–±—П—З—М–Є—Е —Б–µ—А–і—Ж–∞—Е. –†–∞–±–Њ—В–∞—П –≤ –і–µ–≤—П–љ–Њ—Б—В—Л—Е –≤ –†–µ–≥–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ –¶–µ–љ—В—А–µ, –Љ–Њ–є –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї –Ї–Њ–љ—В—А-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Ь–µ–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–≤, –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Њ –Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є–ї –Љ–µ–љ—П —Б ¬Ђ–њ—А–Њ—Б—В–µ–љ—М–Ї–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–µ–є¬ї –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–∞. –Т–µ–ґ–ї–Є–≤–Њ –њ–Њ–њ—А–Њ—Б–Є–ї –љ–µ –і–Њ–≤–Њ–і–Є—В—М –і–Њ –љ–µ–љ—Г–ґ–љ—Л—Е –ґ—Г—А–љ–∞–ї–Є—Б—В—Б–Ї–Є—Е —А–∞—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–є, –њ—А–Є–љ—П—В—М –Љ–µ—А—Л, –Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М. –Э–∞ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–є –і–µ–љ—М —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–µ –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–∞ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–Њ—Б—М –≤ –Ј–∞–ї–µ –Ъ–Њ–љ—Б–µ—А–≤–∞—В–Њ—А–Є–Є. –Т –і–µ—Б—П—В—М —Г—В—А–∞ –≤—Е–Њ–ґ—Г –≤ –Ј–∞–ї –Ї–Њ–љ—Б–µ—А–≤–∞—В–Њ—А–Є–Є, –Ј–∞–ї –≥—Г–і–Є—В, –Ї—В–Њ –Ї–Њ–≥–Њ —Б–ї—Л—И–Є—В, –Ї—В–Њ –Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ—В, –≤–Њ–Ј–Љ—Г—Й–µ–љ–љ—Л–µ –ї—О–і–Є –њ—Л—В–∞—О—В—Б—П —З—В–Њ-—В–Њ –≤—Л—П—Б–љ–Є—В—М, –≥—А–Њ–Ј—П –≤—Б–µ–Љ–Є –°–Ь–Ш. –Ь–Њ–ї–Њ–і–Њ–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –њ—Л—В–∞–µ—В—Б—П —З—В–Њ-—В–Њ –Њ–±—К—П—Б–љ–Є—В—М –≤ —Б–Њ—В—Л–є —А–∞–Ј... –Э–Є–Ї—В–Њ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –≤–Њ—Б–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–µ—В. –Э–Є–Ї—В–Њ –љ–Є–Ї–Њ–Љ—Г –љ–µ –≤–µ—А–Є—В, –Ј–∞–≤—В—А–∞–Ї–∞–Љ–Є –≤—Б–µ —Б—Л—В—Л. –Ґ–Є—Е–Њ –њ—А–Њ—И—Г —Б–ї–Њ–≤–Њ, –Љ–µ–љ—П –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є, –Є —В–Њ—В—З–∞—Б –≤–µ—Б—М –≥—А–∞–і –≤–Њ–Ј–Љ—Г—Й–µ–љ–Є–є –њ–Њ—Б—Л–њ–∞–ї—Б—П –љ–∞ –Љ–Њ—О –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –≤—Л—Б–ї—Г—И–∞–ї–∞ –Њ—В—З–∞—П–љ–Є—П –≤–Њ–Ј–Љ—Г—Й–µ–љ–љ—Л—Е –ї—О–і–µ–є, –≤–Њ–ї–Њ—Б—Л –љ–∞ –≥–Њ–ї–Њ–≤–µ –Ј–∞—И–µ–ї–µ—Б—В–µ–ї–Є. –Ь–µ—Б—П—Ж –љ–∞–Ј–∞–і –њ—А–Є–≥–ї–∞—Б–Є–ї–Є –Р–љ—Б–∞–Љ–±–ї—М –І–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –§–ї–Њ—В–∞ –љ–∞ –≥–∞—Б—В—А–Њ–ї–Є –≤ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і, –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б 300-–ї–µ—В–Є–µ–Љ —Д–ї–Њ—В–∞, –Њ—В –љ–∞—И–µ–≥–Њ –†–µ–≥–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Ж–µ–љ—В—А–∞. –Т –Є—Е –њ–ї–∞–љ–∞—Е –±—Л–ї–Є –µ—Й–µ –Р–љ—Б–∞–Љ–±–ї–Є –Ґ–Є—Е–Њ–Њ–Ї–µ–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–Њ–≤. –Ґ–∞–Ї–Є—Е –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—В–Њ—А–Њ–≤ –±—Л–ї–Њ –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ –Є –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ –µ—Й–µ –±–Њ–ї—М—И–µ, –љ–Њ –Њ–± —Н—В–Њ–Љ –≤ –і—А—Г–≥–Њ–є —А–∞–Ј. –Э–∞–њ–Њ–Љ–љ—О, –≤—Е–Њ–і–Є–ї–∞ –≤ –љ–∞—И—Г –ґ–Є–Ј–љ—М —А—Л–љ–Њ—З–љ–∞—П —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї–∞. –†–≤–∞–ї–Є, –і—Г—А–Є–ї–Є –≤—Б–µ—Е –њ–Њ–і—А—П–і –Є —Б–µ–±—П —В–Њ–ґ–µ. –Я—А–Є–≥–ї–∞—Б–Є–ї–Є –Є –љ–µ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–ї–Є –≥–∞—А–∞–љ—В–Є–є–љ—Л–µ –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В—Л, —А–µ—И–Є–ї–Є, —В–∞–Ї —Б–Њ–є–і–µ—В, –±–µ–Ј —А–µ–Ї–ї–∞–Љ—Л –Є –ї–Є—И–љ–Є—Е —В—А–∞—В. –Э–µ –њ—А–Њ—И–ї–Њ, –ї–µ—В–Њ, –љ–∞—А–Њ–і –≤ –Њ—В–њ—Г—Б–Ї–∞—Е, –≤—А–µ–Љ—П —В—П–ґ–µ–ї–Њ–µ вАУ –Ї–∞–ґ–і—Л–є —А—Г–±–ї—М –љ–∞ —Б—З–µ—В—Г. –Ъ–∞–Ї–Є–µ –њ–ї–∞—В–љ—Л–µ –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В—Л? –Ю–њ–ї–∞—В–∞ –≤ –≥–Њ—Б—В–Є–љ–Є—Ж–µ –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–ї–∞—Б—М, –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є –Ї–∞–Ї–Њ–µ-—В–Њ –ґ–Є–ї—М–µ –≤ –Ї—Г–±—А–Є–Ї–∞—Е, –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –∞—А—В–Є—Б—В—Л –њ—А–Є–µ—Е–∞–ї–Є —Б —Б–µ–Љ—М—П–Љ–Є, —Б—Г—В–Њ—З–љ—Л—Е –љ–µ—В, –і–µ–љ–µ–≥ –љ–∞ –±–Є–ї–µ—В—Л –љ–µ—В. –Т–∞–≥–Њ–љ —Б —А–µ–Ї–≤–Є–Ј–Є—В–Њ–Љ –Є –Ї–Њ—Б—В—О–Љ–∞–Љ–Є –љ–∞ –Ј–∞–њ–∞—Б–љ—Л—Е –њ—Г—В—П—Е –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Ї–Ј–∞–ї–∞ –±–µ–Ј –Њ–њ–ї–∞—В—Л. –°–Є–ї –Є —Б—А–µ–і—Б—В–≤ –љ–∞ –≤—Л–ґ–Є–≤–∞–љ–Є–µ –љ–µ—В, –≤–Є–љ–Њ–≤–∞—В—Л—Е —В–Њ–ґ–µ. –І—В–Њ —А–µ—И–∞—В—М?! –Э–µ–Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї—П—В—М –ї—О–і–µ–є –≤ –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—М! –Ч–∞ —З–µ–є —Б—З–µ—В? –Э–µ –њ–Њ–≤–µ—А–Є—В–µ, –Ј–∞ –Љ–Њ–є —Б—З–µ—В. –Я–Њ–±–Њ—А—Л –±—Л–ї–Є —Б–Њ –≤—Б–µ—Е –Љ–Њ–Є—Е –љ–µ—А–∞–≤–љ–Њ–і—Г—И–љ—Л—Е –і—А—Г–Ј–µ–є. –Э–∞ —В—А–µ—В–Є–є –і–µ–љ—М –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–∞ –Р–љ—Б–∞–Љ–±–ї—М —Б –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Ї–Ј–∞–ї–∞, –њ—А–Њ—Б—В–Є–ї–Є—Б—М –і–Њ–±—А—Л–Љ–Є –і—А—Г–Ј—М—П–Љ–Є. –Ь–љ–µ —Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ–±—Л —Г –љ–Є—Е –Њ—Б—В–∞–ї–Є—Б—М —Б–∞–Љ—Л–µ —З–Є—Б—В—Л–µ –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П, –і–Њ—Б—В–Њ–є–љ—Л–µ –љ–∞—И–µ–≥–Њ –У–Њ—А–Њ–і–∞ вАУ –У–µ—А–Њ—П –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–∞. –Ъ–∞–Ї –≤—Б—С –Ј–∞–Ї–Њ–ї—М—Ж–Њ–≤–∞–љ–Њ... –Э–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ –љ–µ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М –Њ —Б—Г–і—М–±–µ –µ—Й–µ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –∞–љ—Б–∞–Љ–±–ї—П, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б –Њ—В—Ж–Њ–Љ –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–∞ –°–∞–ї–Њ–Љ–∞—В–Њ–≤–∞. 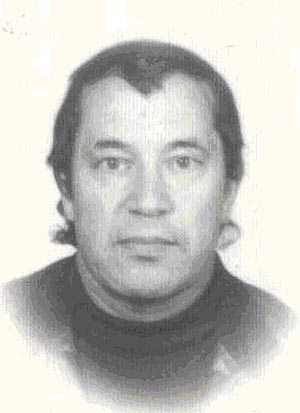 –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤–Є—З –°–∞–ї–Њ–Љ–∞—В–Њ–≤. –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –°–∞–ї–Њ–Љ–∞—В–Њ–≤ вАУ –Љ—Л –њ–Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є–ї–Є—Б—М —Б –љ–Є–Љ –≤ –њ–µ—А–Є–Њ–і, –Ї–Њ–≥–і–∞ –µ–≥–Њ –ї–Є—И–Є–ї–Є —А–∞–±–Њ—В—Л –≤ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–µ, –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є–ї–Є –Є–Ј –њ–∞—А—В–Є–Є. –Ъ–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, –≥–Њ—А–Њ–і –±—Л–ї –Њ–Ј–∞–±–Њ—З–µ–љ –њ—А–µ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –µ–≥–Њ —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –љ–µ–і–Њ–±—А–Њ–ґ–µ–ї–∞—В–µ–ї–µ–є, –Є –Ї–∞–Ї –љ–Є —Б—В—А–∞–љ–љ–Њ, –і—А—Г–Ј–µ–є —В–Њ–ґ–µ. –Я–µ—А–µ–ґ–Є—В—М –ї–Є—И–µ–љ–Є—П, –њ–Њ—В–µ—А—П—В—М –≤—Б—С –Є –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–Є—В—М—Б—П –Ї –ґ–Є–Ј–љ–Є вАУ –љ–µ –Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ—Г –і–∞–љ–Њ. –Я–µ—А–µ–і —В–µ–Љ, –Ї–∞–Ї —Г–µ—Е–∞—В—М –Є–Ј –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–∞ –Њ–љ –≤—Б–µ-—В–∞–Ї–Є —А–Є—Б–Ї–љ—Г–ї –Њ–±—А–∞—В–Є—В—М—Б—П –Ї–Њ –Љ–љ–µ, —Б–Њ–±–Є—А–∞–ї—Б—П –≤—Б—С –ї–µ—В–Њ. –Я–µ—А–µ–і –љ–∞—З–∞–ї–Њ–Љ —Г—З–µ–±–љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ–і–∞ –љ–∞—И–∞ –≤—Б—В—А–µ—З–∞ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–∞—Б—М. –Я–µ—А–µ–і–Њ –Љ–љ–Њ–є —Б–Є–і–µ–ї –І–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, —З—С—А–љ—Л–є-—З—С—А–љ—Л–є, –љ–µ –њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞—П –≥–ї–∞–Ј, –љ–Є–Ј–Ї–Њ –Њ–њ—Г—Б—В–Є–≤ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г –Є —А—Г–Ї–Є, —В–Є—Е–Њ –њ–Њ–≤—В–Њ—А—П–ї: ¬Ђ–Я–Њ–љ–Є–Љ–∞—О, —З—В–Њ –љ–µ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –Ї –≤–∞–Љ –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В—М, –љ–µ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –≤–∞—Б –њ–Њ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—В—М, –Љ–µ–љ—П –ї–Є—И–Є–ї–Є —З–µ—Б—В–Є, –і–Њ—Б—В–Њ–Є–љ—Б—В–≤–∞, –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Є. –£ –Љ–µ–љ—П –ґ–µ–љ–∞, —А–µ–±–µ–љ–Њ–Ї, –Љ–љ–µ –љ–∞—Б—В–Њ–є—З–Є–≤–Њ —А–µ–Ї–Њ–Љ–µ–љ–і–Њ–≤–∞–ї–Є –Њ–±—А–∞—В–Є—В—М—Б—П –Ї –≤–∞–Љ –і–Њ –Љ–Њ–µ–≥–Њ –Њ—В—К–µ–Ј–і–∞ –≤ –љ–Є–Ї—Г–і–∞¬ї. –Э–µ –Ј–љ–∞—П –≤—Б–µ—Е –њ—А–Є—З–Є–љ –µ–≥–Њ –љ–µ—Б—З–∞—Б—В–Є–є, –љ–µ –Ј–љ–∞—О –Є —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П, –њ–Њ—З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞: —Н—В–Њ–Љ—Г —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї—Г –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–∞ –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М –Є –љ–µ–Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ. –Т –Љ–Є–љ—Г—В—Л —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–є —В—А–∞–≥–µ–і–Є–Є —А–∞–±–Њ—В–∞—О—В –≥—Г–Љ–∞–љ–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Љ—Л—Б–ї–Є: –Њ –±–ї–Є–Ј–Њ—Б—В–Є –ї—О–і–µ–є, –Њ–± –Є—Е –≥–Њ—В–Њ–≤–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ–Љ–Њ—З—М, –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М –Њ –і–Њ—Б—В–Њ–Є–љ—Б—В–≤–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ —А–Њ–ґ–і–∞—О—В –љ–µ –±–Њ–≥–∞—В—Б—В–≤–Њ –Є —А–Њ—Б–Ї–Њ—И—М, –∞ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ, –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –њ—А–Њ—Б—В–Њ–µ —Б–Њ—Г—З–∞—Б—В–Є–µ –Ї —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї—Г. –Э–µ –Ј–∞–і–∞–≤–∞—П –ї–Є—И–љ–Є—Е –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–≤, –љ–µ –Ї–∞—Б–∞—П—Б—М –ї–Є—З–љ–Њ–≥–Њ, –Њ–≥–Њ—А–Њ—И–Є–ї–∞ –µ–≥–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–∞–Љ–Є. –Р –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–∞ вАУ –і–ї—П –≤—Б–µ—Е –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–Њ–≤ –≥–Њ—А–Њ–і–∞ вАУ –Њ—Б—В—А—Л–є –і–µ—Д–Є—Ж–Є—В –Љ–∞–ї—М—З–Є—И–µ–Ї. –°–Љ–Њ–ґ–µ—В –ї–Є –Њ–љ –њ—А–Є–≤–ї–µ—З—М –Љ–∞–ї—М—З–Є—И–µ–Ї –≤ —Е–Њ—А–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—О? –°–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Љ–Њ–ї–Њ–і–µ–ґ–љ–Њ–≥–Њ —В–∞–љ—Ж–µ–≤–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–∞ –љ–∞—И–µ–≥–Њ –і–≤–Њ—А—Ж–∞ –њ–Њ–і —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –±–ї–µ—Б—В—П—Й–µ–≥–Њ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—П вАУ –Ь–Њ–ї–Њ–і—П—И–љ–Њ–≥–Њ –Є –µ–≥–Њ —Б—Г–њ—А—Г–≥–Є –Р–љ–љ—Л –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–љ—Л –Ъ—А–µ—Б—В–Є–љ—Б–Ї–Њ–є, –Є—Е –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В—Г—О —Б—О–Є—В—Г ¬Ђ–Ь–Њ–ї–Њ–і–Њ—Б—В—М –Є–і–µ—В¬ї –њ–Њ–Љ–љ–Є–ї–Є –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –≥–Њ–і—Л –Є —Б—В–∞–≤–Є–ї–Є –≤—Б–µ–Љ –≤ –њ—А–Є–Љ–µ—А, –љ–∞–і–µ–ґ–і—Л –љ–∞ –≤–Њ–Ј—А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–∞ –±—Л–ї–Є —Г—В—А–∞—З–µ–љ—Л. –Ю–љ —А–µ–Ј–Ї–Њ –њ–Њ–і–љ—П–ї –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г, —З—В–Њ–±—Л —Б–Ї—А—Л—В—М –≤–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ. –ѓ –њ–µ—А–µ—И–ї–∞ –љ–∞ –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–є —В–Њ–љ, –Њ–≥–Њ—А–Њ—И–Є–≤ –Ј–∞–і–∞—З–∞–Љ–Є –±—Г–і—Г—Й–µ–є –µ–≥–Њ —А–∞–±–Њ—В—Л. –Ъ –Љ–Њ–µ–Љ—Г —Г–і–Є–≤–ї–µ–љ–Є—О –Њ–љ–Є –њ—А–Є—И–ї–Є—Б—М –µ–Љ—Г –њ–Њ –і—Г—И–µ, —А–Њ–±–Ї–Њ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–≤, –±—Г–і–µ—В –ї–Є –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М —Б –Љ–Њ–µ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –Є, –љ–µ –і–Њ–ґ–і–∞–≤—И–Є—Б—М –Њ—В–≤–µ—В–∞, —А–µ—И–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –і–∞–ї —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–µ. –Ф–µ–ї–Њ –Ј–∞–≤–µ—А—И–Є–ї–Њ—Б—М –µ–≥–Њ –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ –њ—А–Є—С–Љ–µ –љ–∞ —А–∞–±–Њ—В—Г. –Ю–њ—Г—Б–Ї–∞—О —А–µ–∞–Ї—Ж–Є—О —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –Ф–≤–Њ—А—Ж–∞, –њ–∞—А—В–Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Є –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥, –Ї–Њ–≥–Њ —В–∞–Ї —И–Њ–Ї–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Њ –Љ–Њ–µ –±–µ–Ј—А–∞—Б—Б—Г–і—Б—В–≤–Њ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ —А–∞–љ–Њ –Є–ї–Є –њ–Њ–Ј–і–љ–Њ –ґ–µ—Б—В–Њ–Ї–Њ –Њ–±–µ—А–љ–µ—В—Б—П –њ—А–Њ—В–Є–≤ –Љ–µ–љ—П.  –Ь—Л –ґ–µ –≤–њ—А—П–≥–ї–Є—Б—М –≤ –Њ–і–љ—Г —Г–њ—А—П–ґ–Ї—Г –Є –љ–µ–Є—Б—В–Њ–≤—Б—В–≤–∞–ї–Є —Б —Б–µ–љ—В—П–±—А—П –њ–Њ –Љ–∞–є –Љ–µ—Б—П—Ж, –љ–µ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—П –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є. –Ь–Њ—В–∞–ї–Є—Б—М –њ–Њ –≤—Б–µ–Љ –љ–∞—И–Є–Љ –њ–Њ–і—И–µ—Д–љ—Л–Љ —И–Ї–Њ–ї–∞–Љ, —Г–≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞—П –Є –Ј–∞–Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤—Л–≤–∞—П –≤—Б–µ—Е –Љ–∞–ї—М—З–Є—И–µ–Ї –Ї–∞–Ї–Є–Љ-—В–Њ —Д–µ—Е—В–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ, –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є—П —А–∞–Ј–ї–µ—В–µ–ї–∞—Б—М –њ–Њ –≤—Б–µ–Љ—Г –≥–Њ—А–Њ–і—Г. –Т –Љ–∞–ї–Њ–Љ –Ј–∞–ї–µ —Е–Њ—А–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є —А–∞–±–Њ—В–∞–ї–∞ –њ—А–Є–µ–Љ–љ–∞—П –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є—П (–і–ї—П —Б–Њ–ї–Є–і–љ–Њ—Б—В–Є) вАУ –±—А–∞–ї–Є-—В–Њ –≤—Б–µ—Е. –Я—А–Є –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є–Є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –°–∞–ї–Њ–Љ–∞—В–Њ–≤–∞ –≤ –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В–µ, –Љ–µ–љ—П –љ–∞—З–Є–љ–∞–ї–Њ –њ–Њ—В—А—П—Е–Є–≤–∞—В—М: ¬Ђ–Ю, –і–∞–є—В–µ, –і–∞–є—В–µ –Љ–љ–µ —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Г!¬ї вАУ —В–Њ—Б–Ї–ї–Є–≤–Њ –Ј–∞–≤—Л–≤–∞–ї–∞ —П, –∞ –°–∞–ї–Њ–Љ–∞—В–Њ–≤ –±–Њ–і—А–Њ –њ–Њ–і—Е–≤–∞—В—Л–≤–∞–ї: ¬Ђ–ѓ —Б–≤–Њ–є –њ–Њ–Ј–Њ—А —Б—Г–Љ–µ—О –Є—Б–Ї—Г–њ–Є—В—МвА¶¬ї, —Г–≤–µ—А–µ–љ–љ–Њ —Б–∞–і–Є–ї—Б—П –љ–∞ —Б—В—Г–ї, –≤—Л–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞—П –Ї—Г—З—Г –љ–µ—А–µ—И–µ–љ–љ—Л—Е –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ. –Ю–љ–Є —А–Њ—Б–ї–Є, –љ–∞—З–Є–љ–∞—П —Б —А–µ–њ–µ—А—В—Г–∞—А–∞ –Є –і–Њ –њ–Њ—И–Є–≤–∞ –Ї–Њ—Б—В—О–Љ–Њ–≤ –Є –Љ–µ—Б—В –Є—Е —Е—А–∞–љ–µ–љ–Є—П. –Ь–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Ј–ґ–µ, –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Љ–Њ–µ–є –і–µ–ї–Њ–≤–Њ–є –њ–Њ–µ–Ј–і–Ї–Є –≤ –Ш—В–∞–ї–Є—О, –њ–Њ—Б–µ—В–Є–≤ –≤—Г–ї–Ї–∞–љ –≠—В–љ–∞, —П –±—Л–ї–∞ –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–∞ –Њ–і–µ—А–ґ–Є–Љ–Њ—Б—В—М—О –ї—О–і–µ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ, –Є—Б–њ—Л—В–∞–≤ –µ–≥–Њ —Б–Є–ї–Є—Й—Г, —В–µ—А—П—П –і–Њ–Љ–∞ –Є –і–∞–ґ–µ –ґ–Є–Ј–љ–Є, –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞ —Б—В–∞—А—Л–µ –Љ–µ—Б—В–∞, –љ–µ–і–∞–≤–љ–Њ –Ј–∞–ї–Є—В—Л–µ –Ї–Є–њ—П—Й–µ–є –ї–∞–≤–Њ–є, –≤–љ–Њ–≤—М –Ј–∞—Б—В—А–∞–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М –Є –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–Є –ґ–Є—В—М —Б –љ–∞–і–µ–ґ–і–∞–Љ–Є. –Т –Ї–Њ–Љ —Б–µ—А–і—Ж–µ –µ—Б—В—М, —В–Њ—В –і–Њ–ї–ґ–µ–љ —Б–ї—Л—И–∞—В—М –≤—А–µ–Љ—П. –ѓ —Б–ї—Л—И–∞–ї–∞ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П —Б —Г–ї—Л–±–Ї–Њ–є –Є –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–љ–Њ—Б—В—М—О –Ї–Њ –≤—Б–µ–Љ, –Ї—В–Њ –≤ –љ–∞—Б –≤–µ—А–Є–ї –Є –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–ї. –ѓ –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–љ–∞ –°–∞—И–µ –Ј–∞ –µ–≥–Њ –±–Њ–є—Ж–Њ–≤—Б–Ї–Є–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А, –Ј–∞ –µ–≥–Њ —В–Є—В–∞–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —В—А—Г–і, –Ј–∞ –µ–≥–Њ —Б–Є–ї—Г –≤—Л–ґ–Є—В—М. –Э–µ –≤—Л—Е–Њ–і—П –њ–Њ —Б–µ–Љ—М —З–∞—Б–Њ–≤ –Є–Ј –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Њ–≥–Њ –і—Г—И–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–ї–∞, –Њ–љ —А–∞–±–Њ—В–∞–ї —Б –Ї–∞–ґ–і–Њ–є –≥—А—Г–њ–њ–Њ–є –Љ–∞–ї—М—З–Є—И–µ–Ї, —Б –Љ–Њ–Ї—А—Л–Љ–Є –њ–Њ–ї–Њ—В–µ–љ—Ж–∞–Љ–Є –љ–∞ —И–µ—П—Е, —Б —В–∞–Ї–Њ–є –Њ—В–і–∞—З–µ–є, –≤—Л–Ї–Є–і—Л–≤–∞—П —В–∞–Ї–Є–µ –Ї–Њ–ї–µ–љ—Ж–∞, вАУ –і—Г—И–∞ –Ј–∞–Љ–Є—А–∞–ї–∞. –Э–µ–Є—Б—В–Њ–≤–Њ –≤—Л–±–Є–≤–∞–ї–∞ —З–∞—Б—Л –Ј–∞–љ—П—В–Є–є –і–ї—П –µ–≥–Њ —Г–ґ–µ —Б—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–≤—И–µ–≥–Њ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–∞ –≤ –±–Њ–ї—М—И–Њ–Љ —Е–Њ—А–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –Ј–∞–ї–µ. –° –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А–∞ –Ѓ—А–Є—П –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤–Є—З–∞, –°–∞–ї–Њ–Љ–∞—В–Њ–≤ –Є–Љ–µ–ї –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М —В–≤–Њ—А–Є—В—М –≤ –і–≤—Г—Е –Ј–∞–ї–∞—Е. –Ь–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–є —Б–≤—П–Ј–∞–љ–Њ —Б —Н—В–Є–Љ –Ј–∞–ї–Њ–Љ. –Э–Њ –Њ–± –Њ–і–љ–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –љ–µ–њ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ —Е–Њ—З–µ—В—Б—П —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М. –Э–∞ –Њ—В–Ї—А—Л—В–Њ–Љ —Г—А–Њ–Ї–µ —Е–Њ—А–µ–Њ–≥—А–∞—Д–∞ –У–µ–љ—А–Є–µ—В—В—Л –Ь–Є—А–Њ–љ–Њ–≤–љ—Л, –Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –і–≤–µ—А—М –Є —И–Є—А–Њ–Ї–Є–Љ–Є —И–∞–≥–∞–Љ–Є –≤ –Њ–±—Г–≤–Є, –њ–∞–ї—М—В–Њ, —Б –∞–≤–Њ—Б—М–Ї–Њ–є –≤ —А—Г–Ї–∞—Е, –љ–µ –Њ–±—А–∞—Й–∞—П –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П –љ–∞ –њ–µ–і–∞–≥–Њ–≥–Њ–≤, –і–µ—В–µ–є –Є —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є, —А–∞–Ј–і–∞–µ—В—Б—П –≥—А–Њ–Љ–Ї–Є–є —А–∞–і–Њ—Б—В–љ—Л–є –≥–Њ–ї–Њ—Б: ¬Ђ–Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж-—В–Њ —З–µ—А–µ–Ј –і–≤–∞–і—Ж–∞—В—М –ї–µ—В —П –љ–∞—И–µ–ї —В–µ–±—П, —Б–њ–∞—Б–Є–±–Њ –≠—А–Є–Ї—Г, –љ–Њ —З–µ–Љ —В—Л –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–µ—И—М—Б—П –≤ —Н—В–Њ–Љ –Љ—Г—А–∞–≤–µ–є–љ–Є–Ї–µ, —В–≤–Њ–µ –ї–Є —Н—В–Њ –і–µ–ї–Њ?¬ї –ѓ —Б—А–∞–Ј—Г —Г–Ј–љ–∞–ї–∞ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –і–µ–ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ, —Н–љ–µ—А–≥–Є—З–љ–Њ–≥–Њ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З–∞ –Ы—Г–Ї—М—П–љ–Њ–≤–∞ вАУ –Э–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ –Ф–Њ–Љ–∞ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤ –Љ–Њ–µ–≥–Њ –і–∞–ї–µ–Ї–Њ–≥–Њ –Т–ї–∞–і–Є–≤–Њ—Б—В–Њ–Ї–∞. –†–∞–і–Њ—Б—В—М –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ–є –≤—Б—В—А–µ—З–Є —А–∞–Ј–і–µ–ї–Є–ї–Є –≤—Б–µ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–Є–µ. –Т –љ–∞—И–µ–Љ —Г—О—В–љ–Њ–Љ –Ї–∞—Д–µ ¬Ђ–†—Л–±–Ї–∞¬ї –Љ—Л —Б –љ–µ–ґ–љ–Њ—Б—В—М—О –≤—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М –≤ –Ї–∞–і—А—Л –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ–≥–Њ —Д–Є–ї—М–Љ–∞ —В–Њ–≥–Њ –љ–µ–Ј–∞–±—Л–≤–∞–µ–Љ–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–Љ–Є. –Т—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї–Є —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є–µ –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б–∞–ї–Њ–љ–∞ вАУ –њ—А–Њ—Б–ї—Г—И–Є–≤–∞–љ–Є–µ –Ї–ї–∞—Б—Б–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Љ—Г–Ј—Л–Ї–Є –±–µ–Ј —Б–Є–Љ—Д–Њ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Њ—А–Ї–µ—Б—В—А–Њ–≤. –°–µ–≥–Њ–і–љ—П —В–Њ–ґ–µ —Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞—О—В: ¬Ђ–Ъ–∞–Ї —Н—В–Њ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ?¬ї –Т —В–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–Є–µ —И–µ—Б—В–Є–і–µ—Б—П—В—Л–µ –≥–Њ–і—Л –±—Л–ї–Њ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ, –њ–Њ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—О –њ–∞—А—В–Є–Є –Є –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞, –љ–µ—Б—В–Є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Г –≤ –Љ–∞—Б—Б—Л. –Т–Њ—В –Є ¬Ђ–љ–µ—Б–ї–Є¬ї, —Б—В–∞—А–∞–ї–Є—Б—М, –Ї–∞–Ї —Г–Љ–µ–ї–Є. –Ґ–µ—Е–љ–Є–Ї–Є –Ї–∞–Ї-—В–Њ –≤—Б—С –Є–Ј–Њ–±—А–µ–ї–Є, –Є–Ј–≤–ї–µ–Ї–∞—П —З–Є—Б—В—Л–є –Ј–≤—Г–Ї, –Є–Ј –≤–Є–љ–Є–ї–Њ–≤—Л—Е –њ–ї–∞—Б—В–Є–љ–Њ–Ї —З–µ—А–µ–Ј –Ї–Є–љ–Њ–∞–њ–њ–∞—А–∞—В—Г—А—Г –Ј–≤—Г—З–∞–ї–∞ –Њ–њ–µ—А–∞ ¬Ђ–Ъ–∞—А–Љ–µ–љ¬ї –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—В–Њ—А–∞ –С–Є–Ј–µ. –•—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–Є –њ–Њ –љ–∞—И–Є–Љ —Н—Б–Ї–Є–Ј–∞–Љ —Б–і–µ–ї–∞–ї–Є —Б–µ–Љ–Є—Ж–≤–µ—В–љ—Г—О –њ–Њ–ї—Г—А–Њ–Љ–∞—И–Ї—Г вАУ —Н–Љ–±–ї–µ–Љ—Г вАУ —Б –њ–Њ–і—Б–≤–µ—В–∞–Љ–Є –Њ–љ–∞ —Б—В–∞–≤–Є–ї–∞—Б—М –≤ —Г–≥–ї—Г–±–ї–µ–љ–Є–µ —Б—Ж–µ–љ—Л, –њ–Њ–ї—Г—З–∞–ї–Њ—Б—М —З—В–Њ-—В–Њ –≤—А–Њ–і–µ —Б–≤–µ—В–Њ—Н—Д—Д–µ–Ї—В–Њ–≤, –≤ —В–µ–Љ–љ–Њ–Љ –Ј–∞–ї–µ. –Т—Б—С —Н—В–Њ —Г–≤–µ–ї–Є—З–Є–≤–∞–ї–Њ—Б—М –≤ –Њ–±—К–µ–Љ–∞—Е –≤ –Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –Њ—В —А–∞–Ј–Љ–µ—А–Њ–≤ –Ј–∞–ї–Њ–≤. –†–∞–Ј—А–∞–±–∞—В—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М –∞–±–Њ–љ–µ–Љ–µ–љ—В—Л, –њ—А–Є–≥–ї–∞—И–µ–љ–Є—П —Б –Є—Б—В–Њ—А–Є–µ–є –∞–≤—В–Њ—А–Њ–≤ –Є –Є—Е –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–є. –Э–∞—З–Є–љ–∞–ї–Є —Б –І–∞–є–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤ –Љ–∞–ї–Њ–Љ –Ј–∞–ї–µ, –і–Њ—И–ї–Є –і–Њ –У—А–Є–≥–∞ –≤ –±–Њ–ї—М—И–Њ–Љ –Ј–∞–ї–µ. –≠—В–Њ –±—Л–ї–Њ –Њ—В—А–∞–ґ–µ–љ–Њ –≤ —Е—А–Њ–љ–Є–Ї–µ ¬Ђ–°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–є –Ф–∞–ї—М–љ–Є–є –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї вДЦ 7¬ї. 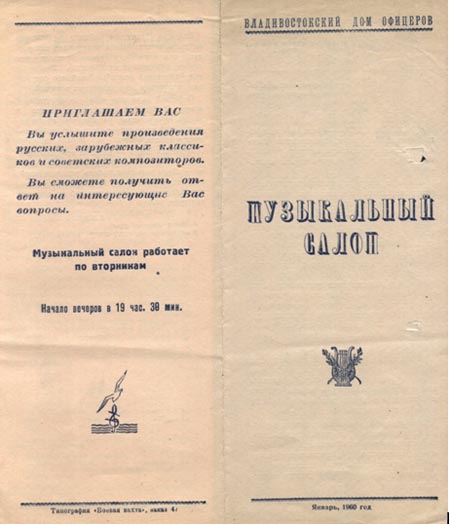 –Р–±–Њ–љ–µ–Љ–µ–љ—В –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б–∞–ї–Њ–љ–∞. –Э–∞—И–Є –Э–Њ–≤–Њ–≥–Њ–і–љ–Є–µ –і–µ—В—Б–Ї–Є–µ –µ–ї–Ї–Є, –≤–µ—З–µ—А–∞ –і–ї—П –Љ–Њ–ї–Њ–і—Л—Е –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤, –≤–µ—З–µ—А–∞ –і–ї—П —Б—В–∞—А—И–µ–≥–Њ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞ –њ–Њ —В—А–Є —З–µ—В—Л—А–µ –Ј–∞—Е–Њ–і–∞ –≤ –і–µ–љ—М. –°—Ж–µ–љ–∞—А–Є—Б—В—Л —А–µ–ґ–Є—Б—Б–µ—А—Л, –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї–Є, —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї–Є вАУ –Љ—Л –≤–Њ –≤—Б–µ—Е –ї–Є—Ж–∞—Е. –Э–Њ —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ї —Б–Њ–Ј–і–∞–≤–∞–ї –љ–µ–≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є—З–љ—Л–µ –љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є—П —Б–≤–Њ–µ–є –Є–Ј–Њ–±—А–µ—В–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М—О. –Ъ–∞–Ї –±—Л–ї–Њ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ –≤–Њ–њ–ї–Њ—В–Є—В—М, –≤ —В–µ—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е, —Б–њ–µ—Ж—Н—Д—Д–µ–Ї—В—Л, –Ј–љ–∞–ї–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–љ–Є. –Ь—Л –Њ–Ј–≤—Г—З–Є–≤–∞–ї–Є —Б–≤–Њ–Є —Г—В–Њ–њ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –ґ–µ–ї–∞–љ–Є—П –≤ –њ–Њ–ї–≥–Њ–ї–Њ—Б–∞, –∞ –Њ–љ–Є –≤–Њ–њ–ї–Њ—Й–∞–ї–Є –Є—Е. –Ф–ї—П —Н—В–Њ–≥–Њ –≤ –±–Њ–ї—М—И–Њ–Љ –Ј–∞–ї–µ —Б–љ–Є–Љ–∞–ї–Є—Б—М –Ї—А–µ—Б–ї–∞, —Б–Њ –≤—Б–µ—Е —Б—В–Њ—А–Њ–љ —Г—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М –њ—А–Њ–ґ–µ–Ї—В–Њ—А–∞, —Б –њ–Њ—В–Њ–ї–Ї–∞ —Н–Љ–±–ї–µ–Љ—Л –≤–µ—З–µ—А–∞, –њ–Њ –≤—Б–µ–Љ—Г –Ј–∞–ї—Г –Ї–Њ—Б–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –њ–ї–∞–љ–µ—В—Л вАУ —Б –љ–Є—Е –љ–µ—Б–ї–Є—Б—М —Н—Б—В—А–∞–і–љ—Л–µ –њ–µ—Б–љ–Є —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є—Е –Є –Ј–∞—А—Г–±–µ–ґ–љ—Л—Е –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї–µ–є. –С–Њ–ї—М—И–∞—П —Б—Ж–µ–љ–∞ –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–∞–ї–∞—Б—М –≤ –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Г—О –Р–љ—В–∞—А–Ї—В–Є–і—Г, –≥–і–µ –њ–Є–љ–≥–≤–Є–љ—Л, —Б–Є–і—П –љ–∞ –ї–µ–і—П–љ—Л—Е –≥–ї—Л–±–∞—Е, –і—Г–ї–Є –≤ —Б–≤–Њ–Є —Б–∞–Ї—Б–Њ—Д–Њ–љ—Л —В–∞–Ї, —З—В–Њ –≤—Б–µ–Љ –±—Л–ї–Њ –ґ–∞—А–Ї–Њ. –Т—Б–µ –Ј–∞–ї—Л –Є —Д–Њ–є–µ –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–∞–ї–Є—Б—М –≤ –ї–µ—Б–љ—Л–µ –њ–Њ–ї—П–љ—Л —Б–Њ —Б–љ–µ–ґ–љ—Л–Љ–Є –≥–Њ—А–Ї–∞–Љ–Є –Є –Ї–Њ—А–Њ–ї–µ–≤—Б—В–≤–∞–Љ–Є, –≥–і–µ –≤—Б—В—А–µ—З–∞–ї–Є—Б—М –ґ–Є–≤—Л–µ –Ј–≤–µ—А—П—В–∞ –Є –і–∞–ґ–µ –Љ–µ–і–≤–µ–і–Є. –Э—Г, —З–µ–Љ –љ–µ ¬Ђ–Ъ–∞—А–љ–∞–≤–∞–ї—М–љ–∞—П –љ–Њ—З—М?¬ї  –Э–Њ–≤–Њ–≥–Њ–і–љ–Є–є –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–є –±–Є–ї–µ—В –љ–∞ –≤–µ—З–µ—А-–±–∞–ї –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤.
28.03.201300:3428.03.2013 00:34:09
–°—В—А–∞–љ–Є—Ж—Л:
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
...
|
14
|
–°–ї–µ–і.
|