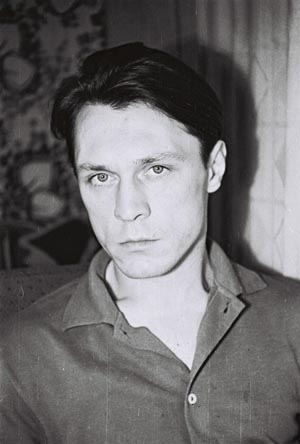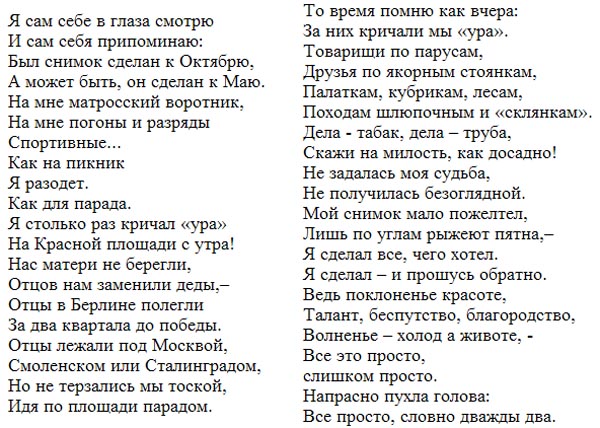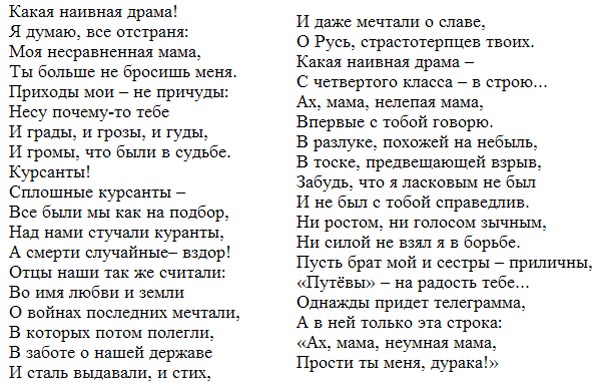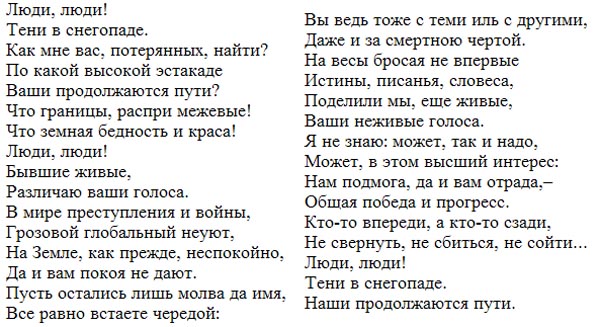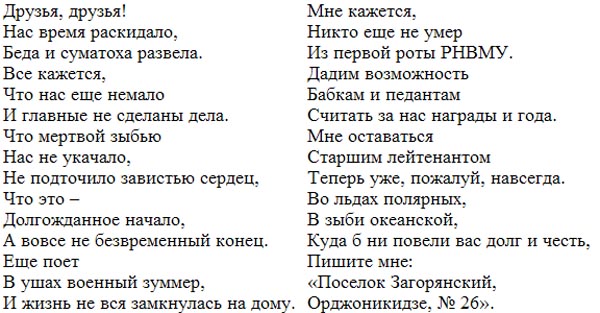–≠—Б–Ї–∞–і—А–µ–љ–љ—Л–є –±—А–Њ–љ–µ–љ–Њ—Б–µ—Ж ¬Ђ–Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є I¬ї–°–і–∞—З–∞ –≤ –њ–ї–µ–љ —П–њ–Њ–љ—Ж–∞–Љ –Њ—Б—В–∞—В–Ї–Њ–≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є —Н—Б–Ї–∞–і—А—Л
–Т–Њ –≤—А–µ–Љ—П —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П 14 –Љ–∞—П —П–њ–Њ–љ—Ж—Л —Б—В–∞—А–∞–ї–Є—Б—М –≤ –њ–µ—А–≤—Г—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–Є—В—М –≥–Њ–ї–Њ–≤–љ—Л–µ –±—А–Њ–љ–µ–љ–Њ—Б—Ж—Л –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –љ–µ –Њ–±—А–∞—Й–∞–ї–Є –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П –љ–∞ ¬Ђ–Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П I¬ї. –Я–Њ –љ–µ–Љ—Г —Б—В—А–µ–ї—П–ї–Є –Ї–∞–Ї –±—Л –Љ–µ–ґ–і—Г –њ—А–Њ—З–Є–Љ. –Ш –≤—Б–µ –ґ–µ –Њ–љ —Б —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—З–∞–ї–∞ –±–Њ—П –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –Њ—В –і–≤—Г—Е —Б–љ–∞—А—П–і–Њ–≤ –±–Њ–ї—М—И—Г—О –њ—А–Њ–±–Њ–Є–љ—Г –њ–Њ–і –ї–µ–≤–Њ–є –љ–Њ—Б–Њ–≤–Њ–є —И–µ—Б—В–Є–і—О–є–Љ–Њ–≤–Њ–є –њ—Г—И–Ї–Њ–є. –≠—В–∞ –њ—А–Њ–±–Њ–Є–љ–∞ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–≤—И–∞—П—Б—П –Њ–і–љ–Є–Љ –Ї—А–∞–µ–Љ –љ–Є–ґ–µ –≤–∞—В–µ—А–ї–Є–љ–Є–Є, –њ—А–Є—З–Є–љ—П–ї–∞ –Љ–љ–Њ–≥–Њ —Е–ї–Њ–њ–Њ—В: —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–Є –Ј–∞–і–µ–ї—Л–≤–∞–ї–Є –µ–µ –Ї–Њ–є–Ї–∞–Љ–Є –Є —З–µ–Љ–Њ–і–∞–љ–∞–Љ–Є, –≤–Њ–і–∞ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–∞ –њ—А–Є–±—Л–≤–∞—В—М –Є –Ј–∞–ї–Є–ї–∞ –њ–Њ–і—И–Ї–Є–њ–µ—А—Б–Ї–Њ–µ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ. –Я–Њ–Ј–і–љ–µ–µ –њ–Њ–њ–∞–ї–Њ –µ—Й–µ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–љ–∞—А—П–і–Њ–≤. –Т—Л—И–ї–Њ –Є–Ј —Б—В—А–Њ—П –Њ–і–љ–Њ –і–≤–µ–љ–∞–і—Ж–∞—В–Є–і—О–є–Љ–Њ–≤–Њ–µ –Њ—А—Г–і–Є–µ. –С—Л–ї–Є –њ—А–Њ–±–Є—В—Л –Њ—Б–Ї–Њ–ї–Ї–∞–Љ–Є –Љ–Є–љ–љ—Л–µ –Є –њ–∞—А–Њ–≤—Л–µ –Ї–∞—В–µ—А—Л –Є –њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ—Л –≤ –љ–µ–≥–Њ–і–љ–Њ—Б—В—М —И–ї—О–њ–Ї–Є, –Ј–∞ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ–Љ —И–µ—Б—В–µ—А–Ї–Є –Є –Њ–і–љ–Њ–є –і–≤–Њ–є–Ї–Є. –Э–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б—В—А–∞–і–∞–ї –Є –ї–Є—З–љ—Л–є —Б–Њ—Б—В–∞–≤: –љ–∞—И–ї–Є —Г–±–Є—В—Л–Љ–Є –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В–∞ –Ь–Є—А–±–∞—Е–∞ –Є –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–Є–ґ–љ–Є—Е —З–Є–љ–Њ–≤, –≤—Л–±—Л–ї–Є –Є–Ј —Б—В—А–Њ—П –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А —Б—Г–і-–љ–∞, –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ 1-–≥–Њ —А–∞–љ–≥–∞ –°–Љ–Є—А–љ–Њ–≤, –Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –і–≤–∞–і—Ж–∞—В—М –Љ–∞—В—А–Њ—Б–Њ–≤.
¬Ђ–Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є¬ї —Б—В—А–µ–ї—П–ї –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –Є—Б–њ—А–∞–≤–љ–Њ, –Ї–Њ–≥–і–∞ —А–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ –і–Њ –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—М—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є –љ–µ –њ—А–µ–≤—Л—И–∞–ї–Њ –і–∞–ї—М–љ–Њ–±–Њ–є–љ–Њ—Б—В–Є –µ–≥–Њ –Њ—А—Г–і–Є–є. –Ф–ї—П —Б–≤–Њ–µ–є —Г—Б—В–∞—А–µ–ї–Њ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є –Њ–љ –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї—Б—П –і—Л–Љ–љ—Л–Љ –њ–Њ—А–Њ—Е–Њ–Љ, –Є —Н—В–Њ –Ј–∞—В—А—Г–і–љ—П–ї–Њ –і–µ–ї–Њ. –Я–Њ—Б–ї–µ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е –≤—Л—Б—В—А–µ–ї–Њ–≤ –±—А–Њ–љ–µ–љ–Њ—Б–µ—Ж –Ј–∞—Б—В–Є–ї–∞–ї—Б—П —Б–≤–Њ–Є–Љ –ґ–µ –і—Л–Љ–Њ–Љ. –Я—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї—Б—П –љ–µ–≤–Є–і–Є–Љ. –Ю—А—Г–і–Є—П –Ј–∞–Љ–Њ–ї–Ї–∞–ї–Є, –њ–Њ–Ї–∞ –љ–µ —А–∞—Б—Б–µ–Є–≤–∞–ї—Б—П –і—Л–Љ. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –Є –њ—А–Є —В–∞–Ї–Є—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е ¬Ђ–Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є¬ї —Г—Б–њ–µ–ї —А–∞—Б—Б—В—А–µ–ї—П—В—М —В—Л—Б—П—З—Г —З–µ—В—Л—А–µ—Б—В–∞ –њ—П—В—М–і–µ—Б—П—В —И–µ—Б—В—М —Б–љ–∞—А—П–і–Њ–≤ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї—А—Г–њ–љ–Њ–≥–Њ –Є —Б—А–µ–і–љ–µ–≥–Њ –Ї–∞–ї–Є–±—А–∞. –Х–≥–Њ –њ–Њ–≥—А–µ–±–∞ —Б –±–Њ–µ–≤—Л–Љ–Є –њ—А–Є–њ–∞—Б–∞–Љ–Є —В–∞–Ї –ґ–µ –Њ–њ—Г—Б—В–µ–ї–Є, –Ї–∞–Ї –Є –љ–∞ –і—А—Г–≥–Є—Е –љ–∞—И–Є—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П—Е.
–Ъ–Њ–љ—В—А-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї –Э–µ–±–Њ–≥–∞—В–Њ–µ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–ї –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ –Њ—В—А—П–і–Њ–Љ, –љ–Њ –Є –≤–Ј—П–ї –љ–∞ —Б–µ–±—П, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤—Л–±—Л–ї –Є–Ј —Б—В—А–Њ—П —А–∞–љ–µ–љ–Є–є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –°–Љ–Є—А–љ–Њ–≤, —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ —Б—Г–і–љ–Њ–Љ. –Т –±–µ–ї–Њ–Љ –Ї–Є—В–µ–ї–µ, –њ–ї–Њ—В–љ–Њ –Њ–±–ї–µ–≥–∞–≤—И–µ–Љ –µ–≥–Њ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–≤—И–µ–µ —В–µ–ї–Њ, –≤ –љ–µ–Њ–±—Л–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ —И–Є—А–Њ–Ї–Є—Е —З–µ—А–љ—Л—Е –±—А—О–Ї–∞—Е, –Њ–љ –њ–Њ—Е–Њ–і–Є–ї —Б–Ї–Њ—А–µ–µ –љ–∞ –і–Њ–±—А–Њ–і—Г—И–љ–Њ–≥–Њ –Ї—Г–њ—Ж–∞, —З–µ–Љ –љ–∞ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞.. –Э–Њ –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б —В–µ–Љ –≤—Б–µ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Л —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є –љ–∞–і —Б–Њ–±–Њ—О –µ–≥–Њ –≤–ї–∞—Б—В—М, –Є –љ–Є–Ї—В–Њ –Є–Ј –љ–Є—Е –љ–µ –њ–Њ—Б–Љ–µ–ї –±—Л –љ–µ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–Є—В—М —В–Њ–≥–Њ –Є–ї–Є –Є–љ–Њ–≥–Њ –µ–≥–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П. –Т –±–Њ—О –Њ–љ –њ–Њ–і–∞–≤–∞–ї –њ—А–Є–Љ–µ—А –і—А—Г–≥–Є–Љ —Б–≤–Њ–µ–є —Е—А–∞–±—А–Њ—Б—В—М—О –Є —З–∞—Б—В–Њ –≤—Л—Е–Њ–і–Є–ї –Є–Ј –±–Њ–µ–≤–Њ–є —А—Г–±–Ї–Є –љ–∞ –Љ–Њ—Б—В–Є–Ї, —З—В–Њ–±—Л –ї—Г—З—И–µ —А–∞–Ј–≥–ї—П–і–µ—В—М, —З—В–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В –Ї—А—Г–≥–Њ–Љ. –Э–µ–њ–ї–Њ—Е–Њ–є –Љ–Њ—А—П–Ї, –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Ї, –Њ–љ –љ–µ –Љ–Њ–≥ –љ–µ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—В—М, —З—В–Њ –Ї–∞–Љ–њ–∞–љ–Є—П –љ–∞—И–∞ –њ—А–Њ–Є–≥—А–∞–љ–∞, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –љ–Є—З–µ–Љ –љ–µ –≤—Л–і–∞–≤–∞–ї —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –≤–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П. –Х–≥–Њ –ї–Є—Ж–Њ, –Њ–і—Г—В–ї–Њ–≤–∞—В–Њ–µ, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ —А–∞—Б–њ—Г—Е—И–µ–µ, –≤ —Б–µ–і–Њ–є –Ј–∞–Њ—Б—В—А–µ–љ–љ–Њ–є –±–Њ—А–Њ–і–µ, –≤ –Ј–∞–њ—Г–і—А–µ–љ–љ—Л—Е –њ—П—В–љ–∞—Е —Н–Ї–Ј–µ–Љ—Л, –±—Л–ї–Њ –≤–љ–µ—И–љ–µ —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є–Ј¬ђ—А–µ–і–Ї–∞ –њ–Њ–±–ї–µ—Б–Ї–Є–≤–∞–ї –≤ —А—Г–Ї–∞—Е –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –±–Є–љ–Њ–Ї–ї—М, –њ—А–Є—Б—В–∞–≤–ї—П–µ–Љ—Л–є –Ї –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ, –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–≤—Л–Ї–∞—В–µ –≥–ї–∞–Ј–∞–Љ.
–Р–і–Љ–Є—А–∞–ї –ґ–∞–ї–Њ–≤–∞–ї—Б—П —Б–≤–Њ–Є–Љ —И—В–∞–±–љ—Л–Љ:
- –ѓ –љ–µ –њ–Њ–ї—Г—З–∞—О –љ–Є –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є—П —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ —Н—Б–Ї–∞–і—А–Њ–є. –Ш –љ–µ –Ј–љ–∞—О, –ґ–Є–≤ –ї–Є –Њ–љ. –Я–Њ —Б—В–∞—А—И–Є–љ—Б—В–≤—Г –µ–≥–Њ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л–ї –±—Л –Ј–∞–Љ–µ–љ–Є—В—М –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї –§–µ–ї—М–Ї–µ—А–Ј–∞–Љ. –Э–Њ, –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –Є —Н—В–Њ—В –њ–Њ–≥–Є–± –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –±—А–Њ–љ–µ–љ–Њ—Б—Ж–µ–Љ ¬Ђ–Ю—Б–ї—П–±—П¬ї? –Ґ–∞–Ї–Њ–µ –љ–µ–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ —Б–≤—П–Ј—Л–≤–∞–µ—В –Љ–µ–љ—П –њ–Њ —А—Г–Ї–∞–Љ –Є –љ–Њ–≥–∞–Љ. –Ъ—В–Њ –ґ–µ –≤—Б–µ-—В–∞–Ї–Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г–µ—В —Н—Б–Ї–∞–і—А–Њ–є?
- –Э–µ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–∞ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М, –≤–∞—И–µ –њ—А–µ–≤–Њ—Б—Е–Њ–і–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ, —З—В–Њ —Н—Б–Ї–∞–і—А–Њ–є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г–µ—В –Ї–∞–Ї–Њ–є-–љ–Є–±—Г–і—М –Љ–Є—З–Љ–∞–љ, - —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї —Д–ї–∞–≥-–Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ –Ъ—А–Њ—Б—Б, –њ–Њ–і–µ—А–≥–Є–≤–∞—П –њ–Њ —Б–≤–Њ–µ–є –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ–є –њ—А–Є–≤—Л—З–Ї–µ –љ–µ–±—А–µ–ґ–љ–Њ —Б–≤–Є—Б–∞—О—Й–Є–µ —Г—Б—Л.
–Э–µ–±–Њ–≥–∞—В–Њ–≤ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї:
- –Ь—Л –Ї–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ –њ–Њ–њ–∞–ї–Є –≤ –Ј–∞–Ї–Њ–ї–і–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є –Ї—А—Г–≥. –Ґ–Њ–ї—З–µ–Љ¬ђ—Б—П –≤ –љ–µ–Љ –Є –љ–Є–Ї–∞–Ї –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ–Љ –≤—Л–є—В–Є –Є–Ј –њ—А–Њ–ї–Є–≤–∞. –Ф–µ–ї–Њ –Є–і–µ—В —Г–ґ–µ –Ї –≤–µ—З–µ—А—Г. –Х—Б–ї–Є –љ–∞—Б –Ј–∞—Б—В–∞–љ–µ—В –Ј–і–µ—Б—М –љ–Њ—З—М, —В–Њ –Њ—З–µ–љ—М –±—Г–і–µ—В –њ–ї–Њ—Е–Њ –Њ—В –Љ–Є–љ–љ—Л—Е –∞—В–∞–Ї.
–Ш, –њ—А–Є–љ—П–≤ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ, —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–і–Є–ї—Б—П:
- –Я–Њ–і–љ—П—В—М —Б–Є–≥–љ–∞–ї: ¬Ђ–Ъ—Г—А—Б –љ–Њ—А–і-–Њ—Б—В –і–≤–∞–і—Ж–∞—В—М —В—А–Є –≥—А–∞–і—Г—Б–∞¬ї!
–Я—А–Є–Ї–∞–Ј –љ–µ–Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ –±—Л–ї –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ —Б–Є–≥–љ–∞–ї—М—Й–Є–Ї–∞–Љ–Є. –Ч–∞ –љ–Є–Љ–Є –љ–∞–±–ї—О–і–∞–ї –Љ–ї–∞–і—И–Є–є —Д–ї–∞–≥-–Њ—Д–Є—Ж–µ—А, –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В –°–µ–≤–µ—А–Є–љ—Ж, —Е—Г–і–Њ–µ –Є –±–µ–Ј—Г—Б–Њ–µ –ї–Є—Ж–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –≤—Л—А–∞–ґ–∞–ї–Њ —Г—Б–µ—А–і–Є–µ –Ј–∞–±–Є—В–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —З–Є–љ–Њ–≤–љ–Є–Ї–∞. –Ъ–∞–Ї —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї —В–Њ—З–љ—Л–є, –Њ–љ –њ–Њ–і–Њ–ґ–і–∞–ї –љ–∞ –Љ–Њ—Б—В–Є–Ї–µ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–Є–љ—Г—В, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ, –≤–Њ–є–і—П –≤ –±–Њ–µ–≤—Г—О —А—Г–±–Ї—Г, –і–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї:
- –Т–∞—И–µ –њ—А–µ–≤–Њ—Б—Е–Њ–і–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ, —Б–Є–≥–љ–∞–ї –Њ—В—А–µ–њ–µ—В–Њ–≤–∞–ї–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б—Г–і–∞ –љ–∞—И–µ–≥–Њ –Њ—В—А—П–і–∞. –Э–Њ, –њ–Њ-–≤–Є–і–Є–Љ–Њ–Љ—Г, –њ–Њ–љ—П–ї–Є —Б–Є–≥–љ–∞–ї –Є –њ–µ—А–µ–і–љ–Є–µ –Љ–∞—В–µ–ї–Њ—В—Л-¬Ђ–С–Њ—А–Њ–і–Є–љ–Њ¬ї –Є ¬Ђ–Ю—А–µ–ї¬ї. –Ю–љ–Є —В–Њ–ґ–µ –љ–∞—З–Є–љ–∞—О—В —Б–Ї–ї–Њ–љ—П—В—М—Б—П –љ–∞ —Б–µ–≤–µ—А.
–Т —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П, –Ј–∞–Љ–µ—В–Є–≤ —З—В–Њ-—В–Њ, –±—Л—Б—В—А–Њ –≤—Л—Б–Ї–Њ—З–Є–ї –Є–Ј –±–Њ–µ–≤–Њ–є —А—Г–±–Ї–Є —Б—В–∞—А—И–Є–є —Д–ї–∞–≥-–Њ—Д–Є—Ж–µ—А, –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В –°–µ—А–≥–µ–µ–≤, –љ–Њ —Б–Ї–Њ—А–Њ –≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ. –†—Л–ґ–Є–є, —А—Г–Љ—П–љ—Л–є, –Њ–њ–ї-–≤–∞—О—Й–Є–є –ґ–Є—А–Ї–Њ–Љ, –Њ–љ –±—А–Њ—Б–Є–ї –љ–∞ –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–∞ –±–µ–≥–∞—О—Й–Є–є –≤–Ј–≥–ї—П–і-–Є –Њ—В—З–µ–Ї–∞–љ–Є–ї-
- –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ —З—В–Њ –њ—А–Њ—И–µ–ї –њ–Њ –±–Њ—А—В—Г –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –љ–∞—И–Є—Е –Љ–Є–љ–Њ–љ–Њ—Б—Ж–µ–≤. –Ъ —Б–Њ–ґ–∞–ї–µ–љ–Є—О, –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –љ–∞ –љ–µ–Љ —П –љ–µ —Г—Б–њ–µ–ї –њ—А–Њ—З–Є—В–∞—В—М. –° –љ–µ–≥–Њ –њ–µ—А–µ–і–∞–ї–Є –≥–Њ–ї–Њ—Б–Њ–Љ, —З—В–Њ –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї –†–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ—Б–Ї–Є–Є –њ—А–Є¬ђ–Ї–∞–Ј–∞–ї –≤–∞–Љ –Є–і—В–Є –≤–Њ –Т–ї–∞–і–Є–≤–Њ—Б—В–Њ–Ї.
–Э–µ–±–Њ–≥–∞—В–Њ–≤, –≤—Л—Б–ї—Г—И–∞–≤, –Ї–Є–≤–љ—Г–ї —Б–µ–і–Њ–є –≥–Њ–ї–Њ–≤–Њ–є.
- –Т–Њ—В –Є –Њ—В–ї–Є—З–љ–Њ. –Ч–љ–∞—З–Є—В, —П –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–і–Є–ї—Б—П –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б–Є–≥–љ–∞–ї–∞. –Ґ–µ–њ–µ—А—М –њ–Њ –Ї—А–∞–є–љ–µ–є –Љ–µ—А–µ –≤—Л—П—Б–љ–Є–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ —П –Љ–Њ–≥—Г —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–∞—В—М—Б—П.
–Э–µ —В–µ—А—П–ї –Њ–љ —Б–∞–Љ–Њ–Њ–±–ї–∞–і–∞–љ–Є—П –Є –љ–Њ—З—М—О, –Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–∞—З–∞–ї–Є—Б—М –Љ–Є–љ–љ—Л–µ –∞—В–∞–Ї–Є. –С—Л–ї —Б–ї—Г—З–∞–є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤—Л–њ—Г—Й–µ–љ–љ–∞—П –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї–µ–Љ –Љ–Є–љ–∞ —И–ї–∞ –љ–∞ ¬Ђ–Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П¬ї. –£ –≤—Б–µ—Е –љ–∞—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є—Е—Б—П –≤ —А—Г–±¬ђ–Ї–µ –Ј–∞–Љ–µ—А–ї–Њ —Б–µ—А–і—Ж–µ –Э–µ–±–Њ–≥–∞—В–Њ–≤ —Б–∞–Љ —Б–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–ї, –≥—А–Њ–Љ–Ї–Њ –≤—Л–Ї—А–Є–Ї–љ—Г–≤:
- –Я—А–∞–≤–Њ –љ–∞ –±–Њ—А—В!
–С—А–Њ–љ–µ–љ–Њ—Б–µ—Ж –Ї—А—Г—В–Њ –њ–Њ–≤–µ—А–љ—Г–ї –≤–ї–µ–≤–Њ, –Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—П –Љ–Є–љ—Г –Ј–∞ –Ї–Њ—А–Љ–Њ–є.
–° –љ–µ—В–µ—А–њ–µ–љ–Є–µ–Љ –ґ–і–∞–ї–Є —А–∞—Б—Б–≤–µ—В–∞, –∞ –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ –љ–∞—Б—В—Г–њ–Є–ї, —В–Њ —Г–≤–Є–і–µ–ї–Є, —З—В–Њ –Њ—В —Н—Б–Ї–∞–і—А—Л –Њ—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ—П—В—М –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є (¬Ђ–Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є I¬ї, ¬Ђ–Ю—А–µ–ї¬ї, ¬Ђ–Р–њ—А–∞–Ї—Б–Є–љ¬ї, ¬Ђ–°–µ–љ—П–≤–Є–љ¬ї –Є –Ї—А–µ–є—Б–µ—А ¬Ђ–Ш–Ј—Г–Љ—А—Г–і¬ї). –Ц–∞–і–љ–Њ –Њ–≥–ї—П–і—Л–≤–∞–ї–Є –≥–Њ—А–Є–Ј–Њ–љ—В, –љ–∞–і–µ—П—Б—М —Г–≤–Є–і–µ—В—М —Б–≤–Њ–Є—Е –Њ—В—Б—В–∞–≤—И–Є—Е —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–µ–є, –љ–Њ –≤—Б—В—А–µ—В–Є–ї–Є—Б—М —Б–љ–Њ–≤–∞ —Б –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–Њ–Љ. –Ш –њ–Њ –Љ–µ—А–µ —В–Њ–≥–Њ –Ї–∞–Ї —Г–≤–µ–ї–Є—З–Є–≤–∞–ї–Њ—Б—М —З–Є—Б–ї–Њ –µ–≥–Њ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є, –љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–µ –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–∞ –њ–∞–і–∞–ї–Њ. –Х—Б–ї–Є –≤—З–µ—А–∞ –≤—Б–µ–є —Н—Б–Ї–∞–і—А–Њ–є –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є –љ–∞–љ–µ—Б—В–Є –≤—А–µ–і–∞ –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї—Г, —В–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –ї–Є —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П —Б—А–∞–ґ–∞—В—М—Б—П —Б –љ–Є–Љ? –Ф–∞ –Њ–љ –Є –љ–µ –њ–Њ–і–Њ–є–і–µ—В –љ–∞ —А–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ –љ–∞—И–Є—Е –≤—Л—Б—В—А–µ–ї–Њ–≤. –Ч–љ–∞—З–Є—В, –Њ–љ –±—Г–і–µ—В –≥—А–Њ–Љ–Є—В—М —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–µ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –њ–∞—Б—Б–∞–ґ–Є—А—Б–Ї–Є–µ –њ–∞—А–Њ—Е–Њ–і—Л, —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –±–µ–Ј–љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ.
–Р–і–Љ–Є—А–∞–ї, –љ–µ—А–≤–љ–Є—З–∞—П, —В–Њ –≤—Л—Е–Њ–і–Є–ї –љ–∞ –Љ–Њ—Б—В–Є–Ї, —В–Њ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞–ї—Б—П –≤ –±–Њ–µ–≤—Г—О —А—Г–±–Ї—Г. –Ю–љ –њ—А–Є—Б—В–∞–ї—М–љ–Њ –≤—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–ї—Б—П –≤ –Њ—З–µ—А—В–∞–љ–Є—П –њ–Њ—П–≤–ї—П–≤—И–Є—Е—Б—П –љ–∞ –≥–Њ—А–Є–Ј–Њ–љ—В–µ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є. –Э–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є–є –љ–µ –±—Л–ї–Њ, —З—В–Њ –µ–≥–Њ –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞—О—В —П–њ–Њ–љ—Ж—Л. –Э–Њ –Њ–љ –Ї–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ –љ–µ –і–Њ–≤–µ—А—П–ї —Б–≤–Њ–Є–Љ –±–µ—Б—Ж–≤–µ—В–љ—Л–Љ –≥–ї–∞–Ј–∞–Љ –Є –Љ–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј –Њ–±—А–∞—Й–∞–ї—Б—П –Ї –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї–∞–Љ:
- –Я–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–Є—В–µ —Е–Њ—А–Њ—И–µ–љ—М–Ї–Њ, –љ–µ –њ—А–Є–±–ї–Є–ґ–∞—О—В—Б—П –ї–Є —Б–≤–Њ–Є —Б –Ї–∞–Ї–Њ–є-–љ–Є–±—Г–і—М —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л?
–Я–Њ–≤—В–Њ—А—П–ї—Б—П –±–µ–Ј–љ–∞–і–µ–ґ–љ–Њ –Њ–і–Є–љ –Є —В–Њ—В –ґ–µ –Њ—В–≤–µ—В:
- –Э–Є–Ї–∞–Ї –љ–µ—В, –≤–∞—И–µ –њ—А–µ–≤–Њ—Б—Е–Њ–і–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ, –≤—Б–µ –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—М—Б–Ї–Є–µ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є.
–Э–µ–±–Њ–≥–∞—В–Њ–≤, –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –Ј–∞–Љ–Њ–ї—З–∞–ї –Є, –љ–∞—Е–ї–Њ–±—Г—З–Є–≤ –љ–∞ –≥–ї–∞–Ј–∞ —Д—Г—А–∞–ґ–Ї—Г —Б –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ —Д–ї–Њ—В—Б–Ї–Є–Љ –Ї–Њ–Ј—Л—А—М–Ї–Њ–Љ, –њ–Њ–љ–Є–Ї —Б–µ–і–Њ—О –≥–Њ–ї–Њ–≤–Њ–є. –Ю–љ –Ј–љ–∞–ї, —З—В–Њ –≤—Б–µ –≤–Ј–Њ—А—Л –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ—Л –Ї –љ–µ–Љ—Г, –Њ–ґ–Є–і–∞—П –Њ—В –љ–µ–≥–Њ —Б–њ–∞—Б–µ–љ–Є—П. –Э–Њ —З—В–Њ –Њ–љ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М —Б–≤–Њ–Є–Љ –њ–Њ–і—З–Є–љ–µ–љ–љ—Л–Љ, –Ї–∞–Ї–Њ–µ –Њ—В–і–∞—В—М —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є–µ, —З—В–Њ–±—Л –Є–Ј–±–∞–≤–Є—В—М –Є—Е –Њ—В –±–µ—Б—Б–Љ—Л—Б–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б—В—А–µ–±–ї–µ–љ–Є—П? –Э–Є—З–µ–≥–Њ. –Х—Б–ї–Є –±—Л –Њ–љ –і–µ—А–ґ–∞–ї—Б—П –±–ї–Є–ґ–µ –Ї –±–µ—А–µ–≥—Г, —В–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –±—Л —А–∞–Ј–±–Є—В—М –Є–ї–Є –≤–Ј–Њ—А–≤–∞—В—М —Б–≤–Њ–Є –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є –Є –≤–њ–ї–∞–≤—М –і–Њ–±–Є—А–∞—В—М—Б—П –і–Њ —Б—Г—И–Є. –Э–Њ –њ–Њ–±–ї–Є–Ј–Њ—Б—В–Є –љ–µ –±—Л–ї–Њ –і–∞–ґ–µ –њ–Њ–ї–Њ—Б–Ї–Є –Ј–µ–Љ–ї–Є. –Ш –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –Њ–љ –Ї–∞–Ї –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –њ–Њ-–љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–Љ—Г –њ–Њ—З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –љ–∞ —Б–µ–±–µ –≤—Б—О —Б—В—А–∞—И–љ—Г—О –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Ј–∞ —Б–≤–Њ–Є –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П. –Ъ–∞–Ї–Њ–µ –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–Њ–µ –њ—А–µ–Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ –≤ –ґ–Є–Ј–љ–Є –і–∞–≤–∞–ї–Є –µ–Љ—Г –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї—М—Б–Ї–Є–є —З–Є–љ, –±–ї–µ—Б—В—П—Й–Є–є –Љ—Г–љ–і–Є—А, –Њ—А–і–µ–љ–∞! –Р —В–µ–њ–µ—А—М, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ –Љ—Л—Б–ї–µ–љ–љ–Њ –Ј–∞–≥–ї—П–і—Л–≤–∞–ї –≤ —З–µ—А–љ—Г—О –±–µ–Ј–і–љ—Г –љ–µ–±—Л—В–Є—П, –≤—Б–µ —Б—В–∞–ї–Њ –Љ—Г—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ–Њ—Б—В—Л–ї—Л–Љ. –Ю–љ —Б–≥–Њ—А–±–Є–ї —Б–њ–Є–љ—Г –Є –љ–∞—В—Г–ґ–Є–ї –ї–Є—Ж–Њ, –Ї–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ –Ї—А–∞—Б–Њ–≤–∞–≤—И–Є–µ—Б—П –љ–∞ –µ–≥–Њ –Ј–Њ–ї–Њ—В—Л—Е –њ–ї–µ—З–∞—Е —З–µ—А–љ—Л–µ –Њ—А–ї—Л –Я—А–µ–≤—А–∞—В–Є–ї–Є—Б—М –≤ –і–≤—Г—Е–њ—Г–і–Њ–≤—Л–µ –≥–Є—А–Є.
- –Ф–∞, –њ—А–Њ–Љ–∞–Ј–∞–ї–Є –Љ—Л, - –љ–Є –Ї –Ї–Њ–Љ—Г –љ–µ –Њ–±—А–∞—Й–∞—П—Б—М, –њ—А–Њ–Љ–Њ–ї–≤–Є–ї –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї.
–Т –і–µ–≤—П—В—М —З–∞—Б–Њ–≤ –Ї –љ–µ–Љ—Г –њ—А–Є–±–ї–Є–Ј–Є–ї—Б—П —Д–ї–∞–≥-–Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ –Ъ—А–Њ—Б—Б —В–Є—Е–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї:
- –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –њ—А–Њ—Б–Є–ї –њ–µ—А–µ–і–∞—В—М –≤–∞–Љ, —З—В–Њ –љ–∞–Љ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П, –Ї–∞–Ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–і–∞—В—М—Б—П.
–≠—В–Њ —Б–ї—Л—И–∞–ї–Є —Б–Є–≥–љ–∞–ї—М—Й–Є–Ї–Є –Є —А—Г–ї–µ–≤–Њ–є –Є –љ–∞—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–Є–ї–Є—Б—М. –Р–і–Љ–Є—А–∞–ї –≤–Ј–і—А–Њ–≥–љ—Г–ї –≤—Б–µ–Љ —Б–≤–Њ–Є–Љ –≥—А—Г–Ј–љ—Л–Љ —В—Г–ї–Њ–≤–Є—Й–µ–Љ.
- –Э—Г, —Н—В–Њ –µ—Й–µ –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–Є–Љ.
–Х—Б–ї–Є –±—Л –Љ–љ–µ–љ–Є–µ –Њ —Б–і–∞—З–µ –Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї–Њ –љ–µ –Њ—В –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞, –∞ –Њ—В –Љ–∞—В—А–Њ—Б–∞, —В–Њ –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї, –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –Є –љ–µ –њ—А–Є–і–∞–ї –±—Л —Н—В–Њ–Љ—Г –±–Њ–ї—М—И–Њ–≥–Њ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П. –§–ї–∞–≥-–Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ –Њ—В–ї–Є—З–љ–Њ –Ј–љ–∞—П –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ—Л–µ —П–Ј—Л–Ї–Є, c–Ї–ї–∞–і–љ–Њ –њ–Є—Б–∞–ї –і–Њ–Ї–ї–∞–і—Л –љ–∞ –ї—О–±—Г—О —В–µ–Љ—Г, –Ї—А–∞—Б–Є–≤–Њ –Є–≥—А–∞–ї –љ–∞ —Б–Ї—А–Є–њ–Ї–µ, —Б —Г—Б–њ–µ—Е–Њ–Љ –њ–Њ–Ї–Њ—А—П–ї –ґ–µ–љ—Й–Є–љ. –°–њ–Њ—Б–Њ–±–љ—Л–є, –Њ–љ –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞–ї –Ї —В–µ–Љ –±–∞–ї–Њ–≤–љ—П–Љ —Б—Г–і—М–±—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –ґ–Є–Ј–љ—М –і–∞–µ—В—Б—П –Њ—З–µ–љ—М –ї–µ–≥–Ї–Њ. –Ю—В—Б—О–і–∞ –≤—Л—А–∞–±–Њ—В–∞–ї–Њ—Б—М —Г –љ–µ–≥–Њ –Є –љ–µ—Б–µ—А—М–µ–Ј–љ–Њ–µ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ –Ї–Њ –≤—Б–µ–Љ—Г –Є –±–Њ–ї—М—И–Њ–µ —Б–∞–Љ–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є–µ. –Т—Б–µ —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї—Г. –Э–Њ –≤ –і–∞–љ–љ–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –Ъ—А–Њ—Б—Б –±—Л–ї –љ–Є –њ—А–Є —З–µ–Љ - –Њ–љ —П–≤–ї—П–ї—Б—П —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–µ—А–µ–і–∞—В—З–Є–Ї–Њ–Љ —З—Г–ґ–Њ–є –Є–і–µ–Є. –°–Њ–≤—Б–µ–Љ –њ–Њ –Є–љ–Њ–Љ—Г –Њ—В–љ–Њ—Б–Є–ї—Б—П –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї –Ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Г —Б—Г–і–љ–∞, –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ—Г 1-–≥–Њ —А–∞–љ–≥–∞ –°–Љ–Є—А–љ–Њ–≤—Г. –≠—В–Њ –±—Л–ї –±–Њ–≥–∞—В—Л–є –Є –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є –Љ–Њ—А—П–Ї, —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ—Л–є –Є —А–∞—Б—Б—Г–і–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є. –Ю–љ –Є–Љ–µ–ї –±–Њ–ї—М—И–Є–µ —Б–≤—П–Ј–Є –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤–Њ —Д–ї–Њ—В–µ, –љ–Њ –Є –≤ –і–≤–Њ—А—Ж–Њ–≤—Л—Е —Б—Д–µ—А–∞—Е. –° –љ–Є–Љ –љ–µ–ї—М–Ј—П –±—Л–ї–Њ –љ–µ —Б—З–Є—В–∞—В—М—Б—П. –Ш –µ—Б–ї–Є —Н—В–Њ—В –Ї–∞—А—М–µ—А–Є—Б—В —А–µ—И–Є–ї—Б—П –≤–љ–µ—Б—В–Є —В–∞–Ї–Њ–µ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ, –Ј–љ–∞—З–Є—В –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ –≤—Л–Ї–Њ–і–∞ –љ–µ—В –Є –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–і–∞—В—М—Б—П.
–Э–µ–±–Њ–≥–∞—В–Њ–≤, —В—П–ґ–µ–ї–Њ –і—Л—И–∞, –≤ —Г–њ–Њ—А –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї –≤ —Е—Г–і–Њ–µ –ї–Є—Ж–Њ —Д–ї–∞–≥-–Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–∞, —Г–і–ї–Є–љ–µ–љ–љ–Њ–µ —В–µ–Љ–љ–Њ–є –±–Њ—А–Њ–і–Ї–Њ–є.
- –Р –≤—Л –Ї–∞–Ї –і—Г–Љ–∞–µ—В–µ? –Ъ—А–Њ—Б—Б, –љ–µ —Б–Љ—Г—Й–∞—П—Б—М, –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї:
- –ѓ –њ–Њ–ї–∞–≥–∞—О, —З—В–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –њ—А–∞–≤.
–Т —В–∞–Ї–Њ–є –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ–Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ—Л–є –∞—А–µ—Б—В –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –Є —Д–ї–∞–≥-–Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–∞ –Љ–Њ–≥ –±—Л —Г–і–µ—А–ґ–∞—В—М –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–∞ –Њ—В –Ј–∞–Љ–∞–љ—З–Є–≤–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±–ї–∞–Ј–љ–∞. –Э–Њ —А–µ—И–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –љ–µ –±—Л–ї–∞ –њ—А–Њ¬ђ—П–≤–ї–µ–љ–∞, –Є –Њ—В—А–∞–≤–∞, –±—А–Њ—И–µ–љ–љ–∞—П –≤ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ, –≤–Њ–Ј—Л–Љ–µ–ї–∞ —Б–≤–Њ–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ. –Т–Њ–ї—П –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ –Њ—В—А—П–і–∞ –Њ—Б–ї–∞–±–ї–∞ –Є –Ј–∞–Ї–Њ–ї–µ–±–∞–ї–∞—Б—М. –Ч–∞–Ї—А—Г–ґ–Є–ї–Є—Б—М –±–µ—Б–њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ—Л–µ –Љ—Л—Б–ї–Є, –Ї–∞–Ї —В—А–∞–≤–Є–љ–Ї–Є –≤ —А–µ—З–љ–Њ–Љ –≤–Њ–і–Њ–≤–Њ—А–Њ—В–µ. –Ь–µ—А–µ—Й–Є–ї–Њ—Б—М –Љ—А–∞—З–љ–Њ–µ –±—Г–і—Г—Й–µ–µ: –њ–Њ–Ј–Њ—А —Б–і–∞–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–∞, –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–∞—П —А–µ—И–µ—В–Ї–∞ —В—О—А—М–Љ—Л, –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–є —Б—Г–і, –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М —Б–Љ–µ—А—В–љ–∞—П –Ї–∞–Ј–љ—М. –Т —В–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П –≤—Б–µ–Љ —Б–≤–Њ–Є–Љ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–Љ –Њ–љ –њ—А–Њ—В–µ—Б—В–Њ–≤–∞–ї –њ—А–Њ—В–Є–≤ —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ–±—Л —В–∞–Ї –≥–ї—Г–њ–Њ –њ–Њ–≥—А—Г–ґ–∞—В—М—Б—П –љ–∞ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–µ –і–љ–Њ –Є–ї–Є –±—Л—В—М —А–∞–Ј–Њ—А–≤–∞–љ–љ—Л–Љ –≤ –Ї–ї–Њ—З—М—П. –Р —Н—В–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ–є–і–µ—В, –Ї–∞–Ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —П–њ–Њ–љ—Ж—Л –Њ—В–Ї—А–Њ—О—В –Њ–≥–Њ–љ—М, - —З–µ—А–µ–Ј –і–µ—Б—П—В—М –Љ–Є–љ—Г—В. –Т –њ–Њ–Є—Б–Ї–∞—Е –Њ–њ—А–∞–≤–і–∞–љ–Є—П –њ–µ—А–µ–і —А–Њ–і–Є–љ–Њ–є –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї –Ї–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ —А–∞–Ј–і–≤–Њ–Є–ї—Б—П –Є –Ј–∞—Б–њ–Њ—А–Є–ї —Б–∞–Љ —Б —Б–Њ–±–Њ–є. –Т–Њ –Є–Љ—П —З–µ–≥–Њ –њ–Њ–≥–Є–±–∞—В—М? –Ю–љ –Њ–±—П–Ј–∞–љ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–Є—В—М —Б–≤–Њ–є –і–Њ–ї–≥. –Э–∞ —Н—В–Є—Е –±—А–Њ–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –Ї–Њ—А—Л—В–∞—Е, –Є–Љ–µ–љ—Г–µ–Љ—Л—Е –±–Њ–µ–≤—Л–Љ–Є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П–Љ–Є? –Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –ї–∞–Ј–µ–є–Ї–∞ –љ–∞—И–ї–∞—Б—М, –Є —Б–µ—А–і—Ж–µ –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–∞ –Ј–∞–Ї–Є–њ–µ–ї–Њ –Њ–±–Є–і–Њ–є –њ—А–Њ—В–Є–≤ —В–µ—Е –≥–ї–∞–≤–љ—Л—Е –≤–Њ—А–Њ—В–Є–ї —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—В—А–Њ—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ–Њ—Б–ї–∞–ї–Є –ї—О–і–µ–є –љ–µ –љ–∞ –≤–Њ–є–љ—Г, –∞ –љ–∞ —Г–±–Њ–є. –Х—Б–ї–Є —Б–∞–Љ –Њ–љ –Ї–∞–Ї –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї –і–Њ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є –≤–Є–љ–Њ–≤–µ–љ –≤ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є–Є —Н—В–Њ–≥–Њ –љ–µ–ї–µ–њ–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞ –Є –і–Њ–ї–ґ–µ–љ —П–≤–Є—В—М—Б—П –Є—Б–Ї—Г–њ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –ґ–µ—А—В–≤–Њ–є, —В–Њ –њ—А–Є —З–µ–Љ –ґ–µ –Ј–і–µ—Б—М –Љ–∞—В—А–Њ—Б—Л? –Ю–љ–Є –≤–Є–љ–Њ–≤–∞—В—Л —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –љ–Њ—Б—П—В –≤–Њ–µ–љ–љ—Г—О —Д–Њ—А–Љ—Г. –Э–µ—В, –Њ–љ –љ–µ –і–Њ–њ—Г—Б—В–Є—В, —З—В–Њ–±—Л –і–≤–µ —Б –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–Њ–є —В—Л—Б—П—З–Є –ї—О–і–µ–є –љ–Є –Ј–∞ —З—В–Њ –љ–Є –њ—А–Њ —З—В–Њ —Г—В–Њ–њ–Є—В—М –≤ –Љ–Њ—А–µ. –Ю–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –Љ–љ–µ–љ–Є–µ –±—Г–і–µ—В –љ–∞ –µ–≥–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ. –Ш –љ–Њ–≤–∞—П —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–ї—О–±–Є–≤–∞—П –Є–і–µ—П, –Ї—А–∞—Б–Є–≤–∞—П, –Ї–∞–Ї —Б–Є–љ—М –≤–∞—Б–Є–ї—М–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Б–Њ—А–љ—П–Ї–∞ —Б—А–µ–і–Є —А–ґ–Є, –Ј–∞–њ–Њ–ї–љ–Є–ї–∞ —Б–µ–і—Г—О –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–∞. –≠—В–∞ –Є–і–µ—П –≤—Л—В–µ—Б–љ–Є–ї–∞ –Є–Ј –µ–≥–Њ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–µ, —З—В–Њ –Њ–љ –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –љ–∞ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–Љ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ, –∞ –љ–µ –≤ –і–Њ–Љ–µ –Љ–Є–ї–Њ—Б–µ—А–і–Є—П, –Є —З—В–Њ –Њ–љ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є–є, –∞ –љ–µ –Ї–∞–Ї–Њ–є-–љ–Є–±—Г–і—М –і—Г—Е–Њ–±–Њ—А –Є–ї–Є —В–Њ–ї—Б—В–Њ–≤–µ—Ж, —А–∞–Ј–Љ—Л—И–ї—П—О—Й–Є–є –Њ –љ–µ–њ—А–Њ—В–Є–≤–ї–µ–љ–Є–Є –Ј–ї—Г. –Э–∞ –µ–≥–Њ –ї–Є—Ж–µ –≤—Л—Б—В—Г–њ–Є¬ђ–ї–Є –±–∞–≥—А–Њ–≤—Л–µ –њ—П—В–љ–∞. –Ю–љ —Н–љ–µ—А–≥–Є—З–љ–Њ –њ–Њ–≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П –Ї —Д–ї–∞–≥-–Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ—Г –Ъ—А–Њ—Б—Б—Г –Є –њ—А–Њ—Е—А–Є–њ–µ–ї:
- –Э–µ–Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ –≤—Л–Ј–≤–∞—В—М –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –≤ –±–Њ–µ–≤—Г—О —А—Г–±–Ї—Г!
- –Х—Б—В—М.
–Я–Њ–Ї–∞ —А–∞—Б—Б—Л–ї—М–љ—Л–є –±–µ–≥–∞–ї –Ј–∞ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–Љ, –≤ –±–Њ–µ–≤–Њ–є —А—Г–±–Ї–µ —А–µ—И–∞–ї–∞—Б—М —Б—Г–і—М–±–∞ –Њ—В—А—П–і–∞. –°–љ–∞—З–∞–ї–∞ –Њ–±–Љ–µ–љ—П–ї–Є—Б—М –Љ–љ–µ–љ–Є—П–Љ–Є —И—В–∞–±–љ—Л–µ —З–Є–љ—Л, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ –Є —Б—Г–і–Њ–≤—Л–µ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Л, –љ–∞—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є–µ—Б—П –Ј–і–µ—Б—М –ґ–µ –Є –љ–∞ –Љ–Њ—Б—В–Є–Ї–µ. –Т–Њ–Ј—А–∞–ґ–µ–љ–Є–є –њ—А–Њ—В–Є–≤ —Б–і–∞—З–Є –љ–µ –±—Л–ї–Њ.
–§–ї–∞–≥-–Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ –Ъ—А–Њ—Б—Б —Б–µ–є—З–∞—Б –ґ–µ —А–∞–Ј—Л—Б–Ї–∞–ї –Ї–љ–Є–≥—Г –Љ–µ–ґ–і—Г¬ђ–љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —Б–≤–Њ–і–∞ –Є, –Ј–∞–≥–ї—П–љ—Г–≤ –≤ –љ—Г–ґ–љ—Г—О —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж—Г, –±—А–Њ—Б–Є–ї¬ђ—Б—П –Ї —П—Й–Є–Ї—Г —Б —Д–ї–∞–≥–∞–Љ–Є. –Ю–љ —Б–∞–Љ –љ–∞–±—А–∞–ї —В—А–µ—Е—Д–ї–∞–ґ–љ—Л–є —Б–Є–≥–љ–∞–ї: ¬Ђ–®–Ц–Ф¬ї, –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–≤—И–Є–є-¬Ђ—Б–і–∞—З–∞¬ї, ¬Ђ—Б–і–∞—О—Б—М¬ї. –°–Є–≥–љ–∞–ї –±—Л–ї –љ–µ–Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ –њ—А–Є—Б—В–Њ–њ–Њ—А–µ–љ –Ї —Д–∞–ї—Г, –Є –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ–і–љ—П—В—М –µ–≥–Њ –љ–∞ –Љ–∞—З—В—Г.
–Т –±–Њ–µ–≤—Г—О —А—Г–±–Ї—Г –≤–Њ—И–µ–ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А —Б—Г–і–љ–∞, –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ 1-–≥–Њ —А–∞–љ–≥–∞ –°–Љ–Є—А–љ–Њ–≤, –≤—Л—Б–Њ–Ї–Є–є, —Б—В–∞—В–љ—Л–є, —Б –Ї–∞—А–Є–Љ–Є –≥–ї–∞–Ј–∞–Љ–Є, –≤–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б–Љ–Њ—В—А–µ–≤—И–Є–Љ–Є –Є–Ј-–њ–Њ–і –≥—Г—Б—В—Л—Е, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –љ–∞—А–Є—Б–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –±—А–Њ–≤–µ–є. –Э–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–љ—Г—О –≤—З–µ—А–∞ —А–∞–љ—Г, –Њ–љ –і–µ—А–ґ–∞–ї –Ј–∞–±–Є–љ—В–Њ–≤–∞–љ–љ—Г—О –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г –±–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –њ—А—П–Љ–Њ. –Я–Њ–і –њ—Г—И–Є—Б—В—Л–Љ–Є —Г—Б–∞–Љ–Є —А–µ–Ј–Ї–Њ –Њ—З–µ—А—З–Є–≤–∞–ї—Б—П –±–Њ–ї—М—И–Њ–є, —Б —В–Њ–ї—Б—В—Л–Љ–Є –Є —Б–Њ—З–љ—Л–Љ–Є –Є–Ј–≥–Є–±–∞–Љ–Є —А–Њ—В, –±–µ–Ј —Б–ї–Њ–≤ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–≤—И–Є–є, —З—В–Њ –µ–≥–Њ –Њ–±–ї–∞–і–∞—В–µ–ї—М —Б–Њ–Ј–і–∞–љ –Ї–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–ї—П —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ–±—Л –њ–Њ–≤–µ–ї–µ–≤–∞—В—М –Є –љ–∞—Б–ї–∞–ґ–і–∞—В—М—Б—П –ґ–Є–Ј–љ—М—О. –Э–Њ –Њ–±—Л—З–љ–Њ —А—Г–Љ—П–љ–Њ–µ –ї–Є—Ж–Њ –Ј–∞ –љ–Њ—З—М –њ–Њ–±–ї–µ–і–љ–µ–ї–Њ, –∞ —Б—В—А—Г–Є–≤—И–∞—П—Б—П —Б –љ–µ–≥–Њ —И–Є—А–Њ–Ї–Є–Љ –њ–Њ—В–Њ–Ї–Њ–Љ —Б–≤–µ—В–ї–Њ-—А—Г—Б–∞—П –±–Њ—А–Њ–і–∞ —Б–њ—Г—В–∞–ї–∞—Б—М –Є, —З–∞—Б—В–Є—З–љ–Њ –њ–Њ–њ–∞–≤ –њ–Њ–і –±–Є–љ—В, –њ–Њ—В–µ—А—П–ї–∞ —Б–≤–Њ–є –њ—А–µ–ґ–љ–Є–є –≤–љ—Г—И–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є –≤–Є–і.
–Р–і–Љ–Є—А–∞–ї, —Г–≤–Є–і–µ–≤ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞, –Њ–±—А–∞—В–Є–ї—Б—П –Ї –љ–µ–Љ—Г:
- –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З, —З—В–Њ –љ–∞–Љ –і–µ–ї–∞—В—М? –°–Љ–Є—А–љ–Њ–≤, –љ–µ –Ј–∞–і—Г–Љ—Л–≤–∞—П—Б—М, —Г–±–µ–ґ–і–µ–љ–љ–Њ –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї:
- –Т—З–µ—А–∞ –Љ—Л —Б–≤–Њ–є –і–Њ–ї–≥ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–Є–ї–Є. –С–Њ–ї—М—И–µ –љ–µ –Є–Љ–µ–µ–Љ —Б–Є–ї —Б—А–∞–ґ–∞—В—М—Б—П. –Ь–Њ–µ –Љ–љ–µ–љ–Є–µ - –љ—Г–ґ–љ–Њ —Б–і–∞—В—М—Б—П.
–Ш, –ґ–∞–ї—Г—П—Б—М –љ–∞ –≥–Њ–ї–Њ–≤–љ—Г—О –±–Њ–ї—М, –Њ–љ —Г—И–µ–ї.
–Ф–∞–ї—М–љ–µ–є—И–Є–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –љ–∞ –±—А–Њ–љ–µ–љ–Њ—Б—Ж–µ ¬Ђ–Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є I¬ї —А–∞–Ј–≤–Є¬ђ–≤–∞–ї–Є—Б—М —Б –њ–Њ—А–∞–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –±—Л—Б—В—А–Њ—В–Њ–є. –Ч–∞–Ј–≤–µ–љ–µ–ї–Є —В–µ–ї–µ—Д–Њ–љ—Л, —Н—А–Њ—Б–Є–ї–Є—Б—М –њ–Њ —А–∞–Ј–љ—Л–Љ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є—П–Љ —А–∞—Б—Б—Л–ї—М–љ—Л–µ –Є –і–∞–ґ–µ, –≤–Њ-–≥—А–µ–Ї–Є —Б—Г–і–Њ–≤—Л–Љ –њ—А–∞–≤–Є–ї–∞–Љ, –Ј–∞—Б–≤–Є—Б—В–∞–ї–Є –і—Г–і–Ї–Є –Ї–∞–њ—А–∞–ї–Њ–≤, –њ—А–Є–Ј—Л–≤–∞—П –≥–Њ—Б–њ–Њ–і –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤ –љ–∞ –њ–µ—А–µ–і–љ–Є–є –Љ–Њ—Б—В–Є–Ї. –≠—В–Њ –њ–Њ —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є—О –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–∞ —Б–Њ–Ј—Л–≤–∞–ї—Б—П –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–є —Б–Њ–≤–µ—В. –°–∞–Љ –Њ–љ, –Њ–Ї—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Л–є —Б–≤–Њ–Є–Љ —И—В–∞–±–Њ–Љ, –≤—Л—И–µ–ї –Є–Ј –±–Њ–µ–≤–Њ–є —А—Г–±–Ї–Є –љ–∞ –Љ–Њ—Б—В–Є–Ї. –Ю—Д–Є—Ж–µ—А—Л –љ–µ —Г—Б–њ–µ–ї–Є –µ—Й–µ —Б–Њ–±—А–∞—В—М—Б—П –љ–∞ —Б–Њ–≤–µ—В, –∞ —Г–ґ–µ –љa –љ–Њ–Ї–µ —Д–Њ—А-–Љ–∞—А—Б–∞-—А–µ—П –Ї–µ–Љ-—В–Њ –±—Л–ї –њ–Њ–і–љ—П—В —Б–Є–≥–љ–∞–ї –Њ —Б–і–∞—З–µ. –Ґ–Њ—А–Њ–њ–ї–Є–≤–Њ, —Б —А–∞—Б—В–µ—А—П–љ–љ—Л–Љ–Є –ї–Є—Ж–∞–Љ–Є –±–µ–ґ–∞–ї–Є –Ї –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї—Г –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Л. –Э–µ –і–Њ–ґ–Є–і–∞—П—Б—М –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л—Е, –Њ–љ –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –њ–µ—А–µ–і –љ–Є–Љ–Є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б:
- –ѓ —Е–Њ—З—Г, –≥–Њ—Б–њ–Њ–і–∞ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Л, —Б–і–∞—В—М –±—А–Њ–љ–µ–љ–Њ—Б–µ—Ж. –Т —Н—В–Њ–Љ –≤–Є–ґ—Г –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–Њ —Б–њ–∞—Б—В–Є –≤–∞—Б –Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г. –Ъ–∞–Ї –≤—Л –і—Г–Љ–∞–µ—В–µ?
–І—В–Њ —Б—А–∞–ґ–∞—В—М—Б—П –љ–µ –±—Л–ї–Њ –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Љ—Л—Б–ї–∞, –љ–∞ —Н—В–Њ–Љ —Б—Е–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –њ–Њ—З—В–Є –≤—Б–µ. –Э–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤ —Б–і–∞—З–Є –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤–Њ–Ј—А–∞–ґ–∞–ї–Є.
–°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ—Г —Г—Б—В–∞–≤—Г, –Њ–±—А–∞—В–Є–ї–Є—Б—М —Б –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–Љ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б–і–∞—З–Є –Ї —Б–∞–Љ–Њ–Љ—Г –Љ–ї–∞–і—И–µ–Љ—Г –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Г! –Т—Б–µ –Њ–±–µ—А–љ—Г–ї–Є—Б—М –Ї –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–Љ—Г —Б—В–∞—В–љ–Њ–Љ—Г —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї—Г, –љ–∞ –≥—А—Г–і–Є –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Ї—А–∞—Б–Њ–≤–∞–ї—Б—П —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В—Б–Ї–Є–є –Ј–љ–∞—З–Њ–Ї. –≠—В–Њ –±—Л–ї –њ—А–∞–њ–Њ—А—Й–Є–Ї –®–∞–Љ–Є–µ. –Ѓ—А–Є—Б—В –њ–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—О, –њ—А–Є–Ј–≤–∞–љ–љ—Л–є –љ–∞ —Б–ї—Г–ґ–±—Г –ї–Є—И—М –љ–∞ –≤—А–µ–Љ—П –≤–Њ–є–љ—Л, –Њ–љ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –±–Њ–ї–µ–µ —Е—А–∞–±—А—Л–Љ –≤–Њ–Є–љ–Њ–Љ, —З–µ–Љ –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –Є–Ј –Ї–∞–і—А–Њ–≤—Л—Е –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤, –Є —Н–љ–µ—А–≥–Є—З–љ–Њ –Ј–∞—П–≤–Є–ї:
- –Х—Б–ї–Є –љ–µ–ї—М–Ј—П –і—А–∞—В—М—Б—П, —В–Њ –љ—Г–ґ–љ–Њ –Ї–Є–љ–≥—Б—В–Њ–љ—Л –Њ—В–Ї—А—Л—В—М –Є —В–Њ–њ–Є—В—М—Б—П.
- –Т–Ј–Њ—А–≤–∞—В—М –±—А–Њ–љ–µ–љ–Њ—Б–µ—Ж –Є —Б–њ–∞—Б–∞—В—М—Б—П, - —Б–Ї—А–Њ–Љ–љ–Њ –Њ—В–Њ–Ј–≤–∞–ї—Б—П –Љ–Є—З–Љ–∞–љ –Т–Њ–ї–Ї–Њ–≤–Є—Ж–Ї–Є–є, –њ–Њ—З—В–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї –љ–∞—З–∞–ї—М—Б—В–≤—Г, –љ–Њ –Є –Ї —Б—В–∞—А—И–Є–Љ —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–∞–Љ –њ–Њ —Б–ї—Г–ґ–±–µ.
–Я—А–Є–±–ї–Є–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —В–Њ –ґ–µ —Б–∞–Љ–Њ–µ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Є —Б—В–∞—А—И–Є–є –Њ—Д–Є—Ж–µ—А, –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ 2-–≥–Њ —А–∞–љ–≥–∞ –Т–µ–і–µ—А–љ–Є–Ї–Њ–≤.
–Э–Њ —В–µ, –Ї—В–Њ —Б—В–Њ—П–ї –Ј–∞ —Б–і–∞—З—Г, –љ–∞—З–∞–ї–Є –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є—В—М —Г–±–Є–є—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –і–Њ–≤–Њ–і—Л:
- –Т—Б–µ –Њ—А—Г–і–Є—П –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞ –љ–∞–≤–µ–і–µ–љ—Л –љ–∞ ¬Ђ–Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П¬ї –Ї–∞–Ї –љ–∞ —Д–ї–∞–≥–Љ–∞–љ—Б–Ї–Є–є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М. –ѓ–њ–Њ–љ—Ж—Л –≤–Ј–Њ—А–≤—Г—В –Є –њ–Њ¬ђ—В–Њ–њ—П—В –µ–≥–Њ —А–∞–љ—М—И–µ, —З–µ–Љ –Љ—Л —Б–Њ–±–µ—А–µ–Љ—Б—П —Н—В–Њ —Б–і–µ–ї–∞—В—М. –Я–Њ—В–Њ–њ—П—В –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –ї—О–і—М–Љ–Є.
- –Т—Л –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В–µ - –љ–∞–і–Њ —Б–њ–∞—Б–∞—В—М—Б—П. –Э–∞ —З–µ–Љ? –®–ї—О–њ–Ї–Є –Є –Ї–∞—В–µ—А—Л —А–∞–Ј–±–Є—В—Л. –Ъ–Њ–є–Ї–Є ¬Ђ–њ—А–Є—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–ї–µ–љ—Л –љ–∞ –Ј–∞—Й–Є—В—Г –љ–µ–±—А–Њ–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е —З–∞—Б—В–µ–є —Б—Г–і–љ–∞ –Є –Ї—А–µ–њ–Ї–Њ —Б–љ–∞–є—В–Њ–≤–ї–µ–љ—Л. –Ш–Ј —Б–Њ¬ђ—А–Њ–Ї–∞ —Б–њ–∞—Б–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –Ї—А—Г–≥–Њ–≤ —В—А–Є–і—Ж–∞—В—М –љ–Є–Ї—Г–і–∞ –љ–µ –≥–Њ–і—П—В—Б—П. –Э–∞—Б –і–∞–ґ–µ –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є —Б–љ–∞–±–і–Є—В—М —Е–Њ—А–Њ—И–Є–Љ–Є —Б–њ–∞—Б–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞–Љ–Є.
- –Р —А–∞–Ј–≤–µ —П–њ–Њ–љ—Ж—Л –љ–µ –±—Г–і—Г—В –њ–Њ–і–±–Є—А–∞—В—М –љ–∞—Б? - —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї —Б—В–∞—А—И–Є–є –Њ—Д–Є—Ж–µ—А –Т–µ–і–µ—А–љ–Є–Ї–Њ–≤.
- –Т–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, —З—В–Њ –Є –±—Г–і—Г—В, –љ–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —В–Њ–≥–і–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–∞—В –≤–µ—Б—М –љ–∞—И –Њ—В—А—П–і.
–° –Љ–∞—А—Б–∞ —Д–Њ–Ї-–Љ–∞—З—В—Л, –≥–і–µ —Б—В–Њ—П–ї –і–∞–ї—М–љ–Њ–Љ–µ—А, —А–∞–Ј–і–∞–ї—Б—П –Ј–≤–Њ–љ¬ђ–Ї–Є–є –≥–Њ–ї–Њ—Б –Љ–Є—З–Љ–∞–љ–∞ –Ф—Л–±–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ:
- –Ф–Њ –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—П —И–µ—Б—В—М–і–µ—Б—П—В –Ї–∞–±–µ–ї—М—В–Њ–≤—Л—Е!
–Р–і–Љ–Є—А–∞–ї –њ–Њ–≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П –Ї —Б—В–∞—А—И–µ–Љ—Г –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—Б—В—Г, –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В—Г –Я–µ–ї–Є–Ї–∞–љ—Г, –≤—Л–і–µ–ї—П–≤—И–µ–Љ—Г—Б—П —Б—А–µ–і–Є –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤ —Б–≤–Њ–µ–є –Ї—А—Г–њ–љ–Њ–є –Є —Б—Л—В–Њ–є —Д–Є–≥—Г—А–Њ–є:
- –Э–∞ —В–∞–Ї–Њ–Љ —А–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є –Љ—Л –Љ–Њ–ґ–µ–Љ —Б—В—А–µ–ї—П—В—М?
- –С–µ—Б–њ–Њ–ї–µ–Ј–љ–Њ, –≤–∞—И–µ –њ—А–µ–≤–Њ—Б—Е–Њ–і–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ. –Э–∞—И–Є —Б–љ–∞—А—П–і—Л –љ–µ –і–Њ—Б—В–∞–љ—Г—В –і–Њ –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—П.
–Р–і–Љ–Є—А–∞–ї –≤–і—А—Г–≥ –њ–Њ—В–µ—А—П–ї —Б–∞–Љ–Њ–Њ–±–ї–∞–і–∞–љ–Є–µ, —З–µ–≥–Њ —Б –љ–Є–Љ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –±—Л–≤–∞–ї–Њ. –Ш–Ј –±–µ—Б—Ж–≤–µ—В–љ—Л—Е –≥–ї–∞–Ј –±—А—Л–Ј–љ—Г–ї–Є —Б–ї–µ–Ј—Л. –Ю–љ —Б–Њ—А–≤–∞–ї —Б –≥–Њ–ї–Њ–≤—Л —Д—Г—А–∞–ґ–Ї—Г –Є, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –≤ –љ–µ–є –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞–ї–Њ—Б—М –≤—Б–µ –Ј–ї–Њ, –±—А–Њ—Б–Є–ї –µ–µ —Б–µ–±–µ –њ–Њ–і –љ–Њ–≥–Є –Є –љ–∞—З–∞–ї —В–Њ–њ—В–∞—В—М.
–°–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—П —А–∞–Ј–і–∞–ї—Б—П –њ—А–Є—Б—В—А–µ–ї–Њ—З–љ—Л–є –≤—Л—Б—В—А–µ–ї, –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–є –≤ –ї–µ–≤—Л–є –±–Њ—А—В ¬Ђ–Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П¬ї. –Ю—Д–Є—Ж–µ—А—Л –љ–∞—З–∞–ї–Є —А–∞–Ј–±–µ–≥–∞—В—М—Б—П –њ–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ –Љ–µ—Б—В–∞–Љ, —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –±–Њ–µ–≤–Њ–Љ—Г —А–∞—Б–њ–Є—Б–∞–љ–Є—О. –Э–µ–±–Њ–≥–∞—В–Њ–≤ –≤–Њ—И–µ–ї –≤ –±–Њ–µ–≤—Г—О —А—Г–±–Ї—Г. –§–ї–∞–≥-–Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Л –і–Њ–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–ї–Є –µ–Љ—Г, —З—В–Њ –≤—Б–µ –љ–∞—И–Є —Б—Г–і–∞ –Њ—В—А–µ–њ–µ—В–Њ–≤–∞–ї–Є —Б–Є–≥–љ–∞–ї –Њ —Б–і–∞—З–µ, –∞ –Њ–љ, –љ–µ —Б–ї—Г—И–∞—П —Б–≤–Њ–Є—Е –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї–Њ–≤, –Ї—А–Є—З–∞–ї:
- –ѓ–њ–Њ–љ—Ж—Л, –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, –љ–µ —А–∞–Ј–Њ–±—А–∞–ї–Є –љ–∞—И–µ–≥–Њ —Б–Є–≥–љ–∞–ї–∞. –Я–Њ–і–љ—П—В—М –±–µ–ї—Л–є —Д–ї–∞–≥! –С—Л—Б—В—А–Њ! –І–µ—А–µ–Ј –њ—П—В—М –Љ–Є–љ—Г—В –±—Г–і—Г—В —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–µ–љ—Л –≤—Б–µ –Љ–∞—З—В—Л.
–Э–Њ –±–µ–ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–∞–≥–∞ –љ–∞ –±—А–Њ–љ–µ–љ–Њ—Б—Ж–µ –љ–µ –±—Л–ї–Њ. –Я—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –Ј–∞–Љ–µ–љ–Є—В—М –µ–≥–Њ –њ—А–Є–љ–µ—Б–µ–љ–љ–Њ–є –Є–Ј –Ї–∞—О—В—Л –њ—А–Њ—Б—В—Л–љ–µ–є. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –Є –Њ–љ–∞, –њ–Њ–і—В—П–љ—Г—В–∞—П –Ї —А–µ—О —Д–Њ–Ї-–Љ–∞—З—В—Л, –љ–µ –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–∞ –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—М—Б–Ї–Є—Е –≤—Л—Б—В—А–µ–ї–Њ–≤. –Т–Њ–Ї—А—Г–≥ –±—А–Њ–љ–µ–љ–Њ—Б—Ж–∞ –љ–∞—З–∞–ї–Є –њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞—В—М—Б—П —Д–Њ–љ—В–∞–љ—Л. –Э–∞–і –≥–Њ–ї–Њ–≤–Њ—О —Б–ї—Л—И–∞–ї—Б—П –≥—Г–ї –њ—А–Њ–ї–µ—В–∞–≤—И–Є—Е —Б–љ–∞—А—П–і–Њ–≤, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –≥–і–µ-—В–Њ –≤ –≤–Њ–Ј–і—Г—Е–µ –±—Л–ї –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–і–Њ—А–Њ–ґ–љ—Л–є –Љ–Њ—Б—В, –њ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –±–µ—Б–њ—А–µ—А—Л–≤–љ–Њ –њ—А–Њ–љ–Њ—Б–Є–ї–Є—Б—М –Ї—Г—А—М–µ—А—Б–Ї–Є–µ –њ–Њ–µ–Ј–і–∞. –†–∞–Ј–і–∞–ї—Б—П –≤–Ј—А—Л–≤ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ –±–Њ–µ–≤–Њ–є —А—Г–±–Ї–Є. –Ю—Б–Ї–Њ–ї–Ї–∞–Љ–Є —А–∞–љ–Є–ї–Њ —Д–ї–∞–≥–Љ–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —И—В—Г—А–Љ–∞–љ–∞, –њ–Њ–і–њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї–∞ –§–µ–і–Њ—В—М–µ–≤–∞. –Т—Б—П –±–Њ–µ–≤–∞—П —А—Г–±–Ї–∞ –љ–∞–њ–Њ–ї–љ–Є–ї–∞—Б—М —З–µ—А–љ—Л–Љ–Є —Г–і—Г—И–ї–Є–≤—Л–Љ–Є –≥–∞–Ј–∞–Љ–Є. –Ш–Ј —В–µ–Љ–љ–Њ—В—Л, –Ї–∞–Ї —Б —В–Њ–≥–Њ —Б–≤–µ—В–∞, —Е—А–Є–њ–ї—Л–Љ–Є –≤—Л–Ї—А–Є–Ї–∞–Љ–Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–ї –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї:
- –Я–µ—А–µ–і–∞–є—В–µ, —З—В–Њ–±—Л –љ–∞—И–Є –Њ—А—Г–і–Є—П –љ–µ –Њ—В–≤–µ—З–∞–ї–Є! –°–њ—Г—Б—В–Є—В—М –љ–∞—И —Д–ї–∞–≥! –Я–Њ–і–љ—П—В—М —П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Є–є! –°—В–Њ–њ –Љ–∞—И–Є–љ–∞!
–Я–Њ–Ї–∞ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П–ї–Є—Б—М —Н—В–Є –њ—А–Є–Ї–∞–Ј—Л, –±—А–Њ–љ–µ–љ–Њ—Б–µ—Ж –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –µ—Й–µ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Г–і–∞—А–Њ–≤. –°–љ–∞—А—П–і–Њ–Љ —А–∞–Ј–≤–Њ—А–Њ—В–Є–ї–Њ –µ–Љ—Г –љ–Њ—Б. –ѓ–Ї–Њ—А—М, —Б–Њ—А–≤–∞–≤—И–Є—Б—М —Б –Љ–µ—Б—В–∞, –±—Г—Е–љ—Г–ї—Б—П –≤ –Љ–Њ—А–µ. –Я–Њ—П–≤–Є–ї–Є—Б—М –њ—А–Њ–±–Њ–Є–љ—Л —Б –ї–µ–≤–Њ–≥–Њ –±–Њ—А—В–∞.
¬Ђ–Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є I¬ї, –Ј–∞—Б—В–Њ–њ–Њ—А–Є–≤ –Љ–∞—И–Є–љ—Л, –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї—Б—П, –Є –≤ –Ј–љ–∞–Ї —Н—В–Њ–≥–Њ –љ–∞ –љ–µ–Љ –≤–Љ–µ—Б—В–Њ —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л—Е –љ–∞–Ї–∞–љ—Г–љ–µ —И–∞—А–Њ–≤ –њ–Њ–і—В—П–љ—Г–ї–Є –Ї —А–µ—О –≤–µ–і—А–Њ. –ѓ–њ–Њ–љ—Ж—Л –њ—А–µ–Ї—А–∞—В–Є–ї–Є —Б—В—А–µ–ї—М–±—Г. –°—В–∞–ї–Њ –љ–µ–Њ–±—Л–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ —В–Є—Е–Њ. –Ю—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Є—Б—М –Є –і—А—Г–≥–Є–µ –љ–∞—И–Є –±—А–Њ–љ–µ–љ–Њ—Б—Ж—Л, –њ–Њ–≤–µ—А–љ—Г–≤ –љ–Њ—Б–∞–Љ–Є –Ї—В–Њ –≤–њ—А–∞–≤–Њ, –Ї—В–Њ –≤–ї–µ–≤–Њ. –Э–∞ –Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ –Є–Ј –љ–Є—Е, –Ї–∞–Ї –Є –љ–∞ ¬Ђ–Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ¬ї, —А–∞–Ј–≤–µ–≤–∞–ї—Б—П —Г–ґ–µ —Д–ї–∞–≥ –Т–Њ—Б—Е–Њ–і—П—Й–µ–≥–Њ —Б–Њ–ї–љ—Ж–∞.
–Ш–љ–∞—З–µ –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ ¬Ђ–Ш–Ј—Г–Љ—А—Г–і¬ї. –≠—В–Њ –±—Л–ї –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–є —В—А–µ—Е–Љ–∞—З—В–Њ–≤—Л–є –Є —В—А–µ—Е—В—А—Г–±–љ—Л–є –Ї—А–µ–є—Б–µ—А, –Є–Ј—П—Й–љ—Л–є –Є —Б—В—А–µ–Љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є, –Ї–∞–Ї –њ—В–Є—Ж–∞. –Ю–љ —В–Њ–ґ–µ –Њ—В—А–µ–њ–µ—В–Њ–≤–∞–ї –±—Л–ї–Њ —Б–Є–≥–љ–∞–ї –Њ —Б–і–∞—З–µ, –љ–Њ, —Б–њ–Њ—Е–≤–∞—В–Є–≤—И–Є—Б—М, –±—Л—Б—В—А–Њ –µ–≥–Њ –Њ–њ—Г—Б—В–Є–ї. –° –њ—А–∞–≤–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –Љ–µ–ґ–і—Г –Њ—В—А—П–і–∞–Љ–Є –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—М—Б–Ї–Є—Е —Б—Г–і–Њ–≤ –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї—Б—П –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –њ—А–Њ–Љ–µ–ґ—Г—О–Ї. –Т —Н—В–Њ—В –њ—А–Њ–Љ–µ–ґ—Г—В–Њ–Ї, –і–∞–≤ –њ–Њ–ї–љ—Л–є —Е–Њ–і, –Є –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П ¬Ђ–Ш–Ј—Г–Љ—А—Г–і¬ї. –У–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ –≤—А–µ–Ј—Л–≤–∞—П—Б—М —Д–Њ—А—И—В–µ–≤–љ–µ–Љ –≤ –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В—М –Љ–Њ—А—П, –Њ–љ –≤–Ј–і—Г–≤–∞–ї –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–∞ –±–µ–ї–Њ–њ–µ–љ–љ—Л–µ –≤–Њ–ї–љ—Л, –њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞–≤—И–Є–µ—Б—П –њ–Њ—З—В–Є –і–Њ –≤–µ—А—Е–љ–µ–є –њ–∞¬ђ–ї—Г–±—Л. –Ш–Ј –µ–≥–Њ —В—А—Г–± –≤—Л–≤–∞–ї–Є–≤–∞–ї–Є —В—А–Є –њ–Њ—В–Њ–Ї–∞ –і—Л–Љ–∞ –Є, –Ї—А—Г—В–Њ —Б–≤–∞–ї–Є–≤–∞—П—Б—М –љ–∞–Ј–∞–і, —Б–ї–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М –≤ –Њ–і–љ—Г –≥—А–Є–≤—Г. –†–∞—Б—И–Є—А—П—П—Б—М, –Њ–љ–∞ —В—П–љ—Г–ї–∞—Б—М –Ј–∞ –Ї–Њ—А–Љ–Њ–є. –ѓ–њ–Њ–љ—Ж—Л, –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, –љ–µ –њ–Њ–љ—П–ї–Є –µ–≥–Њ –Ј–∞–Љ—Л—Б–ї–∞ –Є –љ–µ —Б—А–∞–Ј—Г –њ—А–Є–љ—П–ї–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤ –љ–µ–≥–Њ –Љ–µ—А—Л. –Р –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤—Л¬ђ–і–µ–ї–Є–ї–Є –≤ –њ–Њ–≥–Њ–љ—О –Ј–∞ –љ–Є–Љ –і–≤–∞ –Ї—А–µ–є—Б–µ—А–∞, –±—Л–ї–Њ —Г–ґ–µ –њ–Њ–Ј–і–љ–Њ. –Э–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—М—Б–Ї–Є–µ —Б–љ–∞—А—П–і—Л –µ–і–≤–∞ –і–Њ–ї–µ—В–∞–ї–Є –і–Њ –љ–µ–≥–Њ. –Р –Њ–љ, –Є–Љ–µ—П –њ—А–µ–Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞ –≤ —Е–Њ–і–µ, –≤—Б–µ —Г–≤–µ–ї–Є—З–Є–≤–∞–ї —А–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ –Љ–µ–ґ–і—Г —Б–Њ–±–Њ—О –Є —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є –њ—А–µ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—П–Љ–Є. –°–Њ —Б–і–∞–≤—И–Є—Е—Б—П —Б—Г–і–Њ–≤ —Б –Ј–∞–Љ–Є—А–∞–љ–Є–µ–Љ —Б–µ—А–і—Ж–∞ —Б–ї–µ–і–Є–ї–Є –Ј–∞ –љ–Є–Љ, –њ–Њ–Ї–∞ –Њ–љ –љ–µ —Б–Ї—А—Л–ї—Б—П –≤ —Б–Њ–ї–љ–µ—З–љ–Њ–є –і–∞–ї–Є. –Х–≥–Њ —Е–≤–∞–ї–Є–ї–Є –љ–∞ –≤—Б–µ –ї–∞–і—Л, –Є–Љ –≤–Њ—Б—В–Њ—А–≥-–ї–Є—Б—М. –Ю–љ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ—А–Њ—П–≤–Є–ї –≥–µ—А–Њ–Є–Ј–Љ, –≤—Л—А–≤–∞–≤—И–Є—Б—М –Є–Ј –Ї—А—Г–≥–∞ –≤—Б–µ–≥–Њ —П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞.
–Э–∞ ¬Ђ–Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ¬ї –њ–Њ —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є—О –Э–µ–±–Њ–≥–∞—В–Њ–≤–∞ –±—Л–ї–∞ —Б–Њ–±—А–∞–љ–∞ –љ–∞ —И–Ї–∞–љ—Ж–∞—Е –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–∞. –°—В–Њ—П –љ–∞ –њ—А–Њ–і–Њ–ї—М–љ–Њ–Љ –Љ–Њ—Б—В–Є–Ї–µ, –Њ–љ –њ—А–Њ–Є–Ј–љ–µ—Б –Ї—А–∞—В–Ї—Г—О —А–µ—З—М. –Э–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –њ–∞ –±–ї–µ—Б–Ї —Б–Њ–ї–љ–µ—З–љ—Л—Е –ї—Г—З–µ–є, –Є–≥—А–∞–≤—И–Є—Е –≤ —Б–µ—А–µ–±—А–µ –Ї–Њ–љ—Г—Б–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ–Њ–є –±–Њ—А–Њ–і—Л, –≤ –Ј–Њ–ї–Њ—В–µ –њ–Њ–≥–Њ–љ —Б —З–µ—А–љ—Л–Љ–Є –Њ—А–ї–∞–Љ–Є, –≤ —Н–Љ–∞–ї–Є –і–≤—Г—Е –Ї—А–µ—Б—В–Њ–≤ —Б–≤. –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–∞, –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї –њ–Њ–µ–ґ–Є–≤–∞–ї—Б—П. –Ю–±—А–Є—Б–Њ–≤–∞–≤ –њ—А–Є—З–Є–љ—Л, –Ј–∞—Б—В–∞–≤–Є–≤—И–Є–µ –µ–≥–Њ —Б–і–∞—В—М—Б—П, –Њ–љ –≤ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ, –≤–Њ–ї–љ—Г—П—Б—М, —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї:
- –С—А–∞—В—Ж—Л, —П —Г–ґ–µ –њ–Њ–ґ–Є–ї –љ–∞ —Б–≤–µ—В–µ. –Ь–љ–µ –љ–µ —Б—В—А–∞—И–љ–Њ —Г–Љ–Є—А–∞—В—М. –Э–Њ —П –љ–µ —Е–Њ—В–µ–ї –≤–∞—Б –≥—Г–±–Є—В—М, –Љ–Њ–ї–Њ–і—Л—Е. –Т–µ—Б—М –њ–Њ–Ј–Њ—А —П –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—О –љ–∞ —Б–µ–±—П: –њ—Г—Б—В—М –Љ–µ–љ—П —Б—Г–і—П—В. –ѓ –≥–Њ—В–Њ–≤ –њ–Њ–є—В–Є –љ–∞ —Б–Љ–µ—А—В–љ—Г—О –Ї–∞–Ј–љ—М.
–Ш, —Б–≥–Њ—А–±–Є–≤—И–Є—Б—М, –њ–Њ—И–µ–ї –љ–∞ –њ–µ—А–µ–і–љ–Є–є –Љ–Њ—Б—В–Є–Ї.
–Э–∞ –±—А–Њ–љ–µ–љ–Њ—Б—Ж–µ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–∞—Б—М —Б—Г–Љ–∞—В–Њ—Е–∞. –£–љ–Є—З—В–Њ–ґ–∞–ї–Є —И–Є—Д—А—Л, —Б–µ–Ї—А–µ—В–љ—Л–µ –і–Њ–Ї—Г-–Љ–µ–љ—В—Л, —Б–Є–≥–љ–∞–ї—М–љ—Л–µ –Ї–љ–Є–≥–Є. –Ю–і–љ–Є –Є–Ј –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є, —З—В–Њ –љ—Г–ґ–љ–Њ –њ–Њ—А—В–Є—В—М –Њ—А—Г–і–Є—П, –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–Љ—Л –Є –≤—Л–±—А–∞—Б—Л–≤–∞—В—М –Ј–∞ –±–Њ—А—В —А–∞–Ј–љ—Л–µ –њ—А–Є–±–Њ—А—Л, –і—А—Г–≥–Є–µ –Ј–∞–њ—А–µ—Й–∞–ї–Є —Н—В–Њ –і–µ–ї–∞—В—М. –І–∞—Б—В—М –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Л –±—Л–ї–∞ –Ј–∞–љ—П—В–∞ —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є –≤–µ—Й–∞–Љ–Є, –∞ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Г–ґ–µ –і–Њ–±—А–∞–ї–Є—Б—М –і–Њ -–≤–Њ–і–Ї–Є. –Ъ–Њ–µ-–≥–і–µ –љ–∞—З–∞–ї–Є –њ–Њ—П–≤–ї—П—В—М—Б—П –њ—М—П–љ—Л–µ.
–Ъ –±–Њ—А—В—Г ¬Ђ–Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П¬ї –њ—А–Є—Б—В–∞–ї –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—М—Б–Ї–Є–є –Љ–Є–љ–Њ–љ–Њ—Б–µ—Ж. –° –љ–µ–≥–Њ –њ–Њ–і–љ—П–ї—Б—П –љ–∞ –њ–∞–ї—Г–±—Г –±—А–Њ–љ–µ–љ–Њ—Б—Ж–∞ —Д–ї–∞–≥-–Њ—Д–Є—Ж–µ—А, –њ–Њ—Б–ї–∞–љ–љ—Л–є –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–Њ–Љ –Ґ–Њ–≥–Њ, –Є –њ–µ—А–µ–і–∞–ї –Э–µ–±–Њ–≥–∞—В–Њ–≤—Г –њ—А–Є–≥–ї–∞—И–µ–љ–Є–µ –њ—А–Є–±—Л—В—М –Ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–µ–Љ—Г —П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Є–Љ —Д–ї–Њ—В–Њ–Љ –і–ї—П –њ–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤. –І–µ—А–µ–Ј –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–Є–љ—Г—В –Э–µ–±–Њ–≥–∞—В–Њ–є –Є —З–Є–љ—Л –µ–≥–Њ —И—В–∞–±–∞, –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є–ї–Є—Б—М –љ–∞ —Н—В–Њ–Љ –ґ–µ –Љ–Є–љ–Њ–љ–Њ—Б—Ж–µ –Ї —Д–ї–∞–≥–Љ–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –±—А–Њ–љ–µ–љ–Њ—Б—Ж—Г ¬Ђ–Ь–Є–Ї–∞—Б–∞¬ї.
–Ъ—А–µ–є—Б–µ—А ¬Ђ–Ш–Ј—Г–Љ—А—Г–і¬ї–Т –±–Њ—О 14 –Љ–∞—П ¬Ђ–Ш–Ј—Г–Љ—А—Г–і¬ї —Б—А–∞–ґ–∞–ї—Б—П —Б –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–Њ–Љ —Е–Њ¬ђ—А–Њ—И–Њ. –Я–Њ–і —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–∞, –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В–∞ –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–∞, –µ–≥–Њ –Њ—А—Г–і–Є—П –Є—Б–њ—А–∞–≤–љ–Њ —Б—В—А–µ–ї—П–ї–Є. –Р –≤ —В–µ—Е —Б–ї—Г—З–∞—П—Е, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Ї—А–µ–є—Б–µ—А—Г —Г–≥—А–Њ–ґ–∞–ї –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—М—Б–Ї–Є–є –Њ–≥–Њ–љ—М, –Њ–љ —Г–Љ–µ–ї–Њ –њ–µ—А–µ–і–≤–Є–≥–∞–ї—Б—П –љ–∞ –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ. –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –§–µ—А–Ј–µ–љ –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –±–Њ—П –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П –љ–∞ –Љ–Њ—Б—В–Є–Ї–µ –Є –Њ—В–і–∞–≤–∞–ї —А–∞–Ј—Г–Љ–љ—Л–µ —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є—П. –Э–Є–Ї—В–Њ –љ–µ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–ї –≤ –љ–µ–Љ –Ї–∞–Ї–Њ–є-–ї–Є–±–Њ —А–∞—Б—В–µ—А—П–љ–љ–Њ—Б—В–Є. –Ґ–∞–Ї –ґ–µ –і–µ—А–ґ–∞–ї–Є—Б—М –Є –µ–≥–Њ –њ–Њ–і—З–Є–љ–µ–љ–љ—Л–µ.
–Т–µ—З–µ—А–Њ–Љ –Ї—А–µ–є—Б–µ—А –≤—Л—И–µ–ї –Є–Ј –±–Њ—П –њ–Њ—З—В–Є –±–µ–Ј –њ–Њ–≤—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є–є. –Ф–≤–∞ —Б–љ–∞—А—П–і–∞ –њ—А–Њ–±–Є–ї–Є —Г–≥–ї—Л –≤–µ—А—Е–љ–µ–є –њ–∞–ї—Г–±—Л. –Х—Й–µ –Њ–і–Є–љ —Б–љ–∞¬ђ—А—П–і –њ–µ—А–µ–±–Є–ї —В—А–Њ—Б—Л –љ–∞ –≥—А–Њ—В-–Љ–∞—З—В–µ, –Њ—В–Ї—Г–і–∞ —Г–њ–∞–ї —Д–Њ–љ–∞—А—М. –Ш–Ј –ї–Є—З–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞ –љ–Є–Ї—В–Њ –љ–µ –±—Л–ї —Г–±–Є—В, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —З–µ—В—Л—А–µ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є —А–∞–љ–µ–љ–Є—П.
–Э–Њ—З—М –і–ї—П ¬Ђ–Ш–Ј—Г–Љ—А—Г–і–∞¬ї –±—Л–ї–∞ —В—А–µ–≤–Њ–ґ–љ–∞—П. –Э–Є–Ї—В–Њ –љ–µ —Б–њ–∞–ї. –Ъ—А–µ–є—Б–µ—А –Њ—Е—А–∞–љ—П–ї —Д–ї–∞–≥–Љ–∞–љ—Б–Ї–Є–є –±—А–Њ–љ–µ–љ–Њ—Б–µ—Ж ¬Ђ–Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є I¬ї, —А–Є—Б–Ї—Г—П –њ–Њ–≥–Є–±–љ—Г—В—М –Њ—В –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—М—Б–Ї–Є—Е –Љ–Є–љ–љ—Л—Е –∞—В–∞–Ї –Є —Б–љ–∞—А—П–і–Њ–≤ —Б–≤–Њ–Є—Е —Б—Г–і–Њ–≤.
–Э–∞ –≤—В–Њ—А–Њ–є –і–µ–љ—М, –Ї–Њ–≥–і–∞ –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї –Э–µ–±–Њ–≥–∞—В–Њ–≤ –њ–Њ–і–љ—П–ї —Б–Є–≥–љ–∞–ї –Њ —Б–і–∞—З–µ, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –§–µ—А–Ј–µ–љ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї –љ–∞ —Б–Ї–Њ—А—Г—О —А—Г–Ї—Г —Б–Њ–±—А–∞—В—М –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤ –Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г. –Т–Њ –≤—А–µ–Љ—П –њ–Њ—Е–Њ–і–∞ —Н—Б–Ї–∞–і—А—Л –Њ–љ –Њ–±—Л—З–љ–Њ –њ—А–Њ–≥—Г–ї–Є–≤–∞–ї—Б—П –њ–Њ –≤–µ—А—Е–љ–µ–є –њ–∞–ї—Г–±–µ –љ–∞ —Б–≤–Њ–Є—Е –љ–µ—Б–≥–Є–±–∞—О—Й–Є—Е—Б—П –љ–Њ–≥–∞—Е, —Б–≥–Њ—А–±–Є–≤—И–Є—Б—М –Є –њ–Њ–љ—Г—А—П –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г. –Ґ–µ–њ–µ—А—М –Њ–љ –њ—А–µ–Њ–±—А–∞–Ј–Є–ї—Б—П. –Т—Б—П –µ–≥–Њ —Д–Є–≥—Г—А–∞ –≤—Л–њ—А—П–Љ–Є–ї–∞—Б—М, –Є–Ј-–њ–Њ–і –≥—Г—Б—В—Л—Е –±—А–Њ–≤–µ–є —В–≤–µ—А–і–Њ —Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї–Є –љ–∞ –њ–Њ–і—З–Є–љ–µ–љ–љ—Л—Е –≥–Њ–ї—Г–±—Л–µ –≥–ї–∞–Ј–∞. –Т—Б–µ, –Њ–ґ–Є–і–∞—П –Њ—В –љ–µ–≥–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞, –Ј–∞–Љ–µ—А–ї–Є. –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –≥—А–Њ–Љ–Ї–Њ –Њ—В—З–µ–Ї–∞–љ–Є–≤–∞–ї:
- –У–Њ—Б–њ–Њ–і–∞ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Л, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Є –≤—Л, –±—А–∞—В—Ж—Л-–Љ–∞—В—А–Њ—Б—Л! –Я–Њ—Б–ї—Г—И–∞–є—В–µ –Љ–µ–љ—П. –ѓ —А–µ—И–Є–ї –њ—А–Њ—А–≤–∞—В—М—Б—П, –њ–Њ–Ї–∞ —П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Є–µ —Б—Г–і–∞ –љ–µ –њ—А–µ–≥—А–∞–і–Є–ї–Є –љ–∞–Љ –њ—Г—В—М. –£ –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞ –љ–µ—В –љ–Є –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Б—А–∞–≤–љ–Є–ї—Б—П –±—Л –њ–Њ –±—Л—Б—В—А–Њ—Е–Њ–і–љ–Њ—Б—В–Є —Б –љ–∞—И–Є–Љ –Ї—А–µ–є—Б–µ—А–Њ–Љ. –Я–Њ–њ—А–Њ–±—Г–µ–Љ! –Х—Б–ї–Є –љ–µ —Г–і–∞—Б—В—Б—П —Г–є—В–Є –Њ—В –≤—А–∞–≥–∞, —В–Њ –ї—Г—З—И–µ –њ–Њ–≥–Є–±–љ—Г—В—М —Б —З–µ—Б—В—М—О –≤ –±–Њ—О, —З–µ–Љ –њ–Њ–Ј–Њ—А–љ–Њ —Б–і–∞–≤–∞—В—М—Б—П –≤ –њ–ї–µ–љ. –Ъ–∞–Ї –≤—Л –љ–∞ —Н—В–Њ —Б–Љ–Њ—В—А–Є—В–µ?
–Ю–љ –Ї–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ —Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞–ї —Б–Њ–≤–µ—В–∞ —Г —Б–≤–Њ–Є—Е –њ–Њ–і—З–Є–љ–µ–љ–љ—Л—Е, –љ–Њ –≤—Б–µ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–ї–Є, —З—В–Њ —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–Њ–Љ. –Ю—Д–Є—Ж–µ—А—Л –Є –Љ–∞—В—А–Њ—Б—Л —Б —Г–≤–∞–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ —Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї–Є –≤ —Б—В—А–Њ–≥–Є–µ –≥–ї–∞–Ј–∞ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞. –Ъ–Њ—З–µ–≥–∞—А –У–∞–ї–Ї–Є–љ, –≤–µ—Б–µ–ї—М—З–∞–Ї –Є –њ–Њ–≤–µ—Б–∞, –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ –і–ї—П –≤—Б–µ—Е –≤—Л-–Ї—А–Є–Ї–љ—Г–ї:
- –Я—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ –≤—Л —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є, –≤–∞—И–µ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–±–ї–∞–≥–Њ—А–Њ–і–Є–µ! –Ш –≤—Б–µ –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–µ –Њ–і–Њ–±—А–Є–ї–Є —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞.
–Ю–љ –Њ–±—А–∞—В–Є–ї—Б—П –Ї –љ–Є–ґ–љ–µ–њ–∞–ї—Г–±–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–µ:
- –Ъ–Њ—З–µ–≥–∞—А—Л! –Є –Љ–∞—И–Є–љ–Є—Б—В—Л! –Ю—В –≤–∞—Б –Ј–∞–≤–Є—Б–Є—В –љ–∞—И–µ —Б–њ–∞—Б–µ–љ–Є–µ. –ѓ –љ–∞–і–µ—О—Б—М, —З—В–Њ —Б—Г–і–љ–Њ —А–∞–Ј–Њ–≤—М–µ—В –њ—А–µ–і–µ–ї—М–љ—Л–є —Е–Њ–і.
–Ш —Б–µ–є—З–∞—Б –ґ–µ —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–і–Є–ї—Б—П:
- –Т—Б–µ –њ–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ –Љ–µ—Б—В–∞–Љ!
–Ъ–∞–Ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ ¬Ђ–Ш–Ј—Г–Љ—А—Г–і¬ї —А–Є–љ—Г–ї—Б—П –љ–∞ –њ—А–Њ—А—Л–≤ —Б–Ї–≤–Њ–Ј—М –±–ї–Њ–Ї–∞–і—Г, –љ–∞ –љ–µ–Љ –Ј–∞—А–∞–±–Њ—В–∞–ї –±–µ—Б–њ—А–Њ–≤–Њ–ї–Њ—З–љ—Л–є —В–µ–ї–µ–≥—А–∞—Д, –њ–µ—А–µ–±–Є–≤–∞—П —Б–∞–Љ–Њ–є —Г—Б–Є–ї–µ–љ–љ–Њ–є –Є—Б–Ї—А–Њ–є –њ–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ—А—Л —П–њ–Њ–љ—Ж–µ–≤. –І—В–Њ–±—Л –Њ–±–ї–µ–≥—З–Є—В—М –Ї—А–µ–є—Б–µ—А, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А —А–µ—И–Є–ї –њ–Њ–ґ–µ—А—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –њ—А–∞–≤—Л–Љ —П–Ї–Њ—А–µ–Љ –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –Ї–∞–љ–∞—В–Њ–Љ. –Я–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–Њ —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є–µ —А–∞—Б–Ї–ї–µ–њ–∞—В—М –Ї–∞–љ–∞—В. –Ф–≤–µ —В—Л—Б—П—З–Є –њ—Г–і–Њ–≤ –ґ–µ–ї–µ–Ј–∞, —Б –≥—А–Њ—Е–Њ—В–Њ–Љ —Б–≤–∞–ї–Є–≤—И–Є—Б—М –Ј–∞ –±–Њ—А—В, –Є—Б—З–µ–Ј–ї–Є –≤ –њ—Г—З–Є–љ–µ –Љ–Њ—А—П.
–Т –±–Њ–µ–≤–Њ–є —А—Г–±–Ї–µ —Б—В—А–µ–ї–Ї–∞ –Љ–∞—И–Є–љ–љ–Њ–≥–Њ —В–µ–ї–µ–≥—А–∞—Д–∞ —Б—В–Њ—П–ї–∞ –њ—А–Њ—В–Є–≤ —Б–ї–Њ–≤: ¬Ђ–Я–Њ–ї–љ—Л–є –≤–њ–µ—А–µ–і!¬ї –Ъ–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, –Ї—А–µ–є—Б–µ—А –љ–∞–њ—А—П–≥–∞–ї –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ —Б–Є–ї—Л, –і—А–Њ–ґ–∞ –≤—Б–µ–Љ —Б–≤–Њ–Є–Љ –Є–Ј—П—Й–љ—Л–Љ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–Њ–Љ. –Т—Б–µ, –Ї—В–Њ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П –љ–∞–≤–µ—А—Е—Г, –≤–Є–і–µ–ї–Є, —З—В–Њ –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—М—Б–Ї–Є–µ —Б–љ–∞—А—П–і—Л —Г–ґ–µ –љ–µ –і–Њ–ї–µ—В–∞—О—В –і–Њ –љ–µ–≥–Њ, –Є —Б –ї—О–±–Њ–≤—М—О —Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї–Є –љ–∞ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –Њ—В–≤–∞–ґ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞. –Т –Є—Е –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є —Б–µ–є—З–∞—Б er–Њ –Ї–Њ—А–µ–љ–∞—Б—В–∞—П —Д–Є–≥—Г—А–∞, –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О—Й–∞—П –љ–Њ—А–≤–µ–ґ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —И–Ї–Є–њ–µ—А–∞, –±—Л–ї–∞ –Њ–≤–µ—П–љ–∞ –Њ—А–µ–Њ–ї–Њ–Љ —А–Њ–Љ–∞–љ—В–Є–Ї–Є –≤–Њ–і–љ—Л—Е –њ—А–Њ—Б—В–Њ—А–Њ–≤ –Є –њ–Њ—Н–Ј–Є–Є —Г–≤–ї–µ–Ї–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –њ—А–Є–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–є –љ–∞ –Љ–Њ—А–µ. –Т–µ–і—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ —Д–∞–љ—В–∞–Ј–Є–Є, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –≥—А–µ–Ј–∞—Е –Љ–Њ–≥ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В—М—Б—П —В–∞–Ї–Њ–є —Б–ї—Г—З–∞–є, –Ї–∞¬ђ–Ї–Њ–є –≤—Л–њ–∞–ї –љ–∞ –і–Њ–ї—О ¬Ђ–Ш–Ј—Г–Љ—А—Г–і–∞¬ї, - –Њ–љ –≤—Л—А–≤–∞–ї—Б—П –Є–Ј –Ї–Њ–ї—М—Ж–∞ –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–є —Н—Б–Ї–∞–і—А—Л –љ–∞ —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Г. –Ш –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –§–µ—А–Ј–µ–љ —В–≤–µ—А–і–Њ –≤–µ–ї –µ–≥–Њ –Њ–њ—П—В—М –љ–∞ —А–Њ–і–Є–љ—Г. –≠—В–Њ –±—Л–ї–Є —Г–њ–Њ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –Љ–Є–љ—Г—В—Л –Ї–∞–Ї –і–ї—П —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞, —В–∞–Ї –Є –і–ї—П –µ–≥–Њ –њ–Њ–і—З–Є–љ–µ–љ–љ—Л—Е, - –Љ–Є–љ—Г—В—Л —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —А–µ—И–µ–љ–Є—П –≤ –±–Њ–µ–≤–Њ–є –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–µ. –Э–Њ –≥–ї–∞–≤–љ—Л–є –≥–µ—А–Њ–є –љ–Є—З–µ–Љ –љ–µ –≤—Л–і–∞–≤–∞–ї —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–∞, –Є —Н—В–Њ –µ—Й–µ –±–Њ–ї—М—И–µ –≤–Њ–Ј–≤–µ–ї–Є—З–Є–≤–∞–ї–Њ –µ–≥–Њ –≤ –≥–ї–∞–Ј–∞—Е –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Л. –Ч–∞–ї–Њ–ґ–Є–≤ —А—Г–Ї–Є –Ј–∞ —Б–њ–Є–љ—Г, –Њ–љ –њ—А–Њ—Е–∞–ґ–Є–≤–∞–ї—Б—П —В–µ–њ–µ—А—М –њ–Њ –Љ–Њ—Б—В–Є–Ї—Г, —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ—Л–є –Є —Г–≤–µ—А–µ–љ–љ—Л–є, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –≤—Л—И–µ–ї –љ–∞ —Б—Г–і–љ–µ –≤ –Њ–±—Л—З–љ—Л–є –Љ–Є—А–љ—Л–є —А–µ–є—Б. –Ю–љ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–і–Є–љ —А–∞–Ј —З–µ—А–µ–Ј –њ–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ—А–љ—Г—О —В—А—Г–±—Г —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї –Љ–∞—И–Є–љ–љ–Њ–µ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ:
- –Ъ–∞–Ї –і–µ—А–ґ–Є—В—Б—П –њ–∞—А? –Х–Љ—Г –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї–Є:
- –Ф–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –і–≤–µ—Б—В–Є –њ—П—В—М–і–µ—Б—П—В —Д—Г–љ—В–Њ–≤.
–Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –§–µ—А–Ј–µ–љ, –љ–∞—Е–Њ–і—П—Б—М –љ–∞ –Љ–Њ—Б—В–Є–Ї–µ, –њ–Њ-–њ—А–µ–ґ–љ–µ–Љ—Г –љ–µ —В–µ—А—П–ї —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –і—Г—И–µ–≤–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–≤–љ–Њ–≤–µ—Б–Є—П. –Х–≥–Њ –њ–Њ–і—З–Є–љ–µ–љ–љ—Л–µ p–∞–±–Њ—В–∞–ї–Є –Њ—В–ї–Є—З–љ–Њ. –Ю–љ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –Ј–љ–∞–ї —Б–≤–Њ–є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М. –Я—А–µ–і–µ–ї—М–љ–∞—П —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В—М, –Ї–∞–Ї—Г—О –і–∞–ї ¬Ђ–Ш–Ј—Г–Љ—А—Г–і¬ї –љ–∞ –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є—П—Е, –±—Л–ї–∞ –і–≤–∞¬ђ–і—Ж–∞—В—М —З–µ—В—Л—А–µ —Г–Ј–ї–∞. –Э–Њ —В–µ–њ–µ—А—М –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, –Њ–љ –њ—А–µ–≤—Л—Б–Є–ї —Н—В—Г –љ–Њ—А–Љ—Г –Є, –њ–Њ–≥–ї–Њ—Й–∞—П –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–Њ, –ї–µ—В–µ–ї –≤–њ–µ—А–µ–і, –Ї–∞–Ї –њ—В–Є—Ж–∞, –≤—Л—А–≤–∞–≤—И–∞—П—Б—П –Є–Ј –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Є. –У–љ–∞–≤—И–Є–µ—Б—П –Ј–∞ –љ–Є–Љ –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—М—Б–Ї–Є–µ —Б—Г–і–∞, –Њ—В—Б—В–∞–≤–∞—П, –Є—Б—З–µ–Ј–ї–Є –Ј–∞ –≥–Њ—А–Є–Ј–Њ–љ—В–Њ–Љ.
–≠—В–Њ –±—Л–ї–Њ –≤–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–Љ —З–∞—Б—Г –і–љ—П. –Т–њ–µ—А–µ–і–Є —Б–Є—П–ї–Њ —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ–µ –Љ–Њ—А–µ. ¬Ђ–Ш–Ј—Г–Љ—А—Г–і¬ї, –≤–Ј—П–≤—И–Є–є —Б–љ–∞—З–∞–ї–∞ –Ї—Г—А—Б –љ–∞ –Ј—О–є–і-–Њ—Б—В, –њ–Њ¬ђ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ —Б–Ї–ї–Њ–љ–Є–ї—Б—П –љ–∞ –љ–Њ—А–і-–Њ—Б—В.
–Э–Њ —В—Г—В —Б –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–Љ –§–µ—А–Ј–µ–љ–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–Є–ї–Њ—Б—М —З—В–Њ-—В–Њ –љ–µ–Њ–±—К—П—Б–љ–Є–Љ–Њ–µ. –Ю–љ –љ–∞—З–∞–ї —В–µ—А—П—В—М —Б–∞–Љ–Њ–Њ–±–ї–∞–і–∞–љ–Є–µ, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –љ–∞–і–ї–Њ–Љ–Є–ї—Б—П –Њ—В –љ–µ–њ–Њ–Љ–µ—А–љ–Њ–є —В—П–ґ–µ—Б—В–Є. –Т –µ–≥–Њ –≥–ї–∞–Ј–∞—Е –њ–Њ—П–≤–Є–ї–∞—Б—М —В—А–µ–≤–Њ–≥–∞. –Ю–љ –±–µ—Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ –Њ–≥–ї—П–і—Л–≤–∞–ї –≥–Њ—А–Є–Ј–Њ–љ—В. –Э–µ –±—Л–ї–Њ –≤–Є–і–љ–Њ –љ–Є –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –і—Л–Љ–Ї–∞. –Э–Њ –≤—Б–µ –Љ—А–∞—З–љ–µ–µ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Њ—Б—М –ї–Є—Ж–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞. –Т –њ—П—В–Њ–Љ —З–∞—Б—Г, —Г–Ј–љ–∞–≤, —З—В–Њ –Ј–∞–њ–∞—Б—Л —Г–≥–ї—П –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ—Л, –Њ–љ —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–і–Є–ї—Б—П —Г–±–∞–≤–Є—В—М —Е–Њ–і –і–Њ –і–≤–∞–і—Ж–∞—В–Є —Г–Ј–ї–Њ–≤.
–І–µ—А–µ–Ј –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–Є–љ—Г—В –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–∞ –∞–≤–∞—А–Є—П –≤ —З–µ—В–≤–µ—А—В–Њ–є –Ї–Њ—З–µ–≥–∞—А–Ї–µ. –Ґ–µ, –Ї—В–Њ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П –±–ї–Є–ґ–µ –Ї –љ–µ–є, —Г—Б–ї—Л—И–∞–ї–Є —В–∞–Ї–Њ–є —Б–Є–ї—М–љ—Л–є —В—А–µ—Б–Ї, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –≤–Ј–Њ—А–≤–∞–ї—Б—П —Б–љ–∞—А—П–і. –≠—В–Њ –ї–Њ–њ–љ—Г–ї–∞ –њ–∞—А–Њ–≤–∞—П –Љ–∞–≥–Є—Б—В—А–∞–ї—М, –њ–Є—В–∞–≤—И–∞—П –≤—Б–µ –Ї–Њ—А–Љ–Њ–≤—Л–µ –≤—Б–њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–Љ—Л –Є —А—Г–ї–µ–≤—Г—О –Љ–∞—И–Є–љ—Г. –Ш–Ј –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –Њ—В–≤–µ—А—Б—В–Є—П —Б —А–µ–≤–Њ–Љ –њ–Њ–≤–∞–ї–Є–ї –њ–∞—А, –љ–∞–њ–Њ–ї–љ—П—П –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ –≥–Њ—А—П—З–µ–є –≤–ї–∞–≥–Њ–є. –І–µ—В—Л—А–µ –Ї–Њ—З–µ–≥–∞—А–∞, —Б–њ–∞—Б–∞—П—Б—М –Њ—В –±–µ–і—Б—В–≤–Є—П, –њ–Њ–≤–∞–ї–Є–ї–Є—Б—М –љ–∞ –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–є –љ–∞—Б—В–Є–ї.
–Э–∞ —Б—Г–і–љ–µ –њ–Њ–і–љ—П–ї–∞—Б—М –њ–∞–љ–Є–Ї–∞. –Ю—Д–Є—Ж–µ—А—Л –Є –Љ–∞—В—А–Њ—Б—Л —Б–њ–µ—И–Є–ї–Є –Ї —З–µ—В–≤–µ—А—В–Њ–є –Ї–Њ—З–µ–≥–∞—А–Ї–µ –Є –Њ—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М –њ–µ—А–µ–і —В—А–∞–њ–Њ–Љ, –Ї–∞–Ї –њ–µ—А–µ–і –њ—А–Њ–њ–∞—Б—В—М—О. –°–љ–Є–Ј—Г, –≤–Њ–ї–љ—Г—П—Б—М, –њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞–ї–Є—Б—М –Ї–ї—Г–±—Л —Б–µ—А–Њ–≥–Њ –њ–∞—А–∞. –Э–Є–Ї—В–Њ –љ–µ –Ј–љ–∞–ї, —З—В–Њ –і–µ–ї–∞—В—М. –Э–µ –Љ–Њ–≥ –њ–Њ-–Љ–Њ—З—М —Н—В–Њ–Љ—Г –Є –њ—А–Є–±–µ–ґ–∞–≤—И–Є–є —Б—О–і–∞ –љ–∞ –љ–µ—Б–≥–Є–±–∞—О—Й–Є—Е—Б—П –љ–Њ–≥–∞—Е –±–∞—А–Њ–љ –§–µ—А–Ј–µ–љ. –Ю–љ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –∞—Е–∞–ї –Є —Е–≤–∞—В–∞–ї —Б–µ–±—П –Ј–∞ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г. –Ъ—В–Њ-—В–Њ –Є–Ј –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤ –њ–Њ–і—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –µ–Љ—Г, —З—В–Њ –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –≤—Л–Ї–ї—О—З–Є—В—М —А—Г–ї–µ–≤—Г—О –Љ–∞—И–Є–љ—Г –Є –њ–µ—А–µ–є—В–Є –љ–∞ —А—Г—З–љ–Њ–є —И—В—Г—А–≤–∞–ї. –°–µ–є—З–∞—Б –ґ–µ —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ —Б–і–µ–ї–∞–љ–Њ. –Ъ—А–µ–є—Б–µ—А —И–µ–ї –≤–њ–µ—А–µ–і –њ—П—В–љ–∞–і—Ж–∞—В–Є —Г–Ј–ї–Њ–≤—Л–Љ —Е–Њ–і–Њ–Љ.
–ѓ–≤–Є–ї—Б—П –Ї–Њ—З–µ–≥–∞—А –У–µ–Љ–∞–Ї–Є–љ –Є, –љ–µ —Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞—П —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є—П –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞, –љ–∞—З–∞–ї –Ї—А–Є—З–∞—В—М –љ–∞ –Љ–∞—В—А–Њ—Б–Њ–≤:
- –І—В–Њ –ґ–µ –≤—Л —Б—В–Њ–Є—В–µ? –°–Ї–Њ—А–µ–µ –і–∞–≤–∞–є—В–µ –Љ–љ–µ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —А–∞–±–Њ—З–Є—Е –њ–ї–∞—В—М–µ–≤. –ѓ –Є—Е –љ–∞–і–µ–љ—Г –љ–∞ —Б–µ–±—П, –Я—А–Є–≥–Њ—В–Њ–≤—М—В–µ –Љ–µ—И–Ї–Є, —З—В–Њ–±—Л –Њ–Ї—Г—В–∞—В—М –Љ–љ–µ –ї–Є—Ж–Њ –Є –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г. –Ф–µ–ї—М—Д–Є–љ—Л! –Ъ–Њ–Ј–ї—Л! –Я–Њ–≤–Њ—А–∞—З–Є–≤–∞–є—В–µ—Б—М —Б–Ї–Њ—А–µ–µ!
–Э–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї —Б–Њ—А–≤–∞–ї–Є—Б—М —Б –Љ–µ—Б—В–∞. –Т—Б–Ї–Њ—А–µ –±—Л–ї–Њ –і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Њ –У–µ–Љ–∞–Ї–Є–љ—Г –≤—Б–µ, —З—В–Њ –Њ–љ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї. –Ю–љ –±—Л—Б—В—А–Њ –љ–∞–њ—П–ї–Є–≤–∞–ї –љ–∞ —Б–µ–±—П —Б–њ–µ—Ж–Њ–≤–Ї–Є. –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –љ–µ —Б–њ—Г—Б–Ї–∞–ї —Б –љ–µ–≥–Њ –≥–ї–∞–Ј, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ —Е–Њ—В–µ–ї –Ј–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М –≤—Б—П–Ї—Г—О –Љ–µ–ї–Њ—З—М –≤ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П—Е —Н—В–Њ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞. –°–њ—Г—Б—В—П –Љ–Є–љ—Г—В—Л –і–≤–µ –У–µ–Љ–∞–Ї–Є–љ, —Б –Њ–Ї—Г—В–∞–љ–љ–Њ–є –Љ–µ—И–Ї–∞–Љ–Є –≥–Њ–ї–Њ–≤–Њ–є, –≤ –њ–∞—А—Г—Б–Є–љ–Њ–≤—Л—Е —А—Г–Ї–∞–≤–Є—Ж–∞—Е, –Њ–±–ї–Є—В—Л–є —Е–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ–є –≤–Њ–і–Њ—О, –Ї—Г–±–∞—А–µ–Љ —Б–≤–∞–ї–Є–ї—Б—П –њ–Њ —В—А–∞–њ—Г –≤–љ–Є–Ј. –Х–≥–Њ –њ—А–Є–Љ–µ—А—Г –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –Љ–∞—И–Є–љ–Є—Б—В–Њ–≤, –Ј–∞—Е–≤–∞—В–Є–≤ —Б —Б–Њ–±–Њ—О –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л–µ –Є–љ—Б—В—А—Г–Љ–µ–љ—В—Л. –І–µ—А–µ–Ј –њ–Њ–ї—З–∞—Б–∞ –∞–≤–∞—А–Є—П –±—Л–ї–∞ –ї–Є–Ї–≤–Є–і–Є—А–Њ–≤–∞–љ–∞.
–Ф–≤–∞ –≥–µ—А–Њ—П –Є —З–µ—В—Л—А–µ –Ї–Њ—З–µ–≥–∞—А–∞, –љ–∞—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є–µ—Б—П –≤–љ–Є–Ј—Г, –Њ—В–і–µ–ї–∞–ї–Є—Б—М –ї–µ–≥–Ї–Є–Љ–Є –Њ–ґ–Њ–≥–∞–Љ–Є.
–Ъ–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –±—Л, —З—В–Њ –ґ–Є–Ј–љ—М –љ–∞ ¬Ђ–Ш–Ј—Г–Љ—А—Г–і–µ¬ї –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –њ–Њ–є—В–Є –љ–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ—Л–Љ –њ–Њ—А—П–і–Ї–Њ–Љ. –Э–Њ –±–∞—А–Њ–љ –§–µ—А–Ј–µ–љ –љ–µ –њ–µ—А–µ—Б—В–∞–≤–∞–ї –љ–µ—А–≤–љ–Є—З–∞—В—М. –Э–∞—Б—В—Г–њ–Є–ї–∞ –љ–Њ—З—М. –Ъ–Њ—А–∞–±–ї—М –Њ–і–Є–љ–Њ–Ї–Њ –њ—А–Њ–±–Є—А–∞–ї—Б—П —Б–Ї–≤–Њ–Ј—М —В—М–Љ—Г –≤–Њ –Т–ї–∞–і–Є–≤–Њ—Б—В–Њ–Ї. –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –љ–µ –ї–Њ–ґ–Є–ї—Б—П –љ–Є –љ–∞ –Њ–і–љ—Г –Љ–Є–љ—Г—В—Г. –Э–µ —Б–њ–∞–ї–Є –Є –µ–≥–Њ –њ–Њ–і—З–Є–љ–µ–љ–љ—Л–µ. –Я–Њ—Б–ї–µ –њ–Њ–ї—Г–љ–Њ—З–Є –Њ–і–Є–љ –Є–Ј —Б–Є–≥–љ–∞–ї—М—Й–Є–Ї–Њ–≤ –Ј–∞—П–≤–Є–ї, —З—В–Њ –≤–њ–µ—А–µ–і–Є —Б–ї–µ–≤–∞ –Љ–µ–ї—М–Ї–∞—О—В –Њ–≥–љ–Є. –С—Л—В—М –Љ–Њ–ґ–µ—В, –µ–Љ—Г —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М —Н—В–Њ, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –љ–Є–Ї—В–Њ –Є—Е –±–Њ–ї—М—И–µ –љ–µ –≤–Є–і–µ–ї. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –љ–µ–Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї —Б–Љ–µ–љ–Є—В—М –Ї—Г—А—Б –≤–њ—А–∞–≤–Њ. –Ґ–∞–Ї —И–ї–Є —З–∞—Б - –њ–Њ–ї—В–Њ—А–∞ –Є –Њ–њ—П—В—М –ї–µ–≥–ї–Є –љ–∞ –њ—А–µ–ґ–љ–Є–є –Ї—Г—А—Б.
–І–µ–Љ –і–∞–ї—М—И–µ —Г—Е–Њ–і–Є–ї ¬Ђ–Ш–Ј—Г–Љ—А—Г–і¬ї –Њ—В –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є, —В–µ–Љ –±–Њ–ї—М—И–µ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А —В–µ—А—П–ї —Б–∞–Љ–Њ–Њ–±–ї–∞–і–∞–љ–Є–µ. –Ъ –≤–µ—З–µ—А—Г —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ –і–љ—П, —В–Њ –µ—Б—В—М 16 –Љ–∞—П, –Њ–љ –њ—А–µ–≤—А–∞—В–Є–ї—Б—П –≤ –Є–Ј–і–µ—А–≥–∞–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –љ–µ–≤—А–∞—Б—В–µ–љ–Є–Ї–∞. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї –±—Л–ї –љ–∞ –≤–Є–і—Г, –Њ–љ –Ј–љ–∞–ї, —З—В–Њ –љ—Г–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ—П—В—М. –Э–Њ —В–µ–њ–µ—А—М —Б–Є—П—О—Й–∞—П –њ—Г—Б—В–Њ—В–∞ –Љ–Њ—А—П, –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, –њ—Г–≥–∞–ї–∞ –µ–≥–Њ –±–Њ–ї—М—И–µ, —З–µ–Љ –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—М—Б–Ї–Є–µ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є. –Ы—О–і–Є —Б –Є–Ј—Г–Љ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –≤–≥–ї—П–і—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М –≤ –љ–µ–≥–Њ –Є –љ–µ –≤–µ—А–Є–ї–Є —Б–≤–Њ–Є–Љ –≥–ї–∞–Ј–∞–Љ: –њ–Њ –Љ–Њ—Б—В–Є–Ї—Г –Љ–µ—В–∞–ї—Б—П –љ–µ –њ—А–µ–ґ–љ–Є–є –≤–Њ–ї–µ–≤–Њ–є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А, –∞ –ґ–∞–ї–Ї–Є–є —В—А—Г—Б, —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ –љ–∞—А—П–і–Є–≤—И–Є–є—Б—П, –≤ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ—Б–Ї—Г—О —Д–Њ—А–Љ—Г. –Я—А–Њ—И–ї–Њ–є –љ–Њ—З—М—О –Њ–љ –љ–Є–Ї–∞–Ї –љ–µ –Љ–Њ–≥ –і–Њ–ґ–і–∞—В—М—Б—П –і–љ—П, –∞ —В–µ–њ–µ—А—М –µ–Љ—Г —Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ–±—Л —Б–Ї–Њ—А–µ–µ –љ–∞—Б—В—Г–њ–Є–ї–∞ —В—М–Љ–∞. –Х–Љ—Г –≤—Б–µ –Љ–µ—А–µ—Й–Є–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ —Б–µ–є—З–∞—Б –Њ–љ –±—Г–і–µ—В –љ–∞—Б—В–Є–≥–љ—Г—В –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—М—Б–Ї–Є–Љ–Є —Б—Г–і–∞–Љ–Є. –Ф–Њ –Т–ї–∞–і–Є–≤–Њ—Б—В–Њ–Ї–∞ —Б –Є–Ј–±—Л—В–Ї–Њ–Љ —Е–≤–∞—В–Є–ї–Њ –±—Л —Г–≥–ї—П, –љ–Њ, –њ–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—О –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞, –ї–Њ–Љ–∞–ї–Є –љ–∞ —Б—Г–і–љ–µ –і–µ—А–µ–≤–Њ –Є –ґ–≥–ї–Є –≤ —В–Њ–њ–Ї–∞—Е. –Ю–љ –љ–∞—З–∞–ї –≤–Љ–µ—И–Є–≤–∞—В—М—Б—П –≤ –і–µ–ї–∞ —И—В—Г—А–Љ–∞–љ–∞, –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В–∞ –Я–Њ–і—Г—И–Ї–Є–љ–∞, —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞—П, —З—В–Њ –Ї—Г—А—Б –Є–Љ –≤–Ј—П—В –љ–µ–≤–µ—А–љ–Њ. –Я–Њ–ї—Г—И–Ї–Є–љ, –Ї–Њ–љ—З–Є–≤—И–Є–є –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—О, –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ –Ј–љ–∞–ї —Б–≤–Њ—О —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М, –љ–Њ –Њ–љ –±—Л–ї —В–Є—Е–Є–є –Є –Ј–∞—Б—В–µ–љ—З–Є–≤—Л–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї. –°–Ї–≤–Њ–Ј—М –њ–µ–љ—Б–љ–µ –Њ–љ —Г–і–Є–≤–ї–µ–љ–љ–Њ —Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї –љ–∞ –≤–Ј—К–µ—А–Њ—И–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞, –љ–µ —Б–Љ–µ—П –≤–Њ–Ј—А–∞–ґ–∞—В—М –µ–Љ—Г. –Т–±–ї–Є–Ј–Є —А–Њ–і–љ—Л—Е –±–µ—А–µ–≥–Њ–≤ —Б–≤–Њ–Є–Љ –љ–µ–њ–Њ–љ—П—В–љ—Л–Љ —Б—В—А–∞—Е–Њ–Љ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –§–µ—А–Ј–µ–љ –Ј–∞—А–∞–Ј–Є–ї —Б–љ–∞—З–∞–ї–∞ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ –Є –≤—Б—О –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г. –Т—Б–µ —Б—В–∞–ї–Є –ґ–і–∞—В—М —Б–Љ–µ—А—В–љ–Њ–≥–Њ —З–∞—Б–∞. –Ъ–Њ–љ—З–Є–ї–Њ—Б—М —Н—В–Њ —В–µ–Љ, —З—В–Њ ¬Ђ–Ш–Ј—Г–Љ—А—Г–і¬ї¬ї –њ—А–Њ—Б–Ї–Њ—З–Є–ї –Љ–Є–Љ–Њ –Т–ї–∞–і–Є–≤–Њ—Б—В–Њ–Ї–∞ –Є –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П –≤ –±—Г—Е—В—Г —Б–≤. –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Єpa. –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –§–µ—А–Ј–µ–љ, –Ї–∞–Ї –±—Л –Њ–њ—А–∞–≤–і—Л–≤–∞—П—Б—М –њ–µ—А–µ–і —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–∞–Љ–Є, –±–Њ—А–Љ–Њ—В–∞–ї, —З—В–Њ –і–ї—П –Ї—А–µ–є—Б–µ—А–∞ —Н—В–Њ –±—Г–і–µ—В –ї—Г—З—И–µ. –Я–Њ–і—Е–Њ–і—Л –Ї –Т–ї–∞–і–Є–≤–Њ—Б—В–Њ–Ї—Г, –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ, –Љ–Є–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ—Л. –Х—Б–ї–Є –±—Л –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є–ї–Є—Б—М –≤ —Н—В–Њ—В –њ–Њ—А—В, —В–Њ –Љ–Њ–≥–ї–Є –±—Л –≤–Ј–ї–µ—В–µ—В—М –љ–∞ –≤–Њ–Ј–і—Г—Е –Њ—В —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –ґ–µ –Љ–Є–љ—Л. –С—Л–ї–∞ –Є –µ—Й–µ –Њ–і–љ–∞ –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В—М - —В—Г–і–∞ —Б–Ї–Њ—А–µ–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є–ї–Є—Б—М —П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Є–µ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є, —З—В–Њ–±—Л –њ–µ—А–µ—Е–≤–∞—В–Є—В—М –њ—Г—В—М ¬Ђ–Ш–Ј—Г–Љ—А—Г–і—Г¬ї. –Ґ–∞–Ї –Є–ї–Є –Є–љ–∞—З–µ, –љ–Њ –Ї—А–µ–є—Б–µ—А—Г, –њ—А–Є –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—З–µ —Г–≥–ї—П, –њ—А–µ–і—Б—В–Њ—П–ї–Њ –њ—А–Њ–є—В–Є –ї–Є—И–љ–Є—Е —Б—В–Њ –≤–Њ—Б–µ–Љ—М–і–µ—Б—П—В –Љ–Є–ї—М.
–≠—В–Њ –±—Л–ї–∞ –њ–µ—А–≤–∞—П –Њ—И–Є–±–Ї–∞.
–Ъ –±—Г—Е—В–µ –°–≤. –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–∞ –њ—А–Є–±–ї–Є–Ј–Є–ї–Є—Б—М –љ–Њ—З—М—О 17 –Љ–∞—П. –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –≤–і—А—Г–≥ —А–µ—И–Є–ї –њ–µ—А–µ–є—В–Є –≤ –Ј–∞–ї–Є–≤ –°–≤. –Ю–ї—М–≥–Є. –Э–Њ –Ј–і–µ—Б—М –њ–Њ—З–µ–Љ—Г-—В–Њ –Њ–љ –љ–∞—И–µ–ї —Б—В–Њ—П–љ–Ї—Г –љ–µ—Г–і–Њ–±–љ–Њ–є. –Р –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –љ–∞ –љ–µ–≥–Њ –њ–Њ–≤–ї–Є—П–ї–Њ —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є–µ –±–Њ—Ж–Љ–∞–љ–Љ–∞—В–∞ –°–Љ–Є—А–љ–Њ–≤–∞, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —З—В–Њ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–≤—И–µ–≥–Њ –µ–Љ—Г, –Ї–∞–Ї –і–Њ –≤–Њ–є–љ—Л –≤ —Н—В–Њ—В –Ј–∞–ї–Є–≤ –љ–µ—А–µ–і–Ї–Њ –Ј–∞¬ђ—Е–Њ–і–Є–ї–Є —П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Є–µ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є. –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –Ј–∞–Љ–Њ—В–∞–ї –≥–Њ–ї–Њ–≤–Њ—О, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –Є–Ј–≥–Њ–љ—П—П –Є–Ј —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –≤–Њ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П —Б—В—А–∞—И–љ—Л–µ –њ—А–Є–Ј—А–∞–Ї–Є, –Є —Б–љ–Њ–≤–∞ –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є–ї –Ї—А–µ–є—Б–µ—А –≤ –±—Г—Е—В—Г –°–≤. –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–∞. –С—Л–ї–Њ —В–µ–Љ–љ–Њ. –Я–µ—А–µ–і –ї—О–і—М–Љ–Є —Б—В–Њ—П–ї–∞ –Ј–∞–і–∞—З–∞ –љ–∞–є—В–Є —Б–µ–±–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–є –њ—А–Є—О—В –≤ —Н—В–Њ–є –і–Є–Ї–Њ–є –Є –Љ–∞–ї–Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Њ–є –Љ–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є. –Х—Б–ї–Є –±—Л –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є—Б—В–≤–Є–µ –і—Г—Е–∞, —В–Њ –Њ–љ, –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ, –љ–µ —А–Є—Б–Ї–љ—Г–ї –±—Л —Б–µ–є—З–∞—Б –≤—Е–Њ–і–Є—В—М –≤ —В–∞–Ї—Г—О –±—Г—Е—В—Г. –Ґ–Є—Е–∞—П –њ–Њ–≥–Њ–і–∞ –і–∞–≤–∞–ї–∞ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М ¬Ђ–Ш–Ј—Г–Љ—А—Г–і—Г¬ї –њ—А–Њ–і–µ—А–ґ–∞—В—М—Б—П –≤ –Љ–Њ—А–µ –і–Њ —Г—В—А–∞. –Ю –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–Є —П–њ–Њ–љ—Ж–µ–≤ –Ј–і–µ—Б—М –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Њ –±—Л—В—М –Є —А–µ—З–Є. –Э–µ –љ–∞—Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–љ–Є –±—Л–ї–Є –љ–µ–≤–µ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л, —З—В–Њ–±—Л —А–∞–Ј—Л—Б–Ї–Є–≤–∞—В—М –Ї—А–µ–є—Б–µ—А, —Г—И–µ–і—И–Є–є –Ј–∞ –і–≤–Њ–µ —Б—Г—В–Њ–Ї –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ –Ї—Г–і–∞. –≠—В–Њ –±—Л–ї–Њ –±—Л —В–∞–Ї –ґ–µ –љ–µ–ї–µ–њ–Њ, –Ї–∞–Ї –љ–µ–ї–µ–њ–Њ —А–∞–Ј—Л—Б–Ї–Є–≤–∞—В—М –±–ї–Њ—Е—Г, –Є—Б—З–µ–Ј–љ—Г–≤—И—Г—О –≤ –Ї–Њ–њ–љ–µ —Б–µ–љ–∞. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А, –њ–Њ—В–µ—А—П–≤—И–Є–є –њ–µ—А—Б–њ–µ–Ї—В–Є–≤—Г –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –Є —В—А–µ–Ј–≤–Њ—Б—В—М —Г–Љ–∞, —В–Њ—А–Њ–њ–Є–ї—Б—П —Б–Ї–Њ—А–µ–µ —Б–Ї—А—Л—В—М—Б—П –≤ –±—Г—Е—В–µ.
–Т—Е–Њ–і –≤ –±—Г—Е—В—Г –±—Л–ї –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ —И–Є—А–Њ–Ї. –Э–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –њ–Њ—З–µ–Љ—Г-—В–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є—В—М —Б—Г–і–љ–Њ –љ–µ –њ–Њ—Б—А–µ–і–Є–љ–µ –њ—А–Њ–ї–Є–≤–∞, –∞ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ –ї–µ–≤–Њ–≥–Њ –±–µ—А–µ–≥–∞. –Ъ—А–µ–є—Б–µ—А —И–µ–ї –њ—П—В–љ–∞–і—Ж–∞—В–Є —Г–Ј–ї–Њ–≤—Л–Љ —Е–Њ–і–Њ–Љ. –°–ї–µ–≤–∞, —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –±–ї–Є–Ј–Ї–Њ, –Њ–±—А–Є—Б–Њ–≤–∞–ї—Б—П –≤ —В–µ–Љ–љ–Њ—В–µ –Љ—Л—Б –Ю—А–µ—Е–Њ–≤–∞. –Ь–∞—В—А–Њ—Б—Л –љ–∞ –≤–µ—А—Е–љ–µ–є –њ–∞–ї—Г–±–µ –Њ–±—А–∞–і–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М, —Г–≤–Є–і–µ–≤ —А–Њ–і–љ—Г—О –Ј–µ–Љ–ї—О. –Ъ–Њ–љ—З–∞–ї–Є—Б—М –Є—Е –Љ—Л—В–∞—А—Б—В–≤–∞. –Ь–µ—З—В–∞ –њ—А–µ–≤—А–∞—В–Є–ї–∞—Б—М –≤ —П–≤—М. –Ы–Њ—В–Њ–≤—Л–є –њ—А–∞–≤–Њ–≥–Њ –±–Њ—А—В–∞ –≤—Л–Ї—А–Є–Ї–љ—Г–ї:
- –У–ї—Г–±–Є–љ–∞ –і–µ—Б—П—В—М —Б–∞–ґ–µ–љ!
–Т—Б–ї–µ–і –Ј–∞ –љ–Є–Љ –ї–Њ—В–Њ–≤—Л–є –ї–µ–≤–Њ–≥–Њ –±–Њ—А—В–∞ –≤–Њ–Ј–≤–µ—Б—В–Є–ї:
- –У–ї—Г–±–Є–љ–∞ —З–µ—В—Л—А–µ —Б–∞–ґ–µ–љ–Є!
–Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ —З—В–Њ —Г—Б–њ–µ–ї–Є –њ–Њ–≤–µ—А–љ—Г—В—М —А—Г—З–Ї—Г –Љ–∞—И–Є–љ–љ–Њ–≥–Њ —В–µ–ї–µ–≥—А–∞—Д–∞ –љ–∞ ¬Ђ—В–Є—Е–Є–є —Е–Њ–і¬ї, –Ї–∞–Ї ¬Ђ–Ш–Ј—Г–Љ—А—Г–і¬ї –і—А–Њ–≥–љ—Г–ї –Њ—В —В–Њ–ї—З–Ї–∞ –Є –Ј–∞—Б–Ї—А–µ–ґ–µ—В–∞–ї –≤—Б–µ–Љ —Б–≤–Њ–Є–Љ –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–Љ –і–љ–Є—Й–µ–Љ. –Ы—О–і–Є –њ–Њ–њ–∞–і–∞–ї–Є. –Ь–љ–Њ–≥–Є–µ –і—Г–Љ–∞–ї–Є, —З—В–Њ –њ–Њ–і –љ–Є–Љ–Є –≤–Ј–Њ—А–≤–∞–ї–∞—Б—М –Љ–Є–љ–∞. –Ъ—А–µ–є¬ђ—Б–µ—А —Б—А–∞–Ј—Г –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї—Б—П, –±–µ—Б–њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Њ –љ–∞–Ї—А–µ–љ–Є–ї—Б—П –љ–∞ –њ—А–∞–≤—Л–є –±–Њ—А—В –њ–Њ–і —Г–≥–ї–Њ–Љ 40-50¬∞, –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, –≥–Њ—В–Њ–≤ –±—Л–ї —Б–≤–∞–ї–Є—В—М—Б—П —Б–Њ¬ђ–≤—Б–µ–Љ. –Т–Њ –≤—Б–µ—Е –µ–≥–Њ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є—П—Е –≤–љ–µ–Ј–∞–њ–љ–Њ –Њ–±–Њ—А–≤–∞–ї—Б—П –≥–Њ–≤–Њ—А –ї—О–і–µ–є. –Т –Ј–ї–Њ–≤–µ—Й–µ–є —В–Є—И–Є–љ–µ –±–∞—А–Њ–љ –§–µ—А–Ј–µ–љ –Ј–∞–≤–Њ–њ–Є–ї:
- –Я–Њ–ї–љ—Л–є –љ–∞–Ј–∞–і! –Я–Њ–ї–љ—Л–є –љ–∞–Ј–∞–і!
–Э–Њ —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–∞—И–Є–љ—Л –љ–Є —А–∞–±–Њ—В–∞–ї–Є, –Ї—А–µ–є—Б–µ—А, —Б–µ–≤—И–Є–є –њ–∞ –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ—Г—О –≥—А—П–і—Г –Љ—Л—Б–∞ –Ю—А–µ—Е–Њ–≤–∞, –љ–µ –і–≤–Є–≥–∞–ї—Б—П —Б –Љ–µ—Б—В–∞. –Я—А–Њ–±–Њ–≤–∞–ї–Є –Ј–∞–≤–Њ–і–Є—В—М –≤–µ—А–њ, –љ–Њ –Є —Н—В–Њ –љ–µ –њ–Њ–Љ–Њ–≥–ї–Њ: –Ї—А–µ–є—Б–µ—А —Б–Є–і–µ–ї –њ–ї–Њ—В–љ–Њ, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –±—Л–ї –њ—А–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ –Ї –Љ–µ–ї–Є.
–≠—В–Њ –±—Л–ї–∞ –≤—В–Њ—А–∞—П –Њ—И–Є–±–Ї–∞.
–Ю—Б–Њ–±–Њ–є –±–µ–і—Л –µ—Й–µ –љ–µ –±—Л–ї–Њ –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Ї—А–µ–є—Б–µ—А —Б–µ–ї –љ–∞ –Ї–∞–Љ–љ–Є, —В–µ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ —З—В–Њ —В–µ—З–Є –≤ –µ–≥–Њ –і–љ–Є—Й–µ –љ–Є–≥–і–µ –љ–µ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–ї–Є. –Ь–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –±—Л –і–Њ–ґ–і–∞—В—М—Б—П —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ –њ—А–Є–ї–Є–≤–∞ –≤–Њ–і—Л, —З—В–Њ¬ђ–±—Л —Б–љ—П—В—М—Б—П —Б –Ї–∞–Љ–љ–µ–є; –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –±—Л —А–∞–Ј–≥—А—Г–Ј–Є—В—М —Б—Г–і–љ–Њ –Є —В–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –Є–Ј–±–∞–≤–Є—В—М—Б—П –Њ—В –∞–≤–∞—А–Є–Є; –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –±—Л –≤—Л–Ј–≤–∞—В—М –њ–Њ —В–µ–ї–µ–≥—А–∞—Д—Г –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М –Є–Ј –Т–ї–∞–і–Є–≤–Њ—Б—В–Њ–Ї–∞, –∞ –Ї—А–µ–є—Б–µ—А –њ—А–Є–≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В—М –Ї –≤–Ј—А—Л–≤—Г, –љ–∞ —Б–ї—Г—З–∞–є –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є—П –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞. –Э–Њ –±–∞—А–Њ–љ –§–µ—А–Ј–µ–љ, –љ–∞ –Ї—А—Г–≥–ї–Њ–Љ –ї–Є—Ж–µ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –і—А–Њ–ґ–∞–ї–Є –±–µ–ї–Њ–±—А—Л—Б—Л–µ –±–∞–Ї–µ–љ–±–∞—А–і—Л, –і–∞–ї –Є–љ–Њ–µ —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є–µ, –≤—Л–Ї—А–Є–Ї–Є–≤–∞—П:
- –ѓ–њ–Њ–љ—Ж—Л –љ–∞—Е–Њ–і—П—В—Б—П –≥–і–µ-–љ–Є–±—Г–і—М –њ–Њ–±–ї–Є–Ј–Њ—Б—В–Є! –Ъ–∞–ґ–і—Г—О –Љ–Є–љ—Г—В—Г –Њ–љ–Є –Љ–Њ–≥—Г—В –љ–∞–Ї—А—Л—В—М –љ–∞—Б! –ѓ –љ–µ —Е–Њ—З—Г, —З—В–Њ–±—Л ¬Ђ–Ш–Ј—Г–Љ—А—Г–і¬ї –і–Њ—Б—В–∞–ї—Б—П –Є–Љ! –Э–µ–Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ –≤—Б–µ —З–∞—Б—В–Є –µ–≥–Њ –њ—А–Є–≤–µ—Б—В–Є –≤ –љ–µ¬ђ–≥–Њ–і–љ–Њ—Б—В—М –Є –њ—А–Є–≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В—М —Б—Г–і–љ–Њ –Ї –≤–Ј—А—Л–≤—Г!
–Э–∞ –Ї—А–µ–є—Б–µ—А–µ –њ–Њ–і–љ—П–ї–∞—Б—М –љ–µ–Њ–±—Л—З–∞–є–љ–∞—П —Б—Г–Љ–∞—В–Њ—Е–∞. –Т—Б–µ, —З—В–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ —А–∞—Б–Ї–ї–µ–њ–∞—В—М –Є —Б–љ—П—В—М, –њ–Њ–ї–µ—В–µ–ї–Њ –Ј–∞ –±–Њ—А—В, –∞ —В–Њ, —З—В–Њ –љ–µ —В–Њ–љ—Г–ї–Њ –Є –њ–Њ–і–і–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М –Њ–≥–љ—О, –ґ–≥–ї–Є –≤ —В–Њ–њ–Ї–∞—Е. –Т –±—Г—Е—В–µ —Г—В–Њ–њ–Є–ї–Є –≤—Б–µ –Љ–µ–ї–Ї–Є–µ –њ—Г—И–Ї–Є, –Ј–∞–Љ–Ї–Є —Б –±–Њ–ї–µ–µ –Ї—А—Г–њ–љ—Л—Е –Њ—А—Г–і–Є–є –Є —З–∞—Б—В—М –њ—Г–ї–µ–Љ–µ—В–Њ–≤. –†–∞–Ј–±–Є–≤–∞–ї–Є –Љ–Њ–ї–Њ—В–Ї–∞–Љ–Є –≤—Б–њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–Љ—Л, –Ї–Њ–Љ–њ–∞—Б—Л, —И—В—Г—А–≤–∞–ї—Л, –њ—А–Є–±–Њ—А—Л —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ–≥–љ–µ–Љ. –С–∞—А–Њ–љ –§–µ—А–Ј–µ–љ —Б—З–Є—В–∞–ї —Б–µ–±—П –і–Њ–±—А–Њ—Б–Њ–≤–µ—Б—В–љ—Л–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–Љ –Є –љ–µ —Е–Њ—В–µ–ї, —З—В–Њ–±—Л –Ї–∞–Ї–Њ–µ-–љ–Є–±—Г–і—М –і–Њ–±—А–Њ –њ–Њ–њ–∞–ї–Њ –≤ —А—Г–Ї–Є —П–њ–Њ–љ—Ж–∞–Љ. –Ю–љ –і–∞–ґ–µ –њ–Њ—В–µ—А—П–ї –≥–Њ–ї–Њ—Б –Є —Б –њ–µ–љ–Њ–є –љ–∞ –≥—Г–±–∞—Е —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Е—А–Є–њ–µ–ї, –њ–Њ–і–≥–Њ–љ—П—П —Б–≤–Њ–Є—Е –њ–Њ–і—З–Є–љ–µ–љ–љ—Л—Е –≤ –Є—Е —А–∞–Ј—А—Г—И–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —А–∞–±–Њ—В–µ. –Р —В–µ, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –њ–Њ–ґ–∞—А–∞, –±–µ–≥–∞–ї–Є –њ–Њ —В—А–∞–њ–∞–Љ —Б–љ–Є–Ј—Г –љ–∞¬ђ–≤–µ—А—Е, —Б–≤–µ—А—Е—Г –≤–љ–Є–Ј, –±–µ—Б—В–Њ–ї–Ї–Њ–≤–Њ –Љ–µ—В–∞–ї–Є—Б—М –њ–Њ —А–∞–Ј–љ—Л–Љ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є—П–Љ. –Ц–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–є –Ї–Њ—А–њ—Г—Б —Б—Г–і–љ–∞ —Б—В–Њ–љ–∞–ї –Њ—В –≥—А–Њ—Е–Њ—В–∞ –Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Є—Е –≤—Л–Ї—А–Є–Ї–Њ–≤. –Ґ–∞–Ї–Њ–≥–Њ –∞–≤—А–∞–ї–∞ ¬Ђ–Ш–Ј—Г–Љ—А—Г–і¬ї –љ–µ –Є—Б–њ—Л—В—Л–≤–∞–ї —Б–Њ –і–љ—П —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П. –Х—Б–ї–Є –±—Л –љ–∞ —Н—В–Њ –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, —В–Њ –љ–µ–њ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –±—Л —Б–і–µ–ї–∞—В—М –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ, —З—В–Њ —Г –≤—Б–µ–≥–Њ —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–∞ –Њ—Б—В—А—Л–є –њ—Б–Є—Е–Њ–Ј.
–Э–∞—Б—В—Г–њ–Є–ї–Њ —В–Є—Е–Њ–µ –Љ–∞–є—Б–Ї–Њ–µ —Г—В—А–Њ. –Э–∞–і –≥–Њ—А–Є–Ј–Њ–љ—В–Њ–Љ –Љ–µ–і–ї–µ–љ¬ђ–љ–Њ –≤—Б–њ–ї—Л–≤–∞–ї–Њ —Б–Њ–ї–љ—Ж–µ, –ї–∞—Б–Ї–∞—П –Ј–∞–≥–Њ—А–µ–ї—Л–µ –ї–Є—Ж–∞ –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–≤. –Ґ–µ–њ–µ—А—М –ї—О–і–Є –±—Л–ї–Є –Ј–∞–љ—П—В—Л –і—А—Г–≥–Њ–є —А–∞–±–Њ—В–Њ–є: –љ–∞ —И–ї—О–њ–Ї–∞—Е —Б–њ–µ—И–љ–Њ —Б–≤–Њ–Ј–Є–ї–Є —Б –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П –≤–Є–љ—В–Њ–≤–Ї–Є, –Њ—Б—В–∞–≤—И–Є–µ—Б—П –њ—Г–ї–µ–Љ–µ—В—Л, –њ—А–Њ–і—Г–Ї—В—Л, –њ–Њ—Б—Г–і—Г –і–ї—П –µ–і—Л, –њ–Њ—Е–Њ–і–љ—Г—О –Ї—Г—Е–љ—О, —Б–≤–Њ–Є –≤–µ—Й–Є. –Ы—О–і–Є, –Є–Ј–љ—Г—А–µ–љ–љ—Л–µ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ–є —В—А–µ–≤–Њ–≥–Њ–є –Ј–∞ —Б–≤–Њ—О –ґ–Є–Ј–љ—М, –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, –Є–≤ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–ї–Є –ї—Г—З–µ–Ј–∞—А–љ–Њ–≥–Њ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–ї–µ–њ–Є—П –≤–µ—Б–љ—Л –љ–∞ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ –±–µ—А–µ–≥—Г. –Э–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ, –љ–∞–≤–∞–ї–Є–≤–∞—П—Б—М –љ–∞ –≤–µ—Б–ї–∞, –љ–∞—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ–≥–ї—П–і—Л–≤–∞–ї–Є –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –Ґ–Є—Е–Њ–≥–Њ –Њ–Ї–µ–∞–љ–∞. –Э–Њ –Є—Е –њ—А–Є–≤–ї–µ–Ї–∞–ї–∞ –љ–µ –Ї—А–∞—Б–Њ—В–∞ –Є—Б–Ї—А—П—Й–µ–є—Б—П –≤–Њ–і–љ–Њ–є —А–∞–≤–љ–Є–љ—Л (–њ–Њ—Е–Њ–ґ–µ, —З—В–Њ –Њ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ —Г—Б—Л–њ–∞–љ–∞ —Б–Њ–ї–љ–µ—З–љ–Њ–є –њ—Л–ї—М—О), –∞ –њ–∞–љ–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —В—А–µ–≤–Њ–≥–∞: –љ–µ –≤–Є–і–љ–Њ –ї–Є –і—Л–Љ–Ї–Њ–≤ –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—М—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є?
–Э–∞ ¬Ђ–Ш–Ј—Г–Љ—А—Г–і–µ¬ї –Њ—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї: —Б—В–∞—А—И–Є–є –Њ—Д–Є—Ж–µ—А –Я–∞—В—В–Њ–љ-–§–∞–љ—В–Њ–љ-–і–µ-–Т–µ—А–∞–є–Њ–љ, –±–Њ—Ж–Љ–∞–љ –Ъ—Г–ї–Є–Ї–Њ–≤, –Љ–Є–љ–љ—Л–µ –Ї–≤–∞—А—В–Є—А–Љ–µ–є—Б—В–µ—А—Л –Ґ–µ–є–±–µ –Є –У—А–Є–≥–Њ—А—М–µ–≤ –Є —А–∞–і–Є–Њ—В–µ–ї–µ–≥—А–∞—Д–Є—Б—В –°–Њ–±–µ—И–Ї–Є–љ. –Ш–Љ –±—Л–ї–Њ –њ–Њ—А—Г—З–µ–љ–Њ –њ—А–Є–≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В—М –Ї—А–µ–є—Б–µ—А –Ї –≤–Ј—А—Л–≤—Г. –Р –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–µ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Л –Є –Љ–∞—В—А–Њ—Б—Л –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М —Г–ґ–µ –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥—Г, –Ј–∞ –≤–µ—А—Б—В—Г –Њ—В —Б—Г–і–љ–∞. –Т–Њ –≥–ї–∞–≤–µ —Б –±–∞—А–Њ–љ–Њ–Љ –§–µ—А–Ј–µ–љ–Њ–Љ –Њ–љ–Є –Ј–∞–±—А–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞ –≥–Њ—А—Г –Є, –њ–Њ—Б—В—А–Њ–Є–≤—И–Є—Б—М –≤–Њ —Д—А–Њ–љ—В, —Б—В–∞–ї–Є –ґ–і–∞—В—М.
–®–Є—А–Њ–Ї–Њ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В–µ—А–ї–Њ—Б—М, –Њ–±–і–∞–≤–∞—П —В–µ–њ–ї–Њ–Љ, –≥–Њ–ї—Г–±–Њ–µ –љ–µ–±–Њ, –Њ—Б–ї–µ–њ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б–Є—П–ї–Є, —Г—Е–Њ–і—П –і–Њ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ—А–Є–Ј–Њ–љ—В–∞, –≤–Њ–і—Л –Њ–Ї–µ–∞–љ–∞. –Т —Б–Њ–ї–љ–µ—З–љ—Л—Е –ї—Г—З–∞—Е –Ј–µ–ї–µ–љ–µ–ї–Є –Ї—Г–і—А—П–≤—Л–µ –≤–µ—А—И–Є–љ—Л —Б–Њ–њ–Њ–Ї. –≠—В–Њ –µ—Й–µ –±–Њ–ї—М—И–µ —Г–≥–љ–µ—В–∞–ї–Њ –ї—О–і–µ–є, –њ–Њ–і–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е —В—П–ґ–µ—Б—В—М—О –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є–≤—Л—Е –њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤–∞–љ–Є–є: —Б –Њ–і–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л - —А–Њ–і–љ–∞—П –Ј–µ–Љ–ї—П –≤ –≤–µ—Б–µ–љ–љ–µ–Љ –љ–∞—А—П–і–µ, —Б –і—А—Г–≥–Њ–є - —В–∞–Ї–Њ–є –њ–Њ—А–Њ—З–љ—Л–є –Ї–Њ–љ–µ—Ж –њ–Њ—Б–ї–µ –≥–µ—А–Њ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–і–≤–Є–≥–∞. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ —В–µ–њ–µ—А—М —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–≤ –Ї–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ —Б—В–∞–ї–Њ –њ—А–Њ—П—Б–љ—П—В—М—Б—П, –Є –Њ–љ–Є —Б –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ–є —Б–Ї–Њ—А–±—М—О –≤—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М –≤ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Л–µ –Њ—З–µ—А—В–∞–љ–Є—П –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П, –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–µ–љ–Є—О.
–Э–∞ –≤–µ—А—И–Є–љ–µ –і—А—Г–≥–Њ–є –≥–Њ—А—Л, –±–ї–Є–ґ–µ –Ї ¬Ђ–Ш–Ј—Г–Љ—А—Г–і—Г¬ї, –њ–Њ—П–≤–Є–ї—Б—П –Ї—А–∞—Б–љ—Л–є —Д–ї–∞–≥, –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–≤—И–Є–є: ¬Ђ–±–Є–Ї—Д–Њ—А–і–Њ–≤ —И–љ—Г—А –њ–Њ–і–Њ–ґ–ґ–µ–љ¬ї. –Э–∞–њ—А—П–ґ–µ–љ–Є–µ –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–≤ –љ–∞—А–∞—Б—В–∞–ї–Њ. –С–ї–µ–і–љ—Л–µ, —Б –њ–µ–њ–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є –≥—Г–±–∞–Љ–Є, –Њ–љ–Є –Є–Љ–µ–ї–Є —В–∞–Ї–Њ–є –≤–Є–і, –Ї–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ —Б–∞–Љ–Є –±—Л–ї–Є –Њ–±—А–µ—З–µ–љ—Л –Ї —А–∞—Б—Б—В—А–µ–ї—Г.
–†–∞–Ј–і–∞–ї—Б—П –≤–Ј—А—Л–≤ –≤ –љ–Њ—Б–Њ–≤–Њ–Љ –њ–∞—В—А–Њ–љ–љ–Њ–Љ –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ. –Я–Њ–і–љ—П–ї—Б—П —Б—В–Њ–ї–± –і—Л–Љ–∞. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ —А–∞—Б—Б–µ—П–ї—Б—П, –ї—О–і–Є —Г–≤–Є–і–µ–ї–Є —Б–≤–Њ–є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М, –Ї–∞–Ї –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –Є–Ј–і–∞–ї–Є, —Ж–µ–ї—Л–Љ –Є –љ–µ–≤—А–µ–і–Є–Љ—Л–Љ. –°–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–Љ –≤–Ј—А—Л–≤–Њ–Љ –Њ—В–Њ—А–≤–∞–ї–Њ –≤—Б—О –Ї–Њ—А–Љ—Г. –У—А–Њ–Љ–∞–і–љ–Њ–µ –њ–ї–∞–Љ—П, —А–∞–Ј–±—А–∞—Б—Л–≤–∞—П –≤ —А–∞–Ј–љ—Л–µ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –Ї—Г—Б–Ї–Є –ґ–µ–ї–µ–Ј–∞ –Є –Њ–±–ї–Њ–Љ–Ї–Є –і–µ—А–µ–≤–∞, –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ –њ–Њ–і–љ—П–ї–Њ –Ї –љ–µ–±—Г —З–µ—А–љ–Њ–µ –Њ–±–ї–∞–Ї–Њ. –†–∞—Б–Ї–∞—В–Є—Б—В—Л–Љ —Н—Е–Њ–Љ –Њ—В–Ї–ї–Є–Ї–љ—Г–ї–Є—Б—М –≥–Њ—А—Л. –°–Њ–і—А–Њ–≥–љ—Г–ї–Є—Б—М –Љ–Њ—А—П–Ї–Є, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –ї–Є—И–Є–ї–Є—Б—М –љ–µ —Б—Г–і–љ–∞, –∞ –±–ї–Є–Ј–Ї–Њ–≥–Њ –і—А—Г–≥–∞, –љ–µ —А–∞–Ј —Б–њ–∞—Б–∞–≤—И–µ–≥–Њ –Є—Е –ґ–Є–Ј–љ–Є. –Ґ—А–Є —Б –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–Њ–є —Б–Њ—В–љ–Є –њ–∞—А —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Є—Е –≥–ї–∞–Ј —Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї–Є —В—Г¬ђ–і–∞, –≥–і–µ –≤–Љ–µ—Б—В–Њ –Ї—А–∞—Б–∞–≤—Ж–∞ ¬Ђ–Ш–Ј—Г–Љ—А—Г–і–∞¬ї —З–∞–і–Є–ї –љ–∞ –Ї–∞–Љ–љ—П—Е –Є–Ј—Г—А–Њ–і–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–є —Б–Ї–µ–ї–µ—В –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П. –Э–∞ –љ–µ–Љ –і–Њ–≥–Њ—А–∞–ї–Є –Њ—Б—В–∞—В–Ї–Є –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л—Е —З–∞—Б—В–µ–є. –Ю–љ –≤—Б–µ –µ—Й–µ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї –Њ—Б—Л–њ–∞—В—М –±—Г—Е—В—Г —Б—В–∞–ї—М–љ—Л–Љ –і–Њ–ґ–і–µ–Љ –Ї—А—Г–њ–љ—Л—Е –Є –Љ–µ–ї–Ї–Є—Е –Њ—Б–Ї–Њ–ї–Ї–Њ–≤. –≠—В–Њ —А–≤–∞–ї–Є—Б—М —Б–љ–∞—А—П–і—Л, –і–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –і–Њ–±–Є—А–∞–ї—Б—П –Њ–≥–Њ–љ—М. –Я–Њ–ї—З–∞—Б–∞ –і–ї–Є–ї–∞—Б—М –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ–љ–∞—П –Ї–∞–љ–Њ–љ–∞–і–∞, –Є –њ–Њ—В–Њ–Љ –љ–∞—Б—В—Г–њ–Є–ї–∞ —В–∞–Ї–∞—П —В–Є—И–Є–љ–∞, –Ї–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ –Њ—Ж–µ–њ–µ–љ–µ–ї–Є –Є –ї—О–і–Є –Є –≤—Б—П –њ—А–Є—А–Њ–і–∞.
–≠—В–Њ –±—Л–ї–∞ —В—А–µ—В—М—П –Њ—И–Є–±–Ї–∞.
–С—А–Њ–љ–µ–љ–Њ—Б–µ—Ж –±–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ–є –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л ¬Ђ–Р–і–Љ–Є—А–∞–ї –£—И–∞–Ї–Њ–≤¬ї14 –Љ–∞—П - –њ—А–Є –≤—Б—В—А–µ—З–µ —Б –≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ–Є —Б–Є–ї–∞–Љ–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞ –±—А–Њ–љ–µ–љ–Њ—Б–µ—Ж ¬Ђ–Р–і–Љ–Є—А–∞–ї –£—И–∞–Ї–Њ–≤¬ї, –≤—Б—В—Г–њ–∞—П –≤ –±–Њ–є, —И–µ–ї –Ї–Њ–љ—Ж–µ–≤—Л–Љ –≤ –љ–µ–±–Њ–≥–∞—В–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –Њ—В—А—П–і–µ. –Ю—Д–Є—Ж–µ—А—Л –Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–∞ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї–Є —Б–≤–Њ–Є –Љ–µ—Б—В–∞ –њ–Њ –±–Њ–µ–≤–Њ–Љ—Г —А–∞—Б–њ–Є—Б–∞–љ–Є—О. –Т –±–Њ–µ–≤–Њ–є —А—Г–±–Ї–µ –±—Л–ї–Њ —В–µ—Б–љ–Њ –Њ—В –ї—О–і–µ–є. –Ч–і–µ—Б—М, –Ї—А–Њ–Љ–µ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞, –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –µ–≥–Њ –±–ї–Є–ґ–∞–є—И–Є–µ –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї–Є: —И—В—Г—А–Љ–∞–љ, –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—Б—В, –Љ–Є–љ–µ—А, –∞ –Є–Ј –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Л - —А—Г–ї–µ–≤–Њ–є, —А–∞—Б—Б—Л–ї—М–љ—Л–µ –Є –і—А—Г–≥–Є–µ –Љ–∞—В—А–Њ—Б—Л —Г —В–µ–ї–µ—Д–Њ–љ–Њ–≤ –Є –њ–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ—А–љ—Л—Е —В—А—Г–±.
–≠—Б–Ї–∞–і—А—Л —Б–±–ї–Є–ґ–∞–ї–Є—Б—М. –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є–є —П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Є–Љ —Д–ї–Њ—В–Њ–Љ –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї –Ґ–Њ–≥–Њ –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ –њ–Њ–≤–µ—А–љ—Г–ї –≤–ї–µ–≤–Њ, –і–µ–ї–∞—П –њ–µ—В–ї—О. –†–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ—Б–Ї–Є–є —Е–Њ—В—П –Є –Њ—В–Ї—А—Л–ї –Њ–≥–Њ–љ—М, –љ–Њ –љ–µ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї –Њ—И–Є–±–Њ—З–љ—Л–є –Љ–∞–љ–µ–≤—А –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞ –і–ї—П —А–µ—И–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П. - –Ь–Є–Ї–ї—Г—Е–∞ –њ—А–Є–ї—М–љ—Г–ї –Ї –њ—А–Њ—А–µ–Ј–Є —А—Г–±–Ї–Є. –Ю–љ –ґ–і–∞–ї –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Є–≥–љ–∞–ї–∞ –Њ–± –∞—В–∞–Ї–µ, –љ–Њ –µ–≥–Њ –љ–µ –±—Л–ї–Њ. –Ю—В–Ї–Є–љ—Г–≤—И–Є—Б—М –Њ—В –њ—А–Њ—А–µ–Ј–Є, –Ь–Є–Ї–ї—Г—Е–∞ —Б—Е–≤–∞—В–Є–ї—Б—П –Ј–∞ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г –Є –≤–Ј–≤–Њ–ї–љ–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ –≤–Њ—Б–Ї–ї–Є–Ї–љ—Г–ї:
- –С–Њ–ґ–µ –Љ–Њ–є! –І—В–Њ –Њ–љ –і–µ–ї–∞–µ—В? –Э—Г–ґ–љ–Њ –±—А–Њ—Б–Є—В—М—Б—П —Б—В—А–Њ–µ–Љ —Д—А–Њ–љ—В–∞. –Ю–њ—П—В—М –љ–∞–Љ –Т–∞—Д–∞–љ–≥–Њ—Г...
–Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А —В–Њ—Б–Ї–ї–Є–≤–Њ –≤–Ј–≥–ї—П–љ—Г–ї –љ–∞ —Б–≤–Њ–Є—Е –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї–Њ–≤, –Ї–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ –Є—Б–Ї–∞–ї —Г –љ–Є—Е –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є—П —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г —Б—А–∞–≤–љ–µ–љ–Є—О. –Э–Њ –Њ–љ–Є –Љ–Њ–ї—З–∞–ї–Є. –Ґ–µ–њ–µ—А—М –Є –і–љ—П –љ–Є—Е –±—Л–ї–Њ —П—Б–љ–Њ, —З—В–Њ –†–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ—Б–Ї–Є–є —Г–њ—Г—Б—В–Є–ї —Б–∞–Љ—Л–є –≤—Л–≥–Њ–і–љ—Л–є –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –і–ї—П –∞—В–∞–Ї–Є. –Ь–Є–Ї–ї—Г—Е–∞ –Њ—В–≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П –Є –њ—А–Є—Б—В–∞–≤–Є–ї –±–Є–љ–Њ–Ї–ї—М –Ї –≥–ї–∞–Ј–∞–Љ.
–Ы—О–і–Є –љ–∞ ¬Ђ–£—И–∞–Ї–Њ–≤–µ¬ї —Б–∞–Љ–Њ–Њ—В–≤–µ—А–ґ–µ–љ–љ–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ—П–ї–Є —Б–≤–Њ–Є –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є. –Э–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М –љ–µ –ґ–Є–ї —В–∞–Ї–Њ–є –љ–∞–њ—А—П–ґ–µ–љ–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ—М—О, –Ї–∞–Ї –≤ —Н—В–Є —З–∞—Б—Л. –У—А–Њ–Ј–љ–Њ –≤—А–∞—Й–∞–ї–Є—Б—М –±—А–Њ–љ–µ–≤—Л–µ –±–∞—И¬ђ–љ–Є, –Ј–∞–і–Є—А–∞—П –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ –≤–≤–µ—А—Е —Б—В–≤–Њ–ї—Л –і–µ—Б—П—В–Є–і—О–є–Љ–Њ–≤—Л—Е –Њ—А—Г–і–Є–є, –Є—Б–Ї–∞–≤—И–Є—Е –ґ–Є–≤—Г—О —Ж–µ–ї—М –љ–∞ –≥–Њ—А–Є–Ј–Њ–љ—В–µ. –Т—Л—Б—В—А–µ–ї—Л –Є—Е –±—Л–ї–Є —А–∞–Ј–Љ–µ—А–µ–љ–љ—Л, —Б–Є–ї—М–љ—Л –Є –Њ–≥–ї—Г—И–Є—В–µ–ї—М–љ—Л. –°–ї–∞–±–µ–µ, –љ–Њ —З–∞—Й–µ, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ —В–Њ—А–Њ–њ—П—Б—М, –њ–∞–ї–Є–ї–Є 120-–Љ–Є–ї–ї–Є–Љ–µ—В—А–Њ–≤—Л–µ –њ—Г—И–Ї–Є. –Ю—В –Ј–∞–ї–њ–Њ–≤ —Б–Њ–і—А–Њ–≥–∞–ї—Б—П –≤–µ—Б—М –Ї–Њ—А–њ—Г—Б –±—А–Њ–љ–µ–љ–Њ—Б—Ж–∞. –Т—Б–µ –±—Л–ї–Є –≤ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–Є, –≤—Б–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –ї—О–і–µ–є –Є –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–Љ–Њ–≤ –љ–∞—Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –±—Л–ї–Є —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Њ–≤–∞–љ—Л –Љ–µ–ґ–і—Г —Б–Њ–±–Њ–є, —В–Њ—З–љ–Њ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї —Б–Њ–±–Њ—О –µ–і–Є–љ—Л–є –ґ–Є–≤–Њ–є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Љ.
–°—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ —А–∞–Ј–≥–Њ—А–∞–ї–Њ—Б—М. –С—А–Њ–љ–µ–љ–Њ—Б–µ—Ж ¬Ђ–Р–і–Љ–Є—А–∞–ї –£—И–∞–Ї–Њ–≤¬ї –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –і—А—Г–≥–Є–Љ–Є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П–Љ–Є –±–µ—Б–њ—А–µ—А—Л–≤–љ–Њ —Б—В—А–µ–ї—П–ї –њ–Њ –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—О. –Я–∞–ї—М–±–∞ –µ–≥–Њ –Њ—А—Г–і–Є–є, –љ–µ —Г–Љ–Њ–ї–Ї–∞—П, –≤–ї–Є–≤–∞–ї–∞—Б—М –≤ –Њ–±—Й–Є–є –≥—А–Њ—Е–Њ—В. –Ъ–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –љ–∞–і –Љ–Њ—А–µ–Љ —А–∞–Ј—А–∞–Ј–Є–ї–∞—Б—М –љ–µ–±—Л–≤–∞–ї–∞—П –≥—А–Њ–Ј–∞: –Њ—А—Г–і–Є–є–љ—Л–µ –Ј–∞–ї–њ—Л —А–∞—Б–Ї–∞—В—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М, –Ї–∞–Ї —Г–і–∞—А—Л –≥—А–Њ–Љ–∞, –≤ –≤–Њ–Ј–і—Г—Е–µ —Г–њ—А—Г–≥–Њ –і—А–Њ–ґ–∞–ї–Є –Є —А–µ–≤–µ–ї–Є –љ–µ–≤–Є–і–Є–Љ—Л–µ –≥–Є–≥–∞–љ—В—Б–Ї–Є–µ —Б—В–∞–ї—М–љ—Л–µ —Б—В—А—Г–љ—Л. –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ —Н—Б–Ї–∞–і—А—Л —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Њ—Б—М –≤—Б–µ 1—П–ґ–µ–і–µ–µ. –Э–µ¬Ђ –њ—А–Є—П—В–µ–ї—М—Б–Ї–Є–µ —Б–љ–∞—А—П–і—Л —Б—В–∞–ї–Є —З–∞—Й–µ –њ–µ—А–µ–ї–µ—В–∞—В—М –Є —З–µ—А–µ–Ј –±—А–Њ–љ–µ–љ–Њ—Б–µ—Ж ¬Ђ–£—И–∞–Ї–Њ–≤¬ї, –Є–Ј–і–∞–≤–∞—П —Г–≥—А–Њ–ґ–∞—О—Й–Є–є —А–Њ–Ї–Њ—В. –Ю—Д–Є—Ж–µ—А—Л –Є –Љ–∞—В—А–Њ—Б—Л –±—А–Њ—Б–∞–ї–Є –≤–Ј–≥–ї—П–і—Л –љ–∞ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞. –Э–Њ –≤ –±–Њ—О –Њ–љ –±—Л–ї –±–Њ–ї–µ–µ —Б–њ–Њ–Ї–Њ–µ–љ, —З–µ–Љ –≤–Њ –≤—Б–µ –≤—А–µ–Љ—П –њ–Њ—Е–Њ–і–∞, –Є —Е–ї–∞–і–љ–Њ–Ї—А–Њ–≤–љ–Њ –Њ—В–і–∞–≤–∞–ї —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є—П. –Ю–і–љ–∞–ґ–і—Л, –Ї–Њ–≥–і–∞ –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П —Б –њ—А–∞–≤–Њ–≥–Њ –±–Њ—А—В–∞, –Ь–Є–Ї–ї—Г—Е–∞ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї:
- –Я–Њ—З–µ–Љ—Г –±–∞—И–љ–Є –Љ–Њ–ї—З–∞—В?
- –Ч–∞–і–µ—А–ґ–Ї–∞ —Б –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ —А–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є—П, - –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї —Б—В–∞—А—И–Є–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—Б—В –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤,
- –Р –±–∞—В–∞—А–µ—П?
- –Ґ–Њ–ґ–µ.
- –Ґ–∞–Ї –њ–Њ—В–Њ—А–Њ–њ–Є—В–µ –ґ–µ –і–∞–ї—М–љ–Њ–Љ–µ—А—Й–Є–Ї–Њ–≤.
–° –Ї—А—Л—И–Є —И—В—Г—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–Њ–є —А—Г–±–Ї–Є, –≥–і–µ –±—Л–ї —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ –і–∞–ї—М–љ–Њ–Љ–µ—А, –њ–Њ—Б–ї—Л—И–∞–ї—Б—П –Ј—Л—З–љ—Л–є –≥–Њ–ї–Њ—Б:
- –Ф–Њ –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—П —Б–Њ—А–Њ–Ї –Ї–∞–±–µ–ї—М—В–Њ–≤—Л—Е.
–°–Њ—В—А—П—Б–∞—П –≤–Њ–Ј–і—Г—Е, –њ–Њ–ї—Л—Е–љ—Г–ї–Є –Њ–≥–љ–µ–Љ –Є–Ј —Б–≤–Њ–Є—Е –Њ—А—Г–і–Є–є –і–≤–µ –±–∞—И–љ–Є. –І–µ—В—Л—А–µ –≤–Њ–і—П–љ—Л—Е —Б—В–Њ–ї–±–∞ –њ–Њ–і–љ—П–ї–Є—Б—М –≤–і–∞–ї–Є –Њ—В –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—М—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є. –Т —А—Г–±–Ї–µ –њ–Њ—Б–ї—Л—И–∞–ї–Є—Б—М –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–љ–Є—П:
- –Э–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ —Е–Њ—А–Њ—И–µ–µ, –љ–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї—Б—П –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –љ–µ–і–Њ–ї–µ—В.
–Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –љ–Є—З–µ–Љ –љ–µ –≤—Л–і–∞–≤–∞–ї —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –≤–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П, –Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞ –µ–≥–Њ —А—Л–ґ–µ—Г—Б–Њ–Љ –ї–Є—Ж–µ –Ї–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ —Б–Є–ї—М–љ–µ–µ —Б—В—П–≥–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М —Г–Ј–ї—Л –Љ—Г—Б–Ї—Г–ї–Њ–≤.
–£–ґ–µ –±–Њ–ї–µ–µ –і–≤—Г—Е —З–∞—Б–Њ–≤ –і–ї–Є–ї—Б—П –±–Њ–є —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е —Б –≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ–Є —Б–Є¬ђ–ї–∞–Љ–Є —П–њ–Њ–љ—Ж–µ–≤. ¬Ђ–£—И-–Ї–Њ–≤¬ї, —Г—Б–њ–µ–≤—И–Є–є –≤—Л–њ—Г—Б—В–Є—В—М —Б–Њ—В–љ–Є —Б–љ–∞—А—П–і–Њ–≤, –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї—Б—П –љ–µ–≤—А–µ–і–Є–Љ—Л–Љ. –Э–Њ –≤–Њ—В ¬Ђ–Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А III¬ї —Б –Ї—А–µ–љ–Њ–Љ –≤—Л—И–µ–ї –Є–Ј —Б—В—А–Њ—П. –ѓ–њ–Њ–љ—Б–Ї–∞—П —Н—Б–Ї–∞–і—А–∞, —А–µ—И–Є–≤ —Б–Ї–Њ—А–µ–µ —Б –љ–Є–Љ –њ–Њ–Ї–Њ–љ—З–Є—В—М, —Б–Њ—Б—А–µ–і–Њ—В–Њ—З–Є–ї–∞ –љ–∞ –љ–µ–Љ —Г—Б–Є–ї–µ–љ–љ—Л–є –Њ–≥–Њ–љ—М. –Ь–Є–Љ–Њ –љ–µ–≥–Њ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–ї–Є –і–∞–ї—М—И–µ. –Ъ–∞–Ї —А–∞–Ј –≤ —Н—В–Њ—В –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В ¬Ђ–£—И–∞–Ї–Њ–≤¬ї –≤—Л—А–Њ–≤–љ—П–ї—Б—П —Б –љ–Є–Љ –Є, –Є–Љ–µ—П –µ–≥–Њ –љ–∞ –ї–µ–≤–Њ–Љ —В—А–∞–≤–µ—А–Ј–µ, –∞ –љ–∞ –њ—А–∞–≤–Њ–Љ - —П–њ–Њ–љ—Б–Ї—Г—О —Н—Б–Ї–∞–і—А—Г, —Б—В–∞–ї —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ –Љ–Є—И–µ–љ—М—О –і–ї—П –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞. –°–љ–∞—А—П–і—Л, –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–µ –≤ ¬Ђ–Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ III¬ї, –љ–µ –і–Њ–ї–µ—В–µ–ї–Є –і–Њ –љ–µ–≥–Њ, –љ–Њ –Ј–∞—В–Њ –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ ¬Ђ–£—И–∞–Ї–Њ–≤–∞¬ї —Б—В–∞–ї–Њ –≤–Ј–Љ–µ—В—Л–≤–∞—В—М—Б—П –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ –≤–Њ–і—П–љ—Л—Е —Б—В–Њ–ї–±–Њ–≤. –Ч–∞ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–Є–љ—Г—В –љ–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є—Б—М –њ–Њ–≤—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П –Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Є–µ –ґ–µ—А—В–≤—Л.
–Я–µ—А–≤—Л–є —Б–љ–∞—А—П–і –Ї—А—Г–њ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞–ї–Є–±—А–∞ –њ–Њ–њ–∞–ї –≤ –љ–Њ—Б–Њ–≤–Њ–µ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ. –Я—А–Њ–±–Є–≤ —Г –њ—П—В–љ–∞–і—Ж–∞—В–Њ–≥–Њ —И–њ–∞–љ–≥–Њ—Г—В–∞ –њ—А–∞–≤—Л–є –±–Њ—А—В —Г –≤–∞—В–µ—А–ї–Є–љ–Є–Є, –Њ–љ —Б–і–µ–ї–∞–ї –і—Л—А—Г –≤ —В—А–Є —Д—Г—В–∞ –і–Є–∞–Љ–µ—В—А–Њ–Љ. –Ю—Б¬ђ–Ї–Њ–ї–Ї–∞–Љ–Є –Њ—В –љ–µ–≥–Њ –±—Л–ї–Є –њ–µ—А–µ–±–Є—В—Л –њ–∞—А–Њ–≤–∞—П —В—А—Г–±–∞, –Є–і—Г—Й–∞—П –Ї —И–њ–Є–ї–µ–≤–Њ–є –Љ–∞—И–Є–љ–µ, –Є –њ–Њ–ґ–∞—А–љ–∞—П —В—А—Г–±–∞. –•–Њ–Ј—П–Є–љ —В—А—О–Љ–љ—Л—Е –Њ—В—Б–µ–Ї–Њ–≤, –µ–≥–Њ –њ–Њ–і—А—Г—З–љ—Л–є –Є –і–≤–Њ–µ –Љ–∞—В—А–Њ—Б–Њ–≤ –Њ—Б—В–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–µ –Љ–µ—А—В–≤—Л–Љ–Є. –І–µ—В–≤–µ—А–Њ –Є–Ј –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Л –±—Л–ї–Є —А–∞–љ–µ–љ—Л, –љ–Њ –Њ–љ–Є, –њ–Њ–ї—Г—З–Є–≤ –≤ –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–Љ –њ—Г–љ–Ї—В–µ –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї—Г—О –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М, –≤–µ—А–љ—Г–ї–Є—Б—М –љ–∞ —Б–≤–Њ–Є –Љ–µ—Б—В–∞. –Я–Њ–і —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ–Љ —В—А—О–Љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ї–∞, –њ–Њ—А—Г—З–Є–Ї–∞ –Ф–ґ–µ–ї–µ–њ–Њ–≤–∞, –Љ–∞—В—А–Њ—Б—Л –Ј–∞–і–µ–ї–∞–ї–Є –њ—А–Њ–±–Њ–Є–љ—Г. –Т–ї–Є–≤—И–∞—П—Б—П —З–µ—А–µ–Ј –љ–µ–µ –≤–Њ–і–∞ –±—Л–ї–∞ —Б–њ—Г—Й–µ–љ–∞ –≤ –Ї–∞–љ–∞—В–љ—Л–µ —П—Й–Є–Ї–Є –Є –≤—Л–Ї–∞—З–∞–љ–∞ —В—Г—А–±–Є–љ–∞–Љ–Є. –•—Г–ґ–µ –Њ–±—Б—В–Њ—П–ї–Њ –і–µ–ї–Њ —Б–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–є –њ—А–Њ–±–Њ–Є–љ–Њ–є, –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–љ–Њ–є –≤ –љ–Њ—Б–Њ–≤–Њ–Љ –≥–∞–ї—М—О–љ–љ–Њ–Љ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є–Є. –Э–∞ —Е–Њ–і—Г –Є –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П —А–∞–Ј–≥–∞—А–∞ –±–Њ—П –µ–µ –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є –Ј–∞–і–µ–ї–∞—В—М. –Я—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –Ј–∞–і—А–∞–Є—В—М –і–≤–µ—А—М –љ–µ–њ—А–Њ–љ–Є—Ж–∞–µ–Љ–Њ–є –њ–µ—А–µ–±–Њ—А–Ї–Є –љ–∞ –і–µ—Б—П—В–Њ–Љ —И–њ–∞–љ–≥–Њ—Г—В–µ. –Т—Б–µ —Н—В–Њ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –љ–∞–њ–Њ–ї–љ–Є–ї–Њ—Б—М –≤–Њ–і–Њ—О. –Ъ–Њ—А–∞–±–ї—М –Њ—Б–µ–ї –љ–Њ—Б–Њ–Љ –Є –і–∞–ґ–µ –њ—А–Є –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Њ–±–Њ—А–Њ—В–Њ–≤ –Љ–∞—И–Є–љ —Б–±–∞–≤–Є–ї —Е–Њ–і, —В–Њ—З–љ–Њ –Њ—Е—А–Њ–Љ–µ–ї. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –Њ–љ —Б—В–∞–ї –њ–ї–Њ—Е–Њ —Б–ї—Г—И–∞—В—М—Б—П —А—Г–ї—П, –Ї–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ –≤—Л—Е–Њ–і–Є–ї –Є–Ј –њ–Њ–≤–Є–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–ї–µ.
–Я–Њ–ґ–∞—А–љ–∞—П –Љ–∞–≥–Є—Б—В—А–∞–ї—М, –њ–µ—А–µ–±–Є—В–∞—П —Б–љ–∞—А—П–і–Њ–Љ –≤ –і–≤—Г—Е –Љ–µ¬ђ—Б—В–∞—Е, –љ–µ –Є–Љ–µ–ї–∞ –њ–Њ –≤—Б–µ–є —Б–≤–Њ–µ–є –і–ї–Є–љ–µ –љ–Є –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–і–µ–ї–Є—В–µ–ї—П. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Њ–љ–∞ –≤—Л—И–ї–∞ –Є–Ј —Б—В—А–Њ—П, –ї–Є—И–Є–≤ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –±–Њ—А—М–±—Л —Б –њ–Њ–ґ–∞—А–∞–Љ–Є. –Ъ —Б—З–∞—Б—В—М—О, –њ–Њ–Ї–∞ –Љ–∞—И–Є–љ–Є—Б—В –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –Є —Б–ї–µ—Б–∞—А—П –Є—Б–њ—А–∞–≤–ї—П–ї–Є –µ–µ, –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–≥–љ—П –љ–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ –љ–µ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞–ї–Њ.
–Ґ—А–µ—В–Є–є —Б–љ–∞—А—П–і, —А–∞–Ј–Њ—А–≤–∞–≤—И–Є—Б—М, –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–ї –≥–ї—Г–±–Њ–Ї—Г—О –≤—Л–±–Њ–Є–љ—Г –≤ –Ї–Њ—А–Љ–Њ–≤–Њ–є –±–∞—И–љ–µ –Є –њ–Њ–≤—А–µ–і–Є–ї –њ–∞–ї—Г–±—Г. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –≤—В–Њ—А–Њ–є —А–∞–Ј –±—Л–ї —А–∞–љ–µ–љ –Љ–ї–∞–і—И–Є–є –±–Њ—Ж–Љ–∞–љ –У—А–Є–≥–Њ—А–Є–є –Ь–Є—В—А—О–Ї–Њ–≤, –љ–Њ –Њ–љ –≤ –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–Љ –њ—Г–љ–Ї—В–µ –љ–µ –Њ—Б—В–∞–ї—Б—П –Є –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї –Є—Б–њ–Њ–ї–љ—П—В—М —Б–≤–Њ–Є –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є.
–Т –і–љ–µ–≤–љ–Њ–Љ –±–Њ—О –±–Њ–ї—М—И–µ –њ–Њ–њ–∞–і–∞–љ–Є–є –≤ –±—А–Њ–љ–µ–љ–Њ—Б–µ—Ж –љ–µ –±—Л–ї–Њ.
–° –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ —Б—Г–Љ–µ—А–µ–Ї –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї –Э–µ–±–Њ–≥–∞—В–Њ–≤ –њ–Њ–і–љ—П–ї –љ–∞ ¬Ђ–Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ¬ї —Б–Є–≥–љ–∞–ї: ¬Ђ–°–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В—М –Ј–∞ –Љ–љ–Њ–є - –Ї—Г—А—Б –љ–Њ—А–і-–Њ—Б—В 23¬∞¬ї. –£—Ж–µ–ї–µ–≤—И–Є–µ –њ–Њ—Б–ї–µ –±–Њ—П –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є –љ–∞—З–∞–ї–Є –≤—Л—Б—В—А–∞–Є–≤–∞—В—М—Б—П –≤ –Ї–Є–ї—М–≤–∞—В–µ—А —Д–ї–∞–≥–Љ–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –±—А–Њ–љ–µ–љ–Њ—Б—Ж—Г. –≠—Б–Ї–∞–і—А–∞ –њ—А–Є–±–∞–≤–Є–ї–∞ —Е–Њ–і, –љ–Њ ¬Ђ–£—И–∞–Ї–Њ–≤¬ї –Њ—В –њ—А–Њ–±–Њ–Є–љ—Л –Ј–∞—А—Л–≤–∞–ї—Б—П –љ–Њ—Б–Њ–Љ –≤ –Љ–Њ—А–µ –Є —Б—В–∞–ї –њ–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ –Њ—В—Б—В–∞–≤–∞—В—М. –Т —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П —Б —Г–ґ–∞—Б–Њ–Љ –Ј–∞–Љ–µ—В–Є–ї–Є, –Ї–∞–Ї –Є–Ј —В–µ–Љ–љ–Њ—В—Л –љ–∞ –љ–µ–≥–Њ —Б–ї–µ–≤–∞ –Ї–∞—В–Є—В—Б—П –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М.
- –І—В–Њ –≤—Л –і–µ–ї–∞–µ—В–µ? –Ъ—Г–і–∞ –≤–∞—Б –љ–µ—Б–µ—В? - –Ј–∞–Ї—А–Є—З–∞–ї–Є –љ–∞ –Ї–Њ—А–Љ–µ ¬Ђ–£—И–∞–Ї–Њ–≤–∞¬ї.
–Э–∞ —В–Њ–Љ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ —В–Њ–ґ–µ –њ–Њ—Б–ї—Л—И–∞–ї–Є—Б—М —В—А–µ–≤–Њ–ґ–љ—Л–µ –≥–Њ–ї–Њ—Б–∞. –Ъ–Њ—А–∞–±–ї–Є –Љ–Њ–≥–ї–Є —Б—В–Њ–ї–Ї–љ—Г—В—М—Б—П.
- –Я–Њ–ї–љ—Л–є –≤–њ–µ—А–µ–і! - –≥—А–Њ–Љ–Ї–Њ —Б–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–ї –љ–∞ –Љ–Њ—Б—В–Є–Ї–µ –Ь–Є–Ї–ї—Г—Е–∞-–Ь–∞–Ї–ї–∞–є.
–£–≥—А–Њ–ґ–∞–≤—И–Є–є —В–∞—А–∞–љ–Њ–Љ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –±—А–Њ–љ–µ–љ–Њ—Б—Ж–µ–Љ ¬Ђ–°–µ–љ—П–≤–Є–љ¬ї. –Ю–љ –њ—А–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ј–љ—Г–ї –Љ–Є–Љ–Њ –Ї–Њ—А–Љ—Л ¬Ђ–£—И–∞–Ї–Њ–≤–∞¬ї –≤ –Ї–∞–Ї–Є—Е-–љ–Є–±—Г–і—М –њ—П—В–љ–∞–і—Ж–∞—В–Є —Д—Г—В–∞—Е. –Ъ–Њ—А–∞–±–ї–Є –±–ї–∞–≥–Њ–њ–Њ–ї—Г—З–љ–Њ —А–∞–Ј–Њ—И–ї–Є—Б—М.
–≠—В–∞ –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В—М –Љ–Є–љ–Њ–≤–∞–ї–∞, –љ–Њ –љ–∞–і–≤–Є–≥–∞–ї–∞—Б—М –і—А—Г–≥–∞—П. –Э–∞—З–∞–ї–Є—Б—М –Љ–Є–љ–љ—Л–µ –∞—В–∞–Ї–Є. –Я–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј—Г –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞, –Є–Ј –Њ—А—Г–і–Є–є –љ–µ —Б—В—А–µ–ї—П–ї–Є, –њ—А–Њ–ґ–µ–Ї—В–Њ—А—Л –љ–µ —Б–≤–µ—В–Є–ї–Є. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ —В–µ–Љ–љ–Њ—В–∞ –Љ–Њ–≥–ї–∞ –±—Л—В—М –≤–µ—А–љ–Њ–є –Ј–∞—Й–Є—В–Њ–є. –° ¬Ђ–£—И–∞–Ї–Њ–≤–∞¬ї —А–∞–Ј–≥–ї—П–і–µ–ї–Є, –Ї–∞–Ї –љ–µ-¬ї —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–Є–љ–Њ–љ–Њ—Б—Ж–µ–≤ —И–ї–Њ –Љ–Є–Љ–Њ, –љ–µ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—П –µ–≥–Њ. –Ю–љ–Є —Б–њ–µ—И–Є–ї–Є –Ї –њ–Њ–ї–Њ—Б–Ї–∞–Љ —Б–≤–µ—В–∞ –љ–∞ –≥–Њ—А–Є–Ј–Њ–љ—В–µ, –њ—А–Є–≤–ї–µ—З–µ–љ–љ—Л–µ –њ—А–Њ–ґ–µ–Ї—В–Њ—А–∞–Љ–Є –і—А—Г–≥–Є—Е —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е —Б—Г–і–Њ–≤. –Ъ–Њ–Љ–µ–љ–і–Њ—А—Л —Г –Ј–∞—А—П–ґ–µ–љ–љ—Л—Е –Њ—А—Г–і–Є–є –љ–∞–њ—А—П–ґ–µ–љ–љ–Њ –≤–≥–ї—П–і—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М –≤ —В–µ–Љ–љ–Њ—В—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –≤–і–∞–ї–Є –њ—А–Њ—А–µ–Ј–∞–ї–Є –≥–Њ–ї—Г–±—Л–µ –ї—Г—З–Є –њ—А–Њ–ґ–µ–Ї—В–Њ—А–Њ–≤. –Ф–Њ–љ–Њ—Б–Є–ї–Є—Б—М –Њ—В–і–∞–ї–µ–љ–љ—Л–µ –≥–ї—Г—Е–Є–µ –≤—Л—Б—В—А–µ–ї—Л —Б –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є, –Њ—В—А–∞–ґ–∞–≤—И–Є—Е –Љ–Є–љ–љ—Л–µ –∞—В–∞–Ї–Є. –Я–Њ —И–µ–і—И–Є–є –±–µ–Ј –Њ–≥–љ–µ–є ¬Ђ–£—И–∞–Ї–Њ–≤¬ї –Љ–Њ–ї—З–∞–ї - –Љ–Њ–ї—З–∞–ї –і–∞–ґ–µ —В–Њ–≥–і–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ–і–∞–ї–µ–Ї–Њ –Њ—В –µ–≥–Њ –Ї–Њ—А–Љ—Л –≤—Л–љ—Л—А–љ—Г–ї–Є —В—А–Є —П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Є—Е –Љ–Є–љ–Њ–љ–Њ—Б—Ж–∞ –Є, —Г—Е–Њ–і—П, —Б–Ї—А—Л–ї–Є—Б—М —Б –≥–ї–∞–Ј. –Ы—О–і–Є –њ–µ—А–µ–ґ–Є–ї–Є —В—А–µ–≤–Њ–ґ–љ—Л–µ –Љ–Є–љ—Г—В—Л. –Э–∞ –Љ–Њ—Б—В–Є–Ї–µ –Ь–Є–Ї–ї—Г—Е–∞-–Ь–∞–Ї–ї–∞–є –њ–Њ —Н—В–Њ–Љ—Г –њ–Њ–≤–Њ–і—Г –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї –њ—А–Є–Ї–∞–Ј –Э–µ–±–Њ–≥–∞—В–Њ–≤–∞ –Є —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї:
- –Я–Њ–ї–љ–∞—П —В–µ–Љ–љ–Њ—В–∞ - –ї—Г—З—И–∞—П –Ј–∞—Й–Є—В–∞ –Њ—В –Љ–Є–љ–Њ–љ–Њ—Б—Ж–µ–≤. –Р–і–Љ–Є—А–∞–ї –њ—А–∞–≤. –Т–µ–і—М –Њ–љ–Є —З—Г—В—М –љ–µ –њ—А–Њ—В–∞—А–∞–љ–Є–ї–Є –љ–∞—Б, –њ–Њ–ї—Г–љ–Њ—Й–љ—Л–µ —А–∞–Ј–±–Њ–є–љ–Є–Ї–Є.
–Ъ –њ–Њ–ї—Г–љ–Њ—З–Є –Љ–Є–љ–љ—Л–µ –∞—В–∞–Ї–Є –њ—А–µ–Ї—А–∞—В–Є–ї–Є—Б—М. –Т–µ—В–µ—А —Б—В–∞–ї —Б–ї–∞–±–µ—В—М. –†–µ–і–µ–ї–Є –Њ–±–ї–∞–Ї–∞, –Є –≤ –њ—А–Њ—А—Л–≤—Л –Є—Е –њ—А–Њ–≥–ї—П–і—Л–≤–∞–ї–Є –Ј–≤–µ–Ј–і—Л.
–Ш–Ј-–Ј–∞ –њ—А–Њ–±–Њ–Є–љ—Л –≤ –љ–Њ—Б–Њ–≤–Њ–Љ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є–Є ¬Ђ–£—И–∞–Ї–Њ–≤¬ї –љ–µ –Љ–Њ–≥ —А–∞–Ј–≤–Є—В—М —Е–Њ–і –±–Њ–ї–µ–µ –і–µ—Б—П—В–Є —Г–Ј–ї–Њ–≤, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Њ–љ –Њ—В—Б—В–∞–ї –Њ—В –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є —Н—Б–Ї–∞–і—А—Л –Є —И–µ–ї –Њ–і–Є–љ –Ї—Г—А—Б–Њ–Љ –љ–Њ—А–і-–Њ—Б—В 23¬∞.
–Э–∞—Б—В–∞–ї–Њ 15 –Љ–∞—П. –£—В—А–Њ –±—Л–ї–Њ —В–Є—Е–Њ–µ, –Љ–Њ—А–µ —Б–ї–µ–≥–Ї–∞ –Ј—Л–±–Є–ї–Њ—Б—М. ¬Ђ–£—И–∞–Ї–Њ–≤¬ї –Ј–∞—А—Л–≤–∞—П—Б—М –љ–Њ—Б–Њ–Љ, —И–µ–ї –њ—А–µ–ґ–љ–Є–Љ –Ї—Г—А—Б–Њ–Љ. –°–Њ–ї–љ—Ж–µ, –Њ—В–Њ—А–≤–∞–≤—И–Є—Б—М –Њ—В –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В–Є –Љ–Њ—А—П, –њ–Њ–≤–Є—Б–ї–Њ –љ–∞–і –≥–Њ—А–Є¬ђ–Ј–Њ–љ—В–Њ–Љ.
–°–њ—А–∞–≤–∞ –њ–Њ –љ–Њ—Б—Г, –і—Л–Љ—П, –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є—Б—М —З–µ—В—Л—А–µ —Б—Г–і–љ–∞. –°–Є–ї—Г—Н—В—Л –Є—Е –µ–і–≤–∞ –љ–∞–Љ–µ—З–∞–ї–Є—Б—М –≤ –і—Л–Љ–Ї–µ —Г—В—А–µ–љ–љ–µ–є –Љ–≥–ї—Л. –Э–∞ ¬Ђ–£—И–∞–Ї–Њ–≤–µ¬ї –≤—Б–µ - –±—Л–ї–Є —Г–≤–µ—А–µ–љ—Л, —З—В–Њ —Н—В–Њ –Є–і—Г—В —Б–≤–Њ–Є –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є, –Є –≤–Ј—П–ї–Є –Ї—Г—А—Б –љ–∞ –љ–Є—Е. –Э–Њ –љ–∞–њ—А–∞—Б–љ–Њ –Љ–∞—И–Є–љ—Л –±—А–Њ–љ–µ–љ–Њ—Б—Ж–∞ –і–µ–ї–∞–ї–Є –њ–Њ–ї–љ–Њ–µ —З–Є—Б–ї–Њ –Њ–±–Њ—А–Њ—В–Њ–≤ вАУ —А–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ –і–Њ –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В—А—П–і–∞ –љ–µ —Б–Њ–Ї—А–∞—Й–∞–ї–Њ—Б—М. –Т—Б–Ї–Њ—А–µ –Є —Б–ї–µ–≤–∞, –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –≤–њ–µ—А–µ–і–Є —В—А–∞–≤–µ—А–Ј–∞, –њ–Њ –ї—Г—З–µ–Ј–∞—А–љ–Њ–Љ—Г –≥–Њ—А–Є–Ј–Њ–љ—В—Г –њ—А–Њ—В—П–љ—Г–ї–Є—Б—М –і—Л–Љ–Њ–≤—Л–µ –і–Њ—А–Њ–ґ–Ї–Є. –≠—В–Њ —И–ї–Є –љ–∞ –њ–µ—А–µ—Б–µ—З–Ї—Г ¬Ђ–£—И–∞–Ї–Њ–≤—Г¬ї –њ—П—В—М –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є. –Э–µ —Б—А–∞–Ј—Г —Г–Ј–љ–∞–ї–Є –≤ –љ–Є—Е —Б—В–∞—А—Л–µ —П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Є–µ –±—А–Њ–љ–µ–љ–Њ—Б—Ж—Л. –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є—В—М –Ї—Г—А—Б –љ–∞ –Њ—Б—В. –Я–µ—А–≤—Л–є –Є –≤—В–Њ—А–Њ–є –Њ—В—А—П–і—Л –њ–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ –љ–∞—З–∞–ї–Є —Б–Ї—А—Л–≤–∞—В—М—Б—П. –Э–Њ –Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ—Г —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Љ–Њ—А—П–Ї—Г —Б—В–∞–ї–Њ —П—Б–љ–Њ, —З—В–Њ –љ–µ–Ј–∞–Љ–µ—З–µ–љ–љ—Л–Љ –њ—А–Њ–є—В–Є –љ–µ —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М. –С–µ—Б–њ–Њ–Ї–Њ–є—Б—В–≤–Њ –µ—Й–µ –±–Њ–ї—М—И–µ —Г—Б–Є–ї–Є–ї–Њ—Б—М, –Ї–Њ–≥–і–∞ –њ–Њ–Ј–∞–і–Є —Б–њ—А–∞–≤–∞ –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–Є–ї–Є—Б—М —А–∞–љ–≥–Њ—Г—В—Л –і–≤—Г—Е —Б—Г–і–Њ–≤ вАУ –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Њ–≥–Њ –Є –±–Њ–ї—М—И–Њ–≥–Њ. –Э–∞–і–≤–Є–≥–∞—П—Б—М –±–ї–Є–ґ–µ, –Њ–љ–Є —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Є—Б—М –≤—Л—И–µ, —Б–ї–Њ–≤¬ђ–љ–Њ –≤—Л—А–∞—Б—В–∞–ї–Є –Є–Ј –≤–Њ–і—Л. –Я–Њ—В–Њ–Љ –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–Є–ї–Є—Б—М –Ї–Њ–љ—В—Г—А—Л –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є. –Э–∞ –Љ–Њ—Б—В–Є–Ї–µ —Г–ґ–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є–ї–Є, —З—В–Њ —Н—В–Њ –Є–і—Г—В —А–∞–Ј–≤–µ–і–Њ—З–љ—Л–є –Ї—А–µ–є—Б–µ—А ¬Ђ–І–Є—В–Њ—Б–µ¬ї –Є –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ –Љ–Є–љ–Њ–љ–Њ—Б–µ—Ж. –Ь–Є–Ї–ї—Г—Е–∞-–Ь–∞–Ї–ї–∞–є, –љ–µ —Б–њ—Г—Б–Ї–∞–≤—И–Є–є —Б –љ–Є—Е –≥–ї–∞–Ј, —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–і–Є–ї—Б—П:
- –Я—А–Њ–±–Є—В—М –±–Њ–µ–≤—Г—О —В—А–µ–≤–Њ–≥—Г.
- –Я–Њ–і –∞–Ї–Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–µ–Љ–µ–љ—В –≤—Л—Б–Њ–Ї–Є—Е –Є –Њ—В—А—Л–≤–Є—Б—В—Л—Е –Ј–≤—Г–Ї–Њ–≤ –≥–Њ—А¬ђ–љ–∞ —А–∞—Б—Б—Л–њ–∞–ї–∞—Б—М —З–∞—Б—В–∞—П –±–∞—А–∞–±–∞–љ–љ–∞—П –і—А–Њ–±—М. –Ы—О–і–Є, –љ–∞—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є–µ—Б—П –љ–∞ –≤–µ—А—Е–љ–µ–є –њ–∞–ї—Г–±–µ, —А–Є–љ—Г–ї–Є—Б—М –≤ —А–∞–Ј–љ—Л–µ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –Ї —Б–≤–Њ–Є–Љ –Љ–µ—Б—В–∞–Љ.
–Ю—Б–≤–µ—Й–µ–љ–љ—Л–є –ї—Г—З–∞–Љ–Є —Б–Њ–ї–љ—Ж–∞ –±–Њ–µ–≤–Њ–є –∞–љ–і—А–µ–µ–≤—Б–Ї–Є–є —Д–ї–∞–≥ —А–∞–Ј–≤–µ–≤–∞–ї—Б—П —Г–ґ–µ –љ–µ –љ–∞ –≥–∞—Д–µ–ї–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –љ–∞–Ї–∞–љ—Г–љ–µ –±—Л–ї —Б–±–Є—В –Њ—Б–Ї–Њ–ї–Ї–∞–Љ–Є, –∞ –љ–∞ –њ—А–∞–≤–Њ–Љ –љ–Њ–Ї–µ –≥—А–Њ—В-—А–µ–Є. –£ –љ–µ–≥–Њ —Б—В–Њ—П–ї –љ–Њ –±–Њ–µ–≤–Њ–Љ—Г —А–∞—Б–њ–Є—Б–∞–љ–Є—О —З–∞—Б–Њ–≤–Њ–є - —Б—В—А–Њ–µ–≤–Њ–є –Ї–≤–∞—А—В–Є—А–Љ–µ–є—Б—В–µ—А –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є –Я—А–Њ–Ї–Њ–њ–Њ–≤–Є—З. –Ю—В –Ї–∞–љ–Њ–љ–∞–і—Л –Њ–љ –µ—Й–µ –≤–Њ –≤—З–µ—А–∞—И–љ–µ–Љ –і–љ–µ–≤–љ–Њ–Љ –±–Њ—О —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –Њ–≥–ї–Њ—Е –љ–∞ –Њ–±–∞ —Г—Е–∞, –љ–Њ —Г—В—А–Њ–Љ —Б–љ–Њ–≤–∞ –±—Л–ї —Г–ґ–µ –љ–∞ —Б–≤–Њ–µ–Љ –њ–Њ—Б—В—Г.
–Э–∞ –Ї—А—Л—И–µ —И—В—Г—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–Њ–є —А—Г–±–Ї–Є, –≥–і–µ –±—Л–ї–Є –њ—А–Є—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–ї–µ–љ—Л –і–∞–ї—М–љ–Њ–Љ–µ—А—Л, –Њ–њ—П—В—М, –Ї–∞–Ї –Є –≤—З–µ—А–∞ –≤ –±–Њ—О, –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б —Б–Є–≥–љ–∞–ї—М—Й–Є–Ї–∞–Љ–Є –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Л: –Љ–Є—З–Љ–∞–љ—Л –°–Є–њ—П–≥–Є–љ –Є –Ґ—А–∞–љ–Ј–µ. –Я–µ—А–≤—Л–є –±—Л–ї –≤—Л—Б–Њ–Ї, —В–Њ–љ–Њ–Ї –Є –±–µ–ї–Њ–±—А—Л—Б, —Б –Љ–∞–ї—М—З–Є—И–µ—Б–Ї–Є–Љ –ї–Є—Ж–Њ–Љ. –Ю–љ –њ–Њ—Е–Њ–і–Є–ї –љ–∞ –≥–Є–Љ–љ–∞–Ј–Є—Б—В–∞, —Г–≤–ї–µ—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є —А–Њ–Љ–∞–љ—В–Є–Ї–Њ–є –Є —Б–±–µ–ґ–∞–≤—И–µ–≥–Њ –Є–Ј —А–Њ–і–Є—В–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–Њ–Љ–∞ –≤ –њ–Њ–Є—Б–Ї–∞—Е –њ—А–Є–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–є. –Т—В–Њ—А–Њ–є –±—Л–ї –љ–Є–ґ–µ –µ–≥–Њ —А–Њ—Б—В–Њ–Љ, –≥–Њ–ї–Њ–≤–∞—Б—В—Л–є –Є –Ј–∞–і—Г–Љ—З–Є–≤—Л–є —И–∞—В–µ–љ, –≤ –њ–µ–љ—Б–љ–µ. –Ю–љ–Є –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л–ї–Є —Б—В–Њ—П—В—М —Г –і–∞–ї—М–љ–Њ–Љ–µ—А–∞ –њ–Њ—Б–Љ–µ–љ–љ–Њ. –Э–Њ –µ—Й–µ –≤—З–µ—А–∞ –Љ–µ–ґ–і—Г –љ–Є–Љ–Є –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–µ–ї —Б–њ–Њ—А –Ј–∞ —З–µ—Б—В—М, –Ї–Њ–Љ—Г –±—Л—В—М –њ–µ—А–≤—Л–Љ –≤ –±–Њ—О –њ–Њ–і –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—М—Б–Ї–Є–Љ–Є —Б–љ–∞—А—П–і–∞–Љ–Є. –Ю–і–Є–љ –љ–µ —Е–Њ—В–µ–ї —Г—Б—В—Г–њ–Є—В—М –і—А—Г–≥–Њ–Љ—Г, –Є –Њ–љ–Є –Њ–±–∞ —Б—В–∞–ї–Є –≤–Љ–µ—Б—В–µ –љ–∞ –±–Њ–µ–≤—Г—О –≤–∞—Е—В—Г. –Я–Њ–і –Њ–≥–љ–µ–Љ –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞ –Њ–љ–Є –њ—А–Њ–±—Л–ї–Є –і–Њ –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–є –љ–Њ—З–Є. –°–µ–≥–Њ–і–љ—П —Б —Г—В—А–∞ –Є—Е –Њ–њ—П—В—М —Г–≤–Є–і–µ–ї–Є –≤–Љ–µ—Б—В–µ.
–Ф–∞–ї—М–љ–Њ–Љ–µ—А–љ–∞—П —А–∞–±–Њ—В–∞ –°–Є–њ—П–≥–Є–љ–∞ –Є –Ґ—А–∞–љ–Ј–µ —Г–ґ–µ –љ–∞—З–∞–ї–∞—Б—М. –Ф–Њ –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—П –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є–ї–Є —Б–Њ—А–Њ–Ї –Ї–∞–±–µ–ї—М—В–Њ–≤—Л—Е. –Ъ–Њ–Љ–µ–љ–і–Њ—А—Л –љ–∞–≤–µ–ї–Є –Њ—А—Г–і–Є—П –љ–∞ ¬Ђ–І–Є—В–Њ—Б–µ¬ї. –Э–Њ –≤–і—А—Г–≥ —Н—В–Њ—В —П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Є–є –Ї—А–µ–є—Б–µ—А –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –Љ–Є–љ–Њ–љ–Њ—Б—Ж–µ–Љ —А–∞–Ј–≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П –Ї—А—Г—В—Л–Љ –њ–Њ–≤–Њ—А–Њ—В–Њ–Љ –Є, —Г–і–∞–ї—П—П—Б—М, –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –≤–Є–і–љ–µ–≤—И–Є—Е—Б—П —А–∞–љ—М—И–µ —П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є. –Э–∞ ¬Ђ–£—И–∞–Ї–Њ–≤–µ¬ї —Б—Л–≥—А–∞–ї–Є –Њ—В–±–Њ–є. –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ –њ–∞–ї—М—Ж–µ–Љ –њ—А–∞–≤–Њ–є —А—Г–Ї–Є –Њ—Б–∞–і–Є–ї —Д—Г—А–∞–ґ–Ї—Г –љ–∞ –Ј–∞—В—Л–ї–Њ–Ї –Є –≥—А–Њ–Љ–Ї–Њ —Б–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–ї:
- –Я—А–∞–≤–Њ —А—Г–ї—П!
–С—А–Њ–љ–µ–љ–Њ—Б–µ—Ж –њ–Њ–≤–µ—А–љ—Г–ї –љ–∞ —Б–µ–≤–µ—А. –Э–∞ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –≥–Њ—А–Є–Ј–Њ–љ—В –±—Л–ї —З–Є—Б—В. –Т–і—А—Г–≥ –љ–∞ –Љ–Њ—Б—В–Є–Ї–µ –≤—Б–µ –Ј–∞–Љ–Њ–ї–Ї–ї–Є –Є –љ–∞—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–Є–ї–Є—Б—М: –Њ—В–Ї—Г–і–∞-—В–Њ –Є–Ј–і–∞–ї–µ–Ї–∞ —Б–ї–∞–±–Њ –і–Њ–љ–Њ—Б–Є–ї–Є—Б—М –≥–ї—Г—Е–Є–µ —А–∞—Б–Ї–∞—В—Л –≤—Л—Б—В—А–µ–ї–Њ–≤. –Т —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –Њ—А—Г–і–Є–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї—М–±—Л –±—Л–ї–Є –љ–∞–њ—А–∞–≤¬ђ–ї–µ–љ—Л –±–Є–љ–Њ–Ї–ї–Є, –љ–Њ —Б–Є—П—О—Й–∞—П –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В—М –Љ–Њ—А—П –±—Л–ї–∞ –њ–Њ-–њ—А–µ–ґ–љ–µ–Љ—Г –њ—Г—Б—В–∞. –Ь–Є–Ї–ї—Г—Е–∞, –њ–Њ–≤–µ—А–љ—Г–≤—И–Є—Б—М –Ї —Б—В–∞—А—И–µ–Љ—Г —И—В—Г—А–Љ–∞–љ—Г –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤—Г, —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї:
- –Т–Њ—В –Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–∞—И–Є –≤—Б—В—А–µ—В–Є–ї–Є—Б—М —Б —П–њ–Њ–љ—Ж–∞–Љ–Є. –Э–∞–і–Њ –Є–і—В–Є –љ–∞ –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М. –Ю–њ—А–µ–і–µ–ї–Є—В–µ —В–Њ—З–љ–µ–µ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ.
–Ю—Б—В—А—Л–є –≤–Ј–≥–ї—П–і –Ь–Є–Ї–ї—Г—Е–Є –≤–њ–Є–ї—Б—П –≤ –Љ–Њ—А—Б–Ї—Г—О –і–∞–ї—М. –Ґ—Г–і–∞ –ґ–µ —Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї–Є –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Л –Є —Б–Є–≥–љ–∞–ї—М—Й–Є–Ї–Є. –°–Ї–Њ—А–Њ –≤—Б–µ —Б–Љ–Њ–ї–Ї–ї–Њ, –љ–Њ –Њ–љ–Є –µ—Й–µ –і–Њ–ї–≥–Њ —Б–ї—Г—И–∞–ї–Є –Є –Љ–Њ–ї—З–∞–ї–Є.
- –Э–µ–њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ, —З—В–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Њ, - —Г–і–Є–≤–ї–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ–ґ–Є–Љ–∞—П –њ–ї–µ—З–∞–Љ–Є, –њ—А–Њ–Љ–Њ–ї–≤–Є–ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А.
- –Ф–∞, –±–Њ–є –љ–µ –Љ–Њ–≥ —В–∞–Ї —Б–Ї–Њ—А–Њ –Ї–Њ–љ—З–Є—В—М—Б—П, - —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–ї—Б—П –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤.
–≠—В–∞ –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–∞—П —Б—В—А–µ–ї—М–±–∞, –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є–≤—И–∞—П –Љ–µ–ґ–і—Г –љ–µ–±–Њ–≥–∞—В–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ –Њ—В—А—П–і–Њ–Љ –Є —П–њ–Њ–љ—Ж–∞–Љ–Є, —В–∞–Ї –Є –Њ—Б—В–∞–ї–∞—Б—М –Ј–∞–≥–∞–і–Ї–Њ–є –і–ї—П –≤—Б–µ—Е –љ–∞ ¬Ђ–£—И–∞–Ї–Њ–≤–µ¬ї.
- –Ґ–µ–њ–µ—А—М, –њ–Њ–ґ–∞–ї—Г–є, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–µ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Њ–±–µ–і–∞—В—М, - —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї —Б –Њ–±–ї–µ–≥—З–µ–љ–Є–µ–Љ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –Є –Ј–∞–Ї—Г—А–Є–ї –њ–∞–њ–Є—А–Њ—Б—Г.
–Ъ–∞–Ї –Є –≤ –Њ–±—Л—З–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П, –≤—Л–љ–µ—Б–ї–Є –љ–∞–≤–µ—А—Е –≤–Є–љ–Њ. –Ч–∞ –Њ–±–µ¬ђ–і–Њ–Љ —Б–Њ–±—А–∞–≤—И–Є–µ—Б—П –Љ–∞—В—А–Њ—Б—Л –Є–Ј —А–∞–Ј–љ—Л—Е –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є–є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П —Б–њ–µ—И–Є–ї–Є –Њ–±–Љ–µ–љ—П—В—М—Б—П –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є—П–Љ–Є –Њ –њ–µ—А–µ–ґ–Є—В—Л—Е –љ–∞–њ—А—П–ґ–µ–љ–љ—Л—Е –Љ–Є–љ—Г—В–∞—Е –Њ–ґ–Є–і–∞–љ–Є—П –±–Њ—П. –Э–Њ —Б–µ–є—З–∞—Б ¬Ђ–£—И–∞–Ї–Њ–≤—Г¬ї –њ–Њ–Ї–∞ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ —Г–≥—А–Њ–ґ–∞–ї–Њ.
–°–њ–Њ–Ї–Њ–є—Б—В–≤–Є–µ –і–ї–Є–ї–Њ—Б—М –љ–µ–і–Њ–ї–≥–Њ. –Ю–њ—П—В—М –ї—О–і–Є —Б —В—А–µ–≤–Њ–≥–Њ–є —Б—В–∞–ї–Є —Б–ї–µ–і–Є—В—М –Ј–∞ –≥–Њ—А–Є–Ј–Њ–љ—В–Њ–Љ. –Р —В–∞–Љ —В–Њ –≤ –Њ–і–љ–Њ–Љ, —В–Њ –≤ –і—А—Г–≥–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ –љ–∞—З–∞–ї–Є –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М—Б—П –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—М—Б–Ї–Є–µ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є, –Ї–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ —Б–Њ –≤—Б–µ—Е —Б—В–Њ—А–Њ–љ –Є–Љ–Є –Њ–±—А–∞—Б—В–∞–ї–Њ –Љ–Њ—А–µ. –Я–Њ–≤–Њ—А–Њ—В—Л ¬Ђ–£—И–∞–Ї–Њ–≤–∞¬ї —Г—З–∞—Б—В–Є–ї–Є—Б—М. –Ґ–µ–њ–µ—А—М –љ–∞ –љ–µ–Љ –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ —Б —В–Њ—Б–Ї–Њ–є –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї–Є –њ—А–Њ—И–µ–і—И—Г—О –љ–Њ—З—М. –°–µ–є—З–∞—Б —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —В—М–Љ–∞ –Љ–Њ–≥–ї–∞ –±—Л —Б–њ–∞—Б—В–Є –њ–Њ–і–±–Є—В—Л–є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М. –Р –і–Њ –і—А—Г–≥–Њ–є –љ–Њ—З–Є –±—Л–ї–Њ –і–∞–ї–µ–Ї–Њ.
–Т —З–µ—В–≤–µ—А—В–Њ–Љ —З–∞—Б—Г –і–љ—П —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї–Є —Б–њ—А–∞–≤–∞ –њ–Њ –љ–Њ—Б—Г —И–µ—Б—В—М –±–Њ–ї—М—И–Є—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є, —И–µ–і—И–Є—Е –Ї–Є–ї—М–≤–∞—В–µ—А–љ—Л–Љ —Б—В—А–Њ–µ–Љ. –Т–Є–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М –±—Л–ї–∞ –Њ—В–ї–Є—З–љ–∞—П. –Ю–љ–Є –≤—Б–µ —П–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ–µ–є –≤—Л–і–µ–ї—П–ї–Є—Б—М –љ–∞–і –њ—А–Њ–Ј—А–∞—З–љ—Л–Љ –≥–Њ—А–Є–Ј–Њ–љ—В–Њ–Љ. –Р —Б–Є–≥–љ–∞–ї—М—Й–Є–Ї–Є —Б –Љ–∞—А—Б–∞ –Ї—А–Є—З–∞–ї–Є:
- –Э–∞—И–Є - ¬Ђ–Р–≤—А–Њ—А–∞¬ї, ¬Ђ–Ю–ї–µ–≥¬ївА¶
–Э–∞ –Љ–Њ—Б—В–Є–Ї–µ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Л —Г–≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞–ї–Є –Ь–Є–Ї–ї—Г—Е—Г –і–Њ–≥–љ–∞—В—М –Є—Е, –њ–Њ–ї–∞–≥–∞—П, —З—В–Њ —Н—В–Њ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є –Њ—В—А—П–і –Ї—А–µ–є—Б–µ—А–Њ–≤.
- –Э–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М. –Э–∞—И–Є, –≤—Б–µ —А–∞–≤–љ–Њ –љ–∞—Б –і–Њ–≥–Њ–љ—П—В. –Я–Њ¬ђ–≤–µ—А–љ—Г—В—М –љ–∞ –Њ–±—А–∞—В–љ—Л–є –Ї—Г—А—Б, - –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А.
¬Ђ–£—И–∞–Ї–Њ–≤¬ї —Б–і–µ–ї–∞–ї –њ–Њ–≤–Њ—А–Њ—В, –ї–Њ–ґ–∞—Б—М –љ–∞ —О–≥, –Є –љ–∞–і –Љ–Њ—А–µ–Љ –Ј–∞–Ї–ї—Г–±–Є–ї–∞—Б—М –≥–Є–≥–∞–љ—В—Б–Ї–∞—П –њ–µ—В–ї—П –і—Л–Љ–∞.
–Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –њ—А–∞–≤–і—Г. –°–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є—П —А–∞—Б—Б–µ—П–ї–Є—Б—М, –Ї–Њ–≥–і–∞ –і–≤–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П –Њ—В–і–µ–ї–Є–ї–Є—Б—М –Њ—В –Њ—В—А—П–і–∞ –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г ¬Ђ–£—И–∞–Ї–Њ–≤–∞¬ї. –Э–µ–Є–Ј–±–µ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –±–Њ—П –±—Л–ї–∞ –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–∞.
–Ь–Є–Ї–ї—Г—Е–∞ –њ–Њ-–њ—А–µ–ґ–љ–µ–Љ—Г –±—Л–ї —Б–њ–Њ–Ї–Њ–µ–љ. –Э–µ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–ї–Њ—Б—М –љ–Є –Њ–і–љ–Њ–є –і—А–Њ–≥–љ—Г–≤—И–µ–є –љ–Њ—В–Ї–Є –≤ –µ–≥–Њ –≥–Њ–ї–Њ—Б–µ, –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–є —Б—Г–µ—В–ї–Є–≤–Њ—Б—В–Є –≤ –µ–≥–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П—Е –Є –Љ–µ—Б—В–∞—Е. –Я–µ—А–≤—Л–Љ –і–µ–ї–Њ–Љ –Њ–љ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї –њ–Њ¬ђ–Ј–≤–∞—В—М –љ–∞ –Љ–Њ—Б—В–Є–Ї –Љ–Є–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–∞. –° –±–µ–Ј—Г–њ—А–µ—З–љ–Њ–є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –≤—Л–њ—А–∞–≤–Ї–Њ–є, –ї–µ–≥–Ї–Њ–є –њ–Њ—Е–Њ–і–Ї–Њ–є –Ї –љ–µ–Љ—Г –њ–Њ–і–Њ—И–µ–ї –Ї—А–∞—Б–∞–≤–µ—Ж-–±—А—О–љ–µ—В –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В –Ц–і–∞–љ–Њ–≤, –Њ–њ—А—П—В–љ–Њ –Њ–і–µ—В—Л–є –≤ –Љ–Њ—А—Б–Ї—Г—О —Д–Њ—А–Љ—Г, –Ї–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–µ–є—З–∞—Б –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Г—О –≤ –њ–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Њ–Љ –Љ–∞–≥–∞–Ј–Є–љ–µ. –° –Љ–∞—В–Њ–≤–Њ–≥–Њ –ї–Є—Ж–∞ —Б —В–Њ–љ–Ї–Є–Љ–Є –Є–Ј–љ–µ–ґ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є —З–µ—А—В–∞–Љ–Є, –љ–µ –Љ–Є–≥–∞—П, —Г—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є—Б—М –љ–∞ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Є–µ –Ї–∞—А–Є–µ –≥–ї–∞–Ј–∞. –Я–Њ –Њ–±—Л–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—О, –Ь–Є–Ї–ї—Г—Е–∞ –љ–µ —Б—А–∞–Ј—Г –Ј–∞–≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї, –њ—А–Њ–љ–Є–Ј—Л–≤–∞—П –µ–≥–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ –њ—Л—В–ї–Є–≤—Л–Љ –≤–Ј–≥–ї—П–і–Њ–Љ –Є–Ј-–њ–Њ–і –љ–∞–≤–Є—Б—И–Є—Е –±—А–Њ–≤–µ–є, –Ґ–Њ—З–љ–Њ –Њ–љ —Е–Њ—В–µ–ї –≤–і–Њ–≤–Њ–ї—М –љ–∞–ї—О–±–Њ–≤–∞—В—М—Б—П —Б—В–∞—В–љ–Њ–є —Д–Є–≥—Г—А–Њ–є –Є –ї–Є—Ж–Њ–Љ –Ц–і–∞–љ–Њ–≤–∞:
- –С–Њ—А–Є—Б –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ–Њ–≤–Є—З, –≤–∞–Љ —П—Б–љ–Њ, —Б –Ї–µ–Љ –Љ—Л –±—Г–і–µ–Љ —Б–µ–є—З–∞—Б –Є–Љ–µ—В—М –і–µ–ї–Њ? –Ф–≤–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–Ї–ї–∞—Б—Б–љ—Л—Е –±—А–Њ–љ–µ–љ–Њ—Б–љ—Л—Е –Ї—А–µ–є¬ђ—Б–µ—А–∞ –Є–і—Г—В –≤–Ј—П—В—М –љ–∞—Б –ґ–Є–≤—М–µ–Љ, –Ї–∞–Ї –њ–Њ–і—А–∞–љ–Ї–∞. –Э–∞ –≤—Б—П–Ї–Є–є —Б–ї—Г—З–∞–є –њ—А–Є–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О –њ—А–Є–≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В—М –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М –Ї –≤–Ј—А—Л–≤—Г. –Т—Б–µ. –Я–Њ—В–Њ–Љ –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В–µ –љ–∞ —Б–Њ–≤–µ—В.
- –Х—Б—В—М, –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З. –Ф–Њ–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞—О: –≤ –Љ–Њ–µ–є –Ї–∞—О—В–µ —Г–ґ–µ –≥–Њ—В–Њ–≤—Л –њ—А–Њ–≤–Њ–і–∞ –Є–Ј –Ї—А—О–є—В-–Ї–∞–Љ–µ—А—Л –Є –±–Њ–Љ–±–Њ–≤—Л—Е –њ–Њ–≥—А–µ–±–Њ–≤. –Ч–∞–ї–Њ–ґ–µ–љ –і–Є–љ–∞–Љ–Є—В –Є –њ–Њ–і –Ї–Њ—В–ї–∞–Љ–Є.
–Ч–∞—В–µ–Љ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –Њ–±—А–∞—В–Є–ї—Б—П –Ї —Б—В–∞—А—И–µ–Љ—Г –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Г –Ь—Г—Б–∞—В–Њ–≤—Г:
- –Р –≤—Л, –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З, —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–і–Є—В–µ—Б—М –њ—А–Є¬ђ–≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В—М—Б—П –Ї –±–Њ—О. –Э–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ –Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М –Њ–і–љ–Є –њ—А–Њ–±–Ї–Њ–≤—Л–µ –Љ–∞—В—А–∞—Ж—Л, –∞ –≤—Б–µ –≥–Њ—А—О—З–µ–µ вАУ –Ј–∞ –±–Њ—А—В.
–І–µ—А–µ–Ј –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –љ–∞ –Љ–Њ—Б—В–Є–Ї–µ –љ–∞—З–∞–ї–Є –њ–Њ—П–≤–ї—П—В—М—Б—П –Њ–і–Є–љ –Ј–∞ –і—А—Г–≥–Є–Љ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Л –Є–Ј —А–∞–Ј–љ—Л—Е –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є–є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П. –Ю–љ–Є –і–Њ–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–ї–Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Г –Њ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–Є –µ–≥–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞. –Ь–Є–Ї–ї—Г—Е–∞ –Ј–∞–і–µ—А–ґ–∞–ї –њ—А–Є—И–µ–і—И–Є—Е –Є –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї –≤—Б–µ—Е –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л—Е –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤ –њ–Њ–Ј–≤–∞—В—М –љ–∞ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–є —Б–Њ–≤–µ—В. –°–Њ–±—А–∞–≤—И–Є–µ—Б—П —Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї–Є –љ–∞ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ —Б –Љ–Њ–ї—З–∞–ї–Є–≤—Л–Љ —Г–і–Є–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ - —В–∞–Ї –Њ–љ –±—Л–ї —Б–њ–Њ–Ї–Њ–µ–љ –Є —В–≤–µ—А–і. –Я–Њ–і—З–Є–љ–µ–љ–љ—Л–Љ –Є–Љ–њ–Њ–љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є –µ–≥–Њ —Б—В–Њ–є–Ї–Њ—Б—В—М –Є –љ–µ–њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–±–Є–Љ–Њ—Б—В—М –≤ —Н—В–Є –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –Љ–Є–љ—Г—В—Л. –° —Г–≤–µ—А–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О –Њ–љ –Њ—В–і–∞–≤–∞–ї —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є—П, –≤—Е–Њ–і—П –≤–Њ –≤—Б–µ –Љ–µ–ї–Њ—З–Є –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л –±—А–Њ–љ–µ–љ–Њ—Б—Ж–∞.
–Э–∞ —Б–Њ–≤–µ—В–µ –Ь–Є–Ї–ї—Г—Е–∞ –Ї—А–∞—В–Ї–Њ –Њ–њ–Є—Б–∞–ї –±–Њ–µ–≤—Г—О –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї—Г –Є –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–∞–Љ –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М —Б–≤–Њ–µ –Љ–љ–µ–љ–Є–µ. –Э–∞—З–Є–љ–∞—П —Б —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –Љ–ї–∞–і—И–µ—О —З–Є–љ–∞, –≤—Б–µ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Л —В–≤–µ—А–і–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є –Њ–± –Њ–і–љ–Њ–Љ вАУ –і—А–∞—В—М—Б—П, –њ–Њ–Ї–∞ —Е–≤–∞—В–Є—В —Б–Є–ї –Є —Б–љ–∞—А—П–і–Њ–≤. –Ь–Є–Ї–ї—Г—Е–∞, —Г–±–µ–ґ–і–∞—П—Б—М –≤ –≥–Њ—В–Њ–≤–љ–Њ—Б—В–Є –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ —Г–Љ–µ—А–µ—В—М –љ–∞ –њ–Њ—Б—В—Г, —Б–≤–µ—В–ї–µ–ї –≤ –ї–Є—Ж–µ. –Х–≥–Њ –љ–∞—Е–Љ—Г—А–µ–љ–љ—Л–µ —В–Њ–ї—Б—В—Л–µ –±—А–Њ–≤–Є –њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞–ї–Є—Б—М —А—Л–ґ–Є–Љ–Є –њ–Њ–ї—Г–Ї—А—Г–≥–∞–Љ–Є, –Љ–Њ—А—Й–Є–љ—Л —А–∞–Ј–≥–ї–∞–ґ–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М. –Ю–љ –±—Л–ї –і–Њ¬ђ–≤–Њ–ї–µ–љ. –Т—Б–µ –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–љ–Є—П –±—Л–ї–Є –њ—А–Њ–љ–Є–Ї–љ—Г—В—Л –њ—А–µ–і–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М—О —А–Њ–і–Є–љ–µ –Є –і–Њ–ї–≥—Г. –Х–≥–Њ –±–µ—Б–µ–і—Л –Њ –≥–µ—А–Њ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –њ—А–Њ—И–ї–Њ–Љ —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–≤, –µ–≥–Њ —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞ –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–Є—П –љ–∞ –±–Њ–µ–≤—Л—Е —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—П—Е –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–∞ –£—И–∞–Ї–Њ–≤–∞ –љ–µ –њ—А–Њ–њ–∞–ї–Є –і–∞—А–Њ–Љ. –Ы—О–і–Є –±—Л–ї–Є –≥–Њ—В–Њ–≤—Л –љ–∞ –њ–Њ–і–≤–Є–≥.
–Ь–Є–Ї–ї—Г—Е–∞ –≤—Л–њ—А—П–Љ–Є–ї—Б—П –Є, –≤—Л—В—П–љ—Г–≤ –Ї—Г—Ж—Г—О –њ—А–∞–≤—Г—О —А—Г–Ї—Г –≤–≤–µ—А—Е, –Ї —А–∞–Ј–≤–µ–≤–∞—О—Й–µ–Љ—Г—Б—П –∞–љ–і—А–µ–µ–≤—Б–Ї–Њ–Љ—Г –±–Њ–µ–≤–Њ–Љ—Г —Д–ї–∞–≥—Г, –≤–Њ—Б–Ї–ї–Є–Ї–љ—Г–ї:
- –£–Љ—А–µ–Љ, –љ–Њ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є —Д–ї–∞–≥ –љ–∞ –±—А–Њ–љ–µ–љ–Њ—Б—Ж–µ –љ–µ –Њ–њ–Њ–Ј–Њ—А–Є–Љ. –С—Г–і–µ–Љ –і—А–∞—В—М—Б—П –њ–Њ-—Г—И–∞–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є. –Я–Њ –Љ–µ—Б—В–∞–Љ, –≥–Њ—Б–њ–Њ–і–∞!
–Э–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ –≤–љ–Њ–≤—М —А–∞–Ј–і–∞–ї–∞—Б—М –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–∞—П –і—А–Њ–±—М-—В—А–µ–≤–Њ–≥–∞.
–С—Л–ї–Њ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ —З–µ—В—Л—А–µ—Е —З–∞—Б–Њ–≤ –і–љ—П. ¬Ђ–£—И–∞–Ї–Њ–≤¬ї —Б–≤–µ—А–љ—Г–ї –љ–∞ –Ј–∞–њ–∞–і. –Э–Њ –і–≤–∞ –Ї—А–µ–є—Б–µ—А–∞ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–Є –Ј–∞ –љ–Є–Љ –≥–љ–∞—В—М—Б—П. –Ґ–µ–њ–µ—А—М –Њ–љ–Є –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞ –њ—А–∞–≤–Њ–є –µ–≥–Њ —А–∞–Ї–Њ–≤–Є–љ–µ. –Ф—Л–Љ –Њ—В –љ–Є—Е —Б—В–ї–∞–ї—Б—П –љ–Є–Ј–Ї–Њ –љ–∞–і –Љ–Њ—А–µ–Љ, —З—В–Њ –±—Л–≤–∞–µ—В –њ—А–Є –Њ—З–µ–љ—М —Б–Є–ї—М–љ–Њ–Љ —Е–Њ–і–µ. –Ф–∞–ї—М–љ–Њ–Љ–µ—А—Й–Є–Ї–Є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є–ї–Є —А–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ - –і–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞ –±—Л–ї–Њ —Б—В–Њ –Ї–∞–±–µ–ї—М—В–Њ–≤—Л—Е. –Э–Њ –Њ–љ–Њ –њ–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ —Б–Њ–Ї—А–∞—Й–∞–ї–Њ—Б—М. –Э–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—М—Б–Ї–Є–µ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є –≤—Л—И–ї–Є –љ–∞ –њ–∞—А–∞–ї–ї–µ–ї—М–љ—Л–є –Ї—Г—А—Б –Є –њ—А–Є–±–ї–Є–Ј–Є–ї–Є—Б—М –Ї –њ—А–∞–≤–Њ–Љ—Г —В—А–∞–≤–µ—А–Ј—Г ¬Ђ–£—И–∞–Ї–Њ–≤–∞¬ї. –£–ґ–µ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ —А–∞–Ј–ї–Є—З–Є—В—М, —З—В–Њ –њ–µ—А–≤—Л–Љ —И–µ–ї ¬Ђ–Ш–≤–∞—В–µ¬ї –њ–Њ–і —Д–ї–∞–≥–Њ–Љ –Ї–Њ–љ—В—А-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–∞ –Є —Б–Ј–∞–і–Є ¬Ђ–ѓ–Ї—Г–Љ–Њ¬ї.
–≠—В–Њ –±—Л–ї–Є –і–≤–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–Ї–ї–∞—Б—Б–љ—Л—Е –±—А–Њ–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –Ї—А–µ–є—Б–µ—А–∞ —Б —Е–Њ–і–Њ–Љ –≤ –і–≤–∞–і—Ж–∞—В—М —Г–Ј–ї–Њ–≤ –Є –Њ–±—Й–Є–Љ –≤–Њ–і–Њ–Є–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ–Љ –≤ 19 700 —В–Њ–љ–љ. –Ш—Е –≤–Њ—Б–µ–Љ—М –≤–Њ—Б—М–Љ–Є–і—О–є–Љ–Њ–≤—Л—Е –Њ—А—Г–і–Є–є –Є –і–≤–∞–і—Ж–∞—В—М –≤–Њ—Б–µ–Љ—М —И–µ—Б—В–Є–і—О–є–Љ–Њ–≤—Л—Е –Љ–Њ–≥–ї–Є —Б—В—А–µ–ї—П—В—М –љ–∞ —Б–µ–Љ—М–і–µ—Б—П—В –њ—П—В—М –Ї–∞–±–µ–ї—М—В–Њ–≤—Л—Е. ¬Ђ–£—И–∞–Ї–Њ–≤¬ї –Є–Љ–µ–ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ 4126 —В–Њ–љ–љ –≤–Њ–і–Њ–Є–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П –Є –і–µ—Б—П—В—М —Г–Ј–ї–Њ–≤ —Е–Њ–і–∞. –Ю–љ –Љ–Њ–≥ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—О —З–µ—В—Л—А–µ –і–µ—Б—П—В–Є–і—О–є–Љ–Њ–≤—Л—Е –Є —З–µ—В—Л—А–µ 120-–Љ–Є–ї–ї–Є–Љ–µ—В—А–Њ–≤—Л—Е –Њ—А—Г–і–Є—П. –Я–µ—А–≤—Л–µ –њ—А–µ–і–µ–ї—М–љ–Њ —Б—В—А–µ–ї—П–ї–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞ —И–µ—Б—В—М–і–µ—Б—П—В —В—А–Є, –≤—В–Њ—А—Л–µ вАУ –љ–∞ –њ—П—В—М–і–µ—Б—П—В –Ї–∞–±–µ–ї—М—В–Њ–≤—Л—Е. –Я—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї –±—Л–ї —Б–Є–ї—М–љ–µ–µ –њ–Њ—З—В–Є –≤ –њ—П—В—М —А–∞–Ј. –Т –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞—Е ¬Ђ–£—И–∞–Ї–Њ–≤¬ї —З–Є—Б–ї–Є–ї—Б—П –њ–Њ–і —А—Г–±—А–Є–Ї–Њ–є ¬Ђ–±—А–Њ–љ–µ–љ–Њ—Б–µ—Ж –±–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ–є –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л¬ї, –љ–Њ –Љ–∞—В—А–Њ—Б—Л –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ —В–Є–њ–∞ –≤ —И—Г—В–Ї—Г –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є ¬Ђ–±—А–Њ–љ–µ–љ–Њ—Б—Ж—Л, –±–µ—А–µ–≥–∞–Љ–Є –Њ—Е—А–∞–љ—П–µ–Љ—Л–µ¬ї.
–Ь–∞—З—В—Л ¬Ђ–Ш–≤–∞—В–µ¬ї –Ј–∞–њ–µ—Б—В—А–µ–ї–Є –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ–Љ —Д–ї–∞–≥–Њ–≤ –њ–Њ –Љ–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–Љ—Г —Б–≤–Њ–і—Г. ¬Ђ–£—И–∞–Ї–Њ–≤¬ї –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї —Б–Є–≥–љ–∞–ї–Њ–Љ: ¬Ђ–†–∞–Ј–±–Є—А–∞–µ–Љ¬ї. –І–µ—А–µ–Ј –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–Є–љ—Г—В —И—В—Г—А–Љ–∞–љ –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –і–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Г:
- –°–Є–≥–љ–∞–ї –њ–Њ–Ї–∞ —А–∞–Ј–Њ–±—А–∞–љ –і–Њ –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ—Л: ¬Ђ–°–Њ–≤–µ—В—Г–µ–Љ —Б–і–∞—В—М –≤–∞—И –Ї–Њ—А–∞–±–ї—МвА¶¬ї
–ѓ–њ–Њ–љ—Ж—Л –љ–µ –і–Њ–њ—Г—Б–Ї–∞–ї–Є –Љ—Л—Б–ї–Є, —З—В–Њ —В–∞–Ї–Њ–є –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Є–є —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є –±—А–Њ–љ–µ–љ–Њ—Б–µ—Ж –±—Г–і–µ—В —Б –љ–Є–Љ–Є —Б—А–∞–ґ–∞—В—М—Б—П. –Э–Њ –Њ–љ–Є –Њ—И–Є–±–∞–ї–Є—Б—М. –Ы—О–і–Є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П –ґ–Є–ї–Є –±–Њ–µ–≤—Л–Љ–Є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—П–Љ–Є –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–Њ–≤–Њ–і—Ж–∞ –£—И–∞–Ї–Њ–≤–∞. –Ш —Б–∞–Љ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –Ь–Є–Ї–ї—Г—Е–∞ –±—Л–ї –µ–≥–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї–µ–Љ. –Ю—В–≤–µ—З–∞—П –љ–∞ –і–Њ–Ї–ї–∞–і –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤–∞, –Њ–љ –њ—А–Њ–Љ–Њ–ї–≤–Є–ї:
- –Э—Г, –∞ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ —Б–Є–≥–љ–∞–ї–∞ –Є —А–∞–Ј–±–Є—А–∞—В—М, –љ–µ—З–µ–≥–Њ.
–Ш, –њ–Њ–≤–µ—А–љ—Г–≤—И–Є—Б—М –Ї —Б—В–∞—А—И–µ–Љ—Г –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—Б—В—Г, –Њ–љ –і–Њ–±–∞–≤–Є–ї:
- –Ю—В–Ї—А—Л—В—М –њ–Њ –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—О –Њ–≥–Њ–љ—М!
–Ь–Є–Ї–ї—Г—Е–∞ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї —Н—В–Њ —В–∞–Ї —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ, —В–Њ—З–љ–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї –Њ–Ї–∞—В–Є—В—М –њ–∞–ї—Г–±—Г –≤–Њ–і–Њ–є.
–° ¬Ђ–£—И–∞–Ї–Њ–≤–∞¬ї –≤—Б–µ–Љ –њ—А–∞–≤—Л–Љ –±–Њ—А—В–Њ–Љ –і–∞–ї–Є –Ј–∞–ї–њ –њ–Њ ¬Ђ–Ш–≤–∞—В–µ¬ї - –≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–Љ—Г –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї—М—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Ї–Њ—А–∞–±–ї—О. –Т–Ј–Љ–µ—В–љ—Г–≤—И–Є–µ—Б—П –≤–Њ–і—П–љ—Л–µ —Б—В–Њ–ї–±—Л –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є, —З—В–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є—Б—М –±–Њ–ї—М—И–Є–µ –љ–µ–і–Њ–ї–µ—В—Л. –Я—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї —Г—А–∞–≥–∞–љ–љ—Л–Љ –Њ–≥–љ–µ–Љ. –Э–Њ —П–њ–Њ–љ—Ж—Л –љ–Є¬ђ–Ї–∞–Ї –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є –њ—А–Є—Б—В—А–µ–ї—П—В—М—Б—П: –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –і–µ—Б—П—В–Є –Љ–Є–љ—Г—В –љ–Є –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —Б–љ–∞—А—П–і–∞ –≤ ¬Ђ–£—И–∞–Ї–Њ–≤–∞¬ї –љ–µ –њ–Њ–њ–∞–ї–Њ. –Ь–Є–Ї–ї—Г—Е–∞ —Б–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–ї –Є–і—В–Є –њ—А—П–Љ–Њ –љ–∞ –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—П. –Т —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –љ–∞ ¬Ђ–£—И–∞–Ї–Њ–≤–µ¬ї –Є—Б–њ–Њ—А—В–Є–ї—Б—П –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–Љ –≥–Є–і—А–∞–≤–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –≥–Њ—А–Є–Ј–Њ–љ—В–∞–ї—М–љ–Њ–є –љ–∞–≤–Њ–і–Ї–Є –≤ –љ–Њ—Б–Њ–≤–Њ–є –±–∞—И–љ–µ. –Ю–љ–∞ —Г—Б–њ–µ–ї–∞ —Б–і–µ–ї–∞—В—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —З–µ—В—Л—А–µ –≤—Л—Б—В—А–µ–ї–∞. –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А —Н—В–Њ–є –±–∞—И–љ–Є –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В –Ґ—Л—А—В–Њ–≤ —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–і–Є–ї—Б—П –≤—А–∞—Й–∞—В—М –µ–µ –≤—А—Г—З–љ—Г—О. –≠—В–∞ –±—Л–ї–∞ –Њ—З–µ–љ—М —В—А—Г–і–љ–∞—П —А–∞–±–Њ—В–∞, –љ–Њ –≤—Б–µ –ґ–µ –±–∞—И–љ—П –Є–Ј—А–µ–і–Ї–∞ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–∞ —Б—В—А–µ–ї—П—В—М.
–Э–∞ ¬Ђ–£—И–∞–Ї–Њ–≤–µ¬ї —А–∞–Ј–і–∞–ї–Є—Б—М –Њ–і–Є–љ –Ј–∞ –і—А—Г–≥–Є–Љ —Б—В—А–∞—И–љ—Л–µ –≤–Ј—А—Л–≤—Л –Є –љ–∞—З–∞–ї–Є—Б—М –њ–Њ–ґ–∞—А—Л. –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Г –і–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї–Є, —З—В–Њ —Б–љ–∞—А—П–і–Њ–Љ —А–∞–Ј–±–Є—В–Њ –њ—А–∞–≤–Њ–µ –љ–Њ—Б–Њ–≤–Њ–µ 120-–Љ–Є–ї–ї–Є–Љ–µ—В—А–Њ–≤–Њ–µ –Њ—А—Г–і–Є–µ, –≤–Ј–Њ—А–≤–∞–ї–Є—Б—М —В—А–Є –±–µ—Б–µ–і–Ї–Є —Б –њ–∞—В—А–Њ–љ–∞–Љ–Є, –њ—А–∞–≤–∞—П —Б—В–Њ—А–Њ–љ–∞ –±–∞—В–∞—А–µ–Є —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ–∞. –Э–∞—З–∞–ї–∞—Б—М –±–Њ—А—М–±–∞ —Б –њ–Њ–ґ–∞—А–Њ–Љ.
–≠—В–Њ –±—Л–ї –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Є —Г—И–∞–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–µ —Б–љ–∞—А—П–і—Л –і–Њ–ї–µ—В–µ–ї–Є –і–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞.
- ¬Ђ–Ш–≤–∞—В–µ¬ї –≥–Њ—А–Є—В! вАУ —А–∞–Ј–і–∞–ї–Њ—Б—М –љ–∞ –Љ–Њ—Б—В–Є–Ї–µ.
- –Ь–Њ–ї–Њ–і—Ж—Л –Ї–Њ–Љ–µ–љ–і–Њ—А—Л, - –њ–Њ–Љ–µ–і–ї–Є–≤, —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Ь–Є–Ї–ї—Г—Е–∞, –љ–µ –Њ—В—А—Л–≤–∞—П –≥–ї–∞–Ј –Њ—В —Д–ї–∞–≥–Љ–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –љ–∞ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–Є–љ—Г—В –±—Л–ї –Њ–±—К—П—В –њ–ї–∞–Љ–µ–љ–µ–Љ.
–Т –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–µ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В—Л –±–Њ—П –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—М –і–µ—А–ґ–∞–ї—Б—П –≤–љ–µ –≤—Л—Б—В—А–µ–ї–Њ–≤ ¬Ђ–£—И–∞–Ї–Њ–≤–∞¬ї.
–Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Г –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–Є –і–Њ–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞—В—М –Њ –љ–Њ–≤—Л—Е –њ–Њ–≤—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П—Е: –≤–Њ—Б—М–Љ–Є–і—О–є–Љ–Њ–≤—Л–є —Б–љ–∞—А—П–і –њ—А–Њ–±–Є–ї –±–Њ—А—В —Г –≤–∞—В–µ—А–ї–Є–љ–Є–Є –њ–Њ–і –љ–Њ—Б–Њ–≤–Њ–є –±–∞—И–љ–µ–є. –С—Л–ї–Њ –µ—Й–µ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–µ–ї–Ї–Є—Е –њ—А–Њ–±–Њ–Є–љ –≤ –±–Њ—А—В—Г. –Т–і—А—Г–≥ –≤ –±–Њ–µ–≤–Њ–є —А—Г–±–Ї–µ –≤—Б–µ –њ–Њ–Ї–∞—З–љ—Г–ї–Њ—Б—М –Є –≤–µ—Б—М –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М –Ј–∞—В—А—П—Б—Б—П –Њ—В –≤–Ј—А—Л–≤–∞ –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–Њ–є —Б–Є–ї—Л. –°–љ–∞—А—П–і –њ–Њ–њ–∞–ї –≤ –±–Њ—А—В –њ–Њ–і –Ї–∞—О—В-–Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є–µ–є, —А–∞–Ј–≤–Њ—А–Њ—В–Є–≤ –≤ –љ–µ–Љ –±–Њ–ї—М—И–Њ–µ –Њ—В–≤–µ—А—Б—В–Є–µ. ¬Ђ–£—И–∞–Ї–Њ–≤¬ї –љ–∞—З–∞–ї –Ј–∞–Љ–µ—В–љ–Њ –Ї—А–µ–љ–Є—В—М—Б—П –љ–∞ –њ—А–∞–≤—Л–є –±–Њ—А—В.
–Э–Є –Њ–і–Є–љ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М –Є–Ј 2-–є —Н—Б–Ї–∞–і—А—Л –љ–µ –њ–Њ–њ–∞–і–∞–ї –≤ —В–∞–Ї–Њ–µ —В—А–∞–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ, –≤ –Ї–∞–Ї–Њ–Љ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П ¬Ђ–£—И–∞–Ї–Њ–≤¬ї. –Т—Б–µ –ї—О–і–Є –љ–∞ –љ–µ–Љ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –љ–∞ —Б–≤–Њ–Є—Е –Љ–µ—Б—В–∞—Е, –≤—Б–µ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П–ї–Є —Б–≤–Њ–є –і–Њ–ї–≥, –≥–Њ—В–Њ–≤—Л–µ —Г–Љ–µ—А–µ—В—М –љ–∞ –±–Њ–µ–≤–Њ–Љ –њ–Њ—Б—В—Г. –Э–Њ –љ–Є–Ї–∞–Ї–∞—П –Њ—В–≤–∞–≥–∞ –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–∞ —Г–ґ–µ —Б–њ–∞—Б—В–Є –±—А–Њ–љ–µ–љ–Њ—Б–µ—Ж. –С–Њ–є –і–ї—П –љ–µ–≥–Њ —Б–≤–µ–ї—Б—П –Ї —О–Љ—Г, —З—В–Њ –±—Л—Б—В—А–Њ—Е–Њ–і–љ—Л–µ –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—М—Б–Ї–Є–µ –Ї—А–µ–є—Б–µ—А—Л, –і–µ—А–ґ–∞—Б—М –≤–љ–µ –њ–Њ—Б—П–≥–∞–µ–Љ–Њ—Б—В–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е —Б–љ–∞—А—П–і–Њ–≤, —А–∞—Б—Б—В—А–µ–ї–Є–≤–∞–ї–Є –µ–≥–Њ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –±–µ–Ј–љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ. –Р ¬Ђ–£—И–∞–Ї–Њ–≤¬ї –љ–µ –Љ–Њ–≥ –љ–Є —Г–є—В–Є –Њ—В –љ–Є—Е, –љ–Є –њ—А–Є–±–ї–Є–Ј–Є—В—М—Б—П –Ї –љ–Є–Љ. –Ю–љ —Г–њ–Њ–і–Њ–±–Є–ї—Б—П —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї—Г, –њ—А–Є¬ђ–≤—П–Ј–∞–љ–љ–Њ–Љ—Г –Ї —Б—В–Њ–ї–±—Г –љ–∞ —А–∞—Б—Б—В—А–µ–ї. –Ф–ї—П –Њ–і–Є–љ–Њ–Ї–Њ–≥–Њ –Є –њ–Њ–і–±–Є—В–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П —В–∞–Ї–Є–Љ —Б—В–Њ–ї–±–Њ–Љ —Б–ї—Г–ґ–Є–ї–Њ –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–Њ, –∞ –≤–µ—А–µ–≤–Ї–∞–Љ–Є вАУ —В–Є—Е–Є–є —Е–Њ–і. –Э–Њ –Ї–∞–Ї –≥–Њ—А–і—Л–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, —Г–Љ–Є—А–∞—П –Ј–∞ —Б–≤–Њ–Є –Є–і–µ–Є, –љ–µ –њ—А–Њ—Б–Є—В –њ–Њ—Й–∞–і—Л —Г —В–µ—Е, –Ї—В–Њ –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї –µ–≥–Њ –Ї —Б–Љ–µ—А—В–Є, —В–∞–Ї –Є ¬Ђ–£—И–∞–Ї–Њ–≤¬ї, –Њ–±—А–µ—З–µ–љ–љ—Л–є –љ–∞ –≥–Є–±–µ–ї—М, –±—Л–ї –љ–µ–њ—А–µ–Ї–ї–Њ–љ–µ–љ –њ–µ—А–µ–і —Б–≤–Њ–Є–Љ –≤—А–∞–≥–Њ–Љ.
–Ь–Є–Ї–ї—Г—Е–∞-–Ь–∞–Ї–ї–∞–є, –љ–∞–±–ї—О–і–∞—П –±–Њ–є, –≤—Б–µ —Н—В–Њ –Њ—В–ї–Є—З–љ–Њ —Б–Њ–Ј–љ–∞–≤–∞–ї. –°–Ї–ї–Њ–љ–Є–≤—И–Є—Б—М –≤–њ–µ—А–µ–і –Є —Б–Њ–≥–љ—Г–≤ –≤ –ї–Њ–Ї—В—П—Е —А—Г–Ї–Є, –Њ–љ –њ—А–Є–љ—П–ї —В–∞–Ї—Г—О –±–Њ–µ–≤—Г—О –њ–Њ–Ј—Г, —В–Њ—З–љ–Њ –њ—А–Є–≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї—Б—П —Б–∞–Љ –±—А–Њ—Б–Є—В—М—Б—П –љ–∞ –≤—А–∞–≥–∞. –Я–Њ–і–µ—А–≥–∞–≤ –±–Њ–ї—М—И–Є–µ —А—Л–ґ–Є–µ —Г—Б—Л, –Њ–љ –њ—А–Њ—Е—А–Є–њ–µ–ї –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г —Б–≤–Њ–Є—Е –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї–Њ–≤, –Ї–∞–Ї –±—Л –Њ—В–≤–µ—З–∞—П –љ–∞ –Є—Е –љ–µ–≤—Л—Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–µ –Љ—Л—Б–ї–Є:
- –С—Г–і—М —Г –љ–∞—Б –±–Њ–ї—М—И–∞—П —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В—М вАУ —П –±—Л –њ–Њ—И–µ–ї –љ–∞ —В–∞—А–∞–љ. –Ь—Л –њ–Њ–≥–Є–±–ї–Є –±—Л, –љ–Њ –Є –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –љ–∞–Љ–Є –њ–Њ—И–µ–ї –±—Л –љ–∞ –і–љ–ЊвА¶
–Т –±–Њ–µ–≤—Г—О —А—Г–±–Ї—Г –њ–Њ—Б—В—Г–њ–∞–ї–Є —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Њ –љ–Њ–≤—Л—Е –±–µ–і—Б—В–≤–Є—П—Е. –Ы—О–і–Є –Ї—А–µ–њ–Є–ї–Є—Б—М –Є –љ–µ –њ–Њ–Ї–Є–і–∞–ї–Є –±–Њ–µ–≤—Л—Е –њ–Њ—Б—В–Њ–≤. –Ь–љ–Њ–≥–Є–µ —Г–ґ–µ –±—Л–ї–Є —Г–±–Є—В—Л. –°—Г–і–Њ–≤—Л–µ –≤—А–∞—З–Є –љ–µ —Г—Б–њ–µ–≤–∞–ї–Є –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М —А–∞–љ–µ–љ—Л–Љ. –Я–Њ–Љ–Є–Љ–Њ –±–Њ–ї—М—И–Є—Е –њ—А–Њ–±–Њ–Є–љ –≤ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–µ, –±—Л–ї–Є –њ–Њ–≤—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П –њ–Њ –≤—Б–µ–Љ—Г –њ—А–∞–≤–Њ–Љ—Г –±–Њ—А—В—Г. –Э–µ —Г—Б–њ–µ–ї–Є –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б–њ—А–∞–≤–Є—В—М—Б—П —Б –њ–Њ–ґ–∞—А–Њ–Љ –≤ –њ–µ—А–µ–і–љ–µ–є —З–∞—Б—В–Є —Б—Г–і–љ–∞, –Ї–∞–Ї –Ј–∞–њ—Л–ї–∞–ї–∞ –Ї–∞—О—В-–Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є—П. –Т –ґ–Є–ї–Њ–є –њ–∞–ї—Г–±–µ –Ј–∞–≥–Њ—А–µ–ї–Є—Б—М —А—Г–љ–і—Г–Ї–Є —Б –Љ–∞—В—А–Њ—Б—Б–Ї–Є–Љ–Є –≤–µ—Й–∞–Љ–Є –Є –±–Њ—А—В–Њ–≤–∞—П –Њ–±—И–Є–≤–Ї–∞. –Т—Б—О–і—Г –Ї–ї—Г–±–Є–ї—Б—П –і—Л–Љ, –Є –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –Њ–≥–љ–µ–Љ –Њ—Е–≤–∞—З–µ–љ –≤–µ—Б—М –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М. –Э–Њ –љ–Є—З—В–Њ –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Њ —Б–ї–Њ–Љ–Є—В—М –Љ—Г–ґ–µ—Б—В–≤–∞ –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–≤. –Ю–љ–Є –Є—Б–њ–Њ–ї–љ—П–ї–Є —Б–≤–Њ–Є –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є —Б —В–∞–Ї–Є–Љ —Г–њ–Њ—А—Б—В–≤–Њ–Љ, —В–Њ—З–љ–Њ —Б—А–µ–і–Є –љ–Є—Е –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї —Б–∞–Љ –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–є —Д–ї–Њ—В–Њ–≤–Њ–і–µ—Ж, –Є–Љ—П –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –љ–Њ—Б–Є–ї –±—А–Њ–љ–µ–љ–Њ—Б–µ—Ж. –Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –љ–Њ—Б–Њ–≤–∞—П –±–∞—И–љ—П —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –Ј–∞–Љ–Њ–ї—З–∞–ї–∞. –Ъ–Њ—А–Љ–Њ–≤–∞—П –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–∞ —Б—В—А–µ–ї—П—В—М, –љ–Њ –Ї—А–µ–љ —Б—Г–і–љ–∞ –љ–∞ –њ—А–∞–≤—Л–є –±–Њ—А—В –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Г–Љ–µ–љ—М—И–Є–ї —Г–≥–Њ–ї –≤–Њ–Ј–≤—Л—И–µ–љ–Є—П –µ–µ –Њ—А—Г–і–Є–є. –Я–∞–ї—М–±–∞ –Є–Ј –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є 120-–Љ–Є–ї–ї–Є–Љ–µ—В—А–Њ–≤–Њ–є –њ—Г—И–Ї–Є –њ—А–∞–≤–Њ–≥–Њ –±–Њ—А—В–∞ —Б—В–∞–ї–∞ –±–µ—Б—Б–Љ—Л—Б–ї–µ–љ–љ–Њ–є вАУ —Б–љ–∞—А—П–і—Л –µ–µ –њ–∞–і–∞–ї–Є –љ–∞ –њ–Њ–ї–њ—Г—В–Є. –С–Њ–µ–≤–∞—П —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ—Б—В—М –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П –±—Л–ї–∞ –Є—Б—З–µ—А–њ–∞–љ–∞.
–≠—В–Њ –±–Њ–ї—М—И–µ, —З–µ–Љ –Ї—В–Њ-–ї–Є–±–Њ –і—А—Г–≥–Њ–є, —Г—З–Є—В—Л–≤–∞–ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А. –Ю–љ –Ј–љ–∞–ї, —З—В–Њ –ґ–Є–Ј–љ—М —А–∞–Ј–±–Є—В–Њ–≥–Њ –±—А–Њ–љ–µ–љ–Њ—Б—Ж–∞ —Г–≥–∞—Б–∞–µ—В —Б –Ї–∞–ґ–і–Њ–є –Љ–Є–љ—Г—В–Њ–є. –Ь–Є–Ї–ї—Г—Е–∞ –Ї—Г—Ж–µ–є —А—Г–Ї–Њ–є –њ–Њ—В–µ—А –ї–Њ–±, –њ–Њ—В–Њ–Љ —Б–і–µ¬ђ–ї–∞–ї –µ—О —А–µ–Ј–Ї–Є–є –ґ–µ—Б—В, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ —З—В–Њ-—В–Њ —А–µ—И–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Њ—В–±—А–Њ—Б–Є–ї. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ —В–µ–њ–µ—А—М —Б—Г–і–Њ—А–Њ–≥–∞ –±–Њ–ї–Є –Є—Б–Ї–∞–Ј–Є–ї–∞ –µ–≥–Њ –ї–Є—Ж–Њ. –Э–Њ —Н—В–Њ –њ—А–Њ¬ђ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–Њ—Б—М –ї–Є—И—М –Њ–і–љ–Њ –Љ–≥–љ–Њ–≤–µ–љ—М–µ. –°–ї–Њ–≤–љ–Њ –ґ–µ–ї–∞—П —Г–±–µ–і–Є—В—М—Б—П –≤ —Б—В–Њ–є–Ї–Њ—Б—В–Є –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е –≤ —А—Г–±–Ї–µ –ї—О–і–µ–є, –Њ–љ –≤–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М¬ђ–љ–Њ –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї –љ–∞ –љ–Є—Е —Б–Ї–≤–Њ–Ј—М –Њ—З–Ї–Є –≥–Њ–ї—Г–±—Л–Љ–Є –≥–ї–∞–Ј–∞–Љ–Є –Є —Б–і–µ—А–ґ–∞–љ–љ–Њ, –Ї–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ —А–µ—И–∞–ї—Б—П –њ—Г—Б—В—П–Ї–Њ–≤—Л–є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б, —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї: - –Я–Њ—А–∞ –Ї–Њ–љ—З–∞—В—М. –Ч–∞—Б—В–Њ–њ–Њ—А–Є—В—М –Љ–∞—И–Є–љ—Л! –Я—А–µ–Ї—А–∞—В–Є—В—М —Б—В—А–µ–ї—М–±—Г! –Ч–∞—В–Њ–њ–Є—В—М –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М!
–†–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є–µ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –±—Л–ї–Њ –њ–µ—А–µ–і–∞–љ–Њ –њ–Њ –≤—Б–µ–Љ –Њ—В¬ђ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П–Љ –±—А–Њ–љ–µ–љ–Њ—Б—Ж–∞. –°–њ—Г—Б—В—П –Љ–Є–љ—Г—В—Г-–і—А—Г–≥—Г—О –Њ—А—Г–і–Є—П –Ј–∞–Љ–Њ–ї—З–∞–ї–Є –Є —Б—Г–і–љ–Њ –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Њ—Б—М, –≤—Б–µ –±–Њ–ї—М—И–µ –Є –±–Њ–ї—М—И–µ –Ї—А–µ–љ—П—Б—М –љ–∞ –њ—А–∞–≤—Л–є –±–Њ—А—В –Є –±–µ—Б–њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Њ –њ–Њ–Ї–∞—З–Є–≤–∞—П—Б—М –љ–∞ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –Ј—Л–±–Є. –І–µ—А–µ–Ј –њ—А–Њ–±–Њ–Є–љ—Л –Є –Њ—В–Ї—А—Л—В—Л–µ –Ї–Є–љ–≥—Б—В–Њ–љ—Л —Б —А–µ–≤–Њ–Љ –≤—А—Л¬ђ–≤–∞–ї–Њ—Б—М –≤–Њ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–Є–µ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П –Љ–Њ—А–µ. –Ґ—А—О–Љ–љ—Л–µ –Љ–∞—И–Є¬ђ–љ–Є—Б—В—Л –љ–∞—З–∞–ї–Є –Ј–∞–њ–Њ–ї–љ—П—В—М –≤–Њ–і–Њ—О –±–Њ–Љ–±–Њ–≤—Л–µ –њ–Њ–≥—А–µ–±–∞. –¶–Є—А–Ї—Г–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–µ –њ–Њ–Љ–њ—Л –±—Л–ї–Є –≤–Ј–Њ—А–≤–∞–љ—Л. –Ґ–µ–њ–µ—А—М —Г–ґ–µ –љ–Є–Ї–∞–Ї–∞—П —Б–Є–ї–∞ –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–∞ —Б–њ–∞—Б—В–Є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М.
–Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –Њ—В–і–∞–ї –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є –њ—А–Є–Ї–∞–Ј:
- –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–µ —Б–њ–∞—Б–∞—В—М—Б—П!
–Ю–±–∞ –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—М—Б–Ї–Є—Е –Ї—А–µ–є—Б–µ—А–∞ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–Є —Б—В—А–µ–ї—П—В—М –њ–Њ ¬Ђ–£—И–∞–Ї–Њ–≤—Г¬ї.
–Х–≥–Њ –≤–µ—А—Е–љ—П—П –њ–∞–ї—Г–±–∞ —Б—В–∞–ї–∞ –±—Л—Б—В—А–Њ –Ј–∞–њ–Њ–ї–љ—П—В—М—Б—П –Љ–∞—В—А–Њ—Б–∞–Љ–Є. –Т—Б–µ —И–ї—О–њ–Ї–Є –±—Л–ї–Є —А–∞–Ј–±–Є—В—Л. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –ї—О–і–Є —Б –њ–Њ—Б–њ–µ—И–љ–Њ—Б—В—М—О —Е–≤–∞—В–∞–ї–Є –Љ–∞—В—А–∞—Ж—Л, –љ–∞–±–Є—В—Л–µ –љ–∞–Ї—А–Њ—И–µ–љ–љ–Њ–є –њ—А–Њ–±–Ї–Њ–є, —Б–њ–∞—Б–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –њ–Њ—П—Б–∞ –Є –Ї—А—Г–≥–Є. –Ю–і–љ–Є —Б—А–∞–Ј—Г –±—А–Њ—Б–∞–ї–Є—Б—М –Ј–∞ –±–Њ—А—В, –і—А—Г–≥–Є–µ –Љ–µ–і–ї–Є–ї–Є, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –љ–µ —А–µ—И–∞—П—Б—М –љ–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є —И–∞–≥. –£ –і–∞–ї—М–љ–Њ–Љ–µ—А–Њ–≤ –љ–∞ —И—В—Г—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–Њ–є —А—Г–±–Ї–µ —Б—В–Њ—П–ї–Є –љ–∞ –±–Њ–µ–≤–Њ–Љ –њ–Њ—Б—В—Г –Љ–Є—З–Љ–∞–љ—Л –°–Є–њ—П–≥–Є–љ –Є –Ґ—А–∞–љ–Ј–µ –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б —Б–Є–≥–љ–∞–ї—М—Й–Є–Ї–∞–Љ–Є. –°–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –љ–µ –Ј–∞—Й–Є—Й–µ–љ–љ—Л–µ, –Њ–љ–Є –Ї–∞–Ї–Є–Љ-—В–Њ —З—Г–і–Њ–Љ —Г—Ж–µ–ї–µ–ї–Є –Њ—В –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—М—Б–Ї–Є—Е —Б–љ–∞—А—П–і–Њ–≤. –°—В–∞—А—И–Є–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—Б—В –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤, —Г–≤–Є–і–µ–≤ –Є—Е, –Ї—А–Є–Ї–љ—Г–ї:
- –Т—Л –±–Њ–ї—М—И–µ —В–∞–Љ –љ–µ –љ—Г–ґ–љ—Л. –°–Ї–Њ—А–µ–є —Б–њ—Г—Б–Ї–∞–є—В–µ—Б—М –≤–љ–Є–Ј вАУ —Б–њ–∞—Б–∞—В—М—Б—П!
–Ю–і–Є–љ –Ј–∞ –і—А—Г–≥–Є–Љ –Њ–љ–Є –љ–∞—З–∞–ї–Є —Б–±–µ–≥–∞—В—М –њ–Њ —В—А–∞–њ—Г. –Т —Н—В–Њ—В –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В —А–∞–Ј–Њ—А–≤–∞–ї—Б—П —Б–љ–∞—А—П–і —Г –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –±–Њ–µ–≤–Њ–є —А—Г–±–Ї–Є. –°–Є–≥–љ–∞–ї—М—Й–Є–Ї –Ф–µ–Љ—М—П–љ –Я–ї–∞–Ї—Б–Є–љ, —Б–њ—Г—Б–Ї–∞–≤—И–Є–є—Б—П –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–Љ, –Ї—А–Њ–≤–∞–≤–Њ–є –Љ–∞—Б—Б–Њ–є —Б–≤–∞–ї–Є–ї—Б—П –љ–∞ –Љ–Њ—Б—В–Є–Ї.
¬Ђ–£—И–∞–Ї–Њ–≤¬ї —Б –Ї—А–µ–љ–Њ–Љ –љ–∞ –њ—А–∞–≤—Л–є –±–Њ—А—В –Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ–≥—А—Г¬ђ–ґ–∞–ї—Б—П –≤ –≤–Њ–ї–љ—Л. –Э–∞ –њ—А–∞–≤–Њ–Љ –љ–Њ–Ї–µ –µ–≥–Њ –≥—А–Њ—В-—А–µ–Є, –њ—А–Є–≤–Њ–і—П –≤ —П—А–Њ—Б—В—М –≤—А–∞–≥–∞ —Б–≤–Њ–µ—О –љ–µ–њ–Њ–Ї–Њ—А–љ–Њ—Б—В—М—О, –≤—Б–µ –µ—Й–µ —А–∞–Ј–≤–µ–≤–∞–ї—Б—П –±–Њ–µ–≤–Њ–є –∞–љ–і—А–µ–µ–≤—Б–Ї–Є–є —Д–ї–∞–≥. –Я–Њ–і –љ–Є–Љ, –Ї–∞–Ї –Є –љ–∞–Ї–∞–љ—Г–љ–µ, —Б —Б–∞¬ђ–Љ–Њ–≥–Њ —Г—В—А–∞ —Б—В–Њ—П–ї —З–∞—Б–Њ–≤—Л–Љ –Ї–≤–∞—А—В–Є—А–Љ–µ–є—Б—В–µ—А –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є –Я—А–Њ–Ї–Њ–њ–Њ–≤–Є—З. –С–Њ—Ж–Љ–∞–љ –Ь–Є—В—А—О–Ї–Њ–≤ –Ї—А–Є—З–∞–ї –µ–Љ—Г:
- –Т–∞—Б—П, —Б–њ–∞—Б–∞–є—Б—П!
–Э–Њ –Њ–љ, –Њ–≥–ї–Њ—Е—И–Є–є –љ–∞ –Њ–±–∞ —Г—Е–∞, –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ —Б–ї—Л—И–∞–ї. –Ґ–Њ–≥–і–∞ –±–Њ—Ж–Љ–∞–љ, –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—П –љ–∞ –±–Њ—А—В, –Љ–∞—Е–љ—Г–ї –µ–Љ—Г —А—Г–Ї–Њ–є. –Ь–Њ–ї–љ–Є–µ–є —Б–≤–µ—А–Ї–љ—Г–ї –≤–Ј—А—Л–≤ —Б–љ–∞—А—П–і–∞. –Я—А–Њ–Ї–Њ–њ–Њ–≤–Є—З —Б–≤–∞–ї–Є–ї—Б—П –љ–∞ —Б–≤–Њ–µ–Љ –њ–Њ—Б—В—Г –Љ–µ—А—В–≤—Л–є. –Ь–Є—В—А—О–Ї–Њ–≤, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –њ–Њ–і—Е–≤–∞—З–µ–љ–љ—Л–є –≤–µ—В—А–Њ–Љ, –±—А–Њ—Б–Є–ї—Б—П –≤ –Љ–Њ—А–µ.
–Т–Њ–Ї—А—Г–≥ ¬Ђ–£—И–∞–Ї–Њ–≤–∞¬ї –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–Є –њ–∞–і–∞—В—М —Б–љ–∞—А—П–і—Л. –Э–∞ –Љ–Њ—Б—В–Є–Ї–µ, –Ј–∞–ї–Њ–ґ–Є–≤ —А—Г–Ї–Є –љ–∞–Ј–∞–і, —Б—В–Њ—П–ї –Ь–Є–Ї–ї—Г—Е–∞. –Т —Б–Њ–ї–љ–µ—З–љ—Л—Е –ї—Г—З–∞—Е –њ–ї–∞–Љ–µ–љ–µ–ї–Є –µ—В–Њ —А—Л–ґ–Є–µ —Г—Б—Л. –Ю–љ –љ–µ —В–Њ—А–Њ–њ–Є–ї—Б—П —Б–њ–∞—Б–∞—В—М—Б—П –Є –љ–µ –≤—Л–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї –љ–Є —Б—В—А–∞—Е–∞, –љ–Є —В—А–µ–≤–Њ–≥–Є, –Ї–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М –љ–µ —В–Њ–љ—Г–ї, –∞ –≤—Б–µ –µ—Й–µ —И–µ–ї –≤–њ–µ—А–µ–і. –Т–µ—Б—В–Њ–≤–Њ–є –њ—А–Є–љ–µ—Б —Б–њ–∞—Б–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є –њ–Њ—П—Б –Є –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї –µ–≥–Њ —Г –љ–Њ–≥ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞, –љ–Њ —В–Њ—В, –љ–µ –Њ–±—А–∞—В–Є–ї –љ–∞ –љ–µ–≥–Њ –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П. –†—П–і–Њ–Љ —Б –Ь–Є–Ї–ї—Г—Е–Њ–є –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М —И—В—Г—А–Љ–∞–љ –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –Є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—Б—В –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤. –Ъ –љ–Є–Љ –њ–Њ–і–Њ—И–µ–ї —Б—В–∞—А—И–Є–є –Њ—Д–Є—Ж–µ—А –Ь—Г—Б–∞—В–Њ–≤ –Є –і–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Г:
- –Ъ–Њ—А–∞–±–ї—М –Ј–∞—В–Њ–њ–ї—П–µ—В—Б—П. –Я–Њ—З—В–Є –≤—Б—П –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–∞ –љ–∞ –≤–Њ–і–µ —Б–Њ —Б–њ–∞—Б–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞–Љ–Є. –†–∞–љ–µ–љ—Л—Е –≤—Л–љ–Њ—Б—П—В –љ–∞–≤–µ—А—Е. –Ф–ї—П –љ–Є—Е –њ—А–Є–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ—Л —Б–њ–∞—Б–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –Ї—А—Г–≥–Є. –Я—А–Њ—Й–∞–є—В–µ, –≥–Њ—Б–њ–Њ–і–∞!
–Ь—Г—Б–∞—В–Њ–≤ –њ–Њ–ґ–∞–ї –≤—Б–µ–Љ —А—Г–Ї–Є –Є –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П –Ї –Ї–Њ—А–Љ–µ. –І–µ—А–µ–Ј –Љ–Є–љ—Г—В—Г –Њ–љ —Г–ґ–µ –±—Л–ї –љ–∞ —Б–њ–∞—А–і–µ–Ї–µ, —Г –њ—А–∞–≤–Њ–≥–Њ –±–Њ—А—В–∞. –Ф–µ—А–ґ–∞—Б—М –Њ–і–љ–Њ–є —А—Г–Ї–Њ–є –Ј–∞ —И–ї—О–њ–±–∞–ї–Ї—Г, –Ь—Г—Б–∞—В–Њ–≤ –і—А—Г–≥–Њ–є —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї, –Ї–∞–Ї –ї—Г—З—И–µ –њ—А–Є–≤—П–Ј—Л–≤–∞—В—М —А–∞–љ–µ–љ—Л—Е –Ї —Б–њ–∞—Б–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –Ї—А—Г–≥–∞–Љ. –Т —Н—В–Њ—В –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В —Б —А–Њ—Б—В—А–Њ–≤ —Б–Њ—А–≤–∞–ї—Б—П –≥–Њ—А–µ–≤—И–Є–є –±–∞—А–Ї–∞—Б. –У–Њ–ї–Њ–≤–∞ –Ь—Г—Б–∞—В–Њ–≤–∞, –њ—А–Є–і–∞–≤–ї–µ–љ–љ–∞—П –Ї —И–ї—О–њ–±–∞–ї–Ї–µ, –±—Л–ї–∞ —А–∞—Б–њ–ї—О—Й–µ–љ–∞. –°–Љ–µ—А—В—М –љ–∞—Б—В—Г–њ–Є–ї–∞ –Љ–≥–љ–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ.
–Э–∞ —И–Ї–∞–љ—Ж–∞—Е –Љ–Є–љ–њ–Њ-–∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є–є —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—В–µ–ї—М –Ш–ї—М—П –Т–Њ—А–Њ–±—М–µ–≤, —Б–љ–Є–Љ–∞—П —А—Г–±–∞—И–Ї—Г, –Њ–±—А–∞—В–Є–ї—Б—П –Ї —А–∞–Ј–і–µ–≤–∞–≤—И–µ–Љ—Г—Б—П –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В—Г –Ґ—Л—А–≥–Њ–≤—Г:
- –Т–∞—И–µ –±–ї–∞–≥–Њ—А–Њ–і–Є–µ, –Ї—Г–і–∞ –ї—Г—З—И–µ –њ—А—Л–≥–∞—В—М? –Т —В—Г —Б—В–Њ—А–Њ¬ђ–љ—Г, –Ї—Г–і–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М –≤–∞–ї–Є—В—Б—П, –Є–ї–Є –≤ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ—Г—О?
- –У–Њ–ї—Г–±—З–Є–Ї, —Б–∞–Љ –љ–µ –Ј–љ–∞—О, –њ–µ—А–≤—Л–є —А–∞–Ј –≤ –ґ–Є–Ј–љ–Є –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В—Б—П. –°–µ–є—З–∞—Б –Є—Б–њ—Л—В–∞–µ–Љ, - –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї —В–Њ—В –Є –±—А–Њ—Б–Є–ї—Б—П –≤ –≤–Њ–і—Г —Б –ї–µ–≤–Њ–≥–Њ –±–Њ—А—В–∞. –Ч–∞ –љ–Є–Љ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї –Є –Т–Њ—А–Њ–±—М–µ–≤.
–С—А–Њ–љ–µ–љ–Њ—Б–µ—Ж ¬Ђ–£—И–∞–Ї–Њ–≤¬ї –њ–µ—А–µ–≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П –≤–≤–µ—А—Е –Ї–Є–ї–µ–Љ. –Э–Њ —Б –Љ–Є–љ—Г—В—Г –Њ–љ –µ—Й–µ –і–µ—А–ґ–∞–ї—Б—П –љ–∞ –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В–Є –Љ–Њ—А—П. –Ш–Ј –µ–≥–Њ –і–љ–Є—Й–∞, –Њ–±—А–Њ—Б—И–µ–≥–Њ —А–∞–Ї—Г—И–Ї–∞–Љ–Є, –Ї–∞–Ї —А—Л–±—М–µ–є —З–µ—И—Г–µ–є, —З–µ—А–µ–Ј –Њ—В–Ї—А—Л—В—Л–µ –Ї–ї–∞–њ–∞–љ—Л –Ї–Є–љ–≥—Б—В–Њ–љ–Њ–≤ –±–Є–ї–Є –≤—Л—Б–Њ–Ї–Є–µ —Д–Њ–љ—В–∞–љ—Л –≤–Њ–і—Л. –Т–љ—Г—В—А–Є –Њ–њ—А–Њ–Ї–Є–љ—Г—В–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П —А–∞–Ј–і–∞–ї—Б—П –≥–ї—Г—Е–Њ–є –≤–Ј—А—Л–≤, —В—П¬ђ–ґ–µ–ї—Л–є, –њ–Њ—Е–Њ–ґ–Є–є –љ–∞ –≤–Ј–і–Њ—Е. –Я–Њ—Б–ї–µ —Н—В–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–Љ–∞ –±—А–Њ–љ–µ–љ–Њ—Б—Ж–∞, —Б–Њ–і—А–Њ–≥–љ—Г–≤—И–Є—Б—М, —Б—В–∞–ї–∞ –±—Л—Б—В—А–Њ –њ–Њ–≥—А—Г–ґ–∞—В—М—Б—П, –Є –љ–∞–і –≤–Њ–і–Њ–є —В–Њ—А—З–∞–ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–і–Є–љ —В–∞—А–∞–љ. –Р —З–µ—А–µ–Ј –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–µ–Ї—Г–љ–і ¬Ђ–£—И–∞–Ї–Њ–≤¬ї —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ —Б–Ї—А—Л–ї—Б—П –њ–Њ–і –≤–Њ–і–Њ—О.
–Ь–Њ—А–µ –Ї–Є—И–µ–ї–Њ –ї—О–і—М¬ђ–Љ–Є. –° –љ–Є–Љ–Є –Љ–µ—И–∞–ї–Є—Б—М –±—А–µ–≤–љ–∞, —А–∞–Ј–±–Є—В—Л–µ —И–ї—О–њ–Ї–Є, –і–µ—А–µ–≤—П–љ-–љ—Л–µ –Њ–±–ї–Њ–Љ–Ї–Є, —Б—В–Њ–ї—Л, —А–µ—И–µ—В–Ї–Є, —А–µ–Є, —П—Й–Є–Ї–Є, –∞–љ–Ї–µ—А—Л, –і–Њ—Б–Ї–Є. –Ъ—А—Г–≥–Њ–Љ —Б–ї—Л—И–∞–ї–Є—Б—М –≤–Њ–њ–ї–Є, —Б—В—А–∞–і–∞–љ–Є—П —А–∞–љ–µ–љ—Л—Е, —А—Г–≥–∞–љ—М, –њ—А–Њ–Ї–ї—П—В–Є—П –Є –Ї—А–Є–Ї–Є. –Я–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞–Љ –Є—Е –Ј–∞–≥–ї—Г—И–∞–ї–Є –≤–Ј—А—Л–≤—Л —Б–љ–∞—А—П–і–Њ–≤. –Ъ–∞—З–∞—П—Б—М –љ–∞ –≤–Њ–ї–љ–∞—Е, —А–∞–Ј–≤–µ–і–µ–љ–љ—Л—Е –Ј—О–є–і–Њ–≤—Л–Љ –≤–µ—В—А–Њ–Љ, –Љ–Њ—А—П–Ї–Є –љ–µ –Ј–љ–∞–ї–Є, –Ї—Г–і–∞ –њ–ї—Л—В—М. –Ф–Њ –±–µ—А–µ–≥–∞ –±—Л–ї–Њ —Б–ї–Є—И¬ђ–Ї–Њ–Љ –і–∞–ї–µ–Ї–Њ - –љ–Є –Њ–і–Є–љ –њ–ї–Њ–≤–µ—Ж –љ–µ –Љ–Њ–≥ –±—Л –µ–≥–Њ –і–Њ—Б—В–Є–≥–љ—Г—В—М. –Р –і–≤–∞ –≤–Є–і–љ–µ–≤—И–Є—Е—Б—П –љ–∞ –≥–Њ—А–Є–Ј–Њ–љ—В–µ –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—М—Б–Ї–Є—Е –Ї—А–µ–є—Б–µ—А–∞ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї–Є –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е –Љ–µ—А –Ї —Б–њ–∞—Б–µ–љ–Є—О –ї—О–і–µ–є, –љ–Њ –і–∞–ґ–µ –Є —В–µ–њ–µ—А—М –љ–µ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–∞–ї–Є –њ–Њ –љ–Є–Љ —Б—В—А–µ–ї—М–±—Г. –Ґ–∞–Ї–∞—П –Њ–Ј–ї–Њ–±–ї–µ–љ–љ–∞—П –ґ–µ—Б—В–Њ–Ї–Њ—Б—В—М –±—Л–ї–∞ –≤—Л–Ј–≤–∞–љ–∞, –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, —В–µ–Љ, —З—В–Њ —П–њ–Њ–љ—Ж—Л –Њ–±–Љ–∞–љ—Г–ї–Є—Б—М –≤ —Б–≤–Њ–Є—Е –љ–∞–і–µ–ґ–і–∞—Е: ¬Ђ–£—И–∞–Ї–Њ–≤¬ї, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–≤—И–Є–є —Б–Њ–±–Њ—О –љ–µ–Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Г—О –±–Њ–µ–≤—Г—О —Б–Є–ї—Г, –≤—Б–µ-—В–∞–Ї–Є –≤ –њ–ї–µ–љ –Є–Љ –љ–µ —Б–і–∞–ї—Б—П. –Ч–∞ —Н—В–Њ —П–њ–Њ–љ—Ж—Л –Љ—Б—В–Є–ї–Є –≥–µ—А–Њ—П–Љ, —В–µ—А–њ–µ–≤—И–Є–Љ –±–µ–і—Б—В–≤–Є–µ –љ–∞ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–ї–љ–∞—Е. –°—А–µ–і–Є –њ–ї–Њ–≤—Ж–Њ–≤ —В–Њ –≤ –Њ–і–љ–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ, —В–Њ –≤ –і—А—Г–≥–Њ–Љ –њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞–ї–Є—Б—М —Б—В–Њ–ї–±—Л –≤–Њ–і—Л. –І—В–Њ-—В–Њ –≥—Г–ї–Ї–Њ —И–ї–µ–њ–љ—Г–ї–Њ—Б—М –Њ–Ї–Њ–ї–Њ –Љ–Є–љ–љ–Њ-–∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–і–µ—А¬ђ–ґ–∞—В–µ–ї—П –Т–Њ—А–Њ–±—М–µ–≤–∞. –Т —В—Г –ґ–µ —Б–µ–Ї—Г–љ–і—Г, –Њ–≥–ї—Г—И–µ–љ–љ—Л–є —А–µ–≤–Њ–Љ, –Њ–љ –±—Л–ї –њ–Њ–і–±—А–Њ—И–µ–љ –≤–Њ–і—П–љ—Л–Љ –≤–Є—Е—А–µ–Љ –≤–≤–µ—А—Е. –Я–µ—А–≤–Њ–µ –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є–µ –±—Л–ї–Њ —В–∞–Ї–Њ–µ, —З—В–Њ –µ–≥–Њ —А–∞–Ј–Њ—А–≤–∞–ї–Њ –љ–∞ —З–∞—Б—В–Є. –Ю–љ —Г–ґ–µ –±–Њ–ї—М—И–µ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –Є –љ–µ —Б–Њ–Ј–љ–∞–≤–∞–ї. –Ю—З–љ—Г–≤—И–Є—Б—М, –Т–Њ—А–Њ–±—М–µ–≤ —Б —В—А—Г–і–Њ–Љ –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї –≤ —Б–µ–±—П. –Ф–Њ–ї–≥–Њ –µ–Љ—Г –љ–Є–Ї–∞–Ї –љ–µ –≤–µ—А–Є–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –Њ–љ –Њ—Б—В–∞–ї—Б—П –љ–µ–≤—А–µ–і–Є–Љ. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –љ–Њ–≥–∞—Е –Њ—Й—Г—Й–∞–ї–∞—Б—М —Б–Є–ї—М¬ђ–љ–∞—П –ї–Њ–Љ–Њ—В–∞, –Ї–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ –Ї—В–Њ –≤—Л–≤–µ—А–љ—Г–ї –Є—Е, —А–∞–Ј–Њ—А–≤–∞–ї —Б—Г—Б—В–∞–≤—Л. –†—П–і–Њ–Љ —Б –љ–Є–Љ, –Њ–њ–Є—А–∞—П—Б—М –љ–∞ —Б–њ–∞—Б–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є –Ї—А—Г–≥, –њ–ї–∞–≤–∞–ї —Б–≤—П¬ђ—Й–µ–љ–љ–Є–Ї –Ш–Њ–љ–∞. –Х–≥–Њ –Є—Б–Ї–∞–ґ–µ–љ–љ–Њ–µ –ї–Є—Ж–Њ –≤ —З–µ—А–љ–Њ–є –ї–Њ—Е–Љ–∞—В–Њ–є –±–Њ—А–Њ–і–µ, —Б –≤—Л–Ї–∞—В–Є–≤—И–Є–Љ–Є—Б—П —В–µ–Љ–љ—Л–Љ–Є –≥–ї–∞–Ј–∞–Љ–Є, –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –Њ–Ї–∞¬ђ–Љ–µ–љ–µ–ї—Л–Љ. –Я–Њ–≤–µ—А–љ—Г–≤—И–Є—Б—М –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞, –Њ–љ –њ–Њ—З—В–Є –±–µ—Б—Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ —А–∞–Ј–Љ–∞—И–Є—Б—В—Л–Љ –ґ–µ—Б—В–Њ–Љ –±–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–ї—П–ї –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ –Ј–Њ–ї–Њ—В—Л–Љ –Ї—А–µ—Б—В–Њ–Љ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–µ –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–Њ. –Т—Л—Е–Њ–і–Є–ї–Њ —В–∞–Ї, —В–Њ—З¬ђ–љ–Њ –Њ–љ –Ј–∞–≥–Њ—А–∞–ґ–Є–≤–∞–ї—Б—П –Є–Љ, –Ї–∞–Ї —Й–Є—В–Њ–Љ, –Њ—В –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—М—Б–Ї–Є—Е —Б–љ–∞—А—П–і–Њ–≤. –Э–Њ –Њ–љ–Є –≤—Б–µ —А–∞–≤–љ–Њ –љ–µ—Б–ї–Є —Б–Љ–µ—А—В—М. –Э–µ–і–∞¬ђ–ї–µ–Ї–Њ –Њ—В –Т–Њ—А–Њ–±—М–µ–≤–∞ –Ј–∞ –±–Њ–ї—М—И–Њ–є —Б–њ–∞—Б–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є –Ї—А—Г–≥ –і–µ—А–ґ–∞¬ђ–ї–Њ—Б—М –Њ–Ї–Њ–ї–Њ —В—А–Є–і—Ж–∞—В–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї. –Э–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—М—Б–Ї–Є–є —Б–љ–∞—А—П–і —Г–≥–Њ¬ђ–і–Є–ї –≤ –µ–≥–Њ —Ж–µ–љ—В—А. –Я–ї–∞–Љ—П, –і—Л–Љ, –Ї—А–Њ–≤—М, –≤–Њ–і–∞, —А—Г–Ї–Є –Є –љ–Њ–≥–Є –≤—Б–µ –њ–µ—А–µ–Љ–µ—И–∞–ї–Њ—Б—М –Є –≤–Ј–Љ–µ—В–љ—Г–ї–Њ—Б—М –≤–≤–µ—А—Е –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л–Љ —Б—В–Њ–ї–±–Њ–Љ. –Я–Њ—В–Њ–Љ –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В—М –Љ–Њ—А—П –љ–∞ —Н—В–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ –Њ–Ї—А–∞—Б–Є–ї–∞—Б—М –≤ —А–Њ–Ј–Њ–≤—Л–є —Ж–≤–µ—В, –Є –љ–∞ –љ–µ–є –њ–ї–∞–≤–∞–ї–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї—Г—Б–Ї–Є —А–∞–Ј–Њ—А–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї—А—Г–≥–∞.
–≠—В–Њ –±—Л–ї –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—М—Б–Ї–Є–є –≤—Л—Б—В—А–µ–ї. –Ъ–∞–љ–Њ–љ–∞–і–∞ —Б—В–Є—Е–ї–∞. –°–ї—Л—И–љ–µ–µ —Б—В–∞–ї–Є –Ї—А–Є–Ї–Є –ї—О–і–µ–є.
–Ф–≤–∞ –Љ–∞—В—А–Њ—Б–∞ –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–ї–Є —А–∞–љ–µ–љ–Њ–≥–Њ –Ь–Є–Ї–ї—Г—Е—Г, –њ–ї–∞–≤–∞–≤—И–µ–≥–Њ –≤ —Б–њ–∞—Б–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ –њ–Њ—П—Б–µ. –Я–Њ —Б—В–∞—А–Њ–є, –Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–є –≤–µ–Ї–∞–Љ–Є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–Љ. –°–ї–Њ–≤–љ–Њ –љ–µ –ґ–µ–ї–∞—П —А–∞—Б—Б—В–∞—В—М—Б—П —Б —В–Њ–љ—Г—Й–Є–Љ –±—А–Њ–љ–µ–љ–Њ—Б—Ж–µ–Љ, –Њ–љ –і–Њ–ї–≥–Њ –µ—Й–µ —Б—В–Њ—П–ї –љ–∞ –Љ–Њ—Б—В–Є–Ї–µ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤—Б–µ –ї—О–і–Є —Г–ґ–µ –±—Л–ї–Є –љ–∞ –≤–Њ–і–µ. –Э–µ —Б–њ–µ—И–∞ –Ј–∞–Ї—А–µ–њ–Є–≤ –љ–∞ —Б–µ–±–µ —Б–њ–∞—Б–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є –њ–Њ—П—Б, –Њ–љ –≤—Б–µ –µ—Й–µ –Љ–µ–і–ї–Є–ї –њ–Њ–Ї–Є–љ—Г—В—М —Б–≤–Њ–є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М, —Б –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ —Г –њ–µ–≥–Њ –±—Л–ї–Њ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–Њ —Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤–∞–љ–Є–є. –Ф–µ—А–ґ–∞—Б—М –Ј–∞ –њ–Њ—А—Г—З–љ–Є, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –Љ–Њ–ї—З–∞ –Њ–≥–ї—П–і—Л–≤–∞–ї –Љ–Њ—А–µ, —Г—Б–µ—П–љ–љ–Њ–µ –ї—О–і—М–Љ–Є. –Ь–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –њ–Њ¬ђ–і—Г–Љ–∞—В—М, —З—В–Њ –Њ–љ –љ–∞–±–ї—О–і–∞–µ—В –Њ–±—Л—З–љ–Њ–µ –Ї—Г–њ–∞–љ—М–µ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Л. –Ш —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ —Б–∞–Љ—Л–є –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М, –Ї–∞—З–љ—Г–≤—И–Є—Б—М, –њ–Њ–≤–∞–ї–Є–ї—Б—П –љ–∞ –±–Њ—А—В, –Ь–Є–Ї–ї—Г—Е–∞-–Ь–∞–Ї–ї–∞–є –≤—Б–њ–Њ–Љ¬ђ–љ–Є–ї, —З—В–Њ –µ–Љ—Г –љ—Г–ґ–љ–Њ —Б–њ–∞—Б–∞—В—М—Б—П. –Я–µ—А–µ—Б–Ї–Њ—З–Є–≤ –Ј–∞ –њ–Њ—А—Г—З–љ–Є –Љ–Њ—Б¬ђ—В–Є–Ї–∞, –Њ–љ –≤–Ј–Љ–∞—Е–љ—Г–ї —А—Г–Ї–∞–Љ–Є –Є, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –≤ –і—А—Г–ґ–µ—Б–Ї–Є–µ –Њ–±—К—П—В–Є—П, –±—А–Њ—Б–Є–ї—Б—П –≤ –њ—А–Њ–Ј—А–∞—З–љ—Л–µ –≤–Њ–і—Л –Љ–Њ—А—П, —Б –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є –Ј–∞ –Љ–љ–Њ–≥–Њ –ї–µ—В –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є—П –µ–Љ—Г –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М —В–∞–Ї –Ї—А–µ–њ–Ї–Њ —Б—А–Њ–і–љ–Є—В—М—Б—П. –Ч–і–µ—Б—М, —А–∞–љ–µ–љ–љ—Л–є –≤ –њ–ї–µ—З–Њ –Њ—Б–Ї–Њ–ї–Ї–Њ–Љ, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –њ–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ –Є–Ј–љ–µ–Љ–Њ–≥–∞–ї, –∞ —З–µ—А–µ–Ј –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Љ–∞—В—А–Њ—Б—Л, –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–≤—И–Є–µ –µ–≥–Њ, –Ј–∞–Љ–µ—В–Є–ї–Є, —З—В–Њ —Г –љ–µ–≥–Њ –±–µ—Б–њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Њ —Б–≤–µ—И–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –≥–Њ–ї–Њ–≤–∞. –Ю–љ —Б–ї–∞–±–Њ –њ—А–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї:
- –Ю—Б—В–∞–≤—М—В–µ –Љ–µ–љ—П. –°–њ–∞—Б–∞–є—В–µ—Б—М —Б–∞–Љ–Є. –Ь–љ–µ –≤—Б–µ —А–∞–≤–љ–Њ –њ–Њ–≥–Є–±–∞—В—МвА¶
–Ш –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –Ј–∞–Ї—А—Л–ї –≥–ї–∞–Ј–∞. –С–Њ–ї—М—И–µ –Њ–љ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –≥–Њ–≤–Њ¬ђ—А–Є–ї. –Э–Њ –Љ–∞—В—А–Њ—Б—Л –µ—Й–µ –і–Њ–ї–≥–Њ –њ–ї–∞–≤–∞–ї–Є –Њ–Ї–Њ–ї–Њ –љ–µ–≥–Њ –Є –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —В–Њ–≥–і–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –Њ–Ї–Њ—З–µ–љ–µ–ї (–Я–Њ –і—А—Г–≥–Є–Љ –і–∞–љ–љ—Л–Љ —Б–∞–Љ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А, —Б—В–∞—А—И–Є–є –Њ—Д–Є—Ж–µ—А –Ь—Г—Б–∞—В–Њ–≤, –Љ–Є–љ–љ—Л–є –Њ—Д–Є—Ж–µ—А –С. –Ц–і–∞–љ–Њ–≤ –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є—Б—М –њ–Њ–Ї–Є–љ—Г—В—М —Б–≤–Њ–є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М –Є –њ–Њ–≥–Є–±–ї–Є —Б –љ–Є–Љ —Б–Љ. ¬Ђ–С–Њ–µ–≤–∞—П –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б—М —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞: –•—А–Њ–љ–Є–Ї–∞ –≤–∞–ґ–љ–µ–є—И–Є—Е —Б–Њ–±—Л—В–Є–є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞ —Б IX –≤. –њ–Њ 1917 –≥.¬ї).
–Р –Ї—А—Г–≥–Њ–Љ, –≤—Л–±–Є–≤–∞—П—Б—М –Є–Ј —Б–Є–ї –Є –і—А–Њ–ґ–∞ –Њ—В —Е–Њ–ї–Њ–і–∞, –ї—О–і–Є –њ—А–Њ—Й–∞–ї–Є—Б—М –і—А—Г–≥ —Б –і—А—Г–≥–Њ–Љ, –Љ–Њ–ї–Є–ї–Є—Б—М –±–Њ–≥—Г, –њ—А–Њ–Ї–ї–Є–љ–∞–ї–Є —Б–≤–Њ—О —Б—Г–і—М–±—Г. –°–Є–ї—М–љ—Л–µ –Є –Ї—А–µ–њ–Ї–Є–µ –Љ–Њ—А—П–Ї–Є, –ї–µ–≥–Ї—А –і–µ—А–ґ–∞—Б—М –љ–∞ –≤–Њ–і–µ, –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–ї–Є —Б–њ–∞—Б–∞—В—М—Б—П —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–∞–Љ –Є –њ–µ—А–µ–і–∞–≤–∞–ї–Є –Є–Љ –±–Њ–ї–µ–µ –љ–∞-–і–µ–ґ–љ—Л–µ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –і–ї—П –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є—П. –Э–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –љ–µ—Г–љ—Л–≤–∞—О—Й–Є–µ –ї—О–і–Є –і–∞–ґ–µ –Є –≤ —Н—В–Є —Б—В—А–∞—И–љ—Л–µ –Љ–Є–љ—Г—В—Л —Б–Њ—Е—А–∞–љ—П–ї–Є –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ –і—Г—Е–∞, —И—Г—В–Є–ї–Є, —Б–Љ–µ—П–ї–Є—Б—М –љ–∞–і —Б–≤–Њ–Є–Љ –±–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –њ–Њ¬ђ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ. –Ю–і–Є–љ –Є–Ј –Љ–∞—В—А–Њ—Б–Њ–≤ –њ–ї–∞–≤–∞–ї —Б –њ–∞–њ–Є—А–Њ—Б–Ї–Њ–є –Ј–∞ —Г—Е–Њ–Љ.
- –С—А–∞—В—Ж—Л, –љ–µ—В –ї–Є —Г –Ї–Њ–≥–Њ —Б–њ–Є—З–Ї–Є –Ј–∞–Ї—Г—А–Є—В—М? вАУ —Б–њ—А–∞—И–Є¬ђ–≤–∞–ї –Њ–љ –Љ–∞—В—А–Њ—Б–Њ–≤ —Б —В–∞–Ї–Њ–є –Љ–Њ–ї—М–±–Њ–є, –Ї–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ –Њ—В —Н—В–Њ–≥–Њ –Ј–∞–≤–Є—Б–µ–ї–Њ –µ–≥–Њ —Б–њ–∞—Б–µ–љ–Є–µ.
–Ш–Ј –≤–Њ–і—Л –≤–і—А—Г–≥ –≤—Л—Б—Г–љ—Г–ї–Є—Б—М –±–Њ—Б—Л–µ –љ–Њ–≥–Є. –°–≥–Є–±–∞—П—Б—М –≤ –Ї–Њ¬ђ–ї–µ–љ—П—Е, –Њ–љ–Є –і—А—Л–≥–∞–ї–Є, –Ї–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ –і–µ–ї–∞–ї–Є –≥–Є–Љ–љ–∞—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Г–њ—А–∞–ґ–љ–µ–љ–Є—П. –Я–µ—А–≤—Л–Љ –њ–Њ–і–њ–ї—Л–ї –Ї –љ–Є–Љ –Љ–∞—И–Є–љ–Є—Б—В –У—А–Є–≥–Њ—А–Є–є –°–Ї–Њ–њ–Њ–≤. –Ю–љ –±–µ–Ј —В—А—Г–і–∞ –≤—Л–њ—А–∞–≤–Є–ї –њ–Њ—В–µ—А—П–≤—И–µ–≥–Њ —А–∞–≤–љ–Њ–≤–µ—Б–Є–µ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞. –≠—В–Њ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –Њ–њ—А–Њ–Ї–Є–љ—Г–≤—И–Є–є—Б—П –≤–љ–Є–Ј –≥–Њ–ї–Њ–≤–Њ–є –Ї–Њ¬ђ—З–µ–≥–∞—А –°–µ–Љ–µ–љ –Ь–Є–љ–µ–µ–≤, —Г –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —Б–њ–∞—Б–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є –љ–∞–≥—А—Г–і–љ–Є–Ї –±—Л–ї –њ–Њ–і–≤—П–Ј–∞–љ —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ –љ–Є–Ј–Ї–Њ. –Т–Љ–µ—Б—В–µ –Њ–љ–Є –њ–Њ–њ–ї—Л–ї–Є –і–∞–ї—М—И–µ.
–Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ —З–µ—А–µ–Ј –і–≤–∞ —З–∞—Б–∞ –њ–Њ–і–Њ—И–ї–Є –і–≤–∞ —П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Є—Е –Ї—А–µ–є—Б–µ—А–∞: ¬Ђ–Ш–≤–∞—В–µ¬ї –Є ¬Ђ–ѓ–Ї—Г–Љ–Њ¬ї. –°–њ—Г—Б—В–Є–≤ —И–ї—О–њ–Ї–Є, –Њ–љ–Є –њ—А–Є—Б—В—Г–њ–Є–ї–Є –Ї —Б–њ–∞—Б–µ–љ–Є—О –ї—О–і–µ–є. –Ъ –Њ—В–Њ–Љ—Г –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –њ–ї–Њ–≤—Ж–Њ–≤ —А–∞–Ј–љ–µ—Б–ї–Њ –≤–Њ–ї–љ–∞–Љ–Є –≤ —А–∞–Ј–љ—Л–µ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –Њ—В –Љ–µ—Б—В–∞ –Ј–∞—В–Њ–њ–ї–µ–љ–Є—П ¬Ђ–£—И–∞–Ї–Њ–≤–∞¬ї. –Я–Њ–Ї–∞ –њ–Њ–і–±–Є—А–∞–ї–Є –Є–Ј –≤–Њ–і—Л –ї—О–і–µ–є, —Б—В–µ–Љ–љ–µ–ї–Њ. –Я–Њ¬ђ—Б–ї–µ–і–љ–Є—Е –њ–ї–Њ–≤—Ж–Њ–≤, –µ–ї–µ –ґ–Є–≤—Л—Е –Є –Њ–Ї–Њ—З–µ–љ–µ–≤—И–Є—Е, –Є—Б–Ї–∞–ї–Є —Г–ґ–µ –ї—Г—З–∞–Љ–Є –њ—А–Њ–ґ–µ–Ї—В–Њ—А–Њ–≤. –≠—В–Є–Љ –љ–µ—Б—З–∞—Б—В–љ—Л–Љ –≤ —В–µ–Љ–љ–Њ—В–µ –±—Л–ї–Њ —В—П¬ђ–ґ–µ–ї–µ–µ, —З–µ–Љ –љ–∞ –±—А–Њ–љ–µ–љ–Њ—Б—Ж–µ –≤ –±–Њ—О. –Ґ–∞–Љ —Б–љ–∞—А—П–і –Љ–Њ–≥ –њ—А–Њ–ї–µ—В–µ—В—М –Є –Љ–Є–Љ–Њ, –∞ –Ј–і–µ—Б—М –Њ–љ–Є —Г–ґ–µ –Ј–∞—Е–ї–µ–±—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М –≤ —Е–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ–є –њ—Г—З–Є–љ–µ –Љ–Њ—А—П. –Ъ–∞–ґ–і–Њ–Љ—Г —Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ–±—Л –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –љ–∞ –љ–µ–≥–Њ —Б–Ї–Њ—А–µ–є —Г–њ–∞–ї –ї—Г—З –њ—А–Њ–ґ–µ–Ї—В–Њ—А–∞, –∞ –ї—Г—З —Б–Ї–Њ–ї—М–Ј–Є–ї –њ–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ–∞–Љ, –Њ—Б—В–∞–≤¬ђ–ї—П—П –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –љ–µ–Ј–∞–Љ–µ—З–µ–љ–љ—Л–Љ–Є. –£–ґ–∞—Б–∞–ї–∞ –Љ—Л—Б–ї—М, —З—В–Њ –Њ–љ–Є –љ–µ –њ–Њ–њ–∞–і—Г—В –љ–∞ —И–ї—О–њ–Ї—Г.
–°–њ–∞—Б–µ–љ–Є–µ –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–ї–Њ—Б—М –≤ –њ–Њ–ї–љ–Њ–є —В–µ–Љ–љ–Њ—В–µ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ –і–µ–≤—П—В–Є —З–∞—Б–Њ–≤ –≤–µ—З–µ—А–∞. –Ш–Ј —З–µ—В—Л—А–µ—Е—Б–Њ—В —Б–Њ—А–Њ–Ї–∞ –і–≤—Г—Е —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –≤—Б–µ–≥–Њ вАУ —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–∞ ¬Ђ–£—И–∞–Ї–Њ–≤–∞¬ї –љ–∞ –Њ–±–∞ –Ї—А–µ–є—Б–µ—А–∞ –њ–Њ–њ–∞–ї–Њ –ґ–Є–≤—Л–Љ–Є —В—А–Є¬ђ—Б—В–∞ —В—А–Є–і—Ж–∞—В—М –і–µ–≤—П—В—М —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї. –°—А–µ–і–Є –љ–Є—Е –љ–µ –±—Л–ї–Њ –і–Њ–±–ї–µ—Б—В¬ђ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞. –Ю–љ –Њ—Б—В–∞–ї—Б—П –≤ –Љ–Њ—А–µ –Є —Г–Љ–µ—А –Ї–∞–Ї –≥–µ—А–Њ–є.
–°–њ–∞—Б—И–Є–є—Б—П —И—В—Г—А–Љ–∞–љ –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –Ј–∞–њ–Є—Б–∞–ї —Б–µ–±–µ –љ–∞ –њ–∞–Љ—П—В—М:
- ¬Ђ–ѓ–њ–Њ–љ—Б–Ї–Њ–µ –Љ–Њ—А–µ. –®–Є—А–Њ—В–∞ вАУ 37¬∞ —Б–µ–≤–µ—А–љ–∞—П –Є –і–Њ–ї–≥–Њ—В–∞ вАУ 133¬∞ 30' –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–µ–µ –Њ—В –У—А–Є–љ–≤–Є—З–∞¬ї.
–≠—В–Њ –Є –µ—Б—В—М —В–Њ—З–љ–Њ–µ –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –Љ–µ—Б—В–∞ –Ј–∞—В–Њ–њ–ї–µ–љ–Є—П –±—А–Њ–љ–µ¬ђ–љ–Њ—Б—Ж–∞ ¬Ђ–Р–і–Љ–Є—А–∞–ї –£—И–∞-–Ї–Њ–≤¬ї, –і–Њ—Б—В–Њ–є–љ–Њ –љ–Њ—Б–Є–≤—И–µ–≥–Њ –Є–Љ—П –≤–µ–ї–Є¬ђ–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–Њ–≤–Њ–і—Ж–∞. –ѓ–њ–Њ–љ—Ж–∞–Љ–Є –Є–Ј –≤–Њ–і—Л –њ–Њ–і–Њ–±—А–∞–љ–Њ 11 –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤, 7 –Ї–Њ–љ–і—Г–Ї—В–Њ—А–Њ–≤ –Є 319 –Љ–∞—В—А–Њ—Б–Њ–≤. –Я–Њ–≥–Є–±–ї–Є –Ї—А–Њ–Љ–µ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ 5 –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤, 3 –Ї–Њ–љ–і—Г–Ї—В–Њ—А–∞ –Є 83 –Љ–∞—В—А–Њ—Б–∞.
–≠—Б–Ї–∞–і—А–µ–љ–љ—Л–є –±—А–Њ–љ–µ–љ–Њ—Б–µ—Ж ¬Ђ–Э–∞–≤–∞—А–Є–љ¬ї–≠—Б–Ї–∞–і—А–µ–љ–љ—Л–є –±—А–Њ–љ–µ–љ–Њ—Б–µ—Ж ¬Ђ–Э–∞–≤–∞—А–Є–љ¬ї —Б–≤–Њ–Є–Љ –≤–љ–µ—И–љ–Є–Љ –Њ–±¬ђ–ї–Є–Ї–Њ–Љ —А–µ–Ј–Ї–Њ –≤—Л–і–µ–ї—П–ї—Б—П –Є–Ј –≤—Б–µ–є 2-–є —Н—Б–Ї–∞–і—А—Л. –®–Є—А–Њ–Ї–Є–є –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–Њ–Љ, –Њ–љ –Є–Љ–µ–ї —З–µ—В—Л—А–µ –≥—А–Њ–Љ–∞–і–љ—Л—Е —В—А—Г–±—Л, —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л—Е –Ї–≤–∞–і—А–∞—В–Њ–Љ, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –љ–Њ–ґ–Ї–Є –Њ–њ—А–Њ–Ї–Є–љ—Г—В–Њ–≥–Њ —Б—В–Њ–ї–∞. –Я–Њ —Н—В–Є–Љ —В—А—Г–±–∞–Љ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ —Б –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –≤–Ј–≥–ї—П–і–∞ –Њ—В–ї–Є—З–Є—В—М –µ–≥–Њ –Њ—В –і—А—Г–≥–Є—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є. –Т–Є–і —Г –љ–µ–≥–Њ –±—Л–ї –≥—А–Њ–Ј–љ—Л–є, –љ–Њ —П–њ–Њ–љ—Ж—Л, –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ, —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –Ј–љ–∞–ї–Є, —З—В–Њ –µ–≥–Њ –і–∞–ґ–µ –і–≤–µ–љ–∞–і—Ж–∞—В–Є–і—О–є–Љ–Њ–≤—Л–µ –Њ—А—Г–і–Є—П, —Б—В—А–µ–ї—П–≤—И–Є–µ –і—Л–Љ–љ—Л–Љ –њ–Њ—А–Њ—Е–Њ–Љ, —Б–≤–Њ–µ–є –і–∞–ї—М–љ–Њ–±–Њ–є–љ–Њ—Б—В—М—О –љ–µ –њ—А–µ–≤—Л—И–∞–ї–Є —Б–Њ—А–Њ–Ї–∞ –њ—П—В–Є –Ї–∞–±–µ–ї—М—В–Њ–≤—Л—Е. –°—А–µ–і–Є –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤ –Є –Љ–∞—В—А–Њ—Б–Њ–≤ –Њ–љ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї—Б—П –њ–Њ-–і—А—Г–≥–Њ–Љ—Г: ¬Ђ–С–ї—О–і–Њ —Б –Љ—Г–Ј—Л–Ї–Њ–є¬ї.
–Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–ї –±—А–Њ–љ–µ–љ–Њ—Б—Ж–µ–Љ —Б—В–∞—А—Л–є –Є –±—Л–≤–∞–ї—Л–є –Љ–Њ—А—П–Ї –њ—П—В–Є–і–µ—Б—П—В–Є —З–µ—В—Л—А–µ—Е –ї–µ—В, –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ 1-–≥–Њ —А–∞–љ–≥–∞ –§–Є—В–Є–љ–≥–Њ—Д. –°—А–µ–і¬ђ–љ–µ–≥–Њ —А–Њ—Б—В–∞, —Г–≥–ї–Њ–≤–∞—В—Л–є, –Љ–Њ–ї—З–∞–ї–Є–≤—Л–є, —Б –≥–ї–∞–Ј–∞–Љ–Є –љ–µ–Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Ж–≤–µ—В–∞, —Б —А–∞–Ј–Њ—А–≤–∞–љ–љ–Њ–є –љ–Њ–Ј–і—А–µ–є –њ—А–Є–њ–ї—О—Б–љ—Г—В–Њ–≥–Њ –љ–Њ—Б–∞, –Њ–љ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є–ї –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є–µ –Љ—А–∞—З–љ–Њ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞. –°–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –Њ–±¬ђ–ї—Л—Б–µ–≤—И–∞—П –≥–Њ–ї–Њ–≤–∞ –µ–≥–Њ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –±—Л–ї–∞ —З–µ–Љ-—В–Њ –Њ–Ј–∞–±–Њ—З–µ–љ–∞. –Ь–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г –Њ–љ –Љ–∞–ї–Њ —Г–і–µ–ї—П–ї –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П —Б–≤–Њ–µ–є –≤–љ–µ—И–љ–Њ—Б—В–Є:
—Д–Њ—А–Љ–∞ —Б–Є–і–µ–ї–∞ –љ–∞ –љ–µ–Љ –Љ–µ—И–Ї–Њ–≤–∞—В–Њ, —Б–µ–і–∞—П –±–Њ—А–Њ–і–∞ —А–µ–і–Ї–Њ —А–∞—Б—З–µ—Б—Л–≤–∞–ї–∞—Б—М, —И–µ—П –Њ–±—А–Њ—Б–ї–∞ –Љ–µ–ї–Ї–Є–Љ–Є –Ї—Г–і—А—П–≤—Л–Љ–Є –≤–Њ–ї–Њ—Б–∞–Љ–Є, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –њ–Њ–Ї—А—Л–ї–∞—Б—М —Б–µ—А—Л–Љ –Љ—Е–Њ–Љ. –Я–Њ–Ј–љ–∞–≤—И–Є–є —Е–Њ—А–Њ—И–Є–µ –Є –њ–ї–Њ—Е–Є–µ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –ґ–Є–Ј–љ–Є, –Њ–љ –±–Њ–ї—М—И–µ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –µ—О –љ–µ –≤–Њ—Б—В–Њ—А–≥–∞–ї—Б—П –Є –љ–Є¬ђ–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї –Њ—В –љ–µ–µ –≤ –Њ—В—З–∞—П–љ–Є–µ. –Я—Б–Є—Е–Є–Ї–∞ –µ–≥–Њ –љ–∞¬ђ—Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Г—Б—В–Њ—П–ї–∞—Б—М, —З—В–Њ –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є–Љ–Є —Б–Њ–±—Л—В–Є—П–Љ–Є –љ