К утру был получен приказ командующего: три наиболее боеспособные подлодки направить в главную базу флота Таллин. Остальным лодкам и плавбазам следовать в Кронштадт. Затем, насколько помню, уже после нашего выхода из Палдиски, поступило дополнительное приказание: командиру бригады быть с лодками, идущими в Таллин.
Наш курс был проложен вдоль берега залива с обходом острова Нарген с юга, почти через Таллинский рейд. Здесь, при виде Таллина, Е гипко перешёл на подводную лодку, которая вместе с двумя другими повернула в Главную базу. Это были С-5, С-6 и С-9. А я повёл остальную группу кораблей дальше. Долго ли будем с комбригом порознь, не знали, и некогда было продумать детали управления бригадой на это время. Оставалось полагаться на то, что связь между Таллином и Кронштадтом надёжна.

Командир бригады строящихся и ремонтирующихся подводных лодок Алексей Тимофеевич Заостровцев
30 июня плавбазы и лодки ошвартовались у каменных причалов кронштадтской Купеческой гавани, давно уже отведённой подводникам. Родным был весь привычный облик Кронштадта: и гранитные стенки гаваней, и тёмная зелень старинного Петровского парка с выступающей из неё бронзовой фигурой Петра, и труба Морзавода.
А на востоке словно парил над горизонтом в дымке летнего дня незакамуфлированный ещё купол Исаакия.
Нас встретил командир бригады строящихся и капитально ремонтирующихся подводных лодок контр-адмирал А.Т.Заостровцев, старый балтиец, плававший на «Барсах» матросом ещё до революции, но также и ветеран-тихоокеанец, о чём уже известно читателю. На кронштадтской береговой базе подплава он был хозяином, а группа лодок его соединения готовилась здесь к боевым действиям.
Назревала реорганизация Балтийского подплава
Организация боевого управления подводными лодками в кампанию сорок первого года на Балтике обуславливалась тем, что на позиции их посылало не одно соединение. Сперва были две действующие бригады, а затем больше. Естественно, нужно было, во избежание всякого рода накладок, управлять находящимися в море лодками с одного КП, что и взял на себя штаб флота. А штабы бригад готовили лодки к походам, разрабатывали полученные от штаба флота задания и боевую документацию. Конечно, мы непрерывно следили за каждой подлодкой, принимали параллельно со штабом флота её сигналы и донесения, передавали ей необходимую информацию. Но самостоятельно управлять ею, скажем, изменять задание или отзывать с позиции, командир бригады тогда не мог.
Общая задача всех подводных соединений была определена Военным советом флота так: уничтожение боевых кораблей противника, борьба на коммуникациях и донесение об обнаружении линкоров и крейсеров.
Таким образом, лодки нацеливались в первую очередь против военных кораблей германского флота, что вытекало из тогдашних оценок оперативной обстановки. Продолжало считаться вероятным, что гитлеровское командование может, в целях развития своего наступления, предпринять крупную десантную операцию, для обеспечения которой понадобится использовать артиллерийские боевые корабли.
Но свои надводные корабли противник в северо-восточную часть Балтики не вводил. И вообще, море здесь стало довольно пустынным. Как я уже говорил, с первых дней войны резко сократились морские перевозки в тех районах, которые охватывались выходами наших подлодок. Обнаруживались лишь небольшие одиночные транспорты и самоходные баржи вблизи берегов, где лодки не могли атаковать из-за малых глубин. Этим, прежде всего, и объяснялось, что сперва боевые походы подводников оказывались безрезультатными.
Первую за войну успешную торпедную атаку осуществила подводная лодка С-11 из бригады Заостровцева.
Раньше это соединение только вводило или возвращало в строй подводные корабли, передавая их «по готовности» другим бригадам. Но в начале войны бригаде строящихся и капитально ремонтирующихся подлодок было приказано самой посылать в боевые походы готовые к этому корабли. Так появилось на Балтике ещё одно действующее соединение подплава. В связи с этим окончательно утратило силу разделение морского театра на операционные зоны двух бригад, ставшее практически ненужным уже в силу того, что позицию каждой лодке назначал штаб флота.
Подводная лодка С-11, только недавно поднявшая Военно-морской флаг, 14 июля вышла в боевой поход из Таллина. 19 июля она атаковала и потопила в прибрежном районе между Палангой и Мемелем немецкий транспорт водоизмещением (как установили впоследствии по трофейным документам) 5 тысяч брутто-регистровых тонн. Это была первая победа балтийских подводников и всех советских подводников в Великой Отечественной войне. Командовал этой подлодкой капитан-лейтенант А.М.Середа. С молодым командиром в море был командир дивизиона капитан 3-го ранга И.Н.Тузов.
О потоплении фашистского транспорта сообщило Совинформбюро. В то время, при тяжёлом положении на фронтах, для страны было особенно дорого всякое известие о боевом успехе, достигнутом на суше или на море.
Но встретить С-11 в базе и поздравить товарищей с победой не свелось никому… Когда подлодке пришло время возвращаться, ей было назначено рандеву с эскортными кораблями, которые должны были провести её по фарватерам Финского залива. Это рандеву почти состоялось: со сторожевых катеров, поджидавших С-11 в проливе Соэла-Зунд между островами Хийума и Саарема уже увидели и опознали её. Внезапно у борта лодки произошёл взрыв, и она быстро затонула. Командиры катеров посчитали, что её потопила вражеская подлодка, хотя следа торпед никто не заметил. В действительности, как потом установили, С-11 подорвалась на магнитной мине.
Катерники подняли из воды тело убитого при взрыве командира дивизиона И.Н.Тузова, тяжелораненых командира корабля А.М.Середу и инженера-механика М.Ш.Бабиса. Раненые были доставлены в островной госпиталь, но спасти их врачи не смогли.
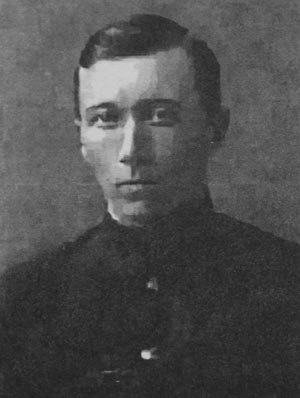
Командир подводной лодки С-11 Анатолий Михайлович Середа
Остальной же экипаж лодки погиб всё-таки не весь. С этим связана история, облетевшая вскоре флот и ставшая, при всей её достоверности, новой балтийской легендой. Не забыта эта история и поныне. Она передаётся от поколения к поколению балтийских моряков вместе с другими героическими былями, свидетельствуя, на что способны смелые и умелые, не теряющиеся ни при каких обстоятельствах люди.
А произошло тогда вот что. В седьмом, концевом, отсеке, где расположены кормовые торпедные аппараты, находились в момент потопления лодки четверо краснофлотцев. Дверь в соседний шестой отсек, который быстро затопило, была задраена. Однако и в седьмом корпус имел повреждения, и отсек также заполнялся водой. Свет погас. Но краснофлотцы, хорошо ориентировавшиеся в своём отсеке, сумели в темноте остановить поступление воды. И, может быть, это придало им сил бороться за свою жизнь дальше. Моряки приняли решение выходить из лодки через трубу торпедного аппарата.
Сперва ещё требовалось освободить один из аппаратов, — оба они были заряжены. С этим справились весьма грамотно: вытолкнули торпеду сжатым воздухом, взятым из торпеды, находившейся в другом аппарате. Чтобы сделать это в темноте, на ощупь, стоя по пояс в воде, нужны были не просто мастерство в своём деле, и не просто мужество, а высочайшей пробы сплав того и другого.
В отсеке не оказалось даже младшего командира, — старшины. Руководил всеми действиями старший торпедист Н.Никишин, стоявший по службе лишь на самую маленькую ступенечку выше своих товарищей. Он старший краснофлотец, остальные: комендор В.Зиновьев, электрики А.Мазнин и А.Мареев — просто краснофлотцы. Но это минимальное старшинство признавалось всеми потому, что оно подкреплялось умелостью, находчивостью, неустрашимостью их неназначенного командира.
Когда все приготовления были закончены, моряки включились в индивидуальные спасательные приборы, перейдя на дыхание кислородом. Никишин открыл заднюю, внутреннюю, крышку торпедного аппарата. В отсек хлынула вода, давление уравнялось с забортным, и можно было начинать выход. Все четверо осваивали технику подъёма с глубины в водолазной башне Учебного отряда подплава. Но в море всё сложнее. Прежде чем подниматься наверх, надо было проползти семь метров в тесной трубе торпедного аппарата, где достаточно одного неловкого движения, чтобы сбить дыхательный прибор. Первым пополз, конечно, Никишин, толкая перед собой буй с пеньковым тросом, который требовалось закрепить за наружную крышку аппарата.
Не буду подробно описывать всё дальнейшее. Скажу только, что наступила уже ночь, и никаких наших кораблей на месте гибели подлодки не оказалось: катерники ушли, не ожидая, что из моря может кто-то вынырнуть. Никишин, поднявшись с 18-метровой глубины, вплавь добрался до не очень близкого острова и, обессилев, чуть не захлебнулся уже в прибрежном мелководье, но был замечен обходившим берег патрулём. Потом он на катере вернулся к бую, где ждали помощи двое товарищей, не надеявшихся самостоятельно доплыть до острова. Один из четвёрки — А.Мареев из отсека не вышел: должно быть, что-то случилось с ним в торпедном аппарате.
Так закончилась эта история. Её герои приобрели большую популярность среди балтийских подводников.
Но не помню, чтобы в то время кто-нибудь назвал совершённое ими подвигом. К употреблению этого высокого слова мы относились строго. Все трое вернулись в строй, прошли всю войну и живыми-здоровыми встретили Победу.
Мой старый сослуживец капитан 1-го ранга Е.Г.Юнаков, ныне покойный, писал мне несколько лет назад, вспоминая этот эпизод: «Они не были награждены даже медалями».
Теперь это, действительно, может показаться непонятным. Но тогда ни командиры соединений, ни Военный совет флота ещё не обладали предоставленным им впоследствии правом награждать орденами и медалями от имени Президиума Верховного Совета СССР. Все представления к наградам направлялись в Москву, и представляли очень немногих. Награждать за то, что человек, пусть проявив недюжинное мужество, сумел избежать грозившей ему гибели, было не принято.
И вообще о наградах думали меньше всего, — слишком трудное было время. Остаётся добавить, что Никишин, избежавший гибели в суровом море, в жарких боях, уже после войны погиб от ножа хулигана, заступившись за девушку...
Л-3 открывает боевой счёт бригады
Из подлодок нашей бригады первой достигла зафиксированного боевого успеха Л-3 через два дня после того, как потопила немецкий транспорт не вернувшаяся в базу С-11.
Именно о зафиксированном успехе я говорю потому, что нам пока ничего не было известно о действии мин, выставленных той же лодкой раньше, в её первом боевом походе. В новый поход капитан 3-го ранга П.Д.Грищенко выходил из Таллина, где эстонские судоремонтники привели лодку в порядок после встряски при разрывах глубинных бомб. Мины для неё мы отправили из Кронштадта на сторожевике. Направлялась Л-3 по балтийским меркам довольно далеко — в район Данцигской бухты.

Подводный минный заградитель «Ленинец» в боевом походе
На современных картах такого названия нет. То, что именовалось Данцигской бухтой, ныне — Гданьский залив. И это гораздо правильнее, потому что имеется в виду не какая-то небольшая акватория, зажатая между берегами, а обширное водное пространство, целый «угол» моря с несколькими портами. У гитлеровцев в этом районе, помимо многого другого, сосредоточивались подводное судостроение и испытания новых подлодок, подготовка экипажей для них. Здесь пролегали также важные коммуникации, на которых уж никак не могло не быть движения судов.
Командир Л-3 имел приказ выставить мины на наиболее вероятных маршрутах. Разумеется, Грищенко готовился и к торпедным атакам, была бы подходящая цель!
Но сама обстановка потребовала, чтобы лодка действовала прежде всего как минзаг. На подходах к Данцигской бухте были замечены две пары немецких тральщиков, занятых тралением, и сразу возникло предположение, что это контрольное траление фарватера перед выходом транспортов или каких-то ценных кораблей.
Со свойственным ему упорством Грищенко наблюдал за работой тральщиков в течение многих часов. Пасмурная погода с ограниченной видимостью позволяла приподнимать перископ, но для слежения за тральщиками использовалась и гидроакустика. Чтобы точно установить ось фарватера, подводная лодка временами держалась впереди тральщиков на том же курсе. А когда они ушли, на только что проверенном ими фарватере были поставлены мины.
Отойдя мористее, Грищенко стал ждать результатов минной постановки, надеясь, что они последуют скоро. И не ошибся. Через два часа из-за мыса показался караван судов, сопровождаемых сторожевыми катерами, А затем подводники услышали взрыв, за ним — ещё один. В перископ смогли увидеть, что подорвался головной транспорт, потом всё заволокло дымом. И лодке пора было уходить: вокруг уцелевших судов стали носиться катера, сбрасывая глубинные бомбы.
Сперва мы считали, что уничтожены два военно-транспортных судна. Это было неплохим и необычно быстрым результатом активной минной постановки. Но он оказался ещё не окончательным. Как было установлено позже, на минах, поставленных в тот день, подорвались немецкие транспорты «Поллукс», «Эгерау» и «Ханни», а также один тральщик.
Лодка, хотя она и не израсходовала ещё свои торпеды, получила от командования флота приказ возвращаться в Таллин за новой партией мин. Подводные минзаги имело смысл использовать по главному их назначению.
Однако из Таллина пришлось отправить Л-3 в Кронштадт. И не за минами, а для срочного ремонта. На пути из Данцигской бухты лодку преследовали неприятельские катера, и их бомбы разрывались подчас довольно близко. Корпус лодки, правда, не пострадал, двигатели не отказывали, но разных других повреждений было немало. В этом я убедился сам, осмотрев прибывшую в Кронштадт лодку. Сильно пострадали навигационные приборы, не действовал гирокомпас, а из-за повреждения рубочного люка командир мог попасть из центрального поста на мостик (а комендоры — к орудиям) лишь кружным путём, через носовой палубный люк, от которого до рубки и пушек добрых два десятка метров. Чем это чревато при всплытиях в не совсем ясной обстановке и насколько могло задержать погружение, объяснять, наверное, не нужно.
— Когда всплывали, встретившись со своими катерами и разглядев их в перископ, — рассказывал Пётр Денисович Грищенко, — катерники оказались у нас на палубе раньше, чем я выбрался наверх через первый отсек...
Появление Л-3 в тех районах моря, куда наши подлодки ещё не доходили, имело и такой результат, зафиксированный вскоре дальней воздушной разведкой: в западной части Балтики погасли немецкие и датские маяки. До того они светили, как в мирное время. (Дания была оккупирована гитлеровцами). Через некоторое время маяки, правда, зажглись снова. Должно быть, германское морское командование сочло, что прорыв в те воды нашей подводной лодки — случайная удача, которая не повторится. За это заблуждение гитлеровцам пришлось потом расплачиваться.
Два других наших подводных минзага «Лембит» и «Калев» смогли начать боевые действия лишь на втором месяце войны.
Первый боевой поход «Лембита»
Выяснилось, что «Лембиту» неотложно нужен ремонт, и лодку поставили в один из кронштадтских доков. За это время командир «Лембита» капитан-лейтенант В.А.Полещук сам нашёл себе необходимого помощника. Поехав по делам в Ленинград, он случайно встретил товарища по торговому флоту, по дальним плаваниям, который тоже был мобилизован в Военно-Морской Флот, только что окончил командирские классы при Учебном отряде подплава и ждал назначения. Полещук отзывался об этом моряке очень лестно, и уже заручился его согласием (кстати, вовсе не обязательным в военное время) служить на «Лембите». Доверяя выбору Владимира Антоновича, я связался с командиром бригады и посоветовал поддержать просьбу Полещука и постараться, чтобы этот кадровый вопрос решили в штабе флота побыстрее.
Недели за полторы до выхода «Лембита» в первый боевой поход, мне представился назначенный помощником командира старший лейтенант Алексей Михайлович Матиясевич. На кителе у него был орден «Знак Почёта». Оказалось, что это награда за участие в проводке на Дальний Восток Северным морским путём двух балтийских эсминцев (переход обеспечивали и гражданские моряки, знатоки полярных морей). А год назад, летом сорокового, когда гитлеровцы захватывали Голландию, Матиясевичу довелось выводить из Роттердама построенный там по советскому заказу плавучий кран.
У старшего лейтенанта вообще была интересная биография. Е го отец М.С.Матиясевич, полковник старой русской армии, полный георгиевский кавалер, стал в Гражданскую войну красным командармом, командовал 7-й армией под Петроградом, 3-й и 5-й Краснознамённой армиями на Восточном фронте. А в сорок первом году защищали Родину пять сыновей командарма, в том числе двое — в рядах флота.
Старший лейтенант А.М.Матиясевич производил хорошее впечатление, хотя, конечно, ему ещё надо было набираться и набираться практического опыта подводной службы. И делать это теперь предстояло не в учебных плаваниях, а в боевых походах. Тогда я не мог знать, что с именем этого молодого подводника будут связаны главные события в большой и, можно сказать, счастливой военной судьбе «Лембита».
На «Лембите» и на «Калеве» продолжали службу несколько старшин-сверхсрочников из прежней, эстонской, команды подводной лодки: боцман Эдуард Аартеэ, старшина группы электриков Сикемяэ, старшина группы мотористов Сумера... Солидные люди, уже не очень молодые, они добровольно вступили в ряды нашего флота, приняли присягу, получили звания мичманов.
Особенно опытными подводниками они не могли быть просто потому, что буржуазная Эстония держала под своим флагом две подводные лодки главным образом из престижных соображений, и плавали они мало. Находясь на Балтике уже пять лет, обе лодки произвели первые учебные постановки мин только после того, как стали советскими кораблями. Но эстонские старшины любили свои лодки, хорошо знали и содержали технику. Они очень помогли краснофлотцам, да и командному составу освоить корабли, отличавшиеся устройством от наших.
Было отрадно, что эти новые советские граждане нашли своё место в строю защитников нашего социалистического Отечества, готовы идти за него на смертный бой.
«Лембит» посылался ещё дальше, чем ходила Л-3, — за остров Борнхольм, в предпроливную зону Балтики. Иначе говоря, в такие воды, которые немцы могли считать своими тылами. Т ам у них были порты, принимавшие стратегическое сырьё, — шведскую железную руду, и действовали ещё линии паромных перевозок. Капитан-лейтенанту Полещуку давалось право потратить три-четыре дня на разведку района и, сориентировавшись, самому решить, где ставить мины.
Путь в дальний конец Балтики был нелёгким. На третью ночь после того, как тральщики провели подводную лодку до устья Финского залива, штаб флота и мы получили от командира «Лембита» радиограмму о том, что сильным штормом (ночью лодка шла в надводном положении) повреждены носовые горизонтальные рули и что повреждение устраняется. Подробностей не сообщалось, да вдаваться в них и не требовалось, если командир не просил вернуть лодку в базу.
Между тем, как выяснилось потом, повреждения были такими, что в обычных условиях продолжение похода считалось бы невозможным. Тяжёлые плоскости горизонтальных рулей, ударяя по корпусу, производили страшный грохот, выдававший присутствие лодки. В корпусе ослабли заклёпки, и в первый отсек начала струйками проникать вода. Невозможно было при таком состоянии рулей управлять лодкой в подводном положении.
Группе добровольцев, возглавляемых ветераном экипажа мичманом Эдуардом Аартеэ, удалось, рискуя быть смытыми волной, стянуть рули тросами, закрепив их в нейтральном положении. Это не означало, что повреждение по-настоящему устранено, но Полещук решил, что дойти до назначенного района и поставить мины «Лембит» сможет.
И донесение о произведённой минной постановке поступило. 20 имевшихся на борту мин были выставлены пятью «банками», как говорят на флоте, то есть пятью группами, по четыре мины в каждой в разных местах. Так распорядился командир своим боезапасом, не будучи уверен, что нащупал такое место, где есть смысл выставить одну большую минную банку. К тому же рассредоточенные мины противнику труднее было обнаружить.
После этого штаб флота решил вернуть лодку в базу. Главное боевое задание она выполнила, а искать цели для торпедных атак с неисправными горизонтальными рулями было бы неоправданным риском при малых шансах на успех.

Подводная лодка «Лембит» возвращается в базу после боевого похода
Результатов минной постановки пришлось ждать долго. Такое уж это оружие, что срабатывает обычно не сразу. Редко бывает так, как получилось у Л-3, командир которой сам наблюдал действие своих мин. Но «банки», поставленные Полещуком за Борнхольмом, своё дело сделали. Точно там, где была обозначена на карте одна из них, месяца три спустя затонул немецкий транспорт «Варлабен», гружённый железной рудой, а на другой «банке» подорвался железнодорожный паром «Штарке».
И это было ещё не всё. Позже в том районе моря погиб крупный учебный корабль германского флота. Проверяя после войны все данные о потерях противника, специальная группа, созданная в Военно-морской академии, признала, что и его следует занести на боевой счёт «Лембита».
«Калев» уничтожил транспорт и плавбазу
Близнец «Лембита» — «Калев» пошёл ставить мины сперва недалеко — на подходах к захваченным гитлеровцами Либаве и Виндаве.
Этой подлодкой командовал капитан-лейтенант Б.А.Ныров. Я с глубоким уважением относился к этому человеку. Сын дипломата, он обладал высокой культурой, владел несколькими языками. В кадры флота был мобилизован из Кораблестроительного института, военно-морскую подготовку прошёл ускоренно на курсах при Учебном отряде подплава. В то время считался уже опытным подводником: до «Калева» больше трёх лет командовал «Малютками». А знакомиться с Балтикой, в том числе и с дальними её районами, начал как яхтсмен, побывав на известной в Ленинграде яхте «Металлист» в портах почти всех прибалтийских стран.
До устья Финского залива «Калев» провожали тральщики и катера-охотники. В тот раз особенно наглядно подтвердилось, насколько необходимо такое обеспечение выхода каждой подлодки в море. Три мины взорвались в трале тральщика, за которым следовал «Калев», и ещё две всплыли, подсечённые тралом.
Конечно, трал не уберёг бы от неконтактной донной мины, на какой подорвалась С-11. Но в устье Финского залива немцы ставили якорные мины. На пути лодок из Кронштадта или Таллина к открытому морю этот район был последним, где природные условия позволяли противнику создать для них серьёзные преграды. Дальше к западу минная опасность ослабевала.
Как и Полещук, Ныров начал с разведки неприятельских коммуникаций. В этом районе немцы всё ещё мало пользовались морскими путями, однако методичные наблюдения за тральщиками, периодически выходившими из баз, помогли выявить проверяемые ими прибрежные фарватеры. Так было найдено место, где имело смысл ставить мины. Некоторое время спустя на них подорвались и пошли ко дну транспорт «Франценбург» и крупная плавбаза «Мозель».
А вот атаковать торпедами транспорт, шедший в Виндаву, Нырову не удалось, хотя предзалповое маневрирование было доведено до выхода на боевой курс. В самый ответственный момент пришлось убирать перископ и уходить на большую глубину из-за того, что прямо на лодку повернул (вероятно, случайно, но могло быть и иначе) немецкий торпедный катер. Анализируя потом все обстоятельства, нельзя было не прийти к выводу: транспорт успел укрыться в виндавской гавани, прежде чем подлодка заняла расчётное положение для торпедного залпа, определённую роль сыграла недостаточная отработанность элементов маневрирования.
Атака подводной лодки может сорваться не только из-за просчёта командира, но и вследствие самой малой оплошности рулевых, трюмных машинистов или кого-то ещё. Тут нужна слаженность действий всего экипажа, вырабатываемая долгой и упорной учёбой. Экипажу «Калева» не хватило на это мирного времени. Так, к сожалению, обстояло дело и на некоторых других лодках бригады, недавно вступивших в строй. И оставалось одно, — доучиваться на войне. А командирам надо было неустанно осмысливать всё новое, что преподносила война, начиная с особенностей действия коварных неконтактных мин, бороться с которыми мы не готовились.
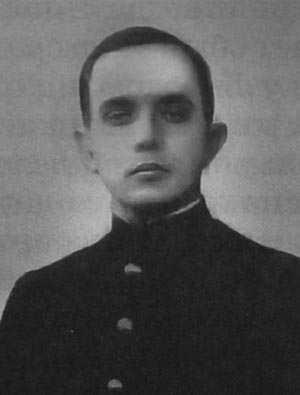
Командир подводной лодки «Калев» Борис Алексеевич Ныров
Обмен опытом боевых походов
Каждый боевой поход приносил что-то поучительное. И хотя в первые недели войны штабам было не до специальных мероприятий по обмену опытом, тем более между бригадами, но, с чем встретился в море один экипаж, доходило и до других. В Кронштадте мы жили единым коллективом с бригадой Заостровцева, в Таллине рядом с нашими стояли лодки 2-й бригады. Командиры кораблей, как и штурманы, минёры, механики, хорошо знали друг друга, многие ещё с училища. Многолетняя дружба связывала служивших на разных лодках старшин-сверхсрочников. И каждый, вернувшись с моря, делился с товарищами тем, что могло им пригодиться.
Уроки удачных и неудачных походов мы старались учесть при подготовке следующих, хотя за чем-то иногда и не поспевали. По крупицам переносили полезный опыт с лодки на лодку флагманские и дивизионные специалисты — каждый по своей части.
Результаты походов кораблей нашей бригады и всё мало-мальски значительное, происшедшее в море с подлодками других соединений, обсуждал со мною при каждой встрече Николай Павлович Египко. Правда, встречались мы с командиром бригады в то время нечасто.
Такое положение, когда он находился в Таллине, а я в Кронштадте, затянулось почти на два месяца. Это, конечно, усложняло управление бригадой, однако чем-то и оправдывалось. Трудно было бы обойтись без постоянного присутствия в Кронштадте правомочного представителя командования бригады, поскольку большей частью именно тут, в могучем кронштадтском тылу, восстанавливалась боеспособность подлодок, возвращавшихся из походов, и готовились к боевым действиям новые. С другой стороны, комбригу целесообразно было находиться в Главной базе, при штабе флота, определявшем боевую задачу каждой подлодки. А те лодки, которые готовились к очередному походу в Кронштадте, всё равно заходили в Таллин по пути на боевые позиции. Специалистов штаба нам пришлось «поделить»: в Таллине нужнее были флагштурман, флагсвязист, в Кронштадте — флагманский инженер-механик, минёр.
Но видеться нам с командиром бригады всё же было необходимо, и Николай Павлович, не вызывая меня в Таллин, сам приходил время от времени в Кронштадт, — то на подлодке, направляемой в ремонт, то на другом попутном корабле. Переходы из одной в другую базу перестали быть спокойными, «тыловыми». Обстановка осложнялась и в восточной части Финского залива. Однажды Египко воспользовался для возвращения в Таллин тральщиком, который шёл туда с двумя другими, и сторожевыми катерами. Один из этих кораблей подорвался на мине, а пока подбирали из воды людей, со стороны финского берега появились торпедные катера. По праву и долгу старшего капитан 1-го ранга Египко взял на себя управление завязавшимся боем. Другой «пассажир» — артиллерист из штаба флота, помогал ему. И от врага удалось отбиться.
Результаты не радовали
Настроение у нас с Николаем Павловичем бывало тогда не очень радужное. Результаты действий бригады на начальном этапе войны не могли удовлетворять ни нас самих, ни командование флота. Е гипко, находившийся ближе к начальству, знал это особенно хорошо. Продолжали удручать и потери, понесённые в первые дни войны. Боевое крещение, втягивание в военную страду дались соединению трудно, обнажив все наши недоделки и упущения.
Но оба мы были убеждены: после того, как приобретён некоторый опыт действий в условиях, во многом непредвиденных, боевые успехи подводников должны нарастать.
«Лишь бы вырваться в море!» — говорили и командиры лодок. Враг явно стремился не допускать этого. Продолжалась постановка минных заграждений, всё активнее действовали на наших фарватерах неприятельские катера и авиация. Проводка каждой лодки не только от Таллина до устья залива, но и от Кронштадта до Таллина (как и обеспечение её возвращения в базу) сделались боевой задачей, решавшейся целой группой лёгких надводных кораблей.
Это были корабли кронштадтской и Таллинской бригад Охраны водного района (ОВРа). Нередко с овровским конвоем, сформированным для проводки подлодок, шёл и командир дивизиона, к которому они принадлежали. Конвоирование не всегда проходило гладко. В августе подорвался на мине головной тральщик конвоя, обеспечивавшего выход лодок 2-й бригады. Провожавший их командир дивизиона, капитан 2-го ранга Е.Г.Юнаков был сброшен взрывом с мостика тральщика и подобран из воды тяжелораненым. Но лодки в море вышли.
Тогда мы не знали, что через короткое время обстановка, существовавшая в Финском заливе в июле-августе, будет вспоминаться как довольно лёгкая...
Второй боевой поход С-4. Чудесное спасение
Повышенно сложным, насыщенным событиями, подчас драматическими, выдался второй боевой поход С-4, подводной лодки знакомого уже читателю капитан-лейтенанта Д. С. Абросимова, хотя посылалась она не особенно далеко, а вернулась раньше намеченного срока.
В радиограммах с позиции командиры доносили только о самом главном и как можно короче. О многом, происшедшем в море, в штабе до поры до времени могли только догадываться, а иногда и вовсе не подозревали. Обстоятельства похода по-настоящему раскрывались, когда к нам поступали фиксировавшие события изо дня в день и из часа в час (а в напряженные моменты — по минутам) корабельные журналы: вахтенный, навигационный, боевых действий и путевая карта. Но наиболее полное представление обычно давал устный доклад командира.
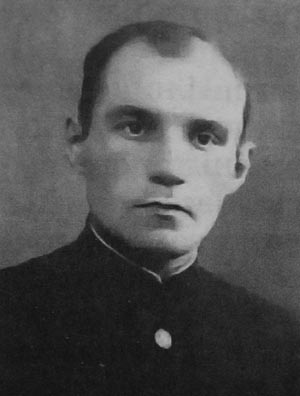
Командир подводной лодки С-4 Дмитрий Сергеевич Абросимов
Дмитрий Сергеевич Абросимов докладывал о походе с той исчерпывающей обстоятельностью, когда почти не нужны уточняющие вопросы. Излагая свои действия и их мотивы, он не стремился показать себя в выгодном свете, что-то подчеркнуть, о чём-то умолчать, как это подчас бывает. Но за него говорили сами факты. Слушая Абросимова, я радовался в душе: война подтверждала впечатление о его замечательных командирских качествах, сложившееся при знакомстве с ним ещё в мирное время.
Прибыв на назначенную позицию в районе Мемеля, подводная лодка С-4 уже на вторые сутки обнаружила неприятельский конвой. В сторону фронта следовали, держась недалеко от берега, транспорт и танкер с сильным охранением.
Атаку осложняла ограниченность глубин, но Абросимов, маневрируя очень смело, сумел произвести двухторпедный залп с дистанции всего четыре кабельтова (менее 800 метров), рассчитывая вслед за тем отвернуть мористее и оторваться от противника. Однако в момент залпа у механика произошла заминка с манипулированием балластом (опять одна из тех «мелочей», которые так опасны для подводников), и лодка, не удержавшись на нужной глубине, показала вражеским кораблям рубку и часть палубной надстройки. Показала лишь на мгновение, лишнюю плавучесть погасили заполнением цистерны быстрого погружения, одновременно увеличив ход. Но за первой «накладкой» последовала ещё одна: эту цистерну чуть-чуть опоздали продуть, и подлодка с ходу ударилась о грунт. Глубина составляла всего 18 метров.
Всё это успело произойти за то время, пока торпеды шли к цели. В то мгновение, когда лодка ткнулась носовой частью в грунт, в отсеках услышали двойной взрыв. Подводникам было не до того, чтобы поздравлять друг друга с несомненной победой. А от командира потребовалось не раздумывая решить, что делать дальше. И капитан-лейтенант решил: раз непроизвольная покладка на грунт произошла, надо оставаться на месте, ибо, пока лодка начнёт отрываться от грунта, катера противника, уточнив её место, окажутся прямо над ней и легче смогут её уничтожить.
Командир приказал выключить все механизмы и осмотреться в отсеках, не производя никакого шума. Но уже через четыре минуты, прежде чем успели выяснить все последствия удара о грунт, вблизи начали рваться глубинные бомбы. Сбросив первую их серию, катера застопорили ход. Это было слышно не только акустику. Затем опять дали ход и сбросили новую серию бомб немного в стороне. Лодку било о грунт, кое-где начала просачиваться вода.
Бомбёжка возобновлялась вновь и вновь, иногда с перерывами на целые часы. Не раз экипаж слышал, как осколки глубинных бомб ударяли по надстройке. Потом услышали, как вдоль борта проскрежетал какой-то предмет, — то ли металлоискатель, то ли грузило ручного лота. Поздно вечером (лодка лежала на грунте со второго часа дня) донеслись характерные звуки стравливаемых якорь-цепей. Очевидно, сторожевики или тральщики становились на якоря до утра.
В отсеках было уже трудно дышать (машинки регенерации воздуха не включались, чтобы не производить даже лёгкого шума). Никто на это не жаловался, но лекпом доложил командиру, что у личного состава появлялись признаки кислородного голодания. Абросимову снова надо было принимать ответственное решение. Правда, теперь не мгновенно, — имелось время его обдумать.
Командир знал, что место подводной лодки известно врагу точно. Её караулят, но бомбить почему-то перестали. Может быть, просто израсходовали бомбы, а новые должны откуда-то доставить. А возможно, считают лодку потопленной (никаких звуков с неё не доносится) или не способной двигаться. Если так, то нельзя исключать попытки овладеть лодкой, куда-то её отбуксировать. Лежит она неглубоко, а необходимые средства и водолазы, вероятно, могут прибыть уже к утру. У немцев в этом районе несколько своих или захваченных портов.
Понимал Абросимов также и то, что скрытно уйти в подводном положении невозможно. Беззвучно от грунта не оторвёшься, — это связано с продуванием цистерн, а потом надо включать электромоторы. И катера быстро настигнут лодку, не дадут дойти до более безопасных глубин. Оставалось одно — всплыть и дать врагу огневой бой. На это и решились командир Д.С.Абросимов и военком подлодки Н.И.Андреев.
Собрав в центральном посту командный состав, Абросимов объявил свой план действий. В самое тёмное время перед полуночью, лодка, можно надеяться, неожиданно для противника, будет поднята на поверхность аварийным продуванием главного балласта. Орудийные расчёты и все, кто не нужен у действующих механизмов в отсеках, заранее соберутся вблизи рубочного люка, чтобы быстрее подняться наверх. Эта группа вооружится имевшимися на лодке ручными пулемётами, карабинами и гранатами. Электромеханическая боевая часть должна обеспечить быстрейший запуск главных электромоторов, а затем дизелей и форсирование хода до самого полного.
Командир верил в свой замысел и нашёл моральную поддержку в том, как отнеслись к его плану подчинённые. Людей томило ожидание новых бомбёжек, от которых нечем было защититься, все рвались к активному боевому действию. И наверное, каждый считал, что если погибнуть, то уж лучше в дерзком бою, который ещё можно и выиграть.
Шансов на успех было не так уж много. И ни от кого не скрывалось, что приказано подготовить корабельные документы к уничтожению, а снарядный погреб — к взрыву. Это могло понадобиться в тот крайний момент, когда не останется других средств помешать захвату лодки гитлеровцами. Погреб взорвал бы по особому приказанию командир минно-артиллерийекой боевой части старший лейтенант Дорофей Винник. Он был сыном известного некогда всей Балтике матроса Данилы Винника, ставшего комиссаром эсминца «Азард», который потопил в девятнадцатом году британскую субмарину L-55.
Когда лодка всплыла, на море был штиль, — тихая лунная ночь. Невдалеке виднелись силуэты небольших кораблей, вероятно, стоявших на якорях. А перед носом и за кормой лодки светились плавучие буи. Между ними, напротив лодочной рубки, покачивалась торчащая из воды крестообразная веха, очевидно державшаяся на своём якоре. Вода вокруг отливала в лунном свете жирным блеском растёкшегося соляра.
Утечка его могла быть результатом нарушения герметичности одной из топливных цистерн при разрывах бомб. Немцы же, по всей вероятности, сочли маслянистое пятно подтверждением того, что лодка потоплена или безнадёжно повреждена. И буи, и веха, показывавшая, где находится рубка лодки (нащупанная, должно быть, с помощью лота), означали, очевидно, что гитлеровцы уже считают её своим трофеем.
Конечно, в те минуты капитан-лейтенанту Абросимову некогда было раздумывать обо всём этом. Мысли были об одном: удастся ли уйти? Двигатели дали малый ход, средний, полный, самый полный... Орудийные расчёты стояли на своих боевых постах, моряки с лёгким стрелковым оружием и гранатами — за рубкой и на мостике.
Но открывать огонь не понадобилось. Фашистский дозор, оставленный караулить лодку, видимо, уверовал, что она не может сдвинуться с места и никуда не денется, и форменным образом проспал её
всплытие. Отчасти, наверное, помогло и то, что для неприятельских кораблей лодка находилась в тёмной части горизонта.
Когда благополучно вышли из прибрежного района, и стало ясно, что оторваться от противника удалось, на лодке занялись выявлением полученных повреждений. Их набралось немало, и лишь некоторые поддавались устранению своими силами.
Абросимов кратко донёс о проведённой атаке, о состоянии лодки, В ответ ему было передано приказание возвращаться в базу.
Как потом установили, С-4 потопила транспорт «Кайя» водоизмещением свыше трёх тысяч брутто-регистровых тонн.
Подлодка, едва не погибшая, возвращалась с победой. Транспорт, пусть и не очень крупный, до прифронтового порта не дошёл, его груз фашистские войска не получили.

Торпедированный подводной лодкой транспорт противника. Картина художника Г.В.Горшкова
Отдавая должное грамотности действий Абросимова при трудной атаке на прибрежном мелководье, решительности командира и доблести всего экипажа, надо было извлекать уроки и из этого, в целом успешного, похода. Требовалось исключить повторение заминок в управлении горизонтальными рулями и использовании цистерны быстрого погружения, позаботиться, чтобы нечто подобное не произошло на какой-то другой лодке. Не приходилось рассчитывать, что кому-то ещё посчастливится, как Абросимову, уйти из-под носа у противника, «проворонившего» всплытие «эски». Немцы, следовало полагать, тоже учитывали свои промахи.
Щ-307 уничтожила U-144
Вслед за бригадой Заостровцева стал действующим, боевым и Отдельный учебный дивизион подводных лодок. Им командовал отличный моряк капитан 2-го ранга Николай Эдуардович Эйхбаум, мой товарищ по командирским курсам при Учебном отряде подплава, куда он пришёл из торгового флота штурманом дальнего плавания. Кадровики время от времени «спотыкались» на немецкой фамилии Эйхбаума, и не раз заново устанавливали, что ему, чисто русскому по рождению, и фамилия и отчество достались от давно обрусевшего отчима, коренного питерца.

Командир учебного дивизиона Николай Эдуардович Эйхбаум
Дивизион Эйхбаума состоял в основном из «Щук», вступавших в строй за шесть-семь лет до войны. Переведённые в учебные «по возрасту», это были ещё крепкие подлодки, и боевое их использование в случае необходимости никогда не исключалось. Корабли дивизиона много плавали, обеспечивая практику и питомцев учебного отряда подплава, и курсантов военно-морских училищ, и слушателей командирских курсов, что способствовало высокой выучке самих лодочных экипажей.
Одна из бывших учебных «Щук» — Щ-307 потопила в начале августа немецкую подлодку, — первую не только на Балтике, но и на всех морских театрах войны. Той «Щукой» командовал капитан-лейтенант Н.И.Петров, известный многим подводникам как толковый преподаватель теории торпедной стрельбы на курсах при Учебном отряде подплава. Став командиром корабля, он весьма успешно применил свои познания в боевой практике.
Встреча с немецкой подлодкой произошла близ устья Финского залива, когда Щ-307, возвращаясь из похода, направлялась к точке рандеву с нашими катерами. Ещё только начинало темнеть, и «Щука» шла под водой. Приподняв перископ, вахтенный командир увидел вдали предмет, похожий на плавающую бочку. В военном море заслуживает внимания всё, и в центральный пост был вызван командир корабля. В это время гидроакустик доложил, что слышит неясный шум, а через несколько секунд классифицировал его как шум винтов подводной лодки и назвал курсовой угол, совпадавший с направлением на обнаруженный предмет. На «Щуке» объявили боевую тревогу.
При следующем осмотре горизонта капитан-лейтенант Петров смог разглядеть рубку подводной лодки, всплывающей на расстоянии 12–15 кабельтовых (около двух с половиной километров). Она напоминала очертаниями рубку наших лодок типа «С», и Петров сперва подумал, что лодка своя, а оповещение о её присутствии тут случайно не было принято. Он подивился неосторожности командира, всплывающего в нетёмный ещё час в таком месте, где не раз появлялись подлодки противника. Но, продолжая наблюдение, Петров начал склоняться к мысли, что лодка вражеская, а потом убедился в этом окончательно. Помогло детальнейшее знание силуэтов немецких кораблей.

Командир подводной лодки Щ-307 капитан-лейтенант Николай Иванович Петров
Тем временем «Щука» развернулась для торпедной атаки. Дав залп из двух кормовых аппаратов, она ушла на глубину. Услышав два слитных взрыва, вновь подвсплыли под перископ, и Петров успел увидеть задравшиеся вверх нос и корму подлодки, разломленной этими взрывами. «Щука» прошла над местом её гибели в позиционном положении, то есть имея рубку над водой. Вокруг клокотал вырывавшийся из глубины воздух, по поверхности расходились соляр и масло. Штурман нанёс на карту точные координаты места.
После войны был установлен номер потопленной немецкой подлодки — U-144. Из трофейных документов выяснилось также, что это она потопила 23 июня нашу М-78, шедшую из Либавы в Усть-Двинск. Капитан-лейтенант Петров и его экипаж, сами того не ведая, рассчитались за товарищей с «Малютки», погибших на второй день войны.
Потопление «Щукой» немецкой подлодки оживлённо обсуждалось в командирской среде. Преобладало мнение, что такого рода столкновения — лодка против лодки — останутся редкими, единичными. Из всего, что могло угрожать в море нашим лодкам, опасность атаки подводного противника была у большинства командиров, пожалуй, на последнем плане. Потом боевая практика заставила взглянуть на это иначе.
Продолжение следует






