К.Н.Зотов и 10 гардемаринов поехали в порт Тулон. В Морской академии Тулона обучение касалось следующих наук: навигации, инженерства, артиллерии, «рисования мачтапов» (или как корабли строятся), боцманства (т.е. оснащивания кораблей), солдатского артикула, фехтования на шпагах, а также верховой езды и танцев. Обучение производилось вместе с французскими гардемаринами; занятия происходили дважды в день под руководством королевских мастеров. В Тулоне обучались Барятинской Борис Семенович, Волконский Александр Дмитриевич (будущий воевода Владимирской провинции), Жеребцов Александр Гаврилович, (в 1764 г. – командующий Балтийским флотом), Воин Яковлевич Римский-Корсаков, лейтенант французского флота (будучи зачислен в г. Тулоне во французский флот пансионером Петра I, В.Я.Римский-Корсаков состоял сперва гардемарином французской службы, а затем последовательно был произведен в унтер-лейтенанты и лейтенанты французского флота; сохранился патент, выданный ему, за подписью французского короля в Версале 11 июля 1722 г. на чин корабельного подпоручика), будущий вице-адмирал; Римский-Корсаков Михайло Андреевич, . Б.Г.Юсупов впоследствии действительный тайный советник, президент Коммерц-коллегии и Главный Директор Шляхетского сухопутного кадетского корпуса (1750-1759 гг.). В 1756 году Юсупову удалось добиться перехода преподавания с немецкого на русский язык.
Историк корпуса А.В.Висковатов написал о Борисе Григорьевиче, подчеркивая значение его достижений в русской педагогике: «Имя сего достойного вельможи заслуживает быть незабвенным в истории Кадетского корпуса. Обращая все внимание и употребляя все свое время на воспитание вверенного ему юношества, он входил во все подробности корпусного управления». Благодаря стараниям Б.Г.Юсупова Кадетский корпус стал не только лучшим специальным военно-учебным заведением, но и занял видное место среди культурных учреждений России.

Юсупов Борис Григорьевич
• Венеция. Служба на галерах
В Италии устройством учеников занимались эмиссары Петра, посланные для приобретения «антиквитетов». (архитектор, знаток искусства, коллекционер. Приобретения Ю.И.Кологривова положили начало целому ряду дворцовых коллекций России. В Италии им была приобретена значительная коллекция скульптуры (за январь-март 1718 г. – около 100 скульптур, барельефов), а также самое ценное произведение античной скульптуры, привезенное в Россию, – Венера Книдская (впоследствии Таврическая)) пристраивал прибывших к разным художествам, в их числе – будущий архитектор Петр Еропкин с Тимофеем Усовым и Петром Колычевым; в обучении живописи во Флорентийской академии до ноября 1719 г. находились братья Иван и Роман Никитины с товарищами: М.Захаровым и Ф.Черкасовым.

Кологривов Юрий Иванович (1680-е–1754)
-72-700.jpg)
Еропкин Петр Михайлович (1698-1740)
Несколько слов о .
При жизни Петра I в Летнем саду насчитывалось около двухсот мраморных скульптур, среди которых находилась и мраморная Венера, коей государь особенно дорожил, выставляя в дни многолюдных празднеств около нее гвардейского часового.
Беломраморная статуя прекрасной обнаженной женщины, изящной, стройной, со слегка повернутой гордой головой, была установлена на высоком пьедестале. Скульптура полтора тысячелетия пролежала в римской земле, до тех пор, пока в конце XVIII столетия итальянцы, рывшие котлован для здания, не обнаружили этот шедевр «с отшибленной головой и без рук». Эту античную скульптуру приобрел в Риме Юрий Кологривов, доверенное лицо царя в Италии, и он же отдал ее для реставрации местному известному скульптору.
Весть о приобретении «мраморной статуи Венус» весьма порадовала русского императора, ибо эта античная скульптура могла стать главным украшением его «парадиза». Однако случилось непредвиденное. Римские власти, узнав о сделке по приобретению древней скульптуры, конфисковали ее и арестовали продавца античного раритета, ибо указ папы Климента XI категорически запрещал вывозить из страны любые произведения древнеримской империи. Сообщая о случившемся Петру I, расстроенный Кологривов тогда слезно писал царю: «Лучше я умру, чем моим трудом им владеть».
По распоряжению Петра I в Рим на помощь Кологривову прибыл находившийся тогда в Италии дипломат С.Рагузинский, придумавший замечательный план дальнейших действий. В обмен на античную статую Венеры россиянин предложил папе мощи католической Святой Бригитты, обнаруженные русскими солдатами в одном из соборов взятого в бою Ревеля. Папе пришлось согласиться на подобный «бартер» и отдать «языческого идола» в обмен на столь чтимые католиками мощи святой Бригитты. Ни словом не упоминая о сей странной сделке, папа Климент XI распорядился «в угодность русскому царю» подарить статую. Старательно упакованную в ящик скульптуру со всеми предосторожностями доставили в Петербург и установили в Летнем саду. Ныне Венера хранится в Эрмитаже и известна под названием Венеры Таврической, ибо в конце XVIII века она была подарена Екатериной II князю Потемкину, который хранил Венеру в своем Таврическом дворце, давшем античной скульптуре ее позднее название.

Венера Таврическая
Другой эмиссар – Савва Рагузинский, серб по происхождению. В 1705 г. он привез в Россию мальчика Ибрагима, знаменитого арапа Петра Великого, а ныне ему, представителю русского двора по торговым сношениям с Италией тайному советнику Савве Лукичу Рагузинскому (Рагузинский-Владиславич Савва Лукич (ок. 1670-1738) – российский государственный деятель, дипломат, богатый финансовый агент и купец; по происхождению серб. С 1708 г. жил в Москве, затем в Петербурге. В 1710 г. произведен Петром I в надворные советники. В 1711-1722 гг. представлял интересы России в Черногории, Венеции и Риме. В 1725-1728 гг. возглавлял русское посольство в Китае), поручалось определить прибывших 27 (из 31) гардемаринов на службу: «Понеже Речь посполитая Венецкая обещала… чтобы их употребили в свою службу на галерах, а не на кораблях, и чтоб оные разделены были, как для научения языка, так и для лучшей практики Навигации, по разным судам, а именно: на каждое судно по одному человеку, и чтоб их сперва производили от нижнего чина» (Именной указ, данный Савве Рагузинскому о посылке во Венецию молодых дворян для научению морской службе (ПСЗ РИ. Ч. I, т. 5. С. 489. № 3067 от 11 февр. 1717 г.)).
Агент Рагузинского Петр Иванович Беклемишев, получив тот же рескрипт, 10 мая устроил всех на галерный венецианский флот в Корфу, и 9 июня их распределили по два человека на галеру. Венецианская республика с июня 1717 по декабрь 1718 г. вела войну с Турцией. Галеры вышли к островам Занте и Цефалонии в Ионическом море, местам будущего триумфа адмирала Ф.Ушакова. Нашим морякам удалось, как указано в аттестатах, показать «существенный кураж в случае корабельной баталии венецианского флота с флотом турецким, бывшей 19-го июля 1717 г. в порте Пагания, в заливе Елеус, а также при взятии двух фортец: Превезы и Воницы; и еще при осаде Венецианами крепости Дульциньо».
Служба на галерах обернулась весьма эффективным способом обучения. Из тех, кто прошел эту школу, многие стали известны: Зиновьев Иван Павлович – вице-адмирал; получил от венецианских властей «патент на самостоятельное командование кораблем», он станет главным командиром галерного флота, вице-адмиралом; лейтенантом послан резидентом в Турцию (его стараниями был заключен мирный договор с Турцией, по которому Россия получила во владение все земли, лежащие на западном берегу Каспийского моря, впоследствии Иван Иванович стал губернатором Киев, основателем и губернатором Оренбурга, губернатором Санкт-Петербурга); Толбугин Артемий Ильич – прокурор Адмиралтейств-коллегии; Кайсаров Иван Иванович – основатель династии морских офицеров. Но после заключения мира делать им стало нечего, и из Венеции 22 гардемарина отправились морем в новообразованный Кадетский корпус в испанском городе Кадикс.

Кашкин Пётр Гаврилович

Неплюев Иван Иванович
По дороге в Испанию они встретились во Флоренции с россиянами «Иваном да Романом Никитиными с товарищи», которые жили там, «обучаясь живописному делу» (Неплюев И.И. Записки (1693-1773). СПб., 1893. С. 103). Книгу И.И.Неплюева можно скачать .
13 мая 1719 г. в Тулоне нашли семерых русских гардемаринов, из тех, что были посланы в одно время с ними во Францию.

Памятник задуман и создан к 300-летию со дня рождения И.И.Неплюева. Открыт в 1994 году. Авторы: скульптор Н.Г.Петина, архитекторы П.Г.Кантаев и А.А.Янкин. Памятник представляет собой композицию из бюста на постаменте, около трех метров высотой. На постаменте начертаны слова: «Основателю Оренбурга И.И.Неплюеву 1693-1773».
• Королевская компания морской гвардии в Кадиксе
Сложным путем – через Аликанту, Карфаген и Малагу – 5 июля 1719 г. молодые люди прибыли в место назначения, порт Кадис. «Оный числится в провинции Андалузии, в которой губернатор в порте Санта-Марии; а губернатор у них называется генерал-капитан, а комендант зовется губернатор… Августа 4 числа от его королевского величества прислан указ… к поручику гардемаринскому, аль дон Юзефе Марин, по которому поведено нас определить во академию и содержать в компании гардемаринской, как их гардемарины содержатся» (Неплюев И.И. Записки (1693-1773). СПб., 1893. С. 103).
Кадетский корпус в Кадиксе, точнее, Королевскую компанию (compagnie – рота) морской гвардии, первую испанскую военно-морскую школу, основал в 1717 г. маркиз Хосе де Патиньо, испанский морской министр, недавно назначенный генерал-квартирмейстер. Создатель военного флота Испании, он слыл лучшим навигационным технологом Европы. Эта академия была устроена по-испански широко и богато. Русским пошили мундирную одежду: кафтаны темно-серые, обшлага и отвороты красные; камзолы красные; штаны и шляпы серые, но живописная одежда испанских гардемаринов превосходила одежду русских. Вместе с испанскими кадетами русские «учились солдатскому артикулу, танцовать, и на шпагах биться; а к математике хотя и приходили, но сидели без дела, ибо не знали языка».

Маркиз Хосе де Патиньо
Люди боевого дела, и не такие молодые, они считали, что зря теряют время и силы. Поэтому 10 августа 1719 г. они написали генерал-адмиралу и кавалеру графу Апраксину письмо с жалобой на скудость и бесполезность своего существования. В ноябре вопрос о пребывании гардемаринов за рубежом обсуждался на Адмиралтейств-коллегии. Но Петр уже рассудил, что «там практики ныне нет, которую можете здесь получить» (Письмо Петра I Нарышкиным // РГАДА. Ф. 1272. Оп. I. № 4. Л. 8). Из Кадикса русские дворяне-моряки выехали 28 февраля 1720 г., после 4-летнего странствия по чужим морям и в службе чужим государствам. Летом того же года они прибыли в С.-Петербург.
Нарышкины и иже с ними задержались еще на полгода, в феврале 1721 г. они докладывали Адмиралтейской коллегии о завершении своего заграничного путешествия, и на основании полученных аттестатов их произвели в поручики. Мордвинов Семен Иванович возвратился из Бреста в Петербург весной 1723 г. Из Тулона в 1724 г. прибыл Воин Яковлевич Римский-Корсаков (1702-1757) в звании лейтенанта французского флота. (Когда его отца, петербургского вице-губернатора Я.Н.Римского-Корсакова в 1715 г. за злоупотребления отправили в ссылку, мальчику исполнилось 13 лет, а весной следующего года его послали за границу.) В 1725 г. из Тулона прибыл Полянский Андрей (Иванович) будущий адмирал.

Петр Великий принимает гардемаринов, возвратившихся из-за границы. Кадр из к/ф "Табачный капитан"
• Оценка обучения за границей
Оценивая обучение за границей, надо признать его явную пользу и определенный успешный результат, несмотря даже на то, что для большинства учеников преградой к обучению было незнание иностранных языков. Однако не у всех обучавшихся судьбы сложились благополучно.
При кораблекрушении в Средиземном море после 1710 г. погибли братья Троекуровы: Петр и Александр Ивановичи. В Голландии в том же году умер Алексей Дорошенко, сын гетмана. В 1714 г. в Голландии умер Сергей Алексеевич Шеин, сын генералиссимуса, воителя Азова. Племянник фельдмаршала Шереметева Федор Владимирович умер в 1715 г. после возвращения из «ост-индского крюйса». Из первых гардемаринов весной 1717 г. в Венеции умер Иван Воробьев. В 1719 г. заболел гардемарин князь Алексей Белосельский и 24-го августа отдал Богу душу в Кадиксе (ему исполнился 21 год). Иван Дубровский умер в 1725 г., в Бресте.
Посол граф Альбрехт Литта писал из Лондона: «Тщился я ублажить англичанина, которому один из московских глаз вышиб, но он 500 фунтов запросил». Капитан К.Н.Зотов писал кабинет-секретарю Адмиралтейств-коллегии Макарову о беспорядках и буйствах, которые творила молодежь, и заключал, что: «Надобны к ним конечно русские дядьки, и чтобы сродники к ним присылали денег: ради дядька будут смирно жить, а ради денег по миру не будут ходить...» (Морской сборник. 1868. Отдел критики и биографии, ст. 31. Цит. по: Рачинский А. // Русский вестник. 1875. № 11. С. 83-110). Он же писал царю из Франции: «Господин маршал д’Этре призывал меня к себе и выговаривал мне о срамотных поступках наших гардемаринов в Тулоне: дерутся часто между собою и бранятся такою бранью, что последний человек здесь того не сделает. Того ради отобрали у них шпаги». Немногим позже – новое письмо: «Гардемарин Глебов поколол шпагою гардемарина Барятинскаго (Борис Семенович Бо(а)рятинской заколот на дуэли Хлебниковым, вариант – умер от чумы в 1721 г.) и за то за арестом обретается. Господин вице-адмирал не знает, как их приказать содержать, ибо у них [французов] таких случаев никогда не бывает, хотя и колются, только честно, на поединках, лицом к лицу».

Вид Тулона - кисти Жозефа Верне
К сожалению, несчастные случаи продолжались. Из потока 1716 г.: Василий Самарин умер на галерах, Василий Квашнин-Самарин из-за ссоры в карточной игре «товарищем своим, гардемарином Арбузовым, в Корфу убит». В 1719 г. заболел гардемарин князь Алексей Белосельский и 24 августа отдал Богу душу. Иван Дубровский умер в 1725 г., в Бресте. Князь Михаил Андреевич Прозоровский «в венецианском флоте с прочими служил; но в Афонской Горе постригшись в монахи, выехал в Россию после их во флоте был иеромонахом».
От имени всех воспитателей возопил князь Иван Борисович Львов: «Иссушили навигаторы не только кровь, но уже самое сердце мое; я бы рад, чтоб они там меня убили до смерти, нежели бы мне такое злострадание иметь и несносные тягости» (Цит по: Брикнер А.Г. История Петра Великого: в 2 т. Т. 1. М., 1996. C. 204). Обращает на себя внимание и тот факт, что почти все из первых стажеров вернулись в Россию после Гангутского боя (1714 г.), а большинство не успело принять участие в битве при Гренгаме.
Русские на Балтийском море
• Петр I о Приневье
Логика Северной войны привела армию Петра I в Приневье. В марте (2) 1700 г. он пишет Головину в Воронеж: «А место тут зело нужно: проток из Ладожского озера в море (посмотри в картах), и зело нужно ради задержания выручки». Проток оказался красавицей Невой, это место надо было непременно взять, чтобы предотвратить присылку подкрепления шведам. На пути к устью Невы лежали две крепости: Нотебург (Орешек) и Ниеншанц, третий город в Финляндии после Гельсинфорса и Або (Хельсинки и Турку). Нотебург был взят и переименован в Шлиссельбург, а рядом с взятым Ниеном был заложен город святого Петра – Санкт-Питербурх.
В 1709 г. командующий русским галерным флотом шаутбенахт Боцис подготовил и подал Ф.М.Апраксину обширный проект, в котором, отметив недостаточную подготовку офицеров галерного флота, предлагал поехать в Венецию и на Мальту, чтобы привезти оттуда бывалых моряков. Он считал, что флоту нужны 12 поручиков, 12 боцманов, 6 лекарей, 12 подпоручиков и 100 матросов со штурманами, что и было исполнено. В 1712 г. галерный (гребно-парусный) флот представлял внушительную боевую силу и поднимал до 16-20 тыс. человек десанта. Это воинское объединение под командованием генерал-адмирала Апраксина с 1712 г. называлось Финляндским корпусом.

Ф.М.Апраксин
Русские галеры редко выходили в открытое море, обычно они передвигались среди финских шхер, а вечером и в плохую погоду приставали к берегу, суда вытаскивали на берег, большинство членов команды ночевало на берегу. Вдоль всего финского побережья, начиная от Березовых островов близ Выборга и далее к западу, в том числе и на Аландских островах, до сих пор сохранились «русские печи» – нехитрые сооружения из валунов. На галеры посылали каторжных, по штату 1711 г. из 600 человек экипажа на галере содержались 400 невольников (Штат 1711 г. к № 2449 С. 1; см. также: Указ «О недержании в тюрьмах колодников за казенные, об отсылке оных в работу на галеры, также как каторжных» (ПСЗ РИ. Т. 6. № 3928 от 4 апреля 1722)). Остальные представляли ту же армию, только посаженную на корабли (См.: Мышлаевский А.З. Петр Великий: Война в Финляндии в 1712-1714 гг. Совместная операция армии, галерного и корабельного флотов. СПб., 1896). Собственно моряков, составлявших флотскую часть галер, было немного.
• Проблемы комплектования корабельного флота
Параллельно с галерным флотом рос флот корабельный, где команды составляли суть и душу корабля. Русский военный флот на Балтике за короткое время вырос до такой степени, что своей силой мог уже потягаться с флотом шведским. И Петр столкнулся с той же кадровой проблемой, что и Людовик XIV, с тем отличием, что Франция имела протяженные побережья и, соответственно, потомственных природных моряков, в России же комплектование экипажей для флота оставалось труднейшей задачей.
Эту острую для России проблему зорким глазом разведчика узрел английский офицер Джон Дэн, прослуживший в российском флоте более 10 лет. Свои выводы он сделал для английского читателя: мол, россияне питают отвращение к морю, российский народ в море поддается унынию, от деспотизма начальников, от бедного питания, от трех постов в году, из-за невозможности помыться в бане; «…это воздержание изнуряет их и усиливает в них уныние духа, отнимая у них как силу, так и желание работать там, где требуется расторопность и телесная сила» (Ден Д. История Российского флота в царствование Петра Великого / Пер. с англ. Е.Е. Путятина, в ред. П.А. Кротова. СПб., 1997. С. 117, 120, 121). Книгу Д.Дена можно скачать .А солдаты, набранные в матросы из пехоты, будучи в возрасте, падают духом до такой степени, что, когда получают приказание подняться на ванты, «теряются и готовы сколь угодно терпеть гнев офицеров, нежели пускаться в опасное предприятие». Еще менее они в состоянии сделать это после 10- или 12-дневного пребывания в бурном море.
Россиянин, не мыслящий себя без бани, действительно стал уязвим в чреве парусника. Чтобы стать настоящим моряком, он должен был задеревенеть душой и кожей. Предприняли ряд мер: взятые призы стали делить на всю команду, улучшили питание, добились разрешения Вселенского Константинопольского патриарха Иеремии апреля 1716 г., позволявшего всему российскому «христолюбивому воинству... во время войны», есть мясо в любое время года (НИА СПбИИ РАН. Ф. 41. Оп. 1. Д. 171. Л. 1).

Иеремия III - Святейший Архиепископ Константинополя — Нового Рима и Вселенский Патриарх (1650-1735)
Но Петр смотрел на эту проблему шире, на Белом море он встречал поморов, а на Дону в Азовском походе показали себя казаки, без труда и чьего-либо ведома выходившие в море. Пути решения проблемы были очевидны – набор из природных моряков и приучение к морю с детства.
• Юнги
Удачным замыслом с отдаленным результатом оказалось заведение на флоте корабельных юнг. В старой России такого понятия не было, хотя издавна морская профессия прививалась постепенным привыканием к морю и освоением тонкостей дела. Ученик на поморском судне назывался «зуек» – птичка. О юнгах впервые заговорили в 1694 г., во время второго приезда Петра I в Архангельск. Петр под началом шкипера Клааса Виллемзона Муша прошел все степени морской нижней службы, начиная с должности «каютного хлопца» (Беспятых Ю.Н. Второе «пришествие» Петра I в Архангельск // Русский Север и Западная Европа. СПб., 1999. С. 117-118; Пушкин А.С. История Петра. Подготовительные тексты. СПб., 1855. С. 39). В Саардаме Петр встретил Геррита Муша, младшего брата шкипера, и взял его «кают-юнгой» на купленный буер. О юнгах и каютных юнгах писал Д.Ден: «Юнги заведены во флоте лишь с недавнего времени» (Ден Д. История Российского флота в царствование Петра Великого. СПб., 1999). Имелись еще палубные юнги, или дек-юнги, их на корабле набиралось до десятка. В истории же укоренилось мнение, что Петр в 1715 г. основал в Кронштадте школу юнг. Следов петровских школ юнг ни в Кронштадте, ни в других местах нет. Ввиду аморфности представления об устройстве школ это название могло быть результатом смешения с именованиями школ других типов.
Роль флота в обучении юношей разных сословий
• Виды начальных школ
Различные школы для обучения детей возникали по указке царя, но создавались они усилиями местных властей по их собственным представлениям. Оттого почти о каждой школе, ее названии и назначении существуют разночтения. Возможно, за кронштадтскую школу юнг принимают адмиралтейскую или цифирную школу или какую-либо другую. Первые школы создавались при верфях. В 1711 г. А.Курбатов открыл школу в Архангельске, исследователи истории образования иногда путают ее со школой гимназического типа (она просуществовала с 1711 до 1714 г.) и с открытой в 1719 г. цифирной школой, закрытой через 3 года из-за отсутствия учеников.
С 1714 г. государь пытается открыть во всех губерниях при архиерейских до-мах и монастырях ряд цифирных, или арифметических, школ для детей разных сословий от 10до 15лет. Одновременно указывалось о посылке учителей из математических школ (не только московской) в провинции, а 28 декабря 1715 г. дан указ Сенату о взятии из Московской навигацкой школы (в тексте – школы Адмирала Графа Апраксина) знающих Географию и Геометрию и отсылке по два человека в Губернии для учения всякого чина молодых людей… Эти указы плохо исполнялись, приезжие учителя так и оставались без дела, поэтому в марте 1719 г. государь вновь подтвердил, что все прошлые указы остаются в силе (См. указы: ПСЗ. Т. 5. 2762 от 20 янв. 1714 г; 2762 от 28 февр. 1714 г.; № 2971 от 28 дек. 1715 г.; № 2979 от 18 янв. 1716 г.; Т. 6. № 3447 от 6 ноября 1719 г. С. 751).
Школы открыли в Нарве и Новгороде, затем в Риге, Казани, Астрахани, их существование оправдывается наличием в этих местах верфей. В Ревеле (Таллине) в 1711 г. уже действовала школа, созданная комендантом Василием Зотовым, братом Конона. В эту школу, называемую еще навигаторской, в 1712 г. отправили Федора Головина, его знания ректор аттестовал кратко: «Немецкого языка мало знает, однако-ж читать большую часть умеет». В 1715 г. она воссоздается как счетная школа, где также обучались морским наукам, навигации. В 1719 г. в ней числилось 66юношей.
Точно такая же школа открылась в Нарве, где учительствовал бывший навигатор Митрофан Канинцев. Школа в Новгороде Великом создана как отделение при греко-славянском училище, организованном еще братьями Иоанникием и Софронием Лихудами, приглашенными митрополитом Иовом. Располагалось училище в Никитском корпусе, рядом с Софийским собором и Грановитой палатой. И.И.Неплюев вспоминает, что он был «определен в Новгородскую школу „для обучения основам математики“», то же и Семен Мордвинов: «В 1715 году… по разборе самим же Его Величеством, с прочими написан в новгородскую школу для обучения цыфирной науки, а по лету оттуда послан в школу в Нарву для обучения арифметики (Неплюев пишет – в Нарвскую навигаторскую школу. – В. Г.), в числе 84 человек дворян, а в октябре того-ж года именным указом взяты все в С.-Петербург» (Мордвинов С.И. Родословие фамилии адмирала Мордвинова. Т. 2. СПб., 1901. С. 13-14). Новгородская школа работала до выхода Духовного регламента в 1721 г. Сенат еще высказывал надежду, что хорошо бы там готовить учителей, но святые отцы отговорились и от этого, мол, несподручно. В 1722 году вопрос об обучении математике в Архирейских школах снят окончательно (Согласно данным статьи «Начальное народное образование» в «Энциклопедическом словаре» Ф.А.Брокгауза и И.А.Ефрона, с 1714 по 1722 г. во всех цифирных школах перебывало 1389 учеников, из которых окончили курс только 93).
Чисто арифметические школы не пользовались популярностью, относительный успех был там, где, помимо начального образования, учили профессии. Регламентом об управлении Адмиралтейством и верфями предписывалась организация ремесленных школ, где детей мастеровых обучали «грамоте, цыфири и платгеометрии, дабы потом могли добрыми мастеровыми быть» (Регламент о управлении Адмиралтейства и верфми и часть вторая Регламента Морского. Гл. I, п. 60 (ПСЗ. Т. 5. № 3937 от 5 апр. 1722 г. С. 225)). Такие школы существовали в Петербурге при адмиралтейской, партикулярной, на Охте, кронштадтской и других верфях. Контингент в школах состоял из недорослей, солдатских и матросских детей, а при нехватке туда отправлялись дети из архиерейских школ. Одна такая школа обозначена на плане Кронштадта 1724 г., в крайнем правом губернском доме, на парадной набережной. Швед , бывавший здесь в 1730-е гг., назвал ее «школой матросских детей» (Берк К.Р. Путевые заметки о России [Пер. Ю.Н. Беспятых] // Беспятых Ю.Н. Пе тербург Анны Иоанновны в иностранных описаниях: Введение. Тексты. Комментарии. СПб.,1997. С. 248. Имеется в виду карта 1724 г., имя города «Кронштадт» появилось в 1723 г.). Возможно, ее и называли школой юнг.
Забавно то, что все цифирные школы до 1744 г. числились в Адмиралтейской коллегии, в силу чего историки школьной педагогики, роясь в своих педагогических архивах, сетуют на отсутствие сведений о начальной школе петровского времени. В доступной форме эта история изложена в октябре 1744 г. в докладе Адмиралтейской коллегии (Сенатский указ о соединении арифметических и гарнизонных школ (ПСЗ. Т. 12. № 9054 от 26 окт. 1744 г.); Число обучаемых детей разных сословий по школам в ноябре 1719 г. (Там же)). По именным указам 1714 и 1716 гг. из коллегии в учители послано 47 человек, 18 вернулись в Адмиралтейство за отсутствием учащихся детей. Во всех школах 709 учащихся.
В 1721 г. заведены гарнизонные школы (В гарнизонных школах велено обучать: «1. словестной и письменной науке и пению ротным писарям или кто чему искусен. 2. солдатской экзерциции. 3. арифметике, артиллерийской и инженерной науке»). Позднее обучение старались разделить по сословиям. Церковных детей по Духовному регламенту 19 ноября 1721 г. велено учить в архиерейских школах, солдатских с 21 сентября 1731 г. – в полковых, дворянских детей по указам от 9 февраля 1732 г. и 9 января 1737 г. разрешено обучать дома, а затем устраивать в академии, и т. д. Поэтому в 1744 г. решено особым арифметическим школам не быть, а соединить их с гарнизонными в ведомстве комендантов, то есть освободить Адмиралтейскую коллегию от управления школами.
Уровень теоретического обучения в то время определялся степенью знания геометрии. Для мастеровых – это планиметрия, для инженеров и артиллеристов – стереометрия, для навигаторов и геодезистов – сферическая геометрия, которую могли постигнуть лишь немногие, это был высший класс. Школа математических и навигацких наук, где их готовили, а затем Морская академия стали центром образовательной системы России.
• 1714 год. Между Бьёрке и Гангутом
Для государя главным событием 1714 г. стал морской поход в Финляндию и победа у полуострова Гангут. 20 мая 1714 г. флот отправился к Березовым (Бьерке) островам, лежавшим у входа в Выборгский залив, и вынужденно стоял здесь до 31 мая, пока не растаял лед. 26 мая с борта стоявшего на якоре корабля «Св. Екатерина» Петр I отправил письма с указаниями капитан-поручику гвардии об обучении артиллерии под его руководством двадцати учеников из Школы математицко-навигацких наук и губернатору А.Д.Меншикову «о постройке в Петербурге «в удобном месте изб, где их учить» (НИА СПб ИИ РАН. Ф. 270. Оп. 1. № 75. Л. 362. Копия конца XIX-начала XX в.).
Идея, возникшая в столь тревожное время, когда флот готовился к решительному бою со шведами, реализовалась через 3 года. Указом 28 ноября 1717 г. главному начальнику морской артиллерии господину Христиану Отто (в 1696 г. – кон-стапель (артиллерийский офицер) в Керченском походе на фрегате «Крепость»; а теперь обер-цейхмейстер – ранг контр-адмирала) поручалось зимой обучать матросских детей числом 500 или 300 человек артиллерии, а летом отправлять их в плавание (ПСЗ. Ч. I, т. 5. № 3122 от 28 нояб. 1717 г. С. 521): «Учить простых ребят Артиллерии столько, сколько простому морскому командиру надлежит». Речь явно шла о создании Морской артиллерийской школы, но первые сведения о ней появятся только в 1744 г.
Тем же указом обер-штеркригс-комиссару, занятому вопросами личного состава, господину генерал-майору Г.П.Чернышеву вменялось организовать обучение матросов и мастеров всех специальностей. Их велено учить русской грамоте, цифири, а молодых матросов обучать зимою вязанью узлов, оснастке, разноске и перевязанию парусов, подъему оных, привязыванию и развязыванию и прочему матросскому, что матросу надлежит. Как все это сделать, полагалось решить самой Адмиралтейств-коллегии. Коллегия решила организовать при Адмиралтействе школу, где учились бы морскому делу не только простолюдины, но и дворяне.
Выпускники школы решали весьма серьезные задачи. Из окончивших Адмиралтейскую школу в Санкт-Петербурге наиболее известны выпускники 1719 г. – будущие кораблестроители дворянин и Иван Гамбург, сын француза (учителя танцев) и русской женщины. В Адмиралтейской школе в 1729-1731 гг. учился Михаил Иванович Махаев, рисовальщик и гравер, автор юбилейного альбома «План столичного города Санкт-Петербурга» 1753 г.

Русский художник М.И. Махаев (1718-1770 гг.)
• Гардемарины
В январе 1715 г. Петр написал еще одну примечательную записку, посвященную строительству двора для обучения гардемаринов (НИА СПб ИИ РАН Ф. 270. Оп. 1. № 78. Л. 36; № 79. Л. 213. Копии конца XIX-начала XX в. Царь давал указания А.Д.Меншикову о постройке в Петербурге «в удобном месте изб, где их учить»), т. е. ее написали до утверждения проекта создания Морской академии и уж всяко раньше выхода «Положения о гардемаринах» от 19 апреля 1716 г.
Следовательно, упомянутое в записке звание «гардемарин» не относилось к учащимся Академии или Навигацкой школы. Это звание было строевым. Например, на спущенных в апреле 1714 г. конных галерах (См.: Широкоград А. Северные войны России. М., 2001. С. 306) служили «конные гардемарины» (Кошелева О.Е. Люди Санкт-Петербургского острова Петровского времени. М., 2004. С. 209. В «Сказке (списке) жителей Санкт-Петербургского острова 1718 г.» 25-летний князь Никита Федорович Волконский обоснованно назван «конным гардемарином»).
Петр I решил усилить подготовку экипажей и пошел тем же путем, что и француз Жан-Батист Кольбер, создатель роты гардемаринов в 1670-1680 гг., бросивший клич «Гардемарины – вперед!». Из опыта Гардемаринской роты, созданной для тренировки морской гвардии, выросла идея создания Морской академии. Очень скоро установилась их взаимная связь, и неспроста Морская академия называлась еще Академией морской гвардии.




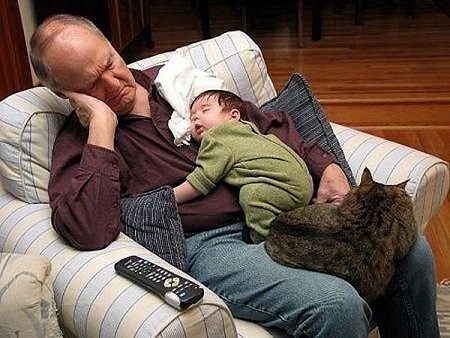
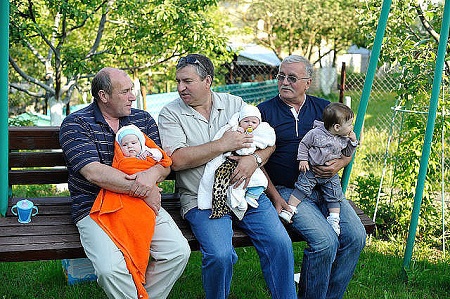








.jpg)








