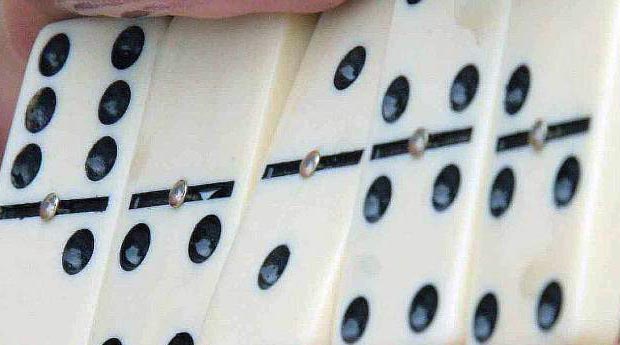–С–∞–љ–љ–µ—А

–Ш–Ш –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є—В —Г–≥—А–Њ–Ј—Г –њ–Њ –≤–Є–і–µ–Њ–Ї–∞–Љ–µ—А–µ
|
–Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є—П –±–ї–Њ–≥–Њ–≤
0
14.10.201521:2014.10.2015 21:20:35
–Я—А–Њ—З–Є—В–∞–ї "–†—Г—Б—М —Г—Е–Њ–і—П—Й–∞—П", –њ—А–Є–Ј–љ–∞—О—Б—М - –Ј–∞—Ж–µ–њ–Є–ї–Њ. –Т —Б–≤—П–Ј–Є —Б —Н—В–Є–Љ –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї –Є —Е–Њ—З—Г –њ–Њ–і–µ–ї–Є—В—Б—П —Б —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–∞–Љ–Є. –Ы–µ—В –і–µ—Б—П—В—М –љ–∞–Ј–∞–і —Г –Љ–µ–љ—П –±—Л–ї —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й –Є–Ј –∞—А—В –±–Њ–≥–µ–Љ—Л. –Э–∞–Љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—В–∞—А—И–µ –Љ–µ–љ—П. –Ш –≤–Њ—В –Ї–∞–Ї —В–Њ –Ј–∞ —А—О–Љ–Њ—З–Ї–Њ–є –±–µ–ї–µ–љ—М–Ї–Њ–є –Њ–љ –Љ–љ–µ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Ї–∞–Ї –±—Л –Њ–і–љ–Њ –Є–Ј –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є—Е –Є –љ–µ–Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е —З–µ—В–≤–µ—А–Њ—Б—В–Є—И–Є–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –†—Г–±—Ж–Њ–≤–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Њ–љ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –Ј–љ–∞–ї –ї–Є—З–љ–Њ. "–Ъ–Њ–≥–і–∞ —П –±—Г–і—Г —Г–Љ–Є—А–∞—В—М, –Р —Г–Љ–Є—А–∞—В—М —П —В–Њ—З–љ–Њ –±—Г–і—Г. –Т—Л –Ј–∞–≥–ї—П–љ–Є—В–µ –њ–Њ–і –Ї—А–Њ–≤–∞—В—М –Ш —Б–і–∞–є—В–µ –≤—Б—О –њ–Њ—А–Њ–ґ–љ—О—О –њ–Њ—Б—Г–і—Г". –Э–µ –Ј–љ–∞—О, –љ–Њ —П –µ–Љ—Г –њ–Њ–≤–µ—А–Є–ї, —Е–Њ—В—П —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є—П –љ–µ –њ–Њ–Ї–Є–і–∞—О—В –Є –љ—Л–љ–µ. –Ф—А—Г–Ј—М—П –Љ–Њ–ґ–µ—В –Ї—В–Њ –≤ —В–µ–Љ–µ? –†–∞–Ј–≤–µ–є—В–µ —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є—П –Є–ї–Є –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–і–Є—В–µ. 
14.10.201521:2014.10.2015 21:20:35
0
14.10.201511:1314.10.2015 11:13:49
 –Ъ–∞–њ–Є—В–∞–љ 1 —А–∞–љ–≥–∞ –≤ –Њ—В—Б—В–∞–≤–Ї–µ –Ъ–∞–њ–Є—В–∞–љ 1 —А–∞–љ–≥–∞ –≤ –Њ—В—Б—В–∞–≤–Ї–µ
–Ц–±–∞–љ–Њ–≤ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З,
–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї –Р–≤–∞—А–Є–є–љ–Њ-—Б–њ–∞—Б–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–є
—Б–ї—Г–ґ–±—Л –І–§ –≤ 1973-1986 –≥–Њ–і–∞—Е–Ш–Ј –Ї–љ–Є–≥–Є "–°—В–Њ –ї–µ—В, —З—В–Њ –і–∞–ї—М—И–µ?"26 –љ–Њ—П–±—А—П 1956 –≥–Њ–і–∞ ¬Ђ–Ъ–Њ–Љ–Љ—Г–љ–∞¬ї –њ–Њ–і –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–∞ 2-–≥–Њ —А–∞–љ–≥–∞ –І–µ—А–љ–Њ—Г—Б–∞ –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ —Б–Є–ї –Р–°–° –Т–Ь–§ –њ–Њ–і–љ—П–ї–∞ –љ–∞ –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В—М –Ј–∞—В–Њ–љ—Г–≤—И—Г—О –≤ –°—Г—Г—А—Г–њ—Б–Ї–Њ–Љ –њ—А–Њ—Е–Њ–і–µ –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А—П –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Г—О –ї–Њ–і–Ї—Г ¬Ђ–Ь-200¬ї. –Т –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –≥–Є–±–µ–ї–Є ¬Ђ–Ь-200¬ї, –Љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Г—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —Н–њ–Є–Ј–Њ–і–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ–Њ–≤—В–Њ—А—П—О—В—Б—П –љ–∞ –њ—А–Њ—В—П–ґ–µ–љ–Є–Є –≤—Б–µ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є —Д–ї–Њ—В–∞ –Є –њ–Њ–љ—Л–љ–µ. –°—В–Њ–Є—В –Њ–њ–Є—Б–∞—В—М —Г–ґ–µ –Ј–∞–±—Л—В—Л–µ —В—А–∞–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –і–љ–Є –≥–Є–±–µ–ї–Є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є —Б–∞–Љ–Њ–Њ—В–≤–µ—А–ґ–µ–љ–љ–Њ–є —А–∞–±–Њ—В—Л –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е —Б–њ–∞—Б–∞—В–µ–ї–µ–є.  –Я–Њ–і–≤–Њ–і–љ–∞—П –ї–Њ–і–Ї–∞ ¬Ђ–Ь-200¬ї —Г—В—А–Њ–Љ 21 –љ–Њ—П–±—А—П 1956 –≥–Њ–і–∞ –≤—Л—И–ї–∞ –≤ —А–∞–є–Њ–љ –Ґ–∞–ї–ї–Є–љ–љ–∞ –і–ї—П –Ј–∞–Љ–µ—А–∞ –Љ–∞–≥–љ–Є—В–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї—П. –Т 19.00 –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–≤ –Є–Ј–Љ–µ—А–µ–љ–Є—П, –ї–Њ–і–Ї–∞ –ї–µ–≥–ї–∞ –љ–∞ –Ї—Г—А—Б –≤ –Я–∞–ї–і–Є—Б–Ї–Є —З–µ—А–µ–Ј –°—Г—Г—А—Г–њ—Б–Ї–Є–є –њ—А–Њ—Е–Њ–і. –Ю—В—В—Г–і–∞ –Њ–љ–∞ –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є—В—М—Б—П –≤ –Ы–Є–µ–њ–∞—О –љ–∞ –Ј–Є–Љ–Њ–≤–Ї—Г. –Т 19.45 –љ–∞ –і–Є—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є 40 –Ї–∞–±–µ–ї—М—В–Њ–≤—Л—Е —Б–Є–≥–љ–∞–ї—М—Й–Є–Ї ¬Ђ–Ь-200¬ї –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–ї —В–Њ–њ–Њ–≤—Л–є –Є –Њ—В–ї–Є—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є –Ї—А–∞—Б–љ—Л–є (–ї–µ–≤—Л–є) —Е–Њ–і–Њ–≤—Л–µ –Њ–≥–љ–Є –≤—Б—В—А–µ—З–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П. –≠—В–Њ –±—Л–ї —Н—Б–Љ–Є–љ–µ—Ж ¬Ђ–°—В–∞—В–љ—Л–є¬ї 76-–є –±—А–Є–≥–∞–і—Л —Н—Б–Љ–Є–љ—Ж–µ–≤ –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞, —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–≤—И–Є–є –Ї –°—Г—Г—А—Г–њ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –њ—А–Њ—Е–Њ–і—Г –љ–∞ —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В–Є 22 —Г–Ј–ї–∞. –Ъ–Њ—А–∞–±–ї–Є –±—Л—Б—В—А–Њ —Б–±–ї–Є–ґ–∞–ї–Є—Б—М. –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Л —Н—Б–Љ–Є–љ—Ж–∞ –Є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є –Њ –≤—Б—В—А–µ—З–µ –љ–µ –±—Л–ї–Є –њ—А–µ–і—Г–њ—А–µ–ґ–і–µ–љ—Л, –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б —В–µ–Љ, —З—В–Њ –њ–Њ –љ–µ –Ј–∞–≤–Є—Б—П—Й–Є–Љ –Њ—В –љ–Є—Е –њ—А–Є—З–Є–љ–∞–Љ –Њ–њ–Њ–Ј–і–∞–ї–Є —Б –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ–Љ –≤ —Б–≤–Њ–Є —Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є—П. –Ю–њ–µ—А–∞—В–Є–≤–љ—Л–є –і–µ–ґ—Г—А–љ—Л–є —Д–ї–Њ—В–Є–ї–Є–Є –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –Њ–њ–Њ–≤–µ—Й–µ–љ–Є–є –Њ –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–∞—Е —Н—Б–Љ–Є–љ—Ж–∞ –Є –ї–Њ–і–Ї–Є –љ–µ –і–∞–ї. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –≤—Б—В—А–µ—З–∞ –±—Л–ї–∞ –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ–є. –Т 19.53 —Н—Б–Љ–Є–љ–µ—Ж —Г–і–∞—А–Є–ї —Д–Њ—А—И—В–µ–≤–љ–µ–Љ –≤ –њ—А–∞–≤—Л–є –±–Њ—А—В –њ–Њ–і–ї–Њ–і–Ї–Є –≤ —А–∞–є–Њ–љ–µ –њ—П—В–Њ–≥–Њ –Є —И–µ—Б—В–Њ–≥–Њ –Њ—В—Б–µ–Ї–Њ–≤. –£–і–∞—А –±—Л–ї –љ–∞—Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–Є–ї—М–љ—Л–Љ, —З—В–Њ –ї–Њ–і–Ї—Г –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є —А–∞–Ј—А–µ–Ј–∞–ї–Њ –њ–Њ–њ–Њ–ї–∞–Љ, –∞ —Н—Б–Љ–Є–љ–µ—Ж —Б–Є–ї—М–љ–Њ –њ–Њ–≤—А–µ–і–Є–ї —Д–Њ—А—И—В–µ–≤–µ–љ—М. –Ы–Њ–і–Ї–∞ –њ—А–Є–љ—П–ї–∞ –±–Њ–ї—М—И–Њ–µ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –≤–Њ–і—Л –≤ –Ї–Њ—А–Љ–Њ–≤—Л–µ –Њ—В—Б–µ–Ї–Є –Є —Б –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ –і–Є—Д—Д–µ—А–µ–љ—В–Њ–Љ –љ–∞ –Ї–Њ—А–Љ—Г –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 80–Њ, —З–µ—А–µ–Ј 6вАУ10 –Љ–Є–љ. –Ј–∞—В–Њ–љ—Г–ї–∞, —Г—В–Ї–љ—Г–≤—И–Є—Б—М –Ї–Њ—А–Љ–Њ–є –≤ –≥—А—Г–љ—В –љ–∞ –≥–ї—Г–±–Є–љ–µ 53 –Љ. –Э–Њ—Б–Њ–≤–∞—П —З–∞—Б—В—М –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М –љ–∞ –≥–ї—Г–±–Є–љ–µ 34 –Љ. –Я–Њ—Б–ї–µ —Б—В–Њ–ї–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П –љ–∞ —Н—Б–Љ–Є–љ—Ж–µ –љ–µ–Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ —Б—Л–≥—А–∞–ї–Є —В—А–µ–≤–Њ–≥—Г, —Б–±—А–Њ—Б–Є–ї–Є –≤ –≤–Њ–і—Г –≤—Б–µ —Б–њ–∞—Б–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–µ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –Є —Б–њ—Г—Б—В–Є–ї–Є —И–ї—О–њ–Ї—Г. –Э–∞ –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В–Є –≤–Њ–і—Л –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–ї–Є —И–µ—Б—В—М –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–≤, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –ї–Њ–і–Ї–Є –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–∞ 3-–≥–Њ —А–∞–љ–≥–∞ –Р. –°. –®—Г–Љ–∞–љ–Є–љ–∞. –Ъ–∞–Ї —Б—В–∞–ї–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ –њ–Њ–Ј–ґ–µ, –≤ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В —Б—В–Њ–ї–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П –љ–∞ –Љ–Њ—Б—В–Є–Ї–µ –ї–Њ–і–Ї–Є –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –≤–Њ—Б–µ–Љ—М –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–≤. –Ф–≤–Њ–µ —Б–Є–≥–љ–∞–ї—М—Й–Є–Ї–Њ–≤ –њ–Њ–≥–Є–±–ї–Є. –Т –Ј–∞—В–Њ–љ—Г–≤—И–µ–є –њ–Њ–і–ї–Њ–і–Ї–µ –Њ—Б—В–∞–ї–Є—Б—М 26 –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤. –Ь–Њ—А—П–Ї–∞–Љ –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –Њ—В—Б–µ–Ї–∞ —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –Њ—В–і–∞—В—М –∞–≤–∞—А–Є–є–љ–Њ-—Б–Є–≥–љ–∞–ї—М–љ—Л–є –±—Г–є (–Р–°–С). –Э–∞ –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В–Є –Љ–Њ—А—П –µ–≥–Њ –Ј–∞–Љ–µ—В–Є–ї–Є —Б –±–Њ—А—В–∞ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—Е–Њ—В–љ–Є–Ї–∞ –Є –њ–Њ–і–љ—П–ї–Є –љ–∞ –±–Њ—А—В. –Т 21.12 –±—Л–ї–∞ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–∞ —В–µ–ї–µ—Д–Њ–љ–љ–∞—П —Б–≤—П–Ј—М —Б –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –і–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї–Є, —З—В–Њ –Ї–Њ—А–Љ–Њ–≤—Л–µ –Њ—В—Б–µ–Ї–Є –Ј–∞—В–Њ–њ–ї–µ–љ—Л, –≤ —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –њ–Њ—Б—В—Г –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї —И—В–∞–±–∞ 157-–є –±—А–Є–≥–∞–і—Л –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ 2-–≥–Њ —А–∞–љ–≥–∞ –Ѓ.–Я.–®—В—Л–Ї–Њ–≤, –≥–ї—Г–±–Є–љ–Њ–Љ–µ—А –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В 35 –Љ, –≥–ї—Г–±–Є–љ–∞ —Г–≤–µ–ї–Є—З–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б –Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ—Л–Љ –Ј–∞—В–Њ–њ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –љ–Њ—Б–Њ–≤—Л—Е –Њ—В—Б–µ–Ї–Њ–≤, –і—Л—И–∞—В—М —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П —В—А—Г–і–љ–µ–µ, —Б—В–Њ–Є—В –љ–µ–≤—Л–љ–Њ—Б–Є–Љ—Л–є —Е–Њ–ї–Њ–і. –Ю–±—Й–µ–µ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ —Б–њ–∞—Б–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є —А–∞–±–Њ—В–∞–Љ–Є –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П–ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є–є —Д–ї–Њ—В–Є–ї–Є–µ–є –≤–Є—Ж–µ-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї –Т–Є–Ї—В–Њ—А –°–µ—А–≥–µ–µ–≤–Є—З –І–µ—А–Њ–Ї–Њ–≤. –Т 4.00 22 –љ–Њ—П–±—А—П –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ —Б–њ–∞—Б–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є —А–∞–±–Њ—В–∞–Љ–Є –≤–Ј—П–ї –љ–∞ —Б–µ–±—П –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А 405 –Ю–Ф–Р–°–° –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ 1-–≥–Њ —А–∞–љ–≥–∞ –Ъ—А–Є–≤–Ї–Њ, –њ—А–Є–±—Л–≤—И–Є–є –љ–∞ —Б–њ–∞—Б–∞—В–µ–ї–µ ¬Ђ–Р—А–±–∞–љ¬ї, –∞ —Б 13 —З–∞—Б–Њ–≤ вАУ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї –Р–°–° –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞ –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А-–њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤, –њ—А–Є–±—Л–≤—И–Є–є –Є–Ј –Ъ–∞–ї–Є–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–∞. –Я–ї–∞–љ–Њ–Љ —А–∞–±–Њ—В, —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–Љ –І–µ—А–Њ–Ї–Њ–≤—Л–Љ, –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–ї–Њ—Б—М –Ј–∞–≤–µ—Б—В–Є –±—Г–Ї—Б–Є—А –Ј–∞ –љ–Њ—Б–Њ–≤—Г—О —З–∞—Б—В—М ¬Ђ–Љ–∞–ї—О—В–Ї–Є¬ї –Є –Њ—В–±—Г–Ї—Б–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –µ–µ –љ–∞ 10-–Љ–µ—В—А–Њ–≤—Г—О –≥–ї—Г–±–Є–љ—Г —Б —Ж–µ–ї—М—О –≤—Л–≤–Њ–і–∞ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є–Ј –Њ—В—Б–µ–Ї–∞ –љ–∞ –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В—М –≤–Њ–і—Л –≤ –±–Њ–ї–µ–µ –њ—А–Њ—Б—В—Л—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е. –≠—В–∞ —А–∞–±–Њ—В–∞ –±—Л–ї–∞ –њ–Њ—А—Г—З–µ–љ–∞ –≤–Њ–і–Њ–ї–∞–Ј–љ–Њ–Љ—Г –±–Њ—В—Г ¬Ђ–Т–Ь-11¬ї, —Б –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –≤ 23.57 —Б–њ—Г—Б—В–Є–ї–Є –њ–Њ–і –≤–Њ–і—Г –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –≤–Њ–і–Њ–ї–∞–Ј–∞. –Ъ 3.00 22 –љ–Њ—П–±—А—П —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Г—Е—Г–і—И–Є–ї–Њ—Б—М –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б —Г–≤–µ–ї–Є—З–µ–љ–Є–µ–Љ –і–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Є –Ї–Њ–љ—Ж–µ–љ—В—А–∞—Ж–Є–Є —Г–≥–ї–µ–Ї–Є—Б–ї–Њ–≥–Њ –≥–∞–Ј–∞. –Ъ —В–Њ–Љ—Г –ґ–µ –Ј–∞–±–Њ—А—В–љ–∞—П –≤–Њ–і–∞, –њ–Њ—Б—В—Г–њ–∞–≤—И–∞—П —З–µ—А–µ–Ј –њ—А–µ–і–Њ—Е—А–∞–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є –Ї–ї–∞–њ–∞–љ –і–Є—Д—Д–µ—А–µ–љ—В–љ–Њ–є —Ж–Є—Б—В–µ—А–љ—Л, –њ–Њ–і–љ—П–ї–∞—Б—М –≤—Л—И–µ –љ–∞—Б—В–Є–ї–∞ –Њ—В—Б–µ–Ї–∞. –Я–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Є –љ–∞–і–µ–ї–Є –≥–Є–і—А–Њ–Ї–Њ–Љ–±–Є–љ–µ–Ј–Њ–љ—Л, –њ—А–Є–≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї–Є —Б–њ–∞—Б–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –∞–њ–њ–∞—А–∞—В—Л, –Њ–њ—Г—Б—В–Є–ї–Є –Є —А–∞—Б–Ї—А–µ–њ–Є–ї–Є —В—Г–±—Г—Б –њ–Њ–і –≤—Е–Њ–і–љ—Л–Љ –ї—О–Ї–Њ–Љ –Є –±—Л–ї–Є –≥–Њ—В–Њ–≤—Л –Ї —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ—Г –≤—Л—Е–Њ–і—Г –љ–∞ –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В—М. –Т 6.00 –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є–љ—П—В–Њ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–і–∞–≤–∞—В—М –≤–Њ–Ј–і—Г—Е –≤ –Њ—В—Б–µ–Ї —З–µ—А–µ–Ј —Н–њ—А–Њ–љ–Њ–≤—Б–Ї—Г—О –≤—Л–≥–Њ—А–Њ–і–Ї—Г, –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –Њ—В–Ї–∞—З–Є–≤–∞—П ¬Ђ—В—П–ґ–µ–ї—Л–є¬ї –≤–Њ–Ј–і—Г—Е. –Т 7.00 –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Є –і–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї–Є –Њ –≥–Њ—В–Њ–≤–љ–Њ—Б—В–Є –Ї –њ–Њ–і—К–µ–Љ—Г –Є –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —Г –љ–Є—Е –Ј–∞–Ї–∞–љ—З–Є–≤–∞—О—В—Б—П —А–µ–≥–µ–љ–µ—А–∞—В–Є–≤–љ—Л–µ –њ–∞—В—А–Њ–љ—Л. –Ь–Њ—А—П–Ї–Є —А–∞–±–Њ—В–∞–ї–Є –≤ –њ–Њ–ї–љ–Њ–є —В–µ–Љ–љ–Њ—В–µ, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –∞–Ї–Ї—Г–Љ—Г–ї—П—В–Њ—А–љ–∞—П –±–∞—В–∞—А–µ—П –±—Л–ї–∞ –Ј–∞–ї–Є—В–∞ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–і–Њ–є. –Э–∞ –њ—А–Є—Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є–µ –≤–Њ–Ј–і—Г—И–љ—Л—Е —И–ї–∞–љ–≥–Њ–≤ –Ї —И—В—Г—Ж–µ—А–∞–Љ —Н–њ—А–Њ–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –≤—Л–≥–Њ—А–Њ–і–Ї–Є –≤–Њ–і–Њ–ї–∞–Ј–∞–Љ –њ–Њ—В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї–Њ—Б—М –њ—П—В—М —З–∞—Б–Њ–≤. –Т 11.30 –љ–∞—З–∞–ї–Є –њ–Њ–і–∞–≤–∞—В—М —Б–≤–µ–ґ–Є–є –≤–Њ–Ј–і—Г—Е –≤ –њ–µ—А–≤—Л–є –Њ—В—Б–µ–Ї. –®–ї–∞–љ–≥ –Њ—В—Б–Њ—Б–∞ —В—П–ґ–µ–ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Ј–і—Г—Е–∞ –њ—А–Є—Б–Њ–µ–і–Є–љ–Є—В—М –љ–µ —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –і–ї—П –≤–µ–љ—В–Є–ї—П—Ж–Є–Є –Њ—В—Б–µ–Ї–∞ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є –Њ–і–Є–љ —И–ї–∞–љ–≥, —З—В–Њ –Ј–∞–Љ–µ–і–ї–Є–ї–Њ –њ–µ—А–µ–Љ–µ—И–Є–≤–∞–љ–Є–µ –Њ—В—Б–µ—З–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Ј–і—Г—Е–∞. –Т—Б–Ї–Њ—А–µ –Є–Ј –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –Њ—В—Б–µ–Ї–∞ –і–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї–Є, —З—В–Њ –∞—В–Љ–Њ—Б—Д–µ—А–∞ –≤ –Њ—В—Б–µ–Ї–µ —Г–ї—Г—З—И–Є–ї–∞—Б—М, –і—Л—И–∞—В—М —Б—В–∞–ї–Њ –ї–µ–≥—З–µ. –Т 12.00 –њ–Њ —А–µ—И–µ–љ–Є—О –І–µ—А–Њ–Ї–Њ–≤–∞ –љ–∞—З–∞–ї–Є –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ —А–∞–±–Њ—В—Л –Ї –њ–Њ–і—К–µ–Љ—Г –ї–Њ–і–Ї–Є 250-—В–Њ–љ–љ—Л–Љ –Ї—А–∞–љ–Њ–Љ –Є 75-—В–Њ–љ–љ—Л–Љ –Ї–Є–ї–µ–Ї—В–Њ—А–Њ–Љ. –Ю–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М —А–∞–±–Њ—В—Л –њ–Њ –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–µ –≤—Л—Е–Њ–і–∞ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ –њ—А–Є –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є–Є –≤–Њ–і–Њ–ї–∞–Ј–Њ–≤, —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–љ—Л—Е –љ–∞ –±–µ—Б–µ–і–Ї–µ. –Р–≤–∞—А–Є–є–љ–Њ-—Б–њ–∞—Б–∞—В–µ–ї—М–љ–∞—П –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є—П –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–ї–∞ –≤ –њ—А–Є–≤—Л—З–љ–Њ–Љ –і–ї—П —Б–њ–∞—Б–∞—В–µ–ї–µ–є —А–Є—В–Љ–µ. –£—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї—Б—П –і–Њ–ї–ґ–љ—Л–є –њ–Њ—А—П–і–Њ–Ї, –Ї–∞–ґ–і—Л–є –Ј–љ–∞–ї —Б–≤–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ –Є –Љ–µ—А—Г –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є. –Т 14.00 22 –љ–Њ—П–±—А—П –≤ —А–∞–є–Њ–љ –∞–≤–∞—А–Є–Є –њ—А–Є–±—Л–ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є–є –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Є–Љ —Д–ї–Њ—В–Њ–Љ –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї –Р. –У. –У–Њ–ї–Њ–≤–Ї–Њ. –Р–і–Љ–Є—А–∞–ї —Б–≤—П–Ј–∞–ї—Б—П —Б –њ–µ—А–≤—Л–Љ –Њ—В—Б–µ–Ї–Њ–Љ, –≤—Л—Б–ї—Г—И–∞–ї –і–Њ–Ї–ї–∞–і –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї: ¬Ђ–Ф–∞—О –≤–∞–Љ —З–µ—Б—В–љ–Њ–µ —Б–ї–Њ–≤–Њ –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–∞, —З—В–Њ –≤—Л –±—Г–і–µ—В–µ —Б–њ–∞—Б–µ–љ—Л¬ї. –Ч–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є–Љ —Б–ї–Њ–≤–∞ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–∞. –Ъ —Н—В–Њ–Љ—Г –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –њ–Њ–≥–Њ–і–∞ —Г—Е—Г–і—И–Є–ї–∞—Б—М, –Є –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї –љ–µ–Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ —Б–≤–µ—А–љ—Г—В—М –≤—Б–µ —А–∞–±–Њ—В—Л –њ–Њ –њ–Њ–і—К–µ–Љ—Г –ї–Њ–і–Ї–Є –Є –љ–∞—З–∞—В—М –≤—Л–≤–Њ–і –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є–Ј –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –Њ—В—Б–µ–Ї–∞. –У–ї–∞–≤–љ–Њ–є –Ј–∞–і–∞—З–µ–є —Б—В–∞–ї–Њ —Б–њ–∞—Б–µ–љ–Є–µ –ґ–Є–Ј–љ–Є –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–≤. –Ш–Ј –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л –њ—А–Є–±—Л–ї –У–ї–∞–≤–љ–Њ–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є–є –Т–Ь–§ –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї –°. –У. –У–Њ—А—И–Ї–Њ–≤. –Ь–µ–ґ–і—Г –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–∞–Љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –љ–µ–і–Њ–ї—О–±–ї–Є–≤–∞–ї–Є –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥–∞, –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–µ–ї –љ–µ–њ—А–Є—П—В–љ—Л–є —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А, –њ–Њ—Б–ї–µ —З–µ–≥–Њ –У–Њ–ї–Њ–≤–Ї–Њ —Б—А–∞–Ј—Г –ґ–µ —Г–±—Л–ї –≤ –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї. –° —Н—В–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В–∞ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ —Б–њ–∞—Б–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–µ–є –≤–Ј—П–ї –љ–∞ —Б–µ–±—П –≥–ї–∞–≤–Ї–Њ–Љ. –Ю–љ —Б–≤—П–Ј–∞–ї—Б—П —Б –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є, —В–Њ–ґ–µ –њ–Њ–Њ–±–µ—Й–∞–ї –Є—Е —Б–њ–∞—Б—В–Є, –љ–Њ –њ—А–Њ—Б–Є–ї –љ–∞–±—А–∞—В—М—Б—П —В–µ—А–њ–µ–љ–Є—П –Є –≤—Л–і–µ—А–ґ–Ї–Є. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А–µ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї –њ–Њ–ї–Є—В–Њ—В–і–µ–ї–∞ –±—А–Є–≥–∞–і—Л –Є —Д–ї–∞–≥–Љ–µ—Е. –Я–Њ –Є—Е —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ, —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї —В–∞–Ї: ¬Ђ–Я–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –њ–Њ–і–ї–Њ–і–Ї–Є –Ъ–Њ–ї–њ–∞–Ї–Њ–≤ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В: ¬Ђ–Ґ–Њ–≤–∞—А–Є—Й –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є–є, –Љ—Л –≥–Њ—В–Њ–≤—Л –≤—Л—Е–Њ–і–Є—В—М. –Ф–∞–є—В–µ –љ–∞–Љ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Ј–і—Г—Е–∞, —З—В–Њ–±—Л –ї–µ–≥—З–µ –Њ—В–Ї—А—Л—В—М –ї—О–Ї¬ї. –У–ї–∞–≤–Ї–Њ–Љ –Њ—В–≤–µ—З–∞–µ—В: ¬Ђ–Т–∞—Б –њ–Њ–љ—П–ї! –Ь—Л —Б–µ–є—З–∞—Б –њ–Њ—Б–Њ–≤–µ—Й–∞–µ–Љ—Б—П –Є –±—Г–і–µ–Љ –≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В—М –≤–∞–Љ –≤—Л—Е–Њ–і. –Э–Њ —Б–∞–Љ–Є –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е –Љ–µ—А —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ –љ–µ –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–є—В–µ!¬ї –Ъ —Н—В–Њ–Љ—Г –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –≤ —А–∞–є–Њ–љ–µ –∞–≤–∞—А–Є–Є –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М: –Ї—А–µ–є—Б–µ—А ¬Ђ–Ц–і–∞–љ–Њ–≤¬ї, —Н—Б–Љ–Є–љ–µ—Ж ¬Ђ–°—В–∞—В–љ—Л–є¬ї, —В—А–∞–ї—М—Й–Є–Ї–Є ¬Ђ–С–Ґ–©-812¬ї, ¬Ђ–С–Ґ–©-131¬ї, ¬Ђ–С–Ґ–©-109¬ї, ¬Ђ–С–Ґ–©-705¬ї, ¬Ђ–†–Ґ–©-251¬ї, —Б–њ–∞—Б–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–µ —Б—Г–і–∞ ¬Ђ–І—Г–≥—Г—И¬ї, ¬Ђ–Ґ—А–µ—Д–µ–ї–µ–≤¬ї, ¬Ђ–Р—А–±–∞–љ¬ї, ¬Ђ–Я—Г–ї–Ї–Њ–≤–Њ¬ї, ¬Ђ–°–Є–≥–љ–∞–ї¬ї, ¬Ђ–У—Г—В–Њ–љ¬ї, ¬Ђ–Я–Є–і–∞–љ¬ї, –Ї–Є–ї–µ–Ї—В–Њ—А ¬Ђ–Ъ–Ш–Ы-5¬ї, –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–µ –ї–Њ–і–Ї–Є ¬Ђ–Ь-214¬ї, ¬Ђ–°-348¬ї, –і–≤–∞ –њ–ї–∞–≤–Ї—А–∞–љ–∞ –Є –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е –±—Г–Ї—Б–Є—А–Њ–≤ –Є –њ—А–Њ—З–Є—Е –њ–ї–∞–≤—Б—А–µ–і—Б—В–≤. –Т —А–∞–є–Њ–љ –∞–≤–∞—А–Є–Є —Б–њ–µ—И–Є–ї–Њ –≤—Л–Ј–≤–∞–љ–љ–Њ–µ –Є–Ј –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–∞ —Б–њ–∞—Б–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ —Б—Г–і–љ–Њ ¬Ђ–Ъ–Њ–Љ–Љ—Г–љ–∞¬ї. –°–њ–∞—Б–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–µ —А–∞–±–Њ—В—Л –Ј–∞–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М, –∞ –≤—А–µ–Љ—П –љ–µ—Г–Љ–Њ–ї–Є–Љ–Њ –±—Л—Б—В—А–Њ –Њ—В—Б—З–Є—В—Л–≤–∞–ї–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ —З–∞—Б—Л –ґ–Є–Ј–љ–Є –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–≤ ¬Ђ–Ь-200¬ї. –С—Л–ї–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–µ–љ—Г–ґ–љ–Њ–є —Б—Г–µ—В—Л, —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Њ–≤–∞–љ–Є–є, –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–є, –Њ–ґ–Є–і–∞–љ–Є–µ –Њ—В–≤–µ—В–Њ–≤ –љ–∞ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ —Г–Ї–∞–Ј–Њ–≤ –Є –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–Њ–≤, –њ—А–Њ—З–Є—Е –њ—А–Њ–≤–Њ–ї–Њ—З–µ–Ї. –Я–Њ–Ї–∞ –љ–∞–≤–µ—А—Е—Г, —А–µ—И–∞–ї–Є, —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Њ–≤—Л–≤–∞–ї–Є –Є —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–ї–Є –њ–ї–∞–љ—Л –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є, –љ–∞ –≥—А—Г–љ—В–µ –ї–µ–ґ–∞–ї–∞ —А–∞–Ј–≤–Њ—А–Њ—З–µ–љ–љ–∞—П –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–∞—П –ї–Њ–і–Ї–∞, –Є –≤ —В–Є—И–Є–љ–µ –µ–µ —Е–Њ–ї–Њ–і–љ—Л—Е, –Љ–µ—А—В–≤—Л—Е –Њ—В—Б–µ–Ї–Њ–≤ –Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ–≥–Є–±–∞–ї–Є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Є. –У–ї–∞–≤–Ї–Њ–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–µ ¬Ђ–Ь—Л —Б–µ–є—З–∞—Б –њ–Њ—Б–Њ–≤–µ—Й–∞–µ–Љ—Б—ПвА¶¬ї –і–ї–Є–ї–Њ—Б—М –±–µ–Ј –Љ–∞–ї–Њ–≥–Њ 36 —З–∞—Б–Њ–≤. –° –њ–Њ–і—Е–Њ–і–Њ–Љ —Б–њ–∞—Б–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–љ–∞ ¬Ђ–Я—Г–ї–Ї–Њ–≤–Њ¬ї —А–µ—И–µ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є—Б—В—Г–њ–Є—В—М –Ї –≤—Л–≤–Њ–і—Г –ї–Є—З–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –Њ—В—Б–µ–Ї–∞ —Б –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ —Б–њ—Г—Б–Ї–Њ-–њ–Њ–і—К–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–∞ —Б—Г–і–љ–∞. –Э–Њ –њ–Њ–Ї–∞ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ—П–ї–Є —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –У–Њ—А—И–Ї–Њ–≤–∞, –љ–∞—З–∞–ї—Б—П —И—В–Њ—А–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —А–∞–Ј–±—А–Њ—Б–∞–ї –≤—Б–µ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є –Є —Б—Г–і–∞ –≤ —А–∞–Ј–љ—Л–µ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л. –Т 1845 –±—Л–ї–Є –Њ–±–Њ—А–≤–∞–љ—Л —В–µ–ї–µ—Д–Њ–љ–љ—Л–є –Ї–∞–±–µ–ї—М –Р–°–С –Є –≤–Њ–Ј–і—Г—И–љ—Л–µ —И–ї–∞–љ–≥–Є. –°–≤—П–Ј—М —Б –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –Є –њ–Њ–і–∞—З–∞ —Б–≤–µ–ґ–µ–≥–Њ –≤–Њ–Ј–і—Г—Е–∞ –њ—А–µ–Ї—А–∞—В–Є–ї–Є—Б—М. –Ґ–µ–њ–µ—А—М –Њ—Б—В–∞–≤—И–Є–µ—Б—П –≤ –ґ–Є–≤—Л—Е –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Є –±—Л–ї–Є –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ—Л —Б–∞–Љ–Є —Б–µ–±–µ. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –њ–Њ–≥–Њ–і–∞ —Г—Б–њ–Њ–Ї–Њ–Є–ї–∞—Б—М, –њ–Њ–і –≤–Њ–і—Г —Б–њ—Г—Б—В–Є–ї–Є –≤–Њ–і–Њ–ї–∞–Ј–∞. –Я–Њ—Б–ї–µ –њ—А–Њ—Б—В—Г–Ї–Є–≤–∞–љ–Є—П –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–∞ –≤ —А–∞–є–Њ–љ–µ –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –Њ—В—Б–µ–Ї–∞, —Б—В–∞–ї–Њ —П—Б–љ–Њ, —З—В–Њ –ґ–Є–≤—Л—Е –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Г–ґ–µ –љ–µ—В. –Я–Њ–ї—Г—З–Є–≤ –і–Њ–Ї–ї–∞–і –Њ –њ–µ—З–∞–ї—М–љ–Њ–Љ —Д–Є–љ–∞–ї–µ —Б–њ–∞—Б–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–Є, –У–Њ—А—И–Ї–Њ–≤ —Б—А–∞–Ј—Г –ґ–µ —Г–ї–µ—В–µ–ї –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г. –°–њ—Г—Б—В—П —И–µ—Б—В—М –і–љ–µ–є –њ–Њ–і–Њ—И–µ–і—И–µ–µ —Б–њ–∞—Б–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ —Б—Г–і–љ–Њ ¬Ђ–Ъ–Њ–Љ–Љ—Г–љ–∞¬ї –Ј–∞–≤–µ–ї–Њ —Б—В—А–Њ–њ—Л –њ–Њ–і –Ї–Њ—А–њ—Г—Б ¬Ђ–Љ–∞–ї—О—В–Ї–Є¬ї –Є –њ–Њ–і–љ—П–ї–Њ –µ–µ –љ–∞ –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В—М. –І–µ—А–µ–Ј –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —З–∞—Б–Њ–≤ —Б—Г–і–љ–Њ –Њ—И–≤–∞—А—В–Њ–≤–∞–ї–Њ—Б—М –Ї —Б—В–µ–љ–Ї–µ –Ґ–∞–ї–ї–Є–љ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ—А—В–∞. –Э–Њ—З—М—О –љ–∞—З–∞–ї–∞—Б—М –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є—П –њ–Њ –Є–Ј–≤–ї–µ—З–µ–љ–Є—О —В–µ–ї –њ–Њ–≥–Є–±—И–Є—Е –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є–Ј –Њ—В—Б–µ–Ї–Њ–≤ ¬Ђ–Ь-200¬ї. –Э–∞ –±–Њ—А—В—Г ¬Ђ–Ъ–Њ–Љ–Љ—Г–љ—Л¬ї –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —И—В–∞—В–љ–∞—П –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–∞, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ 405 –Ю–Ф–Р–°–° –Є –≥—А—Г–њ–њ–∞ –≤—А–∞—З–µ–є. –Я–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ –і–Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–Є –≤–Њ–і–Њ–ї–∞–Ј—Л —Б—Г–і–љ–∞. –Ь–Њ—А—П–Ї–Њ–≤ –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ–Є–ї–Є –≤ –Я–∞–ї–і–Є—Б–Ї–Є. –Ш—Б—В–Њ—А–Є—О –Ј–∞–±—Л–ї–Є –љ–∞ –і–Њ–ї–≥–Є–µ –≥–Њ–і—Л. –°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –∞–Ї—В–∞–Љ —А–∞—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Д–∞–Ї—В –њ—А–Є–±—Л—В–Є—П –≥–ї–∞–≤–Ї–Њ–Љ–∞ –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–Њ –∞–≤–∞—А–Є–Є ¬Ђ–Ь-200¬ї –љ–µ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–і–Є–ї—Б—П. –Э–µ ¬Ђ–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї–Є¬ї –њ—А–Є–µ–Ј–і –У–Њ—А—И–Ї–Њ–≤–∞ –Є –і—А—Г–≥–Є–µ —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Є —Б–Њ–±—Л—В–Є–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Њ–њ—А–∞—И–Є–≤–∞–ї–Є —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї–Є. –Ш –≤–Њ–Њ–±—Й–µ, –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –≤—Б–µ —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є—П –Њ—В–і–∞–≤–∞–ї –љ–µ –≥–ї–∞–≤–Ї–Њ–Љ, –∞ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є–є –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Є–Љ —Д–ї–Њ—В–Њ–Љ –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї –У–Њ–ї–Њ–≤–Ї–Њ –Р—А—Б–µ–љ–Є–є –У—А–Є–≥–Њ—А—М–µ–≤–Є—З!? –Т –Ї–Њ–љ—Ж–µ –љ–Њ—П–±—А—П, —Б—А–∞–Ј—Г –ґ–µ –њ–Њ—Б–ї–µ —В—А–∞–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б–Њ–±—Л—В–Є–є, –У–Њ–ї–Њ–≤–Ї–Њ –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ –њ–µ—А–µ–≤–µ–ї–Є –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г –љ–∞ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В—М –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї—П –≥–ї–∞–≤–Ї–Њ–Љ–∞. –Т—Б–Ї–Њ—А–µ –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–ї. –°—З–Є—В–∞–µ—В—Б—П, —З—В–Њ –ї—Г—З–µ–≤–Њ–є –±–Њ–ї–µ–Ј–љ—М—О: –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї —Г—З–∞—Б—В–Є–µ –≤ —П–і–µ—А–љ—Л—Е –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є—П—Е –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П –љ–∞ –Э–Њ–≤–Њ–є –Ј–µ–Љ–ї–µ. –Т 1962 –≥–Њ–і—Г –ї–µ–≥–µ–љ–і–∞—А–љ—Л–є –Љ–Њ—А—П–Ї —Г–Љ–µ—А. –Т–Є–љ–Њ–≤–љ—Л–Љ–Є –њ—А–Є–Ј–љ–∞–ї–Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–≤ –ї–Њ–і–Ї–Є –Є —Н—Б–Љ–Є–љ—Ж–∞, –љ–∞—А—Г—И–Є–≤—И–Є—Е –Ь–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ—Л–µ –њ—А–∞–≤–Є–ї–∞ –њ—А–µ–і—Г–њ—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П —Б—В–Њ–ї–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–є —Б—Г–і–Њ–≤ –≤ –Љ–Њ—А–µ (–Ь–Я–Я–°–°), –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ 157-–є –Њ—В–і–µ–ї—М–љ–Њ–є –±—А–Є–≥–∞–і—Л –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї. –Я—А–Є—З–Є–љ–∞–Љ–Є, —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–Є–Љ–Є –Ї–∞—В–∞—Б—В—А–Њ—Д–µ, –љ–∞–Ј–≤–∞–ї–Є –љ–µ—Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–Є—В–µ–ї—М–љ—Г—О –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—О –≤ –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–µ ¬Ђ–Ь-200¬ї –Ї –≤—Л—Е–Њ–і—Г –≤ –Љ–Њ—А–µ, –љ–Є–Ј–Ї—Г—О –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—О –Њ–њ–Њ–≤–µ—Й–µ–љ–Є—П –Є –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–µ —А–µ–ґ–Є–Љ–∞ –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є—П –≤ –§–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ –Ј–∞–ї–Є–≤–µ. –Я–Њ –њ–Њ–љ—П—В–љ—Л–Љ –њ—А–Є—З–Є–љ–∞–Љ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –љ–Є–Ј–Ї–Њ–є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є —Б–њ–∞—Б–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–Є –љ–µ —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–ї—Б—П. –Я—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А —В—А–Є–±—Г–љ–∞–ї–∞: —В—А–Є –≥–Њ–і–∞ –Њ–±—Й–µ–≥–Њ —А–µ–ґ–Є–Љ–∞ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Г ¬Ђ–Ь-200¬ї –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ—Г 3-–≥–Њ —А–∞–љ–≥–∞ –®—Г–Љ–∞–љ–Є–љ—Г –Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Г —Н—Б–Љ–Є–љ—Ж–∞ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ—Г 3-–≥–Њ —А–∞–љ–≥–∞ ¬Ђ–°—В–∞—В–љ—Л–є¬ї –°–∞–≤—З—Г–Ї—Г. –Ю–±–∞ –≤—Л—И–ї–Є –Є–Ј –Ї–Њ–ї–Њ–љ–Є–Є –і–Њ—Б—А–Њ—З–љ–Њ. –≠—В–∞ –Є—Б—В–Њ—А–Є—П –µ—Б—В—М –љ–µ —З—В–Њ –Є–љ–Њ–µ, –Ї–∞–Ї –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М —В–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї –љ–µ –љ–∞–і–Њ —Б–њ–∞—Б–∞—В—М –њ–Њ–њ–∞–≤—И–Є–µ –≤ –±–µ–і—Г –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є –Є –Є—Е —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–Є. –Ь–µ–ґ–і—Г –њ—А–Њ—З–Є–Љ, —Г–ґ–µ –≤ –∞–≤–≥—Г—Б—В–µ 1957 –≥–Њ–і–∞ –Є—Б—В–Њ—А–Є—П —Б –Ј–∞—В–Њ–њ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є –њ–Њ–≤—В–Њ—А–Є–ї–∞—Б—М, –љ–Њ —Г–ґ–µ –љ–∞ –І–µ—А–љ–Њ–Љ –Љ–Њ—А–µ (¬Ђ–Ь-351¬ї). –Ґ–Њ–≥–і–∞ –У–ї–∞–≤–Ї–Њ–Љ –У–Њ—А—И–Ї–Њ–≤ –љ–µ —Б—В–∞–ї –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В—М —Г—З–∞—Б—В–Є—П –≤ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–µ —Б–њ–∞—Б–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–µ–є –Є, –Ї–∞–Ї —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–µ, –Њ–љ–∞ –њ—А–Њ—И–ї–∞ –±–ї–µ—Б—В—П—Й–µ. –С–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П —Г–Љ–µ–ї—Л–Љ –Є —А–µ—И–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П–Љ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ –І–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–Љ —Д–ї–Њ—В–Њ–Љ –Ъ–∞—Б–∞—В–Њ–љ–Њ–≤–∞, —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –Р–°–° —Д–ї–Њ—В–∞, –≤—Б–µ—Е —Б–њ–∞—Б–∞—В–µ–ї–µ–є –Є —Б–∞–Љ–Є—Е –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤, –ї–Њ–і–Ї–∞ –±—Л–ї–∞ —Б–њ–∞—Б–µ–љ–∞, –∞ —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ –Њ—Б—В–∞–ї—Б—П –ґ–Є–≤. –Э–Њ —Н—В–∞ —Г–ґ–µ –і—А—Г–≥–∞—П –Є—Б—В–Њ—А–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –љ–µ –Є–Љ–µ–µ—В –Ї ¬Ђ–Ъ–Њ–Љ–Љ—Г–љ–µ¬ї –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П.
14.10.201511:1314.10.2015 11:13:49
0
12.10.201519:2812.10.2015 19:28:27
13 –Њ–Ї—В—П–±—А—П 2015 –≥–Њ–і–∞ –Ъ –љ–∞—И–µ–Љ—Г –±–Њ–ї—М—И–Њ–Љ—Г —Б–Њ–ґ–∞–ї–µ–љ–Є—О, –Ъ–Ы–£–С –≤ –Њ—З–µ—А–µ–і–љ–Њ–є —А–∞–Ј –Њ–±—К—П–≤–ї—П–µ—В –Ї–Њ–љ–Ї—Г—А—Б –љ–∞ –Ј–∞–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ –≤–∞–Ї–∞–љ—В–љ–Њ–є –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –Ш—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А–∞ –Ъ–ї—Г–±–∞. –Ы—О–і–Є –і—Г–Љ–∞—О—В, —З—В–Њ —Н—В–Њ –њ—А–Њ—Б—В–∞—П —А–∞–±–Њ—В–∞, –љ–µ —В—А–µ–±—Г—О—Й–∞—П –љ–Є –Њ—Б–Њ–±—Л—Е –љ–∞–≤—Л–Ї–Њ–≤, –љ–Є –Ј–љ–∞–љ–Є–є. –Ь–Њ–ґ–µ—В –Є —В–∞–Ї - –љ–Њ –Љ—Л –Љ–Њ–ґ–µ–Љ –љ–∞—Г—З–Є—В—М, –Њ–њ—Л—В–∞ –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ. –Ь—Л –ґ–і–µ–Љ —А–∞–Ј—Г–Љ–љ–Њ–є –Є–љ–Є—Ж–Є–∞—В–Є–≤—Л, —Е–Њ—А–Њ—И–Є—Е –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—В–Њ—А—Б–Ї–Є—Е —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ—Б—В–µ–є, —Г–Љ–µ–љ–Є—П –≤–µ—Б—В–Є –њ–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ—А—Л, –∞–љ–∞–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Ї–ї–∞–і–∞ —Г–Љ–∞... –Ґ—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П: –њ—А–Є—З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В—М –Ї –Т–Ь–§, –Њ–њ—Л—В –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є —А–∞–±–Њ—В—Л, –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Є —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М, –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є–Ї–∞–±–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М, —Г–≤–µ—А–µ–љ–љ—Л–є –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М –Я–Ъ, –ґ–µ–ї–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В - –і–Њ 40-45 –ї–µ—В. –Я—А–Є—З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В—М –Ї –Т–Ь–§ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П–µ—В—Б—П –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–ї—Г–ґ–±–Њ–є, –љ–Њ –ґ–µ–ї–∞–љ–Є–µ–Љ —А–∞–±–Њ—В–∞—В—М –љ–∞ –±–ї–∞–≥–Њ –§–ї–Њ—В–∞ –≤ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є. –Т–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–Є—В–µ —Б–∞–є—В –Ъ–ї—Г–±–∞ —З—В–Њ–±—Л –њ—А–µ–і–≤–∞—А–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ–Њ–љ—П—В—М –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Є –Њ–±—К–µ–Љ —А–∞–±–Њ—В—Л. –І—В–Њ –Љ–Њ–ґ–µ—В –Т–∞–Љ –і–∞—В—М —Н—В–∞ —А–∞–±–Њ—В–∞ –≤ –Ъ–ї—Г–±–µ? –Ъ–ї—Г–± —Б—В–∞–±–Є–ї—М–љ–Њ —А–∞–±–Њ—В–∞–µ—В 18 –ї–µ—В, –Є–Љ–µ–µ—В —Е–Њ—А–Њ—И—Г—О —А–µ–њ—Г—В–∞—Ж–Є—О –Є —Б–≤—П–Ј–Є, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Љ–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ—Л–µ. –Ь—Л - —Б–∞–Љ–Њ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–∞—П –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—П. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г, –µ—Б–ї–Є –Т—Л —Е–Њ—В–Є—В–µ –њ–Њ–њ—А–Њ–±–Њ–≤–∞—В—М —Б–µ–±—П –љ–∞ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ–є –Є –њ–µ—А—Б–њ–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–є —А–∞–±–Њ—В–µ, —А–µ–∞–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞—В—М —Б–≤–Њ–Є –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ-–њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –∞–Љ–±–Є—Ж–Є–Є –Є –љ–µ —А–∞–Ј—А—Л–≤–∞—В—М —Б–≤—П–Ј–Є —Б –§–ї–Њ—В–Њ–Љ, —В–Њ —Н—В–∞ —А–∞–±–Њ—В–∞ –і–ї—П –≤–∞—Б. –Э–∞ —Б–Њ–±–µ—Б–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Љ—Л –Њ—В–≤–µ—В–Є–Љ –љ–∞ –≤—Б–µ –≤–∞—И–Є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л. –Ц–і–µ–Љ —А–µ–Ј—О–Љ–µ –љ–∞ –њ–Њ—З—В—Г –Ъ–ї—Г–±–∞ subclub@mail.ru
12.10.201519:2812.10.2015 19:28:27
0
12.10.201507:0012.10.2015 07:00:14
–Я–Є—Б–∞–ї–∞ –Њ –≤–Њ–Ј—А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є –†–Њ—Б—Б–Є–ЄвА¶. –ѓ –Є —Б–µ–є—З–∞—Б –љ–µ –Њ—В–Ї–∞–ґ—Г—Б—М –љ–Є –Њ—В –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї–Њ –Є–Ј –Љ–Њ–µ–≥–Њ –≤–Є–і–µ–љ–Є—П —Н—В–Њ–≥–Њ —П–≤–ї–µ–љ–Є—П –≤–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є. –ѓ –Є —Б–µ–є—З–∞—Б —А–∞–і–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–∞—Е–Њ–ґ—Г –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є–µ —В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –њ—А–Є–љ—П–ї–∞ –љ–∞ –≤–µ—А—Г, –Є –Њ —З–µ–Љ –Ј–∞—Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М –њ–Њ–і–µ–ї–Є—В—М—Б—П. –Т–Є–ґ—Г, —З—В–Њ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–љ–Њ–µ —Б–Њ–Ј–≤—Г—З–љ–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є–ЉвА¶. –Э–Њ –≤–Њ—В, —З—В–Њ –њ–Њ–њ–∞–ї–Њ –љ–∞ –≥–ї–∞–Ј–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Г–ґ–µ –≥–Њ—В–Њ–≤—Л –±—Л–ї–Є –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ—Б—В–Њ–≤ –Њ —В–Њ–Љ, –Ї–∞–Ї–∞—П –†–Њ—Б—Б–Є—П –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞–µ—В—Б—П. –£–≤–Є–і–µ–ї–∞ –љ–∞ —Б–∞–є—В–µ, —Б –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –і—А—Г–ґ—Г, –њ–Њ–і–±–Њ—А–Ї—Г, –≥–і–µ –±—Л–ї–Њ –±–Њ–ї—М—И–µ –і–µ—Б—П—В–Ї–∞ —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є–є –њ–Њ–і –Ј–∞–≥–Њ–ї–Њ–≤–Ї–Њ–Љ: ¬Ђ–Ш—Б—З–µ–Ј–∞—О—Й–∞—П –†—Г—Б—М¬ї. –Ш –Ј–∞—Й–µ–Љ–Є–ї–Њ —Б–µ—А–і—Ж–µ —З—В–Њ-—В–Њ, –Є ¬Ђ–Ј–∞—Ж–µ–њ–Є–ї–Њ¬ї, –Є –Њ—В–Ї–ї–Є–Ї–љ—Г–ї–Њ—Б—М –≤ –њ–∞–Љ—П—В–Є –Є —Б–≤–Њ–Є–Љ –Љ–љ–Њ–≥–Є–Љ, –Є –Њ–і–љ–Є–Љ –Є–Ј —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–Њ–≤, –Є –љ–∞—Б–ї–Њ–Є–ї–Њ—Б—М —Б–Њ–±—Л—В–Є—П–Љ–Є –≤–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–ЄвА¶. –Я–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–Є—В–µ –љ–∞ —Н—В–Є –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є–євА¶. –Ю —З–µ–Љ –Њ–љ–Є ? –Ю —В–Њ–Љ, ¬Ђ—З—В–Њ —В–Є—Е–∞—П –љ–∞—И–∞ —А–Њ–і–Є–љ–∞ –љ–∞—Б —Г–ґ–µ –љ–µ –њ–Њ–Ј–Њ–≤–µ—В?¬ївА¶.   –Ґ–Р–Ы–Ш–°–Ь–Р–Э вА¶ –£–ґ–µ –љ–µ –њ–Њ–Ј–Њ–≤–µ—В? –Э–µ—В, –Ч–Ю–Т–Х–ҐвА¶. –Я—Г—Б—В—М —А–µ–і–Ї–Њ, –њ–Њ —Б–Є–ї–∞–Љ –Є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—П–Љ, –љ–Њ –Ј–Њ–≤–µ—В. –Я–∞–Љ—П—В—М—О. –Ґ–Є—Е–Њ–є —Й–µ–Љ—П—Й–µ–є –≥—А—Г—Б—В—М—О, –Њ—В–Ї–ї–Є–Ї–Њ–Љ, –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж-—В–Њ, –≤ —Б–µ—А–і—Ж–µ –≤ –Њ—В–≤–µ—В. –Ш –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є–µ —Н—В–Њ–Љ—Г –≤–Њ—В —Н—В–Њ—В: –Ј–≤–Њ–љ–Њ–Ї –њ–Њ —В–µ–ї–µ—Д–Њ–љ—Г –Є —А–∞—Б—Б–Ї–∞–ЈвА¶. –Ю–љ —А–Њ–і–Є–ї—Б—П –≤ –і–µ—А–µ–≤–љ–µ –Я—Г—Б—В–Њ–≤–Њ–µ –Ь–∞—А–Є—Й–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–µ–ї—М—Б–Њ–≤–µ—В–∞ –Я—Г—З–µ–ґ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–є–Њ–љ–∞ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є. –Ь–∞–ї–∞—П —А–Њ–і–Є–љ–∞, –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–∞—П, –≤ –≥–ї—Г–±–Є–љ–Ї–µ, –≥–і–µ –±—Л–ї–Њ –≤—Б–µ–≥–Њ 14 –і–Њ–Љ–Њ–≤вА¶. –†–Њ–і–Є–ї—Б—П –≤ 1930 –≥–Њ–і—Г, –Х–Љ—Г 85 –љ–∞ –і–љ—П—Е –±—Г–і–µ—В, –∞ —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –ґ–µ –±—Л–ї–Њ –±—Л –Њ—В—З–µ–Љ—Г –і–Њ–Љ—Г —Б–µ–є—З–∞—Б, –µ—Б–ї–Є –љ–∞–Ї–Є–љ—Г—В—М –µ—Й–µ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є, —Г –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –≤ —Б–µ–Љ—М–µ —А–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –њ—П—В–µ—А–Њ –і–µ—В–µ–є, –∞ –µ—Б–ї–Є –µ—Й–µ –Є –њ—А–∞–і–µ–і–Њ–≤? вА¶. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ—В —Г–ґ–µ —В–Њ–є –і–µ—А–µ–≤–љ–Є, –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –љ–∞ –†—Г—Б–Є. –Э–Њ –њ–∞–Љ—П—В—М, —Б–µ—А–і—Ж–µ, –і—Г—И–∞ –Ј–Њ–≤–µ—В —В—Г–і–∞, –њ–Њ–Ї–∞ –µ—Б—В—М —Б–Є–ї—Л –µ—Й–µ –і–Њ–µ—Е–∞—В—М –Є –њ–Њ–±—Л–≤–∞—В—М, –Є –њ—А–Є–Ї–Њ—Б–љ—Г—В—М—Б—П. –Ґ–∞–Ї –±—Л–ї–Њ –Є –љ—Л–љ—З–µ. –Т–Ј—П–ї –±–Є–ї–µ—В –і–Њ –Љ–∞–ї–Њ–є —А–Њ–і–Є–љ—Л –Є –≤ –њ—Г—В—М. –Т—Б—В—А–µ—В–Є–ї –њ–ї–µ–Љ—П–љ–љ–Є–Ї, —Б—Л–љ –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј —Б–µ—Б—В–µ—А. –Я–µ—А–µ–і–Њ—Е–љ—Г–ї–Є –Є —Б–љ–Њ–≤–∞ –≤ –і–Њ—А–Њ–≥—Г. –Э–∞ –Љ–∞—И–Є–љ–µ, –Ї–∞–Ї–Є–Љ–Є-—В–Њ –µ—Й–µ –љ–µ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –Ј–∞—А–Њ—Б—И–Є–Љ–Є, –њ—А–Њ—Б–µ–ї–Њ—З–љ—Л–Љ–Є –і–Њ–±—А–∞–ї–Є—Б—М –і–Њ –Љ–µ—Б—В–∞, –≥–і–µ –Ї–Њ–≥–і–∞-—В–Њ —Б—В–Њ—П–ї –Є—Е –і–Њ–Љ. –Р –Њ—В –і–Њ–Љ–∞ —Г–ґ–µ –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –Њ—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М, –≤—Б–µ —В—А–∞–≤–Њ–є –Ј–∞—А–Њ—Б–ї–Њ вА¶. –Ю —З–µ–Љ –і—Г–Љ–∞–ї–Њ—Б—М –≤ —Н—В–Њ—В –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В, —З—В–Њ —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї вАУ –љ–µ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї. –Р —П –Є –љ–µ —Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞–ї–∞, –њ—Г—Б—В—М —Н—В–Њ –≤—Б–µ –Њ—Б—В–∞–љ–µ—В—Б—П —Б –љ–Є–Љ. –°—А–µ–і–Є —В—А–∞–≤—Л –Ј–∞–Љ–µ—В–Є–ї - –Ј–≤–µ—А–Њ–±–Њ–є. –†–Њ—Б –Њ–љ –Ј–і–µ—Б—М –њ—А–Є–≤–Њ–ї—М–љ–Њ. –Э–∞–Ї–ї–Њ–љ–Є–ї—Б—П, —Б–Њ—А–≤–∞–ї –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤–µ—В–Њ—З–µ–Ї, —Б–ї–Њ–ґ–Є–ї –≤ –±—Г–Ї–µ—В –ЄвА¶. –њ—А–Є–≤–µ–Ј –≤ –Ъ—А–Њ–љ—И—В–∞–і—В, –≥–і–µ –ґ–Є–≤–µ—В —В–µ–њ–µ—А—М. ( –Я—А–Є–Љ–µ—З–∞–љ–Є–µ: –љ–∞–≤–µ—А–љ—П–Ї–∞, –Ї—В–Њ –њ–Њ–ї—М–Ј—Г–µ—В—Б—П —В—А–∞–≤–∞–Љ–Є, —В–Њ—В –Ј–љ–∞–µ—В: —Б–Њ –Ј–≤–µ—А–Њ–±–Њ–µ–Љ —Б–∞–Љ —З–µ—А—В –љ–µ —Б—В—А–∞—И–µ–љ. –Ю—З–µ–љ—М —Б–Є–ї—М–љ–Њ–µ —А–∞—Б—В–µ–љ–Є–µ. –Я—А–Є–Љ–µ–љ—П–µ—В—Б—П, –Ї–∞–Ї –Ј–∞—Й–Є—В–љ–Њ–µ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–ЊвА¶. –Њ—В –Ј–ї—Л—Е —З–∞—А. –Э–Є–Ї—В–Њ –љ–µ –Є–Љ–µ—О—В –≤–ї–∞—Б—В–Є –љ–∞–і —В–µ–Љ, –Ї—В–Њ –љ–Њ—Б–Є—В –љ–∞ —Б–µ–±–µ –≤–µ—В–Њ—З–Ї—Г –Ј–≤–µ—А–Њ–±–Њ—П. –Ч–∞—Б—Г—И–µ–љ–љ—Л–є —Б—В–µ–±–µ–ї–µ–Ї, –њ–Њ–і–≤–µ—И–µ–љ–љ—Л–є –љ–∞–і –і–≤–µ—А—М—О –Є–ї–Є —Б–њ—А—П—В–∞–љ–љ—Л–є –њ–Њ–і –њ–Њ—А–Њ–≥, –љ–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є—В –љ–µ—З–Є—Б—В–Њ–є —Б–Є–ї–µ –≤–Њ–є—В–Є –≤ –і–Њ–Љ. –Р ¬Ђ–µ—Б–ї–Є —Б–њ–ї–µ—Б—В–Є –Є –љ–Њ—Б–Є—В—М –њ–Њ—П—Б –Є–Ј –Ј–≤–µ—А–Њ–±–Њ—П, –Њ–љ –њ—А–Є–Љ–µ—В –љ–∞ —Б–µ–±—П –≤—Б–µ –Ј–ї–ЊвА¶ –Є –љ–∞–і–µ–ї–Є—В –љ–µ–Њ–±—Л—З–љ–Њ–є —Б–Є–ї–Њ–є¬ївА¶. ( –Є–Ј –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є ¬Ђ–Ґ—А–∞–≤—Л-—В–∞–ї–Є—Б–Љ–∞–љ—Л¬ї). –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ –љ–∞–і–Њ –Њ–њ–∞—Б–∞—В—М—Б—П –Ј–ї—Л—Е —З–∞—А —Н—В–Њ–Љ—Г —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Г –љ–∞—И–µ–є –њ–Њ–і—И–µ—Д–љ–Њ–є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є –°-95, –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ—Г 2 —А–∞–љ–≥–∞ –≤ –Њ—В—Б—В–∞–≤–Ї–µ –С–Њ—А–Њ–≤–Ї–Њ–≤—Г –°–µ—А–≥–µ—О –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З—Г, —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї—Г –љ–µ—Г–≥–Њ–Љ–Њ–љ–љ–Њ–Љ—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ, —Г–ґ —В–Њ—З–љ–Њ, ¬ї —Б—В–∞—А–Њ—Б—В—М –і–Њ–Љ–∞ –љ–µ –Ј–∞—Б—В–∞–љ–µ—В¬ї, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –Њ–љ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ –≤ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–Є, –≤ –і–Њ—А–Њ–≥–µ –Є –њ—Г—В–ЄвА¶. –Ш —Н—В–Є –і–Њ—А–Њ–≥–Є –Ј–Њ–≤—Г—В –Є –Ј–Њ–≤—Г—В –µ–≥–Њ, —В–Њ –љ–∞ –≤—Б—В—А–µ—З–Є —Б –і—А—Г–Ј—М—П–Љ–Є, —В–Њ –љ–∞–≤–µ—Б—В–Є—В—М —А–Њ–і–љ—Л—Е, —В–Њ –љ–∞ –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М —В–Њ–Љ—Г, –Ї—В–Њ –љ—Г–ґ–і–∞–µ—В—Б—П, –∞ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–µ –љ–µ –≤ –њ–µ—А–≤—Л–є —А–∞–Ј, —В—Г–і–∞, –≥–і–µ —А–Њ–і–Є–ї—Б—П, –≥–і–µ –њ—А–Њ—И–ї–Њ –µ–≥–Њ –і–µ—В—Б—В–≤–ЊвА¶. –Р –±—Г–Ї–µ—В–Є–Ї –Ј–≤–µ—А–Њ–±–Њ—П, —Б–Њ–±—А–∞–љ–љ—Л–є –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–µ –Є—Б—З–µ–Ј–љ—Г–≤—И–µ–≥–Њ –≤–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є —А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –і–Њ–Љ–∞ вАУ —Н—В–ЊвА¶ —В–∞–ї–Є—Б–Љ–∞–љ –і–ї—П –і—Г—И–Є, —З–∞—Б—В–Є—З–Ї–∞ —В–Њ–є —Б–≤–µ—В–ї–Њ–є, —Й–µ–Љ—П—Й–µ–є –љ–Њ—Б—В–∞–ї—М–≥–Є–Є –Њ –±—Л–ї–Њ–Љ –Є –љ–µ–≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–љ–Њ–Љ, —Н—В–Њ –Ї–∞–Ї –њ—А–Є–≤–µ—В –Њ—В —А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ, –і–Њ—А–Њ–≥–Њ–≥–Њ —Б–µ—А–і—Ж—Г –Љ–µ—Б—В–∞, —З—В–Њ–±—Л –њ–∞–Љ—П—В—М—О —Б–≤–Њ–µ–є –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞—В—М—Б—П —Б—О–і–∞. –Ш –њ—Г—Б—В—М –Ю–Э ( –±—Г–Ї–µ—В–Є–Ї –Ј–≤–µ—А–Њ–±–Њ—П —Б —В–Є—Е–Њ–є –Љ–∞–ї–Њ–є —А–Њ–і–Є–љ—Л) –і–∞—Б—В –µ—Й–µ –±–Њ–ї—М—И–µ —Б–Є–ї –љ–∞ —В–∞–Ї–Њ–є –≤–Њ—В –≤–Ї—Г—Б –Ї –ґ–Є–Ј–љ–Є, –љ–∞ —В–∞–Ї—Г—О –ґ–µ –љ–µ–њ–Њ—Б–µ–і–ї–Є–≤–Њ—Б—В—М –Є –ґ–µ–ї–∞–љ–Є—П —Г—Б–њ–µ—В—М –Љ–љ–Њ–≥–Њ–µ —Б–і–µ–ї–∞—В—М –і–Њ–±—А–Њ–≥–Њ –љ–∞ —Н—В–Њ–є –Ј–µ–Љ–ї–µ. –Т –љ–∞—И–µ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ–≥–Њ. –Ш—Й–µ—И—М вАУ –љ–∞–є–і–µ—И—МвА¶. –Т —Н—В–Є –і–љ–Є, —Б–ї—Г—И–∞—П –њ–µ—Б–љ–Є, –≤–Ј–і—А–Њ–≥–љ—Г–ї–∞ –і—Г—И–∞, –Њ—В —Н—В–Њ–євА¶. –Э–∞–≤–µ—А–љ–Њ, –≤ —В–µ–Љ—Г, –≤ –љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–µ, –Є –Њ—В —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –±—Л–ї –њ–∞–Љ—П—В–љ—Л–Љ –µ—Й–µ –Њ–і–Є–љ –і–µ–љ—М –≤–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –ґ–Є–≤—Г: "–Ґ–Њ—Б–Ї—Г—О—В, —В–Њ—Б–Ї—Г—О—В –±–µ—А—С–Ј—Л! –Ю—Б–µ–љ–љ–Є–Љ –Є—Б—Е–Њ–і—П—В –і–Њ–ґ–і—С–Љ. –Ш –ґ–µ–ї—В—Л–µ –ї–Є—Б—В—М—П, –Ї–∞–Ї —Б–ї—С–Ј—Л, –†–Њ–љ—П—О—В –Є –љ–Њ—З—М—О –Є –і–љ—С–Љ. –Ф—А–Њ–ґ–∞—В –Њ—В –Љ–Њ—А–Њ–Ј–∞ –њ–Њ–і —Г—В—А–Њ, –Ш –≤–і—А—Г–≥ –Ј–∞–Љ–Є—А–∞—О—В –≤ –Ј–∞–±–≤–µ–љ—М–Є. –Ш —И–µ–њ—З—Г—В —В–Њ—Б–Ї–ї–Є–≤–Њ –Ї–Њ–Љ—Г-—В–Њ: "–Х—Б–µ–љ–Є–љ, –Х—Б–µ–љ–Є–љ, –Х—Б–µ–љ–Є–љ..." (–Ґ–∞—В—М—П–љ–∞ –°–Љ–µ—А—В–Є–љ–∞. –¶–Є–Ї–ї —Б—В–Є—Е–Њ–≤ "–Я–µ—З–∞–ї—М–љ–∞—П –†—Г—Б—М –Ј–∞ –°–µ—А–≥–µ—П –Љ–Њ–ї–Є–ї–∞—Б—М¬ї. –Т–µ–љ–µ—Ж —Б—В–Є—Е–Њ–≤ - –°—В–Є—Е–Є –Њ –Х—Б–µ–љ–Є–љ–µ, 1995, . –Р —Н—В–Њ —Б —Б–∞–є—В–∞ ¬Ђ–Ь–Є—А –Ґ–µ—Б–µ–љ¬ї) –°–Х–†–У–Х–Щ –Х–°–Х–Э–Ш–ЭвА¶. –Ю–љ —А–Њ–і–Є–ї—Б—П 3 –Њ–Ї—В—П–±—А—П 1895 –≥–Њ–і–∞ ( 21 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П –њ–Њ —Б—В–∞—А–Њ–Љ—Г —Б—В–Є–ї—О) –≤ —Б–µ–ї–µ –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ–Њ–≤–µ –Ъ—Г–Ј—М–Љ–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–ї–Њ—Б—В–Є –†—П–Ј–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–Є. –Т —Н—В–Њ—В –і–µ–љ—М –†–Њ—Б—Б–Є—П –Њ—В–Љ–µ—З–∞–ї–∞ –µ–≥–Њ 120-–ї–µ—В–Є–µ. –Ґ–Њ–љ–Ї–Є–є –ї–Є—А–Є–Ї. –Я–µ–≤–µ—Ж –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ—Б–Ї–Њ–є –†—Г—Б–Є. –Ч–љ–∞—В–Њ–Ї –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞ –Є –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–є –і—Г—И–Є. –І–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї —Б —В—А–∞–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –Љ–Є—А–Њ–Њ—Й—Г—Й–µ–љ–Є–µ–Љ, —Б–Љ—П—В–µ–љ–Є–µ–Љ, —Б—В—А–µ–Љ—П—Й–µ–є—Б—П –њ–Њ—Б—В–Є–≥–љ—Г—В—М ¬Ђ–Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Њ–є –≤–Ј–і—Л–±–ї–µ–љ–љ—Г—О –†—Г—Б—М¬ї, –љ–Њ –і–ї—П –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–∞ –Ї—Г–Љ–Є—А–Њ–≤, –Њ—Б—В–∞–≤—И–Є–є—Б—П –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ –†—Г—Б–Є —Г—Е–Њ–і—П—Й–µ–є, —В–Њ–є —Б–∞–Љ–Њ–є ¬Ђ–Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–є –±—А–µ–≤–µ–љ—З–∞—В–Њ–є –Є–Ј–±—Л¬ївА¶. –†—Г—Б—М —Г—Е–Њ–і—П—Й–∞—ПвА¶. –Ґ–µ–Љ–∞, –љ–µ –Є–Љ–µ—О—Й–∞—П –њ—А–Њ—И–µ–і—И–µ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–ЄвА¶. –Ю–љ–∞ –ґ–Є–≤–µ—В –Є —Б–µ–є—З–∞—Б —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Г–ґ–µ –≤ –љ–Њ–≤—Л—Е –њ–µ—Б–љ—П—Е, –Ї–∞—А—В–Є–љ–∞—Е, —Б—В–Є—Е–∞—Е. –Э–Њ –≤—Б–µ —А–∞–≤–љ–Њ –Њ —В–Њ–Љ –ґ–µ, –≤ —А–∞–Ј–љ—Л—Е –≤–∞—А–Є–∞—Ж–Є—П—Е вАУ –Њ –≥—А—Г—Б—В–љ–Њ–Љ, —Й–µ–Љ—П—Й–µ–Љ, –љ–µ–≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–љ–Њ–Љ, –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —Б –≥–Њ–і–∞–Љ–Є —В—Л —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –њ–∞–Љ—П—В–Є —Б–≤–Њ–µ–є –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞–µ—И—М—Б—П —В—Г–і–∞. –Р –µ—Б–ї–Є –Є –≤–Њ–Њ—З–Є—О, —В–Њ –Њ—В —Г–≤–Є–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –µ—Й–µ –і–Њ–ї–≥–Њ –љ–µ —Г—Б–њ–Њ–Ї–∞–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –і—Г—И–∞ —В–≤–Њ—П, –њ–Њ-–≤—Б—П–Ї–Њ–Љ—Г –Њ–± —Г–≤–Є–і–µ–љ–љ–Њ–Љ –і—Г–Љ–∞–µ—В—Б—ПвА¶. –Т–Њ—В –Њ–і–љ–Њ –Є–Ј —В–∞–Ї–Є—Е —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–є, —Б–Ї–Њ—А–µ–µ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–ЈвА¶.  –Ф–Њ–ґ–і—М –Ј–µ–Љ–ї—О –њ–Њ–ї–Є–≤–∞–µ—В, –Э—Г –њ—А–Њ—Б—В–Њ –Є–Ј –≤–µ–і—А–∞ ... –Т –і–µ—А–µ–≤–љ–µ –Т—П–Ј–Њ–≤–∞—П, –Ю—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М –і–≤–∞ –і–≤–Њ—А–∞. –°—В–Њ—П—В –і–Њ–Љ–Є—И–Ї–Є –±–Њ–Ї–Њ–Љ, –Э–∞ —А–∞–Ј–љ—Л–µ —Г–≥–ї—Л. –£ —В–Њ–њ–Њ–ї–µ–є –≤—Л—Б–Њ–Ї–Є—Е –Я–Њ—В—А–µ—Б–Ї–∞–ї–Є—Б—М —Б—В–≤–Њ–ї—Л. –С–µ—А–µ–Ј–∞ —Г –Ј–∞–±–Њ—А–∞, –°–Њ—Б—В–∞—А–Є–≤—И–Є–є—Б—П –і–Њ–Љ ... –Э–Њ, –≤ –Њ–±—Й–µ–Љ, —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А—Л, –Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –љ–µ –Њ —В–Њ–Љ. –Ц–Є–≤—Г—В –≤ –і–µ—А–µ–≤–љ–µ —Н—В–Њ–є –°—В–∞—А—Г—Е–∞ –Є —Б—В–∞—А–Є–Ї, –Ш –љ–Є –Ј–Є–Љ–Њ–є, –љ–Є –ї–µ—В–Њ–Љ, –Э–µ –≤—Б—В—А–µ—В–Є—И—М –≤–Љ–µ—Б—В–µ –Є—Е. –†–∞—Б—Б—Л–њ–∞–ї –≥—А–Њ–Љ —А–∞—Б–Ї–∞—В—Л –Э–∞–і –Ї—А—Л—И–∞–Љ–Є –і–≤–Њ—А–Њ–≤. –°—В–∞—А–Є–Ї, —Е–Њ—В—М –≥–ї—Г—Е–Њ–≤–∞—В—Л–є, –Э–Њ –≤—Б–µ –µ—Й–µ –Ј–і–Њ—А–Њ–≤. –Ю–љ –Љ–љ–µ –Њ—В–Ї—А—Л–ї –Ј–∞—Й–µ–ї–Ї—Г: –Т—Е–Њ–і–Є, –Љ–Њ–ї, –±—Г–і–µ—И—М –≥–Њ—Б—В—М ..., –°–љ—П—В—М —Б–∞–њ–Њ–≥–Є –љ–µ–і–Њ–ї–≥–Њ, –Ш –Ї–Є–љ—Г—В—М –њ–ї–∞—Й –љ–∞ –≥–≤–Њ–Ј–і—М. –Ф–µ–і —Г –њ–µ—З–Є —Е–ї–Њ–њ–Њ—З–µ—В, –†—П–±–Є–љ–Њ–≤–Ї—Г –љ–µ—Б–µ—В ..., –°–њ—А–Њ—Б–Є–ї —П –Љ–µ–ґ–і—Г –њ—А–Њ—З–Є–Љ: –Т —Б–Њ—Б–µ–і—П—Е –Ї—В–Њ –ґ–Є–≤–µ—В? –°–њ—А–Њ—Б–Є–ї, –і–∞ –Є –Ј–∞–Љ–µ—В–Є–ї: –°—В–∞—А–Є–Ї, –Ї–∞–Ї –±—Л —Б–Њ —Б–љ–∞, –†–∞—Б—Б–µ—П–љ —Б—В–∞–ї, –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї: "... –Ф–∞ —В–∞–Ї —Б–µ–±–µ, –Њ–і–љ–∞ ..." –Ф–Њ–ґ–і—М –Ї–Њ–ї–Њ—В–Є–ї –≤ –≤–Њ—А–Њ—В–∞, –І–∞—Б –Њ—В —З–∞—Б—Г —Б–Є–ї—М–љ–µ–є. –ѓ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Г –љ–∞ —Д–Њ—В–Њ, –£–≤–Є–і–µ–ї –љ–∞ —Б—В–µ–љ–µ: –Я–Њ–і —Б–≤–∞–і–µ–±–љ–Њ–є —Д–∞—В–Њ—О –Т–µ—Б–µ–ї—Л–µ –≥–ї–∞–Ј–∞ .... –Р –≤ –њ–Њ–ї–µ –Ј–∞ —А–µ–Ї–Њ—О, –Т—Б–µ –њ–ї–∞–Ї–∞–ї–∞ –≥—А–Њ–Ј–∞. –ѓ –±—Л–ї –њ–Њ—З—В–Є —Г–≤–µ—А–µ–љ, –°–њ—А–Њ—Б–Є–≤: ¬Ђ–Ф–µ–і—Г—Б—М, –ґ–µ–љ–∞?¬ї –Э–Њ –і–µ–і - –≤ —Б–≤–Њ–µ–є –Љ–∞–љ–µ—А–µ: ¬Ђ–Э–µ—В, —В–∞–Ї —Б–µ–±–µ, –Њ–і–љ–∞¬ї.... (–Ю–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–ї–∞ –Ь–∞—А–Є–љ–∞ –°–Ї–≤–Њ—А—Ж–Њ–≤–∞ , 02.10.2015, —Б–∞–є—В ¬Ђ–Ь–Є—А –Ґ–µ—Б–µ–љ¬ї). –Ф–≤–∞ –і–≤–Њ—А–∞. –Ф–≤–∞ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞. –Э–µ —А–∞—Б—Б—В–∞–≤—И–Є–µ—Б—П, –Љ–Њ–ґ–µ—В –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г –Є –ґ–Є–≤—Л, –Є –±–Њ–і—А—Л –µ—Й–µ. –Ъ–∞–Ї –Ј–љ–∞—В—М? –Ь–Њ–ґ–љ–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї–∞–Ї-—В–Њ –њ–Њ-—Б–≤–Њ–µ–Љ—Г –і–Њ–і—Г–Љ–∞—В—М.  –†—Г–Ї–Њ—В–≤–Њ—А–љ–∞—П –Ї—А–∞—Б–Њ—В–∞ –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–≤вА¶  –Ш—Б—З–µ–Ј–∞—О—Й–∞—П –†—Г—Б—МвА¶ –Ф–Њ –±–Њ–ї–Є –њ–µ—З–∞–ї—М–љ–∞—П, –љ–Њ –µ—Й–µ –Ї—А–∞—Б–Є–≤–∞—П, –њ—А–Є—А–Њ–і–Њ–є —Б–≤–Њ–µ–є, —А–µ—З–Ї–∞–Љ–Є, –±–µ–≥—Г—Й–Є–Љ–Є –≤–і–∞–ї—М, —Б—В–Њ—П—Й–Є–Љ–Є –љ–∞ –Ї—А–µ–њ–Ї–Њ–Љ –µ—Й–µ —Д—Г–љ–і–∞–Љ–µ–љ—В–µ, –њ–Њ–ї—Г—А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ–љ—Л–Љ–Є, –љ–Њ –њ–Њ-–њ—А–µ–ґ–љ–µ–Љ—Г –Ї—А–∞—Б–Є–≤—Л–Љ–Є —Е—А–∞–Љ–∞–Љ–Є –Є —Ж–µ—А–Ї–≤—Г—И–Ї–∞–Љ–Є вАУ —В–≤–Њ—А–µ–љ–Є—П–Љ–Є —Г–Љ–µ–ї—Л—Е —А—Г–Ї –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є, –Ї—А–µ—Б—В–Є–≤—И–Є–µ –і–µ—В–µ–є, –≤–µ–љ—З–∞—О—Й–Є–µ –Љ–Њ–ї–Њ–і—Л—Е, –Њ—В–њ–µ–≤–∞—О—Й–Є–µ —Г—Е–Њ–і—П—Й–Є—Е –≤ –Є–љ–Њ–є –Љ–Є—А, –Є –Є—Б—В–Є–љ–љ—Л–Љ–Є –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–∞–Љ–Є –≤–Њ –Ј–і—А–∞–≤–Є–µ –Є –љ–∞ –і–Њ–±—А—Г—О –ґ–Є–Ј–љ—М, –≤—Б–µ–ї—П—О—Й–Є–µ —Б–≤–µ—В –Є –њ–Њ–Ї–Њ–є –≤ –і—Г—И–Є –њ—А–Є—Е–Њ–ґ–∞–љ. –Ф–Њ–Љ–∞–Љ–Є, –Ї–Њ–ї–Њ–і—Ж–∞–Љ–Є, –∞–Љ–±–∞—А–∞–Љ–Є –Є –і–≤–Њ—А–Њ–≤—Л–Љ–Є –њ–Њ—Б—В—А–Њ–є–Ї–∞–Љ–Є, –њ—Г—Б—В—М —Г–ґ–µ –њ–Њ–Ї–Њ—Б–Є–≤—И–Є–Љ–Є—Б—П, –Њ—Б—В–∞—В–Ї–∞–Љ–Є –њ–∞–ї–Є—Б–∞–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Б –±–µ—А–µ–Ј–∞–Љ–Є –Њ–Ї–Њ–ї–Њ –і–Њ–Љ–∞, —А—П–±–Є–љ–Ї–∞–Љ–Є –њ–Њ–і –Њ–Ї–љ–∞–Љ–Є, –љ–Њ –Ј–Њ–≤—Г—Й–Є–µ –љ–∞—Б, –њ—Г—Б—В—М –і–∞–ґ–µ –≤ –њ–∞–Љ—П—В–Є вА¶. –Ш –љ–µ –Њ—В–≤–µ—В–Є—И—М –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Њ, –і–∞–ґ–µ —Б–∞–Љ–Њ–Љ—Г —Б–µ–±–µ: –∞ –њ–Њ—З–µ–Љ—Г –ґ–µ –Љ—Л —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П —В–∞–Ї –і–∞–ї–µ–Ї–Є –Њ—В —В–µ—Е –Љ–µ—Б—В? –Ч–∞ –Њ—В–≤–µ—В–Њ–Љ вАУ —Б—Г–і—М–±–∞. –Э–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —В–µ–њ–µ—А—М —Б–≤–Њ—П, –∞ —Г–ґ–µ –Є —А–Њ–і–∞ —В–≤–Њ–µ–≥–Њ. –Э–Њ —В—Л –ґ–µ –њ–Њ–Љ–љ–Є—И—М, —З—В–Њ –љ–∞—З–Є–љ–∞–ї–∞—Б—М –Њ–љ–∞ —Б —В–Њ–≥–Њ –Љ–µ—Б—В–∞, —Б —В–≤–Њ–µ–є –Љ–∞–ї–Њ–є —В–Є—Е–Њ–є —А–Њ–і–Є–љ—ЛвА¶.
12.10.201507:0012.10.2015 07:00:14
0
12.10.201506:5512.10.2015 06:55:38

–Ф–∞–ґ–µ —В–∞–Ї–Њ–є –≤–Є–і –њ–Њ—Б–ї–µ –њ–Њ–≥—А—Г–Ј–Ї–Є —Г–≥–Њ–ї—М–Ї–∞ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ—А–Є–±–∞–≤–ї—П–ї –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є —А–Њ–Љ–∞–љ—В–Є–Ї–Є

–Т —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ –±—Л–ї —Б–њ–Њ—А—В—Б–Љ–µ–љ–Њ–Љ –Є —Б–љ–∞—З–∞–ї–∞ –љ–µ–Љ–љ–Њ–ґ–Ї–Њ –њ–Є–ґ–Њ–љ–Њ–Љ. –Ґ–∞–Ї–Є–Љ —П –њ—А–Є—И—С–ї –≤ 1-–µ –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ–µ –Т–Т–Ь–£ 22 –љ–Њ—П–±—А—П 1952 –≥–Њ–і–∞. –≠—В—Г –і–∞—В—Г –≤—Б–µ–≥–і–∞ –Њ—В–Љ–µ—З–∞—О
–Т —В–µ –і–љ–Є —П –і–∞–ґ–µ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—М –љ–µ –Љ–Њ–≥, —З—В–Њ –≤ –Љ–Њ–µ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М —З—В–Њ-–ї–Є–±–Њ –µ—Й—С –±–Њ–ї–µ–µ –Ј–љ–∞—З–Є–Љ–Њ–µ. –Р –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –±—Л–ї–ЊвА¶
–С—Л–ї–Њ, –Ї–Њ–≥–і–∞ —П, –і–Њ–±–Є–≤—И–Є—Б—М –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і–∞, —Б—В–∞–ї –Ї—Г—А—Б–∞–љ—В–Њ–Љ –љ–∞—И–µ–≥–Њ —А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ, —Б—В–Њ–ї—М –і–Њ—А–Њ–≥–Њ–≥–Њ —Б–µ—А–і—Ж—Г, ¬Ђ—З–∞–і–∞¬ї! –С—Л–ї–Њ –њ—А–Є—П—В–љ–Њ, —З—В–Њ —Б –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –і–љ—П –Љ–µ–љ—П –њ–Њ—Б—З–Є—В–∞–ї–Є –Ј–∞ ¬Ђ—Б–≤–Њ–µ–≥–Њ¬ї. –ѓ —З–∞—Б—В–Њ —Б–ї—Л—И–∞–ї –њ—А–Њ —Б–µ–±—П: ¬Ђ–§—А—Г–љ–Ј–∞–Ї, –љ–Њ —Б –і—Г—И–Њ–є –њ–Њ–і–≥–Њ—В–∞¬ї.
–£—З—Г—Б—М –љ–∞ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–∞
–Т 1-–Љ –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ –љ–∞—З–Є–љ–∞—О –і–µ–ї–∞—В—М –і–љ–µ–≤–љ–Є–Ї–Њ–≤—Л–µ –Ј–∞–њ–Є—Б–Є, —З—В–Њ–±—Л –љ–Є—З—В–Њ –Ј–љ–∞—З–Є–Љ–Њ–µ –љ–µ —Г–ї–µ—В–∞–ї–Њ –±–µ—Б—Б–ї–µ–і–љ–Њ.
20 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 1953 –≥–Њ–і–∞
–£–ґ–µ –Ї–Њ–љ–µ—Ж —Д–µ–≤—А–∞–ї—П! –І–µ—А–µ–Ј –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–µ—Б—П—Ж–µ–≤ –љ–∞ –Љ–Њ–Є—Е –њ–ї–µ—З–∞—Е –Ј–∞–±–ї–µ—Б—В–Є—В —Н–љ–љ–Њ–µ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –Ј–≤—С–Ј–і–Њ—З–µ–Ї, —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–≤—И–Є—Е—Б—П –љ–∞ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–ї–µ–њ–љ—Л—Е –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ–≥–Њ–љ–∞—Е. –Я–Њ—З–µ–Љ—Г ¬Ђ—Н–љ–љ–Њ–µ¬ї? –Я—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞—О, —З—В–Њ –Ј–∞ –Њ—Б—В–∞–≤—И–Є–µ—Б—П –Љ–µ—Б—П—Ж—Л —П —З—В–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М ¬Ђ–≤—Л–Ї–Є–љ—Г¬ї. –ѓ –Љ–Њ–≥—Г, —Н—В–Њ —В–Њ—З–љ–Њ. –Р –Ј–љ–∞—З–Є—В, –Љ–Њ–ґ–µ—В —Г–Љ–µ–љ—М—И–Є—В—М—Б—П –Є –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –њ—А–Є—З–Є—В–∞—О—Й–Є—Е—Б—П –Љ–љ–µ –Ј–≤—С–Ј–і–Њ—З–µ–Ї.
–Ф–∞–ґ–µ —Б–Љ–µ—И–љ–Њ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П: вАУ —П –Є –≤–і—А—Г–≥ вАУ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А! –Ґ—М—Д—Г, —В—М—Д—Г, —В—М—Д—Г, —З—В–Њ–± –љ–µ —Б–≥–ї–∞–Ј–Є—В—М
–Ъ–∞–Ї —Е–Њ—З–µ—В—Б—П —Б–Ї–Њ—А–µ–µ –Ї–Њ–љ—З–Є—В—М —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ –Є —Б—В—Г–њ–Є—В—М –љ–∞ –њ–∞–ї—Г–±—Г ¬Ђ—Б–≤–Њ–µ–≥–Њ¬ї –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П. –≠—В–Њ –±—Г–і–µ—В –Љ–Њ–є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —П –Ї–∞–Ї —И—В—Г—А–Љ–∞–љ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Г–і—Г –≤–Њ–і–Є—В—М ¬Ђ–њ–Њ –Љ–Њ—А—П–Љ, –њ–Њ –≤–Њ–ї–љ–∞–Љ¬ї. –І—Г–≤—Б—В–≤—Г—О, —З—В–Њ –±—Г–і—Г –і–Њ–≤–Њ–ї–µ–љ –ї—О–±—Л–Љ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ–Љ, –љ–∞ –ї—О–±–Њ–є —Д–ї–Њ—В, —Е–Њ—В—П –Љ–љ–µ —Е–Њ—З–µ—В—Б—П –±–Њ–ї—М—И–µ –љ–∞ –°–µ–≤–µ—А–љ—Л–є.
–Ъ–Њ–≥–і–∞ —П –і—Г–Љ–∞—О –Њ –њ–µ—А–≤–Њ–є –≤—Б—В—А–µ—З–µ —Б –њ–Њ–і—З–Є–љ—С–љ–љ—Л–Љ –Љ–љ–µ –ї–Є—З–љ—Л–Љ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Њ–Љ, —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П –Њ—Й—Г—Й–µ–љ–Є–µ, –њ–Њ—Е–Њ–ґ–µ–µ –љ–∞ —В–Њ, —Б –Ї–∞–Ї–Є–Љ —Б–∞–і–Є—И—М—Б—П –≤ –≤–∞–≥–Њ–љ–µ—В–Ї—Г ¬Ђ–∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –≥–Њ—А¬ї вАУ –ґ—Г—В–Ї–Њ –Є –≤ —В–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П –њ—А–Є—П—В–љ–Њ, —Б—В—А–∞—И–љ–Њ –Є –≤ —В–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П —Е–Њ—З–µ—В—Б—П —Б–Ї–Њ—А–µ–µ —В—А–Њ–≥–∞—В—М—Б—П. –Х—Б–ї–Є –љ–µ –Ј–∞–≤–Њ—О–µ—И—М –∞–≤—В–Њ—А–Є—В–µ—В –≤ –њ–µ—А–≤—Л–µ –і–љ–Є, –і–ї—П —Н—В–Њ–≥–Њ –њ–Њ—В—А–µ–±—Г—О—В—Б—П –≥–Њ–і—Л. –Ю—В—Б—О–і–∞ –Љ–Њ—А–∞–ї—М: —Б–ї–µ–і–Є—В—М –Ј–∞ —Б–Њ–±–Њ–є, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –≤ –њ–µ—А–≤—Л–µ –і–љ–Є —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±—Л. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ —Н—В–Њ –і–ї—П –Љ–µ–љ—П –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В –Ј–∞—В—А—Г–і–љ–µ–љ–Є–µ. –£–ґ –±–Њ–ї—М–љ–Њ —Г –Љ–µ–љ—П –≤–Њ—Б—В–Њ—А–ґ–µ–љ–љ—Л–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А, –Є –Ї —В–Њ–Љ—Г –ґ–µ —П –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г –±—Л—В—М —Б–µ—А—М—С–Ј–љ—Л–Љ. –Э–Є–Ї—В–Њ –љ–µ –≤–Є–і–µ–ї –Љ–µ–љ—П –±–µ–Ј —Г–ї—Л–±–Ї–Є. –Ъ–Њ–≥–і–∞ —Г –Љ–µ–љ—П —Е–Њ—А–Њ—И–µ–µ –љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–µ, —Б—В–∞—А–∞—О—Б—М, —З—В–Њ–±—Л –≤—Б–µ–Љ –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ –Љ–µ–љ—П –±—Л–ї–Њ –≤–µ—Б–µ–ї–Њ, –∞ –Ї–Њ–≥–і–∞ –њ–ї–Њ—Е–Њ–µ, —Б—З–Є—В–∞—О –µ–≥–Њ —Е–Њ—А–Њ—И–Є–Љ –Є –і–µ–ї–∞—О —В–Њ –ґ–µ —Б–∞–Љ–Њ–µ.

"–Р–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–∞—П –≥–Њ—А–Ї–∞"
21 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 1953 –≥–Њ–і–∞
–Э–µ —Е–Њ—В–µ–ї —В–∞–Ї —Б–Ї–Њ—А–Њ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞—В—М—Б—П –Ї —Н—В–Њ–є —В–µ—В—А–∞–і–Є, –љ–Њ –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В—Б—П. –Т—З–µ—А–∞ –і–Њ–ї–≥–Њ –±–µ—Б–µ–і–Њ–≤–∞–ї —Б —Б–µ–Ї—А–µ—В–∞—А—С–Љ –Ї–Њ–Љ—Б–Њ–Љ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Ї–ї–∞—Б—Б–∞. –Ю–љ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї, —З—В–Њ —П —Б—В–∞–ї —Е—Г–ґ–µ, —З–µ–Љ –Ї–Њ–≥–і–∞ –њ—А–Є—И—С–ї. –І—В–Њ —П –љ–µ –њ–ї–Њ—Е–Њ–є, –љ–µ –љ–∞—А—Г—И–Є—В–µ–ї—М, –∞ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –љ–µ–Љ–љ–Њ–ґ–Ї–Њ ¬Ђ—А–∞—Б–њ—Г—Б—В–Є–ї—Б—П¬ї. –Ю–љ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –њ—А–∞–≤, –Є —П –µ–≥–Њ –њ–Њ–љ—П–ї. –Ф–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, –Ї–Њ–≥–і–∞ —П –њ—А–Є—И—С–ї –≤ –љ–Њ–≤—Л–є –і–ї—П –Љ–µ–љ—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤, –Њ—З–µ–љ—М —Б–ї–µ–і–Є–ї –Ј–∞ —Б–Њ–±–Њ–є: –Ј–∞ —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є, –ґ–µ—Б—В–∞–Љ–Є, –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П–Љ–Є, —З—В–Њ–±—Л –љ–µ –Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М—Б—П –≤ —З–Є—Б–ї–µ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є—Е. –Р –≤–Њ—В –Ї–Њ–≥–і–∞ —П –њ–Њ–Њ–±—В–µ—Б–∞–ї—Б—П, –Ј–∞–љ—П–ї —Б–≤–Њ—С –Љ–µ—Б—В–Њ, –≤–Њ –Љ–љ–µ –Ј–∞–≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–∞ –Љ–Њ—П –≤–µ—Б—С–ї–∞—П –±–µ—Б—И–∞–±–∞—И–љ–∞—П –љ–∞—В—Г—А–∞, —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–∞—П —З–∞—Б—В–Њ –і–µ–ї–∞—В—М –≥–ї—Г–њ–Њ—Б—В–Є.
–Ю—В—Б—О–і–∞ –≤—Л–≤–Њ–і: –љ–µ —А–∞—Б–њ—Г—Б–Ї–∞—В—М —Б–µ–±—П, –љ–µ –њ–µ—А–µ—Б—В–∞–≤–∞—В—М —Б–ї–µ–і–Є—В—М –Ј–∞ —Б–Њ–±–Њ–є. –Я–Њ–Љ–µ–љ—М—И–µ –≤–Њ—Б—В–Њ—А–ґ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є. –Э–∞ –≤—Б—С –ї—Г—З—И–µ –Њ—В–≤–µ—З–∞—В—М ¬Ђ–Х—Б—В—М!¬ї, —З–µ–Љ –Ї—А–Є—З–∞—В—М –Є –≤–Њ–Ј–Љ—Г—Й–∞—В—М—Б—П. –Ґ–∞–Ї –Є —Б–і–µ–ї–∞—О! –Э–µ–ї—М–Ј—П –Ј–∞–±—Л–≤–∞—В—М, —З—В–Њ –Љ–љ–µ —Б–∞–Љ–Њ–Љ—Г —Б–Ї–Њ—А–Њ –њ—А–Є–і—С—В—Б—П –≤–Њ—Б–њ–Є—В—Л–≤–∞—В—М –ї—О–і–µ–є. –Р –і–ї—П —Н—В–Њ–≥–Њ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–∞ –≥—А–Њ–Љ–∞–і–љ–∞—П –≤—Л–і–µ—А–ґ–Ї–∞вА¶
6 –Љ–∞—А—В–∞ 1953 –≥–Њ–і–∞
–Ь—Л –њ—А–Њ—Б–љ—Г–ї–Є—Б—М –Ј–∞ –і–µ—Б—П—В—М –Љ–Є–љ—Г—В –і–Њ –њ–Њ–і—К—С–Љ–∞. –Э–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ –≤ –Ї—Г–±—А–Є–Ї–µ —А–∞–Ј–і–∞–ї—Б—П –≥–Њ–ї–Њ—Б –і–Є–Ї—В–Њ—А–∞. –Я–Њ—Б–ї–µ –њ–µ—А–≤—Л—Е –ґ–µ —Б–ї–Њ–≤, –µ—Й—С –љ–µ —Г—Б–ї—Л—И–∞–≤ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ —Г–ґ–∞—Б–љ–Њ–≥–Њ, —Б–µ—А–і—Ж–µ –±—Г–Ї–≤–∞–ї—М–љ–Њ –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Њ—Б—М. –•–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М —Б–њ—А—П—В–∞—В—М –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г –њ–Њ–і –њ–Њ–і—Г—И–Ї—Г, –Ј–∞–Ї—А—Л—В—М—Б—П —Б –≥–Њ–ї–Њ–≤–Њ–є –Њ–і–µ—П–ї–Њ–Љ –Є –Ј–∞–ґ–∞—В—М —Г—И–Є, —З—В–Њ–±—Л –љ–µ —Б–ї—Л—И–∞—В—М –≥–Њ–ї–Њ—Б–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ—А–Њ–Є–Ј–љ—С—Б —Б—В—А–∞—И–љ—Г—О –≤–µ—Б—В—М, —З—В–Њ —Б–∞–Љ—Л–є –≥–µ–љ–Є–∞–ї—М–љ—Л–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, —Б–Њ–Ј–і–∞–≤—И–Є–є —В–∞–Ї –Љ–љ–Њ–≥–ЊвА¶
–Э–µ—В! –Э–µ –Љ–Њ–≥—Г –њ—А–Њ–Є–Ј–љ–µ—Б—В–Є —Н—В–Њ–≥–Њ —Б—В—А–∞—И–љ–Њ–≥–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞! –Ь–љ–µ –љ–µ –≤–µ—А–Є—В—Б—П, —З—В–Њ –Х–≥–Њ –љ–µ—В. –≠—В–Њ –Њ—И–Є–±–Ї–∞! –Э–µ–і–Њ—А–∞–Ј—Г–Љ–µ–љ–Є–µ! –Ъ–Њ—И–Љ–∞—А–љ—Л–є —Б–Њ–љ!вА¶
–Э–Њ –Ј–≤—Г–Ї–Є —В—А–∞—Г—А–љ—Л—Е –Љ–µ–ї–Њ–і–Є–є, –ї—М—О—Й–Є—Е—Б—П –Є–Ј —А–µ–њ—А–Њ–і—Г–Ї—В–Њ—А–∞, –Ї–∞–Ї –±—Л –≥–Њ–≤–Њ—А—П—В: ¬Ђ–Ъ—А–µ—Б—В–Є—Б—М, –љ–µ –њ–∞–і–∞–є –і—Г—Е–Њ–Љ, вАУ —Н—В–Њ –њ—А–∞–≤–і–∞¬ї.
–£–њ–Њ—А–љ–Њ –љ–µ —Е–Њ—З–µ—В—Б—П –≤–µ—А–Є—В—М. –Я–Є—Б–∞—В—М –і–∞–ї–µ–µ –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г. –•–Њ—З–µ—В—Б—П —Б–і–µ–ї–∞—В—М —З—В–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М —В–∞–Ї–Њ–µ, –Њ—В—З–µ–≥–Њ –≤—Б—С –±—Л–ї–Њ –±—Л –њ–Њ-–њ—А–µ–ґ–љ–µ–Љ—Г, —З—В–Њ–±—Л –Ю–љ –ґ–Є–ївА¶

9 –Љ–∞—А—В–∞ 1953 –≥–Њ–і–∞
–Т—Б—С!вА¶ –Ю–љ –ї–µ–ґ–Є—В —А—П–і–Њ–Љ —Б —В–µ–Љ, —Б –Ї–µ–Љ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–Є–ї –љ–∞—И–µ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ, –Њ—В—Б—В–Њ—П–ї –µ–≥–Њ –≤ —В—А—Г–і–љ—Л–µ –≥–Њ–і—Л –Є–љ—В–µ—А–≤–µ–љ—Ж–Є–Є –Є –У—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—ЛвА¶
–Ь–Є—В–Є–љ–≥ —Б –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–є –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Є –±—Л–ї–Њ –љ–µ–≤—Л–љ–Њ—Б–Є–Љ–Њ —В—П–ґ–µ–ї–Њ —Б–ї—Г—И–∞—В—М. –Э–∞ –ї–Є—Ж–∞—Е –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –Ї—Г—А—Б–∞–љ—В–Њ–≤ –њ–Њ—А–∞–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є –±–ї–µ—Б–Ї –≤ –≥–ї–∞–Ј–∞—Е. –£ –Љ–µ–љ—П –Є–љ–Њ–≥–і–∞ —А–∞—Б–њ–ї—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М —Б—Ж–µ–љ–∞ –Є –Ј–∞–љ–∞–≤–µ—Б —Б –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ –Х–≥–Њ –њ–Њ—А—В—А–µ—В–Њ–Љ.
–Ф–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г –њ—А–Њ–Є–Ј–љ–µ—Б—В–Є –Х–≥–Њ –Є–Љ—П. –Ь–љ–µ –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, —З—В–Њ –µ—Б–ї–Є –њ—А–Њ–Є–Ј–љ–µ—Б—Г, —В–Њ –≤—Б—С —Б—В–∞–љ–µ—В –њ—А–∞–≤–і–Њ–є, –∞ –µ—Б–ї–Є –љ–µ—В, —В–Њ –≤—Б—С —А–∞—Б—Б–µ–µ—В—Б—П, –Є —Г—Б–ї—Л—И—Г –Є–Ј —А–µ–њ—А–Њ–і—Г–Ї—В–Њ—А–∞ –±—О–ї–ї–µ—В–µ–љ—М –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—М–µ —Г–ї—Г—З—И–Є–ї–Њ—Б—М, —В–µ–Љ–њ–µ—А–∞—В—Г—А–∞ –љ–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ–∞—П, –њ—Г–ї—М—Б —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ—Л–є, –і—Л—Е–∞–љ–Є–µ —А–Њ–≤–љ–Њ–µвА¶
–Э–µ —Е–Њ—З—Г –≤–µ—А–Є—В—М!вА¶

11 –Љ–∞—А—В–∞ 1953 –≥–Њ–і–∞
–Т—Л–Ј–≤–∞–ї –©—С–≥–Њ–ї–µ–≤. –Ю–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ: –≤ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Є –љ–µ –≥–Њ–ґ—Г—Б—М. –°–њ—А–∞—И–Є–≤–∞–µ—В: ¬Ђ–Ъ—Г–і–∞ —В–µ–њ–µ—А—М? –Э–∞ –Ї–∞–Ї–Є—Е –љ–∞–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П—Е —Е–Њ—З–µ—И—М —Б–ї—Г–ґ–Є—В—М?¬ї. –£–њ—А—П–Љ–Њ —Б—В–Њ—О –љ–∞ —Б–≤–Њ—С–Љ: —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–µ –ї–Њ–і–Ї–Є! –Ч–∞–њ–Є—Б—Л–≤–∞–µ—В –Љ–µ–љ—П –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї–Њ–Љ –љ–∞ –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –Њ—Е–Њ—В–љ–Є–Ї.
–Э–Њ —П —В–∞–Ї –±—Л—Б—В—А–Њ –љ–µ —Б–і–∞–Љ—Б—П. –•–Њ—В—М –≤ —Б–∞–љ—З–∞—Б—В—М –Љ–µ–љ—П —Г–ґ–µ –љ–µ –њ—Г—Б–Ї–∞—О—В, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –љ–∞–і–Њ–µ–ї –≤—Б–µ–Љ, –Ј–∞–≤—В—А–∞ –ґ–µ –і–Њ–±—М—О—Б—М –њ–µ—А–µ–Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–Є.

–Ш–≤–∞–љ –°–µ—А–≥–µ–µ–≤–Є—З –©–µ–≥–Њ–ї–µ–≤
12 –Љ–∞—А—В–∞ 1953 –≥–Њ–і–∞
–С—Л–ї —Г –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ —Б–∞–љ—З–∞—Б—В–Є. –С–µ–Ј—А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–љ–Њ. –°–Ї–∞–Ј–∞–ї –Ј–∞–є—В–Є –Ј–∞–≤—В—А–∞. –Э—Г —З—В–Њ –ґ, —П –µ–Љ—Г –љ–µ –Ј–∞–≤–Є–і—Г—О. –Ч–∞–≤—В—А–∞ —З—В–Њ-—В–Њ –±—Г–і–µ—В! –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ—П—П —Б—Е–≤–∞—В–Ї–∞, –Є–љ–∞—З–µ –±—Г–і–µ—В –њ–Њ–Ј–і–љ–Њ вАУ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В—Л –љ–∞ –і–љ—П—Е –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї—П—О—В—Б—П –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г.
13 –Љ–∞—А—В–∞ 1953 –≥–Њ–і–∞
–£—А–∞! –ѓ вАУ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї! –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–ї–µ–њ–љ—Л —Б–ї–Њ–≤–∞:
¬Ђ–Ъ—В–Њ –≤–µ—Б–µ–ї, —В–Њ—В —Б–Љ–µ—С—В—Б—П,
–Ъ—В–Њ —Е–Њ—З–µ—В, —В–Њ—В –і–Њ–±—М—С—В—Б—П!¬ї.
–Ф–Њ–ї–≥–Њ –Є –Љ—А–∞—З–љ–Њ –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–ї —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А —Б –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–Љ —Б–∞–љ—З–∞—Б—В–Є. –Ю–љ –њ—Л—В–∞–ї—Б—П —Г–±–µ–і–Є—В—М –Љ–µ–љ—П —Е–Є—В—А—Л–Љ–Є –ї–∞—В–Є–љ—Б–Ї–Є–Љ–Є —Д—А–∞–Ј–∞–Љ–Є, –љ–Њ —П –љ–µ —Б–і–∞–≤–∞–ї—Б—П. –Я–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –Ј–∞–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ–Є–µ –Є–Ј —Б–ї–Њ–≤: ¬Ђ–Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –Я–Ы, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Я–Ы¬ї, —З–µ—А–µ–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Є–є –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї –њ—А–Њ—А–≤–∞—В—М—Б—П –љ–µ –Љ–Њ–≥. –Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –Њ–љ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї: ¬Ђ–£–ґ –Њ—З–µ–љ—М —Д–∞–Љ–Є–ї–Є—П —Г –Т–∞—Б —Е–Њ—А–Њ—И–∞—П вАУ –Ы–µ–љ–Є–љ—Ж–µ–≤! –Я—А–Њ—В–Є–≤ —В–∞–Ї–Њ–є —Д–∞–Љ–Є–ї–Є–Є –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–є —Ж–Є—А–Ї—Г–ї—П—А ¬Ђ–Ю —А—Г–±—Ж–∞—Е¬ї –љ–µ —Г—Б—В–Њ–Є—В¬ї.
–° —Н—В–Є–Љ–Є —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є –Њ–љ –≤–Ј—П–ї –Ї—А–∞—Б–љ—Л–є –Ї–∞—А–∞–љ–і–∞—И –Є –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї –љ–∞ –ї–Є—Б—В–µ –Љ–µ–і–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–∞: ¬Ђ–Я–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–є —Д–ї–Њ—В¬ї. –ѓ –њ–Њ—З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї —Б–µ–±—П —Б—З–∞—Б—В–ї–Є–≤—Л–Љ.
–Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –Ї–ї–∞—Б—Б–µ –Њ—З—Г—Е–∞–ї—Б—П –Њ—В –≤–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П –Є –±–µ–≥–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤—Б–µ —Г–ґ–µ –њ–Њ–Ј–і—А–∞–≤–Є–ї–Є –Љ–µ–љ—П –њ–Њ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —А–∞–Ј.
14 –Љ–∞—А—В–∞ 1953 –≥–Њ–і–∞
–Т—З–µ—А–∞ –≤–µ—З–µ—А–Њ–Љ –Њ–њ—П—В—М —Й–µ–≥–Њ–ї—П–ї –≤ –Ї–Њ—Б—В—О–Љ–µ –Р–і–∞–Љ–∞ –Є —Б –Ј–∞–≥—Г–±–љ–Є–Ї–Њ–Љ. –°—В–Њ–Є—В —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –≤ –±–∞—Б—Б–µ–є–љ–µ, –≥–ї–∞–Ј–∞ –≤—Л—В–∞—А–∞—Й–µ–љ—Л: —В–∞–Ї–Њ–µ –Њ—Й—Г—Й–µ–љ–Є–µ, –±—Г–і—В–Њ –Ј–∞–≥—Г–±–љ–Є–Ї –і–Њ—Е–Њ–і–Є—В –і–Њ —Б–∞–Љ—Л—Е –≥–ї–∞–Ј. –Ш–Ј–Њ —А—В–∞ –≤—Л—Е–Њ–і—П—В —И–ї–∞–љ–≥–Є, –≤–Њ –≤–µ—Б—М –ґ–Є–≤–Њ—В —А–µ–Ј–Є–љ–Њ–≤—Л–є –Љ–µ—И–Њ–Ї, –∞ —Б–±–Њ–Ї—Г –±–Њ–ї—М—И–∞—П –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–∞—П –≥–Є—А—П —Б–Є–љ–µ–≥–Њ —Ж–≤–µ—В–∞. –Э–∞ —И–µ–µ, –Ї–∞–Ї —Г –љ–µ—Б—З–∞—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–±–∞, –≤–Є—Б–Є—В –≥—А–Њ–Љ–∞–і–љ—Л–є –≥—А—Г–Ј –љ–∞ –≥—А—Г–±–Њ–є –≤–µ—А—С–≤–Ї–µ, —Г–њ–Є—А–∞—П—Б—М —Б–≤–Њ–Є–Љ –љ–Є–ґ–љ–Є–Љ –Ї—А–∞–µ–Љ –≤ –љ–Є–ґ–љ–µ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ. –Т—Б—С —Н—В–Њ —Б–Ї—А–µ–њ–ї—П—О—В –і–ї–Є–љ–љ–Њ–є –≤–µ—А—С–≤–Ї–Њ–є, –±–Њ–ї—М–љ–Њ —Б—В—П–≥–Є–≤–∞—О—Й–µ–є –ґ–Є–≤–Њ—В, –∞ –µ—С —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ—Л–є –Ї–Њ–љ–µ—Ж –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –љ–∞–≤–µ—А—Е—Г —Г –Є–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Њ—А–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є, —З—В–Њ –Ј–∞—Е–Њ—З–µ—В, —В–Њ —Б —В–Њ–±–Њ–є –Є —Б–і–µ–ї–∞–µ—В. –Т –Њ–±—Й–µ–Љ, вАУ —Б–њ–ї–Њ—И–љ–∞—П —А–Њ–Љ–∞–љ—В–Є–Ї–∞!
–°–µ–≥–Њ–і–љ—П ¬Ђ–Њ–±—А–∞–і—Г—О¬ї —Б–≤–Њ–Є—Е –і—А–∞–ґ–∞–є—И–Є—Е, —Б–Њ–Њ–±—Й–Є–≤ –Є–Љ, —З—В–Њ —П вАУ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї. –†–∞–і–Њ—Б—В–љ–∞—П –≤–µ—Б—В—М –љ–µ –≤—Л—Е–Њ–і–Є—В —Г –Љ–µ–љ—П –Є–Ј –≥–Њ–ї–Њ–≤—Л: —Е–Њ—З–µ—В—Б—П –њ–ї—П—Б–∞—В—М, –њ–µ—В—М –Є —Б–Љ–µ—П—В—М—Б—П. –≠—В–Њ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ!
17 –Љ–∞—А—В–∞ 1953 –≥–Њ–і–∞
–Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж-—В–Њ –љ–∞—Б—В—Г–њ–Є–ї –і–µ–љ—М –њ–Њ–ї—Г—З–Ї–Є! –£—А–∞! –£—А–∞! –£—А–∞! –Т –љ–∞—И–Є—Е —А—Г–Ї–∞—Е –Ј–∞—Е—А—Г—Б—В–µ–ї–Є –љ–Њ–≤–µ–љ—М–Ї–Є–µ –Є –Ј–∞—И—Г—А—И–∞–ї–Є —Б—В–∞—А–µ–љ—М–Ї–Є–µ –і–≤–∞–і—Ж–∞—В–Є–њ—П—В–Є—А—Г–±–ї—С–≤—Л–µ –±—Г–Љ–∞–ґ–Ї–Є. –Ъ–∞–Ї –≥—А—Г—Б—В–љ–Њ, —З—В–Њ –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б —В–∞–Ї–Є–Љ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–ї–µ–њ–љ—Л–Љ —Б–Њ–±—Л—В–Є–µ–Љ –њ—А–Є—Е–Њ–і—П—В –Љ—А–∞—З–љ—Л–µ —А–∞–Ј–Љ—Л—И–ї–µ–љ–Є—П –Є —Б–≤–Є—А–µ–њ—Л–µ –Љ—Л—Б–ї–Є. –Ф–µ–ї–Њ –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ, –Ј–∞–њ–Њ–ї—Г—З–Є–≤ –≤ —Б–≤–Њ–Є —А—Г–Ї–Є –і–µ–љ—М–≥–Є, —Е–Њ—З–µ—В—Б—П —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є—В—М –Є—Е –і–Њ —Б—Г–±–±–Њ—В—Л. –Э–Њ —В–µ, –Ї–Њ–Љ—Г —В—Л –і–Њ–ї–ґ–µ–љ, —Г–ґ–µ —Е–Њ–і—П—В –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ —В–µ–±—П, –∞ —В—Л, –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, —Б—В–∞—А–∞–µ—И—М—Б—П –і–µ—А–ґ–∞—В—М—Б—П –Њ—В –љ–Є—Е –љ–∞ –њ–Њ—З—В–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ —А–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є. –£ —Н—В–Њ–є –Є–≥—А—Л –Њ–і–Є–љ –Ї–Њ–љ–µ—Ж: –Њ—В–і–∞—С—И—М –і–µ–љ—М–≥–Є –Ї—А–µ–і–Є—В–Њ—А—Г, —В—Г—В –ґ–µ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–µ—И—М —Г –і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ –і–Њ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–є –њ–Њ–ї—Г—З–Ї–Є.

–Э–Њ –њ–Њ—З–µ–Љ—Г –і–µ–љ–µ–ґ–љ–∞—П –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–∞ —Б—В–Њ–Є—В —В–∞–Ї –Њ—Б—В—А–Њ? –Ю–њ—П—В—М –ї–Њ–Љ–∞–ї –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г, –Ї–∞–Ї —А–µ—И–Є—В—М —Н—В—Г –і—Г—А–∞—Ж–Ї—Г—О –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Г? –С—Л–ї–Є —В–∞–Ї–Є–µ –±–ї–∞–≥–Є–µ –љ–∞–Љ–µ—А–µ–љ–Є—П: –Ї—Г–њ–Є—В—М ¬Ђ–Ш—Б—В–Њ—А–Є—О –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞¬ї вАУ —А–∞–Ј, –Ї—Г–њ–Є—В—М —И—В–∞—В–Є–≤ –і–ї—П —Д–Њ—В–Њ–∞–њ–њ–∞—А–∞—В–∞ вАУ –і–≤–∞, –Ї—Г–њ–Є—В—М ¬Ђ–Ь–Њ—А—Б–Ї—Г—О –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї—Г¬ї вАУ —В—А–Є, —Б—Е–Њ–і–Є—В—М –≤ —В–µ–∞—В—А 29-–≥–Њ вАУ —З–µ—В—Л—А–µ, –Њ—В–і–∞—В—М –і–Њ–ї–≥ вАУ –њ—П—В—М! –Ф–Њ–ї–≥ –Њ—В–і–∞–ї. –Т–Њ—В —Н—В–Њ —Б–і–µ–ї–∞–ї. –Ч–∞–ґ–∞—В—М –љ–µ —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М, –Є —П –Њ–њ—П—В—М –±–µ–Ј –і–µ–љ–µ–≥!
20 –Љ–∞—А—В–∞ 1953 –≥–Њ–і–∞
–Ю–њ—П—В—М –њ—П—В–љ–Є—Ж–∞, –∞, —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, –Є —Б—Г–±–±–Њ—В–∞! –•–≤–∞–ї–∞ –Т—Б–µ–≤—Л—И–љ–µ–Љ—Г! –Я—А–Є–±–ї–Є–ґ–∞–µ—В—Б—П —В–Њ—В –і–µ–љ—М, –њ—А–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–Љ –њ–Є—Б–∞–љ–Є–Є —Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ: ¬Ђ–Э–µ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –і–ї—П —Б—Г–±–±–Њ—В—Л, –∞ —Б—Г–±–±–Њ—В–∞ –і–ї—П —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞!¬ї.
–Ґ–∞–Ї –±—Л—Б—В—А–Њ –ї–µ—В–Є—В –≤—А–µ–Љ—П: –љ–µ —Г—Б–њ–µ–µ—И—М —З—В–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М –≤—Л–Ї–Є–љ—Г—В—М, –Ї–∞–Ї –њ–Њ–і–≤–µ—Б—П—В –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В—Б–Ї–Є–µ –њ–Њ–≥–Њ–љ—Л, –≤—Б—Г–љ—Г—В –≤ —А—Г–Ї–Є –Ї–Њ—А—В–Є–Ї, –і–∞–і—Г—В –Ї—Г—З—Г –і–µ–љ–µ–≥ –і–ї—П —А–∞—Б–њ–ї–∞—В—Л —Б –і–Њ–ї–≥–∞–Љ–Є –Є —Д—М—О–є—В—М!вА¶
–Э–∞—З–Є–љ–∞–µ—В—Б—П —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–∞—П –ґ–Є–Ј–љ—М. –Ъ–∞–Ї —Б—В—А–∞—И–љ–Њ! –°–∞–Љ–Њ–µ —Г–ґ–∞—Б–љ–Њ–µ —В–Њ, —З—В–Њ –њ—А–Є —Б–ї–Њ–≤–∞—Е –Њ —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є –љ–∞—З–Є–љ–∞—О –і—Г–Љ–∞—В—М –Њ –±—А–∞—З–љ—Л—Е —Г–Ј–∞—Е, –Њ –ґ–µ–љ–µ. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ —Б–ї–Њ–≤–µ —Г –Љ–µ–љ—П –њ–Њ —Б–њ–Є–љ–µ –њ—А–Њ–±–µ–≥–∞—О—В –Љ—Г—А–∞—И–Ї–Є. –Ь–Њ—П –±—Г–і—Г—Й–∞—П –ґ–µ–љ–∞ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П –≤ –Њ–±—А–∞–Ј–µ –і–µ—Б–њ–Њ—В–∞, –Є –Љ–љ–µ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П –і—Г—А–љ–Њ. –ѓ –±–Њ—О—Б—М ¬Ђ—Б—Г–њ—А—Г–ґ–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–Њ–ї–≥–∞¬ї.
26 –Љ–∞—А—В–∞ 1953 –≥–Њ–і–∞
–Ь–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ, –љ–Њ –≤–µ—А–љ–Њ –Є–Ј –љ–∞—Б –і–µ–ї–∞—О—В –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤. –Т—З–µ—А–∞ –Њ–њ—П—В—М –±—Л–ї–Є –≤ –±–∞—Б—Б–µ–є–љ–µ. –°–ї—Г—З–Є–≤—И–∞—П—Б—П —Б–Њ –Љ–љ–Њ–є –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–∞—П –љ–µ–њ—А–Є—П—В–љ–Њ—Б—В—М –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞, —З—В–Њ –Љ—Л —Г–ґ–µ –љ–µ —В–µ, –Ї–∞–Ї–Є–Љ–Є –±—Л–ї–Є –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –њ–Њ–≥—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –њ–Њ –Љ–∞–ї–µ–є—И–µ–Љ—Г –њ—Г—Б—В—П–Ї—Г –≤—Л—Б–Ї–∞–Ї–Є–≤–∞–ї–Є –љ–∞–≤–µ—А—Е —Б –≤—Л—В–∞—А–∞—Й–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –≥–ї–∞–Ј–∞–Љ–Є. –Э–∞ –≤—В–Њ—А–Њ–Љ –Ј–∞–љ—П—В–Є–Є –≤—Б–µ –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –Њ—Б–≤–Њ–Є–ї–Є—Б—М —Б –љ–µ–Њ–±—Л—З–љ—Л–Љ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ, –∞ –љ–∞ —В—А–µ—В—М–µ–Љ –Љ—Л –і–∞–≤–∞–ї–Є –њ–Њ–і –≤–Њ–і–Њ–є —В–∞–Ї–Є–µ ¬Ђ–і–ґ–∞–Ј—Л¬ї, —З—В–Њ –љ–µ —Б–ї—Л—И–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥–∞ –њ—А–Є –њ–Њ–њ—Л—В–Ї–∞—Е ¬Ђ—А–∞–Ј–≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞—В—М¬ї.
–Т—З–µ—А–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ —П –±—Л–ї –≤ —Б–∞–Љ–Њ–є –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ–є —З–∞—Б—В–Є –±–∞—Б—Б–µ–є–љ–∞, —Г –Љ–µ–љ—П –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–ї –±–∞–є–њ–∞—Б –і—Л—Е–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –∞–њ–њ–∞—А–∞—В–∞, –Є –≤–Њ–Ј–і—Г—Е –љ–µ –њ–Њ–і–∞–≤–∞–ї—Б—П –≤ –і—Л—Е–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є –Љ–µ—И–Њ–Ї. –Р —П —Г–ґ–µ –≤—Л–і–Њ—Е–љ—Г–ї –≤–Њ–Ј–і—Г—Е —З–µ—А–µ–Ј –љ–Њ—Б –≤ –≤–Њ–і—Г, –і–µ–ї–∞—П –њ—А–Њ–Љ—Л–≤–Ї—Г. –Ь–µ—И–Њ–Ї –њ—Г—Б—В–Њ–є, –љ–∞ –Љ–љ–µ –≥—А—Г–Ј—Л. –Ґ–∞–Ї —Б –≥–ї—Г–±–Є–љ—Л –љ–∞ –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В—М –љ–µ –≤—Л—Б–Ї–Њ—З–Є—И—М. –Ь–Њ–≥ –±—Л —Б–±—А–Њ—Б–Є—В—М –≥—А—Г–Ј –Є –≤—Б–њ–ї—Л—В—М, –љ–Њ —Н—В–Њ –љ–µ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ, —Н—В–Њ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б–і–µ–ї–∞—В—М.
–Х—Б–ї–Є –±—Л —Н—В–Њ —Б–ї—Г—З–Є–ї–Њ—Б—М –љ–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–Љ –Ј–∞–љ—П—В–Є–Є, —П –±—Л —Г–Љ–µ—А –Њ—В —А–∞–Ј—А—Л–≤–∞ —Б–µ—А–і—Ж–∞. –Ґ–µ–њ–µ—А—М –ґ–µ —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ –њ–Њ—И—С–ї –љ–∞ –Љ–µ–ї–Ї–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ –Є –≤—Л—И–µ–ї –љ–∞ –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В—М, –Ј–∞–Ї—А—Л–≤ –њ–Њ –њ—А–∞–≤–Є–ї–∞–Љ –Ї–ї–∞–њ–∞–љ –≤–Њ–Ј–і—Г—И–љ–Њ–≥–Њ –±–∞–ї–ї–Њ–љ–∞. –Я–Њ—Б–ї–µ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—И—М —Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М –љ–∞ —Б–µ–±—П —Б –≥–Њ—А–і–Њ—Б—В—М—О.
–Ь–љ–µ –і–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А –љ–µ –≤–µ—А–Є—В—Б—П, —З—В–Њ —Б—В–∞–ї –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Њ–Љ, —З—В–Њ —З–µ—А–µ–Ј –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–µ—Б—П—Ж–µ–≤ –±—Г–і—Г –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–Љ. –Я–Њ—З–µ–Љ—Г-—В–Њ —Б—В–∞–ї –±–Њ—П—В—М—Б—П –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ—Л—Е —Н–Ї–Ј–∞–Љ–µ–љ–Њ–≤. –Ы–Є—И—М –њ–Њ–і—Г–Љ–∞—О –Њ –љ–Є—Е, —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П —В–Њ—Б–Ї–ї–Є–≤–Њ. –†–∞–љ—М—И–µ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –љ–µ –±—Л–ї–Њ.
27 –Љ–∞—А—В–∞ 1953 –≥–Њ–і–∞
–У–Њ–≤–Њ—А—П—В, —З—В–Њ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Љ—Г–ґ—З–Є–љ–∞ —Б–Љ–Њ—В—А–Є—В –љ–∞ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Г, –і—М—П–≤–Њ–ї –Њ–і–µ–≤–∞–µ—В –µ–Љ—Г –љ–∞ –≥–ї–∞–Ј–∞ —А–Њ–Ј–Њ–≤—Л–µ –Њ—З–Ї–Є. –°—Г—Й–∞—П –њ—А–∞–≤–і–∞! –Т—З–µ—А–∞ –Њ–њ—П—В—М —Г–±–µ–і–Є–ї—Б—П –≤ —Н—В–Њ–Љ.
–Я–Њ—Б–ї–µ –і–љ–µ–≤–љ–Њ–≥–Њ —Б–љ–∞, –≤–Є–і–Є–Љ–Њ, –µ—Й—С –љ–µ –Њ—З—Г—Е–∞–≤—И–Є—Б—М, –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П –≤ –Ї–ї–∞—Б—Б –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—В—М—Б—П. –Э–µ –Ј–љ–∞—О, –Ї–∞–Ї —Н—В–Њ —Б–ї—Г—З–Є–ї–Њ—Б—М, –љ–Њ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П —П –њ–Њ—З–µ–Љ—Г-—В–Њ –≤ –±—Г—Д–µ—В–µ. –Я—А–Є–і—П –≤ —Б–µ–±—П –Њ—В –Њ–±–Є–ї–Є—П –ї–∞–Ї–Њ–Љ—Б—В–≤ –Ј–∞ –≤–Є—В—А–Є–љ–Њ–є –Є —А–µ—И–Є–≤, —З—В–Њ –Њ—В —Б—Г–і—М–±—Л –љ–µ —Г–є–і—С—И—М, –Љ—Г–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –њ—А–Є–±–ї–Є–Ј–Є–ї—Б—П –Ї –≤–∞–Ј–µ —Б –њ–µ—З–µ–љ—М–µ–Љ, —З—В–Њ–±—Л –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є—В—М –µ–≥–Њ —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В—М.
–Я—А–Є–Ї–Є–љ—Г–ї –≤ —Г–Љ–µ, —З—В–Њ —Б–Љ–Њ–≥—Г –Њ–±—А–µ—Б—В–Є ¬Ђ—Б—З–∞—Б—В—М–µ¬ї –Ј–∞ —В—А–Є —А—Г–±–ї—П —Б –Љ–µ–ї–Њ—З—М—О. –Э–Њ –љ–µ —В—Г—В-—В–Њ –±—Л–ї–Њ! –Ю—В–Њ—А–≤–∞–≤ –≥–ї–∞–Ј–∞ –Њ—В –њ–µ—З–µ–љ—М—П, —П —Г–≤–Є–і–µ–ї –±—Г—Д–µ—В—З–Є—Ж—Г. –Ъ–∞–Ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —П –Ј–∞–Є–Ї–љ—Г–ї—Б—П, —З—В–Њ —Г –Љ–µ–љ—П –µ—Б—В—М –і–µ–љ—М–≥–Є, –Є –≤—Б—В—Г–њ–Є–ї, –Ї–∞–Ї –≤—Б–µ–≥–і–∞, –≤ –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ—Г—О –±–µ—Б–µ–і—Г —Б –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–Њ–є, –Њ–љ–∞ –њ—А–µ–Њ–±—А–∞–Ј–Є–ї–∞—Б—М. –Я—А–Є–±–µ–≥–љ—Г–≤ –Ї –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є —Б—З—С—В–Њ–≤, –±—Г—Д–µ—В—З–Є—Ж–∞ –њ–µ—А–µ–Ї–Є–љ—Г–ї–∞ –Ї–Њ—Б—В—П—И–Ї–Є —Б –Њ–і–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –љ–∞ –і—А—Г–≥—Г—О –Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–љ–µ—Б–ї–∞: ¬Ђ–Ю–і–Є–љ–љ–∞–і—Ж–∞—В—М –і–≤–∞–і—Ж–∞—В—М!¬ї.
–Ю —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Љ–љ–µ –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—В—М —Н—В–Є ¬Ђ—Б—Г–Љ–∞—Б—И–µ–і—И–Є–µ¬ї –і–µ–љ—М–≥–Є, —П –љ–µ –њ–Є—И—Г. –≠—В–Њ –Є —В–∞–Ї —П—Б–љ–ЊвА¶
30 –Љ–∞—А—В–∞ 1953 –≥–Њ–і–∞
–Я–Њ–љ–µ–і–µ–ї—М–љ–Є–Ї. –°–µ—А—Л–є, –Љ—А–∞—З–љ—Л–є –і–µ–љ—М. –Э–∞—З–∞–ї—Б—П –Њ—З–µ—А–µ–і–љ–Њ–є –љ–µ–і–µ–ї—М–љ—Л–є —Ж–Є–Ї–ї. –Ю–њ—П—В—М –љ—Г–ґ–љ–Њ ¬Ђ–њ—А–Њ–≤–µ—А–љ—Г—В—М—Б—П¬ї –Љ–µ–ґ–і—Г –≤—Б–µ–Љ–Є —Г—Б—В–∞–≤–∞–Љ–Є –Є –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П–Љ–Є, —З—В–Њ–±—Л –≤ —Б—Г–±–±–Њ—В—Г –≤–љ–Њ–≤—М –Њ–±—А–µ—Б—В–Є ¬Ђ–µ–ґ–µ–љ–µ–і–µ–ї—М–љ–Њ–µ —Б—З–∞—Б—В—М–µ¬ї. –Т —Н—В—Г —Б—Г–±–±–Њ—В—Г –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –љ—Г–ґ–љ–Њ –±—Л—В—М –≤ –≥–Њ—А–Њ–і–µ: –†–µ–љ–∞—В–∞ –≤—Л—Е–Њ–і–Є—В –Ј–∞–Љ—Г–ґ, –Є –љ—Г–ґ–љ–Њ –њ–Њ–±—Л–≤–∞—В—М –љ–∞ —Б–≤–∞–і—М–±–µ. –≠—В–Њ –±—Г–і–µ—В –њ–µ—А–≤–∞—П —Б–≤–∞–і—М–±–∞, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —П –±—Г–і—Г –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М.
–І—С—А—В –≤–Њ–Ј—М–Љ–Є! –†—Г–Ї–∞ –Њ—В–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –њ–Є—Б–∞—В—М. –Ю—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Љ —В—А–µ–±—Г–µ—В –њ–Њ–ї–љ–µ–є—И–µ–≥–Њ –њ–Њ–Ї–Њ—П –Є —Б–љ–∞, –∞ —П —Б–Є–ґ—Г, –Ї–∞–Ї –±–Њ–ї–≤–∞–љ, –љ–∞ ¬Ђ–≥–Њ–ї—Г–±—П—В–љ–µ¬ї. –Ґ–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –Ї–∞—Д–µ–і—А–∞ –Т–Ь–Ш –Є–Ј-–Ј–∞ —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ —Б—В–Њ–ї—Л –Є–і—Г—В –≤–≤–µ—А—Е —Г—Б—В—Г–њ–Њ–Љ, –Ї–∞–Ї –≤ –±–Њ–ї—М—И–Є—Е –∞—Г–і–Є—В–Њ—А–Є—П—Е –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В–Њ–≤. –°–Є–і—П –љ–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–Љ —А—П–і—Г, –≥–Њ–ї–Њ–≤–Њ–є —Г–њ–Є—А–∞–µ—И—М—Б—П –≤ –њ–Њ—В–Њ–ї–Њ–Ї.
–Ф–µ–ї–∞—О –њ—А–µ–і–∞–љ–љ—Л–µ –≥–ї–∞–Ј–∞ –Є —В–∞—А–∞—Й—Г –Є—Е –љ–∞ –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В–µ–ї—П, —З—В–Њ–±—Л –Њ–љ –љ–µ –≤–Њ—Б–Ї–ї–Є–Ї–љ—Г–ї, –Њ–±—А–∞—Й–∞—П—Б—М –Ї–Њ –Љ–љ–µ: ¬Ђ–Р –љ—Г-–Ї–∞ –њ–Њ–Ї–∞–ґ–Є—В–µ, —З—В–Њ –≤—Л —В–∞–Ї —Г—Б–µ—А–і–љ–Њ –њ–Є—И–µ—В–µ?¬ї. –Ґ—М—Д—Г, —В—М—Д—Г, —В—М—Д—Г, —З—В–Њ–± –љ–µ —Б–≥–ї–∞–Ј–Є—В—М.
–Р –≤–µ–і—М –µ—Й—С –≤—З–µ—А–∞ –≤—Б—С –±—Л–ї–Њ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –Є–љ–∞—З–µ. –Э–µ –љ–∞–і–Њ –±—Л–ї–Њ —В–∞—А–∞—Й–Є—В—М –≥–ї–∞–Ј–∞, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –і–µ–ї–∞—В—М —В–Њ, —З—В–Њ —Е–Њ—З–µ—И—М, –Є –і–∞–ґ–µ —Б–њ–∞—В—М –≤ –ї—О–±–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П.
7 –∞–њ—А–µ–ї—П 1953 –≥–Њ–і–∞
–Т–Њ—В –Є —З–µ—В–≤—С—А—В–Њ–µ –∞–њ—А–µ–ї—П –њ–Њ–Ј–∞–і–Є, –∞ —Б –љ–Є–Љ –Є –†–µ–љ–∞—В–Ї–Є–љ–∞ —Б–≤–∞–і—М–±–∞. –†–µ–љ–∞—В–∞ –±—Л–ї–∞ –Њ—З–∞—А–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–∞. –Э–∞ –љ–µ–є –±—Л–ї–Њ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–ї–µ–њ–љ–Њ–µ –±–µ–ї–Њ–µ –њ–ї–∞—В—М–µ. –Т—Б—П –Њ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ —В–∞–Ї–∞—П —Г–ї—Л–±–∞—О—Й–∞—П—Б—П, –≤–µ—Б—С–ї–µ–љ—М–Ї–∞—П. –Ф–∞ –Є —Б–≤–∞–і—М–±–∞ –±—Л–ї–∞ –љ–µ–њ–ї–Њ—Е–Њ–є. –°—В–Њ–ї –±—Л–ї —А–Њ—Б–Ї–Њ—И–љ—Л–є, –±—Л–ї–Њ –≤–µ—Б–µ–ї–Њ. –Ф–Њ–Љ–Њ–є –Љ—Л –≤–µ—А–љ—Г–ї–Є—Б—М –≤ –≤–Њ—Б–µ–Љ—М —Г—В—А–∞ –Є —Б—А–∞–Ј—Г –Ј–∞–≤–∞–ї–Є–ї–Є—Б—М —Б–њ–∞—В—М.
–Я–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –±—Г–і–Є–ї—М–љ–Є–Ї –љ–∞ –і–µ—Б—П—В—М —З–∞—Б–Њ–≤, –і—Г–Љ–∞—П –њ–Њ–є—В–Є –≤ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ –§—А—Г–љ–Ј–µ –љ–∞ –≤—Б—В—А–µ—З—Г –њ–Њ –≤–Њ–ї–µ–є–±–Њ–ї—Г –Љ–µ–ґ–і—Г –љ–∞—И–Є–Љ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ–Љ –Є —И–Ї–Њ–ї–Њ–є –Њ—А—Г–ґ–Є—П –љ–∞ –Ї—Г–±–Њ–Ї –Т–Ь–£–Ч–Њ–≤.
–С—Г–і–Є–ї—М–љ–Є–Ї –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –±–µ—Б—Б–Є–ї–µ–љ —А–∞–Ј–±—Г–і–Є—В—М –Љ–µ–љ—П. –Ь–Њ–Є –і–Њ—А–Њ–≥–Є–µ —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–Є —Е–Њ—В–µ–ї–Є —А–∞–Ј–±—Г–і–Є—В—М –Љ–µ–љ—П —В–µ–Љ, —З—В–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є: ¬Ђ–Т–Є—В–∞–ї–Є–є, —В–µ–±–µ –њ–Њ—А–∞!¬ї, –≤–Љ–µ—Б—В–Њ —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ–±—Л –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М –Љ–µ–љ—П –љ–∞ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г.
–Ъ–∞–Ї–Њ–≤–Њ –ґ–µ –±—Л–ї–Њ –Љ–Њ—С —Г–і–Є–≤–ї–µ–љ–Є–µ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –њ—А–Њ—Б–љ—Г–≤—И–Є—Б—М –Є –љ–∞–±—А–∞–≤ –њ–Њ —В–µ–ї–µ—Д–Њ–љ—Г –љ–Њ–Љ–µ—А ¬Ђ—В–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є¬ї, —Г—Б–ї—Л—И–∞–ї –≤ –Њ—В–≤–µ—В: ¬Ђ–®–µ—Б—В–љ–∞–і—Ж–∞—В—М —З–∞—Б–Њ–≤ –і–≤–∞–і—Ж–∞—В—М –Њ–і–љ–∞ –Љ–Є–љ—Г—В–∞¬ї. –Ю–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П, —П –њ—А–Њ—Б–њ–∞–ї –њ–Њ—З—В–Є –≤—Б—С –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ—М–µ!
–Ъ–∞–Ї —П –Є –Њ–ґ–Є–і–∞–ї, –≤—Б–Ї–Њ—А–µ —А–∞–Ј–і–∞–ї—Б—П —В–µ–ї–µ—Д–Њ–љ–љ—Л–є –Ј–≤–Њ–љ–Њ–Ї. –Я—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –і–∞–≤–∞—В—М —Б—В—А–∞—И–љ—Л–µ –Ї–ї—П—В–≤—Л –У–µ—В—В–µ, —З—В–Њ —П –љ–µ–Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ –Њ–і–µ–≤–∞—О—Б—М, –±–µ—А—Г –∞–Ї–Ї–Њ—А–і–µ–Њ–љ –Є –≤—Л—Е–Њ–ґ—Г. –Я–Њ–≤–µ—Б–Є–≤ —В—А—Г–±–Ї—Г, –≤–Ї–ї—О—З–Є–ї —А–∞–і–Є–Њ–њ—А–Є—С–Љ–љ–Є–Ї –Є –Њ–Ї–Њ–ї–Њ —З–∞—Б–∞ —Б–ї—Г—И–∞–ї –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–ї–µ–њ–љ—Г—О –Љ—Г–Ј—Л–Ї—Г. –Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, —А–µ—И–Є–≤, —З—В–Њ –њ–Њ—А–∞, –≤–Ј—П–ї –∞–Ї–Ї–Њ—А–і–µ–Њ–љ –Є –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П —В—Г–і–∞.
–Р –і–∞–ї—М—И–µ –љ–µ–Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ. –Т —З–µ—В—Л—А–µ —З–∞—Б–∞ —Г—И—С–ї.
–Ч–∞—И—С–ї –і–Њ–Љ–Њ–є, –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –∞–Ї–Ї–Њ—А–і–µ–Њ–љ, –њ–Њ—Б–њ–∞–ї —З–∞—Б–Њ–Ї, –њ–µ—А–µ–Њ–і–µ–ї—Б—П, –Є –њ–Њ–ї—Б–µ–і—М–Љ–Њ–≥–Њ –±—Л–ї –≤ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ. –°–њ–∞—В—М —Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М —Б—В—А–∞—И–љ–Њ. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Ј–∞–≤–∞–ї–Є–ї—Б—П –≤ —Б–∞–љ—З–∞—Б—В—М, –≥–і–µ –љ–∞—Е–Њ–ґ—Г—Б—М –Є —Б–µ–є—З–∞—Б.
10 –∞–њ—А–µ–ї—П 1953 –≥–Њ–і–∞
–Ъ–∞–ґ–µ—В—Б—П, –Ї—А—Г–њ–љ–Њ –њ–Њ–≥–Њ—А–µ–ї: –Љ–µ–љ—П —Е–Њ—В—П—В –≤—Л–њ–Є—Б–∞—В—М –≤ –њ–Њ–љ–µ–і–µ–ї—М–љ–Є–Ї. –≠—В–Њ –ґ–µ –∞–љ–µ–Ї–і–Њ—В!вА¶
11 –∞–њ—А–µ–ї—П 1953 –≥–Њ–і–∞
–Ґ–∞–љ—Ж—Г—О –і–ґ–Є–≥—Г. –Ь–µ–љ—П –љ–µ –≤—Л–њ–Є—Б—Л–≤–∞—О—В, –∞ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П —Б—Г–±–±–Њ—В–∞! –≠—В–Њ –љ–∞—Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ—А–∞—З–љ–Њ, —З—В–Њ —П –Њ—В –і—Г—И–Є —Б–Љ–µ—О—Б—М –љ–∞–і —Б–Њ–±–Њ–євА¶
17 –∞–њ—А–µ–ї—П 1953 –≥–Њ–і–∞
–Ш–Ј —Б–∞–љ—З–∞—Б—В–Є –Љ–µ–љ—П –≤—Л–≥–љ–∞–ї–Є –≤ –њ–Њ–љ–µ–і–µ–ї—М–љ–Є–Ї! –≠—В–Њ –ґ–µ –Є–Ј–і–µ–≤–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –љ–∞–і —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–Љ! –С–Њ–ї–µ–µ –≥–ї—Г–њ–Њ —П –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –њ–Њ–≥–Њ—А–∞–ї. –°—Г–±–±–Њ—В—Г –Є –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ—М–µ –њ—А–Њ–≤—С–ї –≤ —Б–∞–љ—З–∞—Б—В–Є, –∞ –≤ –њ–Њ–љ–µ–і–µ–ї—М–љ–Є–Ї –≤–љ–Њ–≤—М –Ј–∞ –њ–∞—А—В—Г!
–Ъ—Б—В–∞—В–Є, –Њ —Б–∞–љ—З–∞—Б—В–Є. –Ч–і–µ—Б—М –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –Њ—А–Є–≥–Є–љ–∞–ї—М–љ—Л–µ –њ–Њ—А—П–і–Ї–Є. –Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –љ–µ –≤—А–∞—З –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В –≤ –њ–∞–ї–∞—В—Г –Ї –±–Њ–ї—М–љ—Л–Љ, –∞ –±–Њ–ї—М–љ—Л–µ –Є–і—Г—В –≤ –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ –ї–∞–Ј–∞—А–µ—В–∞ –љ–∞ —Г—В—А–µ–љ–љ–Є–є –Њ—Б–Љ–Њ—В—А. –Я—А–Є—З—С–Љ, —Н—В–Њ –љ–µ –Ј–∞–≤–Є—Б–Є—В –Њ—В —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—П –±–Њ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ. –Ф–∞–ї–µ–µ. –Ъ–∞–ґ–і—Л–є –≤–µ—З–µ—А –Ї–∞–Ї–Њ–є-–љ–Є–±—Г–і—М –±–Њ–ї—М–љ–Њ–є —Г—Б–Є–ї–µ–љ–љ–Њ –і—А–∞–Є—В –њ–∞—А–Ї–µ—В–љ—Л–є –њ–Њ–ї –≤ –Ї–Њ—А–Є–і–Њ—А–µ.
–Э–Њ —Г–ґ–µ –њ—П—В–љ–Є—Ж–∞. –Ч–∞–≤—В—А–∞ –Њ–њ—П—В—М —Б–∞–Љ—Л–є –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–ї–µ–њ–љ—Л–є –і–µ–љ—М –љ–µ–і–µ–ї–Є вАУ –°–£–С–С–Ю–Ґ–Р!
–°–Ї–Њ—А–Њ –Я–µ—А–≤–Њ–µ –Ь–∞—П! –¶–µ–ї—Л—Е —З–µ—В—Л—А–µ –і–љ—П —Г–≤–Њ–ї—М–љ–µ–љ–Є—П, –і–∞ –µ—Й—С –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є—З–љ—Л—Е! –Э–Њ –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј –≤–Њ—В —Н—В–Њ-—В–Њ –Њ—В—З–∞—Б—В–Є –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є—В –≤ —Г–ґ–∞—Б.
–Т–Њ-–њ–µ—А–≤—Л—Е, —Н—В–Њ –Њ—З–µ–љ—М –±–Њ–ї—М—И–Є–µ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–Є, –Є –Є—Е –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –љ—Г–ґ–љ–Њ –Њ—В–Љ–µ—В–Є—В—М. –°–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, –љ—Г–ґ–љ—Л –і–µ–љ—М–≥–Є.
–Т–Њ-–≤—В–Њ—А—Л—Е, —Н—В–Њ –і–µ–љ—М —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –Љ–∞–Љ—Г–ї–Є, –Ј–љ–∞—З–Є—В, —В–Њ–ґ–µ –љ—Г–ґ–љ—Л –і–µ–љ—М–≥–Є.
–Т-—В—А–µ—В—М–Є—Е, –і–Њ –Я–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –Ь–∞—П –µ—Й—С –і–≤–µ —Б—Г–±–±–Њ—В—Л –Є –і–≤–∞ –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ—М—П, –і–ї—П –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Њ–њ—П—В—М –ґ–µ –љ—Г–ґ–љ—Л –і–µ–љ—М–≥–Є.
–Р –≥–і–µ –Є—Е –≤–Ј—П—В—М? –Ч–љ–∞–µ—В –Њ–і–Є–љ –ї–Є—И—М –С–Њ–≥. –°–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є—Е –љ—Г–ґ–љ–Њ? –Ь–љ–Њ–≥–Њ! –С—Г–і—Г—В –ї–Є –Њ–љ–Є? –Ю—З–µ–љ—М —Б–Њ–Љ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ. –•–Њ—А–Њ—И–Њ –ї–Є –±—Г–і—Г—В —Б–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ—Л –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–Є? –Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, —Е–Њ—А–Њ—И–Њ!
–ѓ –і–∞–ґ–µ –љ–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—О —Б–µ–±–µ, –Ї–∞–Ї —Н—В–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ–ї–Њ—Е–Њ –≤—Б—В—А–µ—З–∞—В—М —Е–Њ—А–Њ—И–Є–µ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–Є. –£–ґ–µ –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –±—Л –≤—Б—С –њ—А–Њ–њ–∞–ї–Њ: –Є –і–µ–љ–µ–≥ –љ–µ—В, –Є –љ–µ–Ї—Г–і–∞ –њ–Њ–є—В–Є, –∞ –њ—А–Њ—Е–Њ–і—П—В –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–Є, –Є –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ–Є—Б–∞—В—М –Ї–љ–Є–≥—Г —Б –≥–Њ–ї–ї–Є–≤—Г–і—Б–Ї–Є–Љ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ–Љ, –≤—А–Њ–і–µ: ¬Ђ–Ь–Є—А–Њ–≤–Њ–є —А–µ–Ї–Њ—А–і –ї—О–±–≤–Є¬ї.
–Ґ–∞–Ї —З—В–Њ ¬Ђ–Ф–∞ –Ј–і—А–∞–≤—Б—В–≤—Г–µ—В 1-–µ –Ь–∞—П!¬ї –Є –≤—Б—В—А–µ—В–Є–Љ –µ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї —Б–ї–µ–і—Г–µ—В!
22 –∞–њ—А–µ–ї—П 1953 –≥–Њ–і–∞
–°–µ–≥–Њ–і–љ—П –њ–µ—А–µ–ї–Њ–Љ–љ—Л–є –і–µ–љ—М –љ–µ–і–µ–ї–Є вАУ —Б—А–µ–і–∞. –Я—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А—П—В, —З—В–Њ —А–∞–Ј —Б—А–µ–і–∞ –њ–Њ–і–Њ—И–ї–∞, –Ј–љ–∞—З–Є—В —Б—Г–±–±–Њ—В–∞ –±–ї–Є–Ј–Ї–∞.
–Т –њ—А–Њ—И–ї–Њ–µ –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ–Є–µ –±—Л–ї –≤ –Ь–∞–ї–Њ–Љ –Њ–њ–µ—А–љ–Њ–Љ —В–µ–∞—В—А–µ, —Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї –±–∞–ї–µ—В ¬Ђ–Ь–љ–Є–Љ—Л–є –ґ–µ–љ–Є—Е¬ї. –С–∞–ї–µ—В —З—Г–і–љ—Л–є. –°–≤–µ—В–ї—Л–є, –≤–µ—Б—С–ї—Л–є, –њ–Њ–ї–љ—Л–є —О–Љ–Њ—А–∞ –Є –ґ–Є–Ј–љ–µ—А–∞–і–Њ—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є. –Ю—Б—В–∞–ї—Б—П –≤ –≤–Њ—Б—В–Њ—А–≥–µ –Њ—В –®–µ–є–љ. –Ю–љ–∞ –Љ–љ–µ –±–Њ–ї—М—И–µ –≤—Б–µ—Е –љ—А–∞–≤–Є—В—Б—П. –Ш –њ–Њ—З–µ–Љ—Г? –Ф–∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –Њ–љ–∞ –Љ–љ–µ –Њ—З–µ–љ—М –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В –†–Њ–Ј—Г.
27 –∞–њ—А–µ–ї—П 1953 –≥–Њ–і–∞
–І–µ—А–µ–Ј —З–µ—В—Л—А–µ –і–љ—П вАУ –Я–µ—А–≤–Њ–µ –Ь–∞—П! –Ф–Њ–ї–≥–Њ –і—Г–Љ–∞–ї, —З—В–Њ –ґ–µ –њ–Њ–і–∞—А–Є—В—М –Љ–∞–Љ–µ, –Є, –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, –њ—А–Є–і—Г–Љ–∞–ї. –ѓ —А–µ—И–Є–ї –њ–Њ–і–∞—А–Є—В—М –µ–є —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ –Њ—Д–Њ—А–Љ–ї–µ–љ–љ—Л–є –∞–ї—М–±–Њ–Љ —Б –µ—С —Б–њ–Њ—А—В–Є–≤–љ—Л–Љ–Є —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П–Љ–Є. –Ь–∞–Љ–∞ –≤–µ–і—М –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ —Б–Њ–±–µ—А—С—В—Б—П —Б–і–µ–ї–∞—В—М —Б–µ–±–µ —В–∞–Ї–Њ–є –∞–ї—М–±–Њ–Љ. –Ф—Г–Љ–∞—О, –Њ–љ–∞ –±—Г–і–µ—В –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–∞. –Я–Њ–і–∞—А–Њ–Ї –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї—Б—П —И–Є–Ї–∞—А–љ—Л–є.
–Я–µ—А–≤–Њ–µ –Ь–∞—П —А–µ—И–Є–ї –≤—Б—В—А–µ—З–∞—В—М –і–Њ–Љ–∞. –Т–µ–і—М —Н—В–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є –Љ–∞–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —П –≤—Б—В—А–µ—З–∞—О –≤ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–µ. –° –±—Г–і—Г—Й–µ–≥–Њ –≥–Њ–і–∞ —П –±—Г–і—Г –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—М—Б—П –≤ —Н—В–Є –і–љ–Є –≥–і–µ-–љ–Є–±—Г–і—М –і–∞–ї–µ–Ї–Њ-–і–∞–ї–µ–Ї–ЊвА¶
4 –Љ–∞—П 1953 –≥–Њ–і–∞
–Ц–і–∞–ї–Є –Љ—Л –Є—Е –і–Њ–ї–≥–Њ, –∞ –њ—А–Њ–Љ–µ–ї—М–Ї–љ—Г–ї–Є –Њ–љ–Є –Ї–∞—В–∞—Б—В—А–Њ—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є –±—Л—Б—В—А–Њ. –ѓ –Њ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–∞—Е. –Э–Њ –њ—А–Њ—И–ї–Є –Њ–љ–Є —Е–Њ—А–Њ—И–Њ. –ѓ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–ї—Б—П –≤—Б—В—А–µ—З–∞—В—М –Я–µ—А–≤–Њ–µ –Ь–∞—П —Б—А–∞–Ј—Г –≤ —В—А—С—Е –Љ–µ—Б—В–∞—Е, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ –µ—Й—С –Є –≤ —З–µ—В–≤—С—А—В–Њ–Љ. –Т—Б–µ—Е –њ—А–µ–і—Г–њ—А–µ–і–Є–ї, —З—В–Њ –њ—А–Є–і—Г –љ–µ —А–∞–љ—М—И–µ –і–≤–µ–љ–∞–і—Ж–∞—В–Є, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –і–Њ —Н—В–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –±—Г–і—Г —Б –Љ–∞–Љ–Њ–є. –Э–Њ –Ї—Г–і–∞ –Є–і—В–Є, –љ–Є–Ї–∞–Ї –љ–µ –Љ–Њ–≥ —А–µ—И–Є—В—М. –Ь–∞–Љ—Г–ї–µ, –Ї–∞–Ї –Є–Љ–µ–љ–Є–љ–љ–Є—Ж–µ, –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М —В–∞—Й–Є—В—М –ґ—А–µ–±–Є–є. –Ь–∞–Љ–∞ –і–≤–∞–ґ–і—Л ¬Ђ–≤—Л—В–∞—Й–Є–ї–∞¬ї –Ц–µ–љ—О. –Т 24 —З–∞—Б–∞ —П –њ–Њ–µ—Е–∞–ї –Ї –У–µ—В—В–µвА¶
4 –Є—О–љ—П 1953 –≥–Њ–і–∞
–Ш—В–∞–Ї, —А–Њ–≤–љ–Њ —З–µ—А–µ–Ј –і–µ—Б—П—В—М –і–љ–µ–є –љ–∞—З–Є–љ–∞—О—В—Б—П —Н–Ї–Ј–∞–Љ–µ–љ—Л. –Я–Њ—З—В–Є –і–≤–∞ –Љ–µ—Б—П—Ж–∞ –љ–∞–Љ –њ—А–Є–і—С—В—Б—П –Ї–Њ—А–њ–µ—В—М –љ–∞–і —Г—З–µ–±–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є, —Б–і–∞–≤–∞—П 13 —Н–Ї–Ј–∞–Љ–µ–љ–Њ–≤. –Э–Њ –≤—Б—С —А–∞–≤–љ–Њ –Љ—Л —Б–і–∞–і–Є–Љ –≤—Б–µвА¶
11 –Є—О–љ—П 1953 –≥–Њ–і–∞
–°–µ–≥–Њ–і–љ—П —З—Г–і–љ—Л–є –і–µ–љ—М. –Э–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є–Ј-–Ј–∞ –њ–Њ–≥–Њ–і—Л, –љ–Њ –Є –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –Љ–Њ–є –Ф–µ–љ—М —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П. –≠—Е –Є –њ–Њ–≥—Г–ї—П–µ–Љ!!!
3 –Є—О–ї—П 1953 –≥–Њ–і–∞
–Т—Б—С! –У–Њ–і–Њ–≤—Л–µ —Б–і–∞–ї! –£—А–∞! –І–µ—А–µ–Ј –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–Є–љ—Г—В –Є–і—С–Љ –≤ –Њ—В–њ—Г—Б–Ї –љ–∞ —Ж–µ–ї—Л—Е –і–µ—Б—П—В—М —Б—Г—В–Њ–Ї. –Э—Г –і–µ—А–ґ–Є—Б—М, –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і!
5 –Є—О–ї—П 1953 –≥–Њ–і–∞
–Ю–њ—П—В—М –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ—Л–є –∞–љ–µ–Ї–і–Њ—В. –Ш–Љ–µ—О –≤ –≤–Є–і—Г –љ–∞—И –Њ—В–њ—Г—Б–Ї. –Ґ—А–µ—В—М–µ–≥–Њ –Є—О–ї—П –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є –≥–Њ–і–Њ–≤–Њ–є —Н–Ї–Ј–∞–Љ–µ–љ —Б–і–∞–≤–∞–ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞—И –Ї–ї–∞—Б—Б. –Т—Б–µ –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–µ —Б–і–∞–≤–∞–ї–Є 4-–≥–Њ –Є 5-–≥–Њ. –°–і–∞–ї–Є –Љ—Л –±—Л—Б—В—А–Њ. –≠—В–Њ –љ–∞—Б —Б–њ–∞—Б–ї–Њ. –£–ґ–µ –≤ 17 —З–∞—Б–Њ–≤ –Љ—Л —Б—В–Њ—П–ї–Є –≤ —Б—В—А–Њ—О —Б –Њ—В–њ—Г—Б–Ї–љ—Л–Љ–Є –±–Є–ї–µ—В–∞–Љ–Є.
–Я—А–Њ—Б–ї—Г—И–∞–≤ –Ї—А–∞—В–Ї–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Г—О –ї–µ–Ї—Ж–Є—О –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ —А–Њ—В—Л –Њ –≤—А–µ–і–µ –∞–ї–Ї–Њ–≥–Њ–ї—М–љ—Л—Е –љ–∞–њ–Є—В–Ї–Њ–≤ –Є —А—П–і –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б–Њ–≤–µ—В–Њ–≤ –Њ—В –µ–≥–Њ –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї–∞, –Ї–∞–Ї –Њ–±—Е–Њ–і–Є—В—М —Б—В–Њ—А–Њ–љ–Њ–є –±—Г—Д–µ—В—Л, –Љ—Л –≤—Л—Б–Ї–Њ—З–Є–ї–Є –Є–Ј —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞. –І–µ—А–µ–Ј –њ–Њ–ї—З–∞—Б–∞ –њ—А–Є—И–ї–Њ —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є–µ –Т–Ь–£–Ч–Њ–≤: –≤ –Њ—В–њ—Г—Б–Ї –љ–Є–Ї–Њ–≥–Њ –љ–µ –њ—Г—Б–Ї–∞—В—М, –∞ –Њ—В–њ—Г—Й–µ–љ–љ—Л—Е –≤–µ—А–љ—Г—В—М! –Э–∞—З–∞–ї—М—Б—В–≤–Њ —Б—Е–≤–∞—В–Є–ї–Њ—Б—М –Ј–∞ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г, –љ–Њ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –њ–Њ–і–µ–ї–∞–µ—И—М. –Т–µ—А–љ—Г—В—М –љ–∞—Б –±—Л–ї–Њ —Г–ґ–µ –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ!
5 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 1953 –≥–Њ–і–∞
–°–і–∞–ї –њ—П—В—М –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е. –І–µ—В—Л—А–µ –њ—П—В—С—А–Ї–Є –Є –Њ–і–љ–∞ —З–µ—В–≤—С—А–Ї–∞.
9 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 1953 –≥–Њ–і–∞
–°–Њ–≤—Б–µ–Љ —Г–ґ–µ —Б–Ї–Њ—А–Њ –Ї–Њ–љ–µ—Ж —Н–Ї–Ј–∞–Љ–µ–љ–Њ–≤. –Ш–Ј –і–≤–µ–љ–∞–і—Ж–∞—В–Є –Њ—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–≤–∞.
11 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 1953 –≥–Њ–і–∞
–£–ґ–µ 11 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞. –І–µ—А–µ–Ј —В—А–Є –і–љ—П —Б–і–∞—С–Љ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є —Н–Ї–Ј–∞–Љ–µ–љ.
–Ъ–∞–Ї –±—Л—Б—В—А–Њ –ї–µ—В–Є—В –≤—А–µ–Љ—П! –Ъ–∞–ґ–µ—В—Б—П, —З—В–Њ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –µ—Й—С –љ–µ–і–∞–≤–љ–Њ —П –±—Л–ї –Њ–і–µ—В –≤ —Е–Њ–ї—Й—С–≤—Г—О —А–Њ–±—Г –Є –љ–∞ –≥–Њ–ї–Њ–≤–µ –Љ–Њ–µ–є –Ї—А–∞—Б–Њ–≤–∞–ї–∞—Б—М –≥—А–Њ–Љ–∞–і–љ–∞—П –±–µ—Б–Ї–Њ–Ј—Л—А–Ї–∞ –±–µ–Ј –ї–µ–љ—В–Њ—З–µ–Ї, —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ–∞—П ¬Ђ–∞–ї–±–∞–љ–Ї–∞¬ї. –Э–Њ –і–∞–ґ–µ —Н—В—Г —Д–Њ—А–Љ—Г —П –љ–Њ—Б–Є–ї —Б —Г–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Є–µ–Љ, –≥–Њ—А–і—П—Б—М —В–µ–Љ, —З—В–Њ —Б—В–∞–ї –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–Љ.
–Р –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–Є–µ –њ–µ—А–≤–Њ–є –Ї—Г—А—Б–∞–љ—В—Б–Ї–Њ–є —Д–Њ—А–Љ—Л? –≠—В–Њ –±—Л–ї –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –і–љ–µ–є. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –Љ–љ–µ –≤—А—Г—З–Є–ї–Є –ї–µ–љ—В–Њ—З–Ї—Г –Є –Ї—Г—А—Б–∞–љ—В—Б–Ї–Є–µ –њ–Њ–≥–Њ–љ—Л, —Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М –њ–µ—В—М, –њ–ї—П—Б–∞—В—М –Є –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –≤—Л–Ї–Є–і—Л–≤–∞—В—М –≤—Б–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л–µ –≥–ї—Г–њ–Њ—Б—В–Є. –Р –њ–Њ—В–Њ–Љ —Г—З—С–±–∞, —З–µ—В—Л—А–µ –і–Њ–ї–≥–Є—Е —Г—З–µ–±–љ—Л—Е –≥–Њ–і–∞! –Э–Њ –Ї–∞–Ї –±—Л—Б—В—А–Њ –Њ–љ–Є –њ—А–Њ–ї–µ—В–µ–ї–Є!
–Ш –≤–Њ—В —Д–Є–љ–Є—И! –І–µ—А–µ–Ј –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–љ–µ–є —П –Ї–Њ–љ—З–∞—О —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ –Є –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–∞—О—Б—М –љ–∞ —Д–ї–Њ—В. –Э–∞ —Д–ї–Њ—В! –Ъ–∞–Ї –Љ–љ–Њ–≥–Њ –і–ї—П –Љ–µ–љ—П —Б–Љ—Л—Б–ї–∞ –≤ —Н—В–Є—Е –і–≤—Г—Е —Б–ї–Њ–≤–∞—Е. –Ъ–∞–Ї —П —Б—З–∞—Б—В–ї–Є–≤, —З—В–Њ —П –Љ–Њ—А—П–Ї, —З—В–Њ —П —И—В—Г—А–Љ–∞–љ, —З—В–Њ —П –±—Г–і—Г –≤–Њ–і–Є—В—М –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є, —З—Г–і–µ—Б–љ—Л–µ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–µ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є —Б –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ–є —В–µ—Е–љ–Є–Ї–Њ–є.
–Т—Б—С-—В–∞–Ї–Є –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—Г–≥–∞—О—В –њ–µ—А–≤—Л–µ –і–љ–Є —Б–ї—Г–ґ–±—Л. –Т–µ–і—М –≤—Б—С –Ј–∞–≤–Є—Б–Є—В –Њ—В –њ–µ—А–≤—Л—Е –і–љ–µ–є, —Б–Љ–Њ—В—А—П –њ–Њ —В–Њ–Љ—Г, –Ї–∞–Ї –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є—И—М —Б–µ–±—П. –Э–Њ —П —В–≤—С—А–і–Њ –Ј–љ–∞—О, —З—В–Њ –њ–ї–Њ—Е–Є–Љ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–Љ —П –љ–µ –±—Г–і—Г. –С—Г–і—Г –ї–Є —П —Е–Њ—А–Њ—И–Є–Љ –Є–ї–Є –Њ—В–ї–Є—З–љ—Л–Љ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–Љ, –±–Њ—О—Б—М —Б—Г–і–Є—В—М, –љ–Њ –њ–ї–Њ—Е–Є–Љ –љ–µ –±—Г–і—Г!
12 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 1953 –≥–Њ–і–∞
–Я–Њ–Ј–∞–≤—З–µ—А–∞ –±—Л–ї —Б –Ы—О–і–Њ–є. –•–Њ–і–Є–ї–Є –≤ –Ы–µ—В–љ–Є–є —В–µ–∞—В—А –°–∞–і–∞ –Ю—В–і—Л—Е–∞ –љ–∞ –®—Г—А–Њ–≤–∞ –Є –†—Л–Ї—Г–љ–Є–љ–∞. –Ъ–Њ–љ—Ж–µ—А—В –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є. –У–ї–∞–≤–љ–Њ–µ —В–Њ, —З—В–Њ —Г –љ–Є—Е –Љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Є –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —З—Г–≤—Б—В–≤—Г–µ—В—Б—П —О–Љ–Њ—А.

–Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –®—Г—А–Њ–≤ –Є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –†—Л–Ї—Г–љ–Є–љ
–Я–Њ—Б–ї–µ –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В–∞, –њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–∞—П –Ы—О–і—Г –і–Њ–Љ–Њ–є, –њ–Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є–ї—Б—П —Б –µ—С —А–Њ–і–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є. –†–Њ–і–Є—В–µ–ї–Є –Љ–љ–µ –њ–Њ–љ—А–∞–≤–Є–ї–Є—Б—М.
–Ы—О–і–∞ —Б –Ї–∞–ґ–і—Л–Љ –і–љ—С–Љ –љ—А–∞–≤–Є—В—Б—П –Љ–љ–µ –≤—Б—С –±–Њ–ї—М—И–µ –Є –±–Њ–ї—М—И–µ. –Ю–љ–∞ —З—Г–і–µ—Б–љ–∞—П –і–µ–≤—Г—И–Ї–∞.
–°–µ–≥–Њ–і–љ—П –Њ–њ—П—В—М –±—Л–ї —Б –Ы—О–і–Њ–є. –Ю–љ–∞ –Њ—З–µ–љ—М —А–∞—Б—Б—В—А–Њ–µ–љ–∞ —В–µ–Љ, —З—В–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–∞ —З–µ—В–≤—С—А–Ї—Г. –Я–Њ –њ—А–∞–≤–і–µ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —П —В–Њ–ґ–µ —А–∞—Б—Б—В—А–Њ–Є–ї—Б—П –Є–Ј-–Ј–∞ —Н—В–Њ–≥–Њ. –≠—В–∞ –і–µ–≤—Г—И–Ї–∞ –і–ї—П –Љ–µ–љ—П –Њ—З–µ–љ—М –і–Њ—А–Њ–≥–∞. –Ъ–∞–Ї —П –ґ–∞–ї–µ—О, —З—В–Њ –Њ–љ–∞ –µ—Й—С —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ—Б—В—Г–њ–∞–µ—В –≤ —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В, –∞ –љ–µ –Ї–Њ–љ—З–∞–µ—В –µ–≥–Њ. –Ъ–∞–Ї –±—Л–ї –±—Л —Б—З–∞—Б—В–ї–Є–≤, –µ—Б–ї–Є –±—Л –Њ–љ–∞ —Б—В–∞–ї–∞ –Љ–Њ–µ–є –ґ–µ–љ–Њ–є.
–Э–µ—Г–ґ–µ–ї–Є —П –≤ –љ–µ—С –≤–ї—О–±–Є–ї—Б—П? –Ъ–Њ–≥–і–∞ —Б –љ–µ–є –њ–Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є–ї—Б—П, –≤—Б—С –≤—А–µ–Љ—П —В–≤–µ—А–і–Є–ї —Б–µ–±–µ: ¬Ђ–Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ –≤–ї—О–±–ї—П—В—М—Б—П, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ –≤–ї—О–±–ї—П—В—М—Б—П¬ї. –Р —З—В–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Њ—Б—М? –Ґ–Њ, —З—В–Њ —П –љ–µ –≤–ї—О–±–Є–ї—Б—П, –∞ –њ–Њ–ї—О–±–Є–ї —Н—В—Г –і–µ–≤—Г—И–Ї—Г, –і–∞ –µ—Й—С –Ї–∞–Ї –њ–Њ–ї—О–±–Є–ї!
13 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 1953 –≥–Њ–і–∞
–Я—А–µ–і–Њ –Љ–љ–Њ–є —Ж–µ–ї–∞—П –Ї–Є–њ–∞ —Г—З–µ–±–љ–Є–Ї–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —П –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –Њ—Б–Є–ї–Є—В—М, —З—В–Њ–±—Л —Б–і–∞—В—М –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є —Н–Ї–Ј–∞–Љ–µ–љ. –Ю–љ–Є —Б–Љ–µ—О—В—Б—П –љ–∞–і–Њ –Љ–љ–Њ–є, —З—Г–≤—Б—В–≤—Г—П –Љ–Њ—С –±–µ—Б—Б–Є–ї–Є–µ –Є –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—П, —З—В–Њ –Љ–љ–µ —Б –љ–Є–Љ–Є –љ–µ —Б–њ—А–∞–≤–Є—В—М—Б—П. –Э–Њ —П –≤—Б—С-—В–∞–Ї–Є —Б–Є–ї—М–љ–µ–µ –Є—Е. –°–≥–Њ–љ—П—О –Є—Е –≤ –Ї—Г—З—Г –Є –њ—А—П—З—Г –≤ —Б—В–Њ–ї. –Я—Г—Б–Ї–∞–є —В–µ–њ–µ—А—М —Б–Љ–µ—О—В—Б—П –≤ —В–µ–Љ–љ–Њ—В–µвА¶
–Ш—В–∞–Ї, –і–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–∞ —Н–Ї–Ј–∞–Љ–µ–љ–Њ–≤ –Њ—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М –і–≤–∞ –і–љ—П: —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –Є –Ј–∞–≤—В—А–∞. –Т –Ї–ї–∞—Б—Б–µ –≤—Б–µ —Г—Б–Є–ї–µ–љ–љ–Њ ¬Ђ–Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—О—В—Б—П¬ї. –°–ї–µ–≤–∞ –Њ—В –Љ–µ–љ—П –≤ —Б–Њ—Б–µ–і–љ–µ–Љ —А—П–і—Г —З–µ—В–≤–µ—А–Њ –і—А—Г–Ј–µ–є –Є–≥—А–∞—О—В –≤ ¬Ђ—Д—Г—В–±–Њ–ї¬ї, –≥–Њ–љ—П—П –Њ—Б—В—А–Њ –Њ—В—В–Њ—З–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –Ї–∞—А–∞–љ–і–∞—И–∞–Љ–Є –Ї–љ–Њ–њ–Ї—Г –њ–Њ —Б—В–Њ–ї—Г. –°–њ—А–∞–≤–∞ —А–∞–Ј–і–∞—С—В—Б—П –≥—А–Њ–Љ–Ї–Є–є —Е–Њ—Е–Њ—В: –Ї—В–Њ-—В–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —З—В–Њ –≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П –Є–Ј ¬Ђ–њ–Є–Ї–µ¬ї (—Б–∞–Љ–Њ–≤–Њ–ї–Ї–Є) –Є –њ—А–Є–љ—С—Б —Б–≤–µ–ґ–µ–љ—М–Ї–Є–є –∞–љ–µ–Ї–і–Њ—В. –°–Ј–∞–і–Є –≤–µ–і—Г—В –Њ–ґ–Є–≤–ї—С–љ–љ—Л–є —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А, –Ї–∞–Ї –±—Г–і—Г—В –Њ—В–Љ–µ—З–∞—В—М —Б–і–∞—З—Г —Н–Ї–Ј–∞–Љ–µ–љ–Њ–≤, –∞ –≤–њ–µ—А–µ–і–Є вАУ —Б–њ—П—В.
–Т –±–Є–ї—М—П—А–і–љ—Г—О –љ–µ –њ—А–Њ—В–Њ–ї–Ї–љ—Г—В—М—Б—П вАУ –≥—А–Њ–Љ–∞–і–љ–∞—П –Њ—З–µ—А–µ–і—М, –Ї–∞–Ї –љ–∞ —А—Л–љ–Ї–µ. –Т –Њ—В–Ї—А—Л—В—Л–µ –Њ–Ї–љ–∞ –і–Њ–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П —И—Г–Љ вАУ —Н—В–Њ –љ–∞ –≤–Њ–ї–µ–є–±–Њ–ї—М–љ–Њ–є –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Ї–µ –±—Г–і—Г—Й–Є–µ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Л –њ—А–Є –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є –Ї—Г–ї–∞–Ї–Њ–≤ –≤—Л—П—Б–љ—П—О—В, –Ї—Г–і–∞ —Г–њ–∞–ї –Љ—П—З, вАУ –љ–∞ —З–µ—А—В—Г –Є–ї–Є –љ–µ—В.
–С–µ–і–љ—Л–є —Б—В–∞—А—И–Є–љ–∞ –Ї–ї–∞—Б—Б–∞ —Б–Є–і–Є—В, –Ј–∞–ґ–∞–≤ —Г—И–Є, —З—В–Њ–±—Л –љ–µ —Б–ї—Л—И–∞—В—М –Њ–Ј–∞–±–Њ—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –±–Њ—А–Љ–Њ—В–∞–љ–Є—П –њ—А–µ—Д–µ—А–∞–љ—Б–Є—Б—В–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Б–Є–і—П—В —Г –љ–µ–≥–Њ –њ–µ—А–µ–і –љ–Њ—Б–Њ–Љ –Є —Б –і–µ–ї–Њ–≤—Л–Љ –≤–Є–і–Њ–Љ —З—В–Њ-—В–Њ –њ–Є—И—Г—В –љ–∞ –±—Г–Љ–∞–≥–µ.
–Ф–≤–Њ–µ –љ–∞ –Ј–∞–і–љ–µ–є –њ–∞—А—В–µ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—О—В—Б—П –і–ї—П –≤—Б–µ—Е –њ–Њ–ї–µ–Ј–љ—Л–Љ –і–µ–ї–Њ–Љ вАУ —Г–ґ–µ –±–Њ–ї–µ–µ –і–≤—Г—Е —З–∞—Б–Њ–≤ –≥–∞–і–∞—О—В: –њ–Њ –њ–Њ—А—П–і–Ї—Г –Є–ї–Є –љ–µ—В –±—Г–і—Г—В —А–∞–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ—Л –±–Є–ї–µ—В—Л –љ–∞ —Н–Ї–Ј–∞–Љ–µ–љ–µ.
–Ю–і–љ–Є–Љ —Б–ї–Њ–≤–Њ–Љ, –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–∞ –і–≤–Є–ґ–µ—В—Б—П –њ–Њ–ї–љ—Л–Љ —Е–Њ–і–Њ–Љ.
–Р –≤–µ–і—М –≤—Б—П —Н—В–∞ ¬Ђ–Ї–∞–њ–µ–ї–ї–∞¬ї —Б–і–∞—Б—В —Н–Ї–Ј–∞–Љ–µ–љ –љ–∞ —З–µ—В—Л—А–µ –Є–ї–Є –њ—П—В—М! –Ч–∞ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –ї–µ—В –њ—А–µ–±—Л–≤–∞–љ–Є—П –≤ —Б–Є—Б—В–µ–Љ–µ –Т–Ь–£–Ч–Њ–≤ —Г –≤—Б–µ—Е –љ–∞–Ї–Њ–њ–Є–ї–Њ—Б—М —Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞–≥–ї–Њ—Б—В–Є, —З—В–Њ, –њ–Њ–ґ–∞–ї—Г–є, –Ї–∞–ґ–і—Л–є —Б–µ–є—З–∞—Б —Б–і–∞—Б—В —Н–Ї–Ј–∞–Љ–µ–љ—Л –≤ –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Є –±–µ–Ј –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–Є.
15 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 1953 –≥–Њ–і–∞
–Т—Б—С! –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є —Н–Ї–Ј–∞–Љ–µ–љ —Б–і–∞–љ, –Ї–∞–Ї –Є –Њ–±–µ—Й–∞–ї, –љ–∞ –њ—П—В—М –±–∞–ї–ї–Њ–≤! –£—А—А—А–∞!!!
–Т —Н—В–Њ—В –і–µ–љ—М –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ–Њ–љ—П–ї, —З—В–Њ –њ–∞—А—В–Є—П –≤—Б–µ—Б–Є–ї—М–љ–∞ –Є –Љ–Њ–ґ–µ—В –Ї–Њ–≥–Њ —Г–≥–Њ–і–љ–Њ –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є—В—М –Ї—Г–і–∞ —Г–≥–Њ–і–љ–Њ.
–£—З–Є–ї—Б—П —П –љ–µ–њ–ї–Њ—Е–Њ, –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–ї —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –Є, –≤–Є–і–Є–Љ–Њ, –њ–Њ —Н—В–Њ–є –њ—А–Є—З–Є–љ–µ –±—Л–ї –Ј–∞—З–Є—Б–ї–µ–љ –≤ –≥—А—Г–њ–њ—Г –і–Њ—Б—А–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–∞ —Б –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ–Љ –≤ –†–Є–≥—Г. –Ъ–Њ–≥–і–∞ —Г–ґ–µ –±—Л–ї–∞ —Б–љ—П—В–∞ –Љ–µ—А–Ї–∞ –і–ї—П –њ–Њ—И–Є–≤–∞ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Б–Ї–Њ–є —Д–Њ—А–Љ—Л –Є –≤—Л–њ–Є—Б—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М –∞—В—В–µ—Б—В–∞—В—Л, –Љ–µ–љ—П –≤—Л–Ј–≤–∞–ї –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї –Ї—Г—А—Б–∞ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ 2 —А–∞–љ–≥–∞ –©—С–≥–Њ–ї–µ–≤ –Ш–≤–∞–љ –°–µ—А–≥–µ–µ–≤–Є—З –Є —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї:
вАУ –Ы–µ–љ–Є–љ—Ж–µ–≤, —В—Л —Г –љ–∞—Б –±–µ—Б–њ–∞—А—В–Є–є–љ—Л–є, –∞ –Ч—Г–±–∞—А–µ–≤, —Б–∞–Љ –Ј–љ–∞–µ—И—М, —Б–µ–Ї—А–µ—В–∞—А—М –њ–∞—А—В–Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Ї—Г—А—Б–∞. –Ґ–∞–Ї –≤–Њ—В, –Њ–љ –њ—А–Є—И—С–ї –Ї –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї—Г –њ–Њ–ї–Є—В–Њ—В–і–µ–ї–∞ –Є –Ј–∞—П–≤–Є–ї: ¬Ђ–Ъ–∞–Ї –ґ–µ —В–∞–Ї? –ѓ —Б–µ–Ї—А–µ—В–∞—А—М –њ–∞—А—В–Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є, —Б–∞–Љ –Є–Ј –†–Є–≥–Є, –∞ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ —В—Г–і–∞ –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ –±–µ—Б–њ–∞—А—В–Є–є–љ—Л–є –Ы–µ–љ–Є–љ—Ж–µ–≤. –Т –†–Є–≥—Г —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є—В—М –Љ–µ–љ—П¬ї. –Э—Г, –љ–∞—З–њ–Њ –Є –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї —В–µ–±—П –Ј–∞–Љ–µ–љ–Є—В—М. –Т –і–∞–љ–љ–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ, —Б–∞–Љ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ—И—М, —П —Б–і–µ–ї–∞—В—М –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –Љ–Њ–≥—ГвА¶¬ї.
–Ь–µ–љ—П –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є–ї–Є –Є–Ј ¬Ђ–і–Њ—Б—А–Њ—З–љ–Є–Ї–Њ–≤¬ї. –Т–Љ–µ—Б—В–Њ –Љ–µ–љ—П –≤ –†–Є–≥—Г –њ–Њ–µ–і–µ—В –Ч—Г–±–∞—А–µ–≤. –Р —П –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї—П—О—Б—М –љ–∞ —Б—В–∞–ґ–Є—А–Њ–≤–Ї—Г –≤ –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—М.
–Э–∞–Љ –њ—А–Є—Б–≤–Њ–Є–ї–Є –Ј–≤–∞–љ–Є—П –Љ–Є—З–Љ–∞–љ–Њ–≤! –°–µ–є—З–∞—Б —Г—Е–Њ–і–Є–Љ –љ–∞ —Ж–µ–ї—Л—Е —В—А–Є –і–љ—П –і–Њ —Г—В—А–∞ –≤–Њ—Б–µ–Љ–љ–∞–і—Ж–∞—В–Њ–≥–Њ. –Ш –µ–і–µ–Љ –љ–∞ —Б—В–∞–ґ–Є—А–Њ–≤–Ї—Г! –Я–Њ–µ–Ј–і –≤ 4.15 —Г—В—А–∞. –Ъ–∞–Ї —Г–ґ–µ ¬Ђ–±–Њ–ї—М—И–Є–Љ¬ї, —А–∞–Ј—А–µ—И–Є–ї–Є –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В—М –њ—А—П–Љ–Њ –љ–∞ –≤–Њ–Ї–Ј–∞–ї –Ї –Њ—В—Е–Њ–і—Г –њ–Њ–µ–Ј–і–∞ –±–µ–Ј –Ј–∞—Е–Њ–і–∞ –≤ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ. –І—Г–≤—Б—В–≤—Г–µ—В—Б—П, —З—В–Њ –ї—О–і–Є —Б–і–∞–ї–Є –≥–Њ—Б—Н–Ї–Ј–∞–Љ–µ–љ—Л!
16 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 1953 –≥–Њ–і–∞
–Я–Њ—В–Њ–Љ–Ї–Є, –Ј–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є—В–µ —Н—В–Њ—В –і–µ–љ—М! –Т —Н—В–Њ—В –і–µ–љ—М –Т–Є—В–∞–ї–Є–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З –Ы–µ–љ–Є–љ—Ж–µ–≤ —Б—В–∞–ї –љ–µ–њ—М—О—Й–Є–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–Љ! –°–Њ—А–Њ–Ї –Љ–Є–љ—Г—В —П —А–µ—И–∞–ї, —Б—В–Њ–Є—В –Є–ї–Є –љ–µ —Б—В–Њ–Є—В –±—А–Њ—Б–∞—В—М, —Б—Г–Љ–µ—О –ї–Є —П –≤—Л–і–µ—А–ґ–∞—В—М —В–µ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї —Б–µ–±–µ, –Є–ї–Є –љ–µ—В. –Ш –≤—Б—С-—В–∞–Ї–Є —А–µ—И–Є–ї—Б—П!
–†–µ—И–Є–ї —В–∞–Ї–ґ–µ, —З—В–Њ –њ–µ—А–µ–і –Њ—В—Е–Њ–і–Њ–Љ –њ–Њ–µ–Ј–і–∞ –≤—Л–Ї—Г—А—О –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ—О—О –њ–∞–њ–Є—А–Њ—Б—Г –Є –≤—Б—С. –С–Њ–ї—М—И–µ –Ї—Г—А–Є—В—М –љ–µ –±—Г–і—Г!
18 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 1953 –≥–Њ–і–∞
7 —З–∞—Б–Њ–≤ 15 –Љ–Є–љ—Г—В. –Я–Њ–µ–Ј–і —В—А–Њ–љ—Г–ї—Б—П. –Т–Њ—В —Г–ґ–µ –њ–µ—А—А–Њ–љ, –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і –Є –Ы—О–і–∞ –Њ—Б—В–∞–ї–Є—Б—М –њ–Њ–Ј–∞–і–Є. –¶–µ–ї—Л—Е –і–≤–∞ –Љ–µ—Б—П—Ж–∞ –љ–µ –±—Г–і—Г –Є—Е –≤–Є–і–µ—В—М.
7 —З–∞—Б–Њ–≤ 30 –Љ–Є–љ—Г—В. –Э–∞—З–∞–ї–Њ—Б—М! –Т–µ–і—М —П –±—А–Њ—Б–Є–ї –њ–Є—В—М, –Є —Б–µ–є—З–∞—Б –≤—Б—П –Њ—А–∞–≤–∞ —Г–≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞–µ—В –Љ–µ–љ—П ¬Ђ–љ–µ –і–µ–ї–∞—В—М –≥–ї—Г–њ–Њ—Б—В–µ–є¬ї –Є –њ—А–Њ–њ—Г—Б—В–Є—В—М —Б—В–∞–Ї–∞–љ—З–Є–Ї. –Э–µ —Б–і–∞—О—Б—М!
12 —З–∞—Б–Њ–≤ 00 –Љ–Є–љ—Г—В. –Я—М—П–љ—Л —Г–ґ–µ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–∞—Б—Б–∞–ґ–Є—А—Л –≤–∞–≥–Њ–љ–∞ вДЦ 3, –љ–Њ –Є —Б–∞–Љ –≤–∞–≥–Њ–љ –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –њ–∞—А–Њ–≤–Њ–Ј–Њ–Љ. –С–Њ—О—Б—М, –Ї–∞–Ї –±—Л –њ–∞—А–Њ–≤–Њ–Ј –љ–µ –Ј–∞—И–∞–ї–Є–ївА¶
12 —З–∞—Б–Њ–≤ 32 –Љ–Є–љ—Г—В—Л. –•–Њ—В–µ–ї –њ–µ—А–µ–Ї—Г—Б–Є—В—М, –љ–Њ –Њ—В–Њ–±—А–∞–ї–Є —З–µ–Љ–Њ–і–∞–љ —Б –µ–і–Њ–є. –Ю—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ: —А–∞–Ј —П –љ–µ –њ—М—О, —В–Њ –љ–µ—З–µ–≥–Њ –Є –і–Њ–±—А–Њ –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і–Є—В—М, —В–Њ –µ—Б—В—М –Ј–∞–Ї—Г—Б–Ї—ГвА¶
13 —З–∞—Б–Њ–≤ 04 –Љ–Є–љ—Г—В—Л. –•–Њ—З–µ—В—Б—П –µ—Б—В—М. –Я—А–Њ—И—Г –±—Г—В–µ—А–±—А–Њ–і. –Я—А–µ–і–ї–∞–≥–∞—О—В —Ж–µ–ї—Л–є –Њ–±–µ–і –≤ –Ъ–∞–ї–Є–љ–Є–љ–µ, –љ–Њ —Б–Њ —Б—В–∞–Ї–∞–љ–Њ–Љ –≤–Њ–і–Ї–Є! –Ы–Њ–ґ—Г—Б—М –≤ —Г–≥–Њ–ї, —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–ї—О —Н–љ–µ—А–≥–Є—О. –Ф–Њ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л –љ—Г–ґ–љ–Њ –њ—А–Њ–і–µ—А–ґ–∞—В—М—Б—ПвА¶
18 —З–∞—Б–Њ–≤ 27 –Љ–Є–љ—Г—В. –Я—А–Є–µ—Е–∞–ї–Є –≤ –Ъ–∞–ї–Є–љ–Є–љ. –Ю–±–µ–і–∞—В—М –љ–∞ –≤–Њ–Ї–Ј–∞–ї –љ–µ –њ–Њ—И—С–ї. –Х—Б—В—М —Е–Њ—З–µ—В—Б—П –µ—Й—С –±–Њ–ї—М—И–µвА¶
22 —З–∞—Б–∞ 00 –Љ–Є–љ—Г—В. –°–Ї–Њ—А–Њ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–∞. –£–Љ–Є—А–∞—ОвА¶
22 —З–∞—Б–∞ 31 –Љ–Є–љ—Г—В–∞. –Х—Й—С –љ–µ —Г–Љ–µ—А, –љ–Њ —Г–ґ–µ –Ї–∞—З–∞—О—Б—МвА¶ –Я–Њ–µ–Ј–і –љ–∞ –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—М –Ј–∞–≤—В—А–∞ —Г—В—А–Њ–Љ. –Ь–Њ–Є –Т–Є—В—М–Ї–Є –њ—М—О—В –њ–Њ —Б—В–Њ –≥—А–∞–Љ–Љ –Є, –њ–Њ–ґ–∞–ї–µ–≤ –Љ–µ–љ—П, –і–∞—О—В –њ–Њ–ї–±—Г—В–µ—А–±—А–Њ–і–∞.
19 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 1953 –≥–Њ–і–∞
–Ь–Њ—Б–Ї–≤–∞ –њ–Њ–Ј–∞–і–Є. –Я–Њ–µ–Ј–і –љ–µ—Б—С—В –љ–∞—Б –≤ –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—М.

21 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 1953 –≥–Њ–і–∞
–°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—М! –У–Њ—А–Њ–і —З–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є —Б–ї–∞–≤—Л! –°–µ–є—З–∞—Б —В—Л –≤–љ–Њ–≤—М —Б–Є—П–µ—И—М –±–µ–ї–Є–Ј–љ–Њ–є —Б–≤–Њ–Є—Е —Г–ї–Є—Ж. –С–∞–ї–∞–Ї–ї–∞–≤–∞, вАУ –Љ—Л –њ—А–Є–µ—Е–∞–ї–Є! –Т–Њ—В –Њ–љ–Є, –Ї—А–∞—Б–∞–≤–Є—Ж—Л вАУ –ї–Њ–і–Ї–Є —Б—В–Њ—П—В —Г –њ–Є—А—Б–∞! –І–µ—А–µ–Ј –і–≤–∞ —З–∞—Б–∞ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ.
–Ю–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П, –Љ–Њ—П –ї–Њ–і–Ї–∞ —Б—В–Њ–Є—В –≤ –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї–µ –≤ –і–Њ–Ї–µ. –Ь–љ–µ –љ—Г–ґ–љ–Њ –µ—Е–∞—В—М –≤ –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—М. –Э–Њ –Ј–∞–≤—В—А–∞ —Б—Г–±–±–Њ—В–∞, –∞ –њ–Њ—Б–ї–µ–Ј–∞–≤—В—А–∞ –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ—М–µ. –†–µ—И–µ–љ–Њ: –њ–Њ–µ–і–µ–Љ –≤–Њ –≤—В–Њ—А–љ–Є–Ї!
23 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 1953 –≥–Њ–і–∞
–Т –њ–µ—А–≤—Л–є –ґ–µ –≤–µ—З–µ—А –њ–Њ—Б–ї–µ –њ—А–Є–µ–Ј–і–∞ —З—Г—В—М –љ–µ —Г—Б—В—А–Њ–Є–ї –і—А–∞–Ї—Г –Є–Ј-–Ј–∞ –њ–Њ—З—В–Є –љ–µ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Њ–є –Љ–љ–µ –і–µ–≤—Г—И–Ї–Є. –Т—Б—П –±–∞–ї–∞–Ї–ї–∞–≤—Б–Ї–∞—П —И–њ–∞–љ–∞ —Б—В–∞–ї–∞ –Љ–Њ–Є–Љ–Є ¬Ђ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—П–Љ–Є¬ї. –°–∞–Љ—Л–µ –ї—Г—З—И–Є–µ –і—А—Г–Ј—М—П –љ–∞—И–µ–є –≥—А—Г–њ–њ—Л —Б—В–∞–ґ—С—А–Њ–≤ вАУ —Н—В–Њ –і–Њ—З–Ї–∞ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є, –і–Њ—З–Ї–∞ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ —И—В–∞–±–∞ –Є –і–Њ—З–Ї–∞ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –±—А–Є–≥–∞–і—Л. –Т–Љ–µ—Б—В–µ –±—Л–ї–Є –љ–∞ —В–∞–љ—Ж–∞—Е –Є —Г–ґ–µ —Е–Њ–і–Є–ї–Є –љ–∞ ¬Ђ–Ч–Њ–ї–Њ—В–Њ–є –њ–ї—П–ґ¬ї –Ј–∞–≥–Њ—А–∞—В—М –Є –Ї—Г–њ–∞—В—М—Б—П.
25 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 1953 –≥–Њ–і–∞
–Т–Њ—В –Њ–љ–∞ вАУ –Љ–Њ—П –Ї—А–∞—Б–∞–≤–Є—Ж–∞, –Љ–Њ—П —З—Г–і–µ—Б–љ–∞—П –ї–Њ–і–Ї–∞! –ѓ —Б—В–∞–ї –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Њ–Љ! –Ь–Є—З–Љ–∞–љ вАУ —Б—В–∞–ґ—С—А, –љ–∞—Е–Њ–ґ—Г—Б—М –љ–∞ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–µ, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О —В–∞–Ї —Б—В—А–µ–Љ–Є–ї—Б—П!
27 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 1953 –≥–Њ–і–∞
–•–Њ—З—Г —Г–Ј–љ–∞—В—М –ї–Њ–і–Ї—Г –і–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–≥–Њ –≤–Є–љ—В–Є–Ї–∞, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –≤—Б—С –≤—А–µ–Љ—П –ї–∞–Ј–∞—О –њ–Њ –љ–µ–є, –Ј–∞–±–Є—А–∞—П—Б—М –і–∞–ґ–µ –≤ –љ–µ–њ—А–Њ–ї–∞–Ј–љ—Л–µ —З–∞—Б—В–Є.
28 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 1953 –≥–Њ–і–∞
–Ь—Л –љ–∞ –ї–Њ–і–Ї–µ –≤—Б–µ–≥–Њ —З–µ—В—Л—А–µ –і–љ—П, –∞ —Г–ґ–µ –±–Њ–ї—М—И–Є–µ –і—А—Г–Ј—М—П –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤. –Э–µ –Љ–Њ–≥—Г –њ–Њ–љ—П—В—М, –њ–Њ—З–µ–Љ—Г —Б –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –Ї—Г—А—Б–∞ –≤—Б–µ –Ј–Њ–≤—Г—В –Љ–µ–љ—П –Т–Є—В–∞–ї–Є–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З. –Т–Њ—В –Є —Б–µ–є—З–∞—Б –њ–Њ–ї—Г—З–∞–µ—В—Б—П –∞–љ–µ–Ї–і–Њ—В–Є—З–љ–Њ: —П –Ј–Њ–≤—Г –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤ –њ–Њ –Є–Љ–µ–љ–Є, –∞ –Њ–љ–Є –Љ–µ–љ—П –њ–Њ –Є–Љ–µ–љ–Є-–Њ—В—З–µ—Б—В–≤—Г.
31 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 1953 –≥–Њ–і–∞
–Я–Њ–љ–µ–і–µ–ї—М–љ–Є–Ї. –Я–Њ—З–µ–Љ—Г-—В–Њ –і–Њ–ї–≥–Њ –љ–µ—В –њ–Є—Б—М–Љ–∞ –Њ—В –Ы—О–і—Л. –Т —Б—Г–±–±–Њ—В—Г –љ–µ –≤—Л–і–µ—А–ґ–∞–ї –Є —Г–µ—Е–∞–ї –≤ –С–∞–ї–∞–Ї–ї–∞–≤—Г, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –њ–Є—Б—М–Љ–∞ –љ–∞ –љ–∞—И –∞–і—А–µ—Б –њ—А–Є—Е–Њ–і—П—В —В—Г–і–∞. –Э–Њ –њ–Є—Б—М–Љ–∞ –љ–µ –±—Л–ї–Њ.
2 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 1953 –≥–Њ–і–∞
–°–µ–≥–Њ–і–љ—П –Њ–њ—П—В—М –µ–Ј–і–Є–ї –≤ –С–∞–ї–∞–Ї–ї–∞–≤—Г, –љ–∞–і–µ—П—Б—М, —З—В–Њ –Љ–љ–µ –µ—Б—В—М –њ–Є—Б—М–Љ–Њ, –љ–Њ –љ–µ —В—Г—В-—В–Њ –±—Л–ї–Њ!
3 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 1953 –≥–Њ–і–∞
–Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж-—В–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –њ–Є—Б—М–Љ–Њ –Њ—В –Ы—О–і—Л, –љ–Њ –ї—Г—З—И–µ –±—Л–ї–Њ –±—Л –љ–µ –њ–Њ–ї—Г—З–∞—В—М –µ–≥–Њ. –Ь–љ–µ –Њ—З–µ–љ—М –ґ–∞–ї–Ї–Њ –Ы—О–і—Г, —З—В–Њ –Њ–љ–∞ –љ–µ –њ–Њ–њ–∞–ї–∞ –≤ —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В. –Я—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—О, –Ї–∞–Ї –Њ–љ–∞ –њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤–∞–µ—В.
4 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 1953 –≥–Њ–і–∞
–°–µ–≥–Њ–і–љ—П, –≤—Л–є–і—П –Є–Ј –і–Њ–Ї–∞, –≤—Б—В—А–µ—В–Є–ї –Ъ–∞—В—О—И—Г. –°–њ—А–∞—И–Є–≤–∞—О: ¬Ђ–Я–Њ—З–µ–Љ—Г —В—Л –Ј–і–µ—Б—М?¬ї. –°–ї—Л—И—Г –≤ –Њ—В–≤–µ—В: ¬Ђ–°–Њ—Б–Ї—Г—З–Є–ї–∞—Б—М, –≤–Њ—В –Є –њ—А–Є–µ—Е–∞–ї–∞. –°–µ–≥–Њ–і–љ—П –≤–µ—З–µ—А–Њ–Љ –±—Г–і–µ–Љ –≤–Љ–µ—Б—В–µ¬ї. –Ш–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–∞—О –±—Г—А–љ—Г—О —А–∞–і–Њ—Б—В—М, –њ—А–Њ—Й–∞—О—Б—М –Є вА¶ —Г–µ–Ј–ґ–∞—О –≤ –С–∞–ї–∞–Ї–ї–∞–≤—Г.
5 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 1953 –≥–Њ–і–∞
–°–Њ –Љ–љ–Њ–є –≤—З–µ—А–∞ –њ—А–Є–Ї–ї—О—З–Є–ї–∞—Б—М –Њ—З–µ—А–µ–і–љ–∞—П –Є—Б—В–Њ—А–Є—ПвА¶ –Э–Њ —Н—В–Њ —В–µ–Љ–∞ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞вА¶
9 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 1953 –≥–Њ–і–∞
–Я–µ—А–≤—Л–є –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ–≤–Њ–і–љ—Л–є –њ–Њ—Е–Њ–і. –Ш–і—Г –Ј–∞ —И—В—Г—А–Љ–∞–љ–∞. –Я–Њ–і—К—С–Љ –≤ —З–µ—В—Л—А–µ –љ–Њ–ї—М-–љ–Њ–ї—М. –Т—Б—П –≤–Њ—Б—В–Њ—А–ґ–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –њ—А–Њ–њ–∞–і–∞–µ—ВвА¶
5 —З–∞—Б–Њ–≤ 30 –Љ–Є–љ—Г—В. –°–љ—П–ї–Є—Б—М —Б–Њ —И–≤–∞—А—В–Њ–≤–Њ–≤. –Я—Г—Б—В–Є–ї–Є –Њ–±–∞ —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ–Љ–Њ—В–Њ—А–∞. –•–Њ—З–µ—В—Б—П —Б–њ–∞—В—МвА¶
5 —З–∞—Б–Њ–≤ 57 –Љ–Є–љ—Г—В. –Т—Л—И–ї–Є –Є–Ј –±—Г—Е—В—Л –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—М. –°–њ–∞—В—М —Е–Њ—З–µ—В—Б—П –µ—Й—С –±–Њ–ї—М—И–µвА¶
7 —З–∞—Б–Њ–≤ 30 –Љ–Є–љ—Г—В. –Я—А–Є–≥–ї–∞—И–∞—О—В –Ї —Б—В–Њ–ї—Г. –Э–∞ —Б—В–Њ–ї–µ ¬Ђ–ї—С–≥–Ї–Є–є¬ї –Ј–∞–≤—В—А–∞–Ї: —Е–ї–µ–±, –Љ–∞—Б–ї–Њ, —П–є—Ж–∞, –≥—А—Г–і–Є–љ–Ї–∞, —Б—Л—А, —Б–∞—Е–∞—А, –≤–∞—А–µ–љ—М–µ. –Ы—О–±–Њ–≤—М –Ї –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–Љ—Г —Д–ї–Њ—В—Г –Ї—А–µ–њ–љ–µ—ВвА¶
9 —З–∞—Б–Њ–≤ 00 –Љ–Є–љ—Г—В. ¬Ђ–Я–Њ–≤–Є—Б¬ї –≤ –≤–Њ–Ј–і—Г—Е–µ вАУ —Г—З—Г—Б—М –њ–µ–ї–µ–љ–≥–Њ–≤–∞—В—М. –Я–Њ–і–≤–Њ–і–љ–∞—П –ї–Њ–і–Ї–∞ вАУ —Н—В–Њ –љ–µ –љ–∞–і–≤–Њ–і–љ—Л–є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М! –Ф—Г–Љ–∞—О, —Н—В–Њ –њ—А–µ–і–µ–ї –Љ—Г—З–µ–љ–Є–є, –∞ –≥–Њ–≤–Њ—А—П—В, —Н—В–Њ –µ—Й—С —Е–Њ—А–Њ—И–Њ. –°–њ—А–∞—И–Є–≤–∞—О: ¬Ђ–Р —З—В–Њ –ґ–µ –њ–ї–Њ—Е–Њ?¬ї. –Р —В–Њ, –Њ—В–≤–µ—З–∞—О—В, –Ї–Њ–≥–і–∞ —И—В—Г—А–Љ–∞–љ –њ–µ–ї–µ–љ–≥—Г–µ—В, —Б—В–Њ—П –љ–∞ –≥–Њ–ї–Њ–≤–µ, –∞ —А—Г–ї–µ–≤–Њ–є –і–µ—А–ґ–Є—В –µ–≥–Њ –Ј–∞ –љ–Њ–≥–Є —Б—В—А–Њ–≥–Њ –њ–Њ –≤–µ—А—В–Є–Ї–∞–ї–Є. –Ь–µ–љ—П—О —А—Г–Ї—Г. –Э–∞ –Њ–і–љ–Њ–є —А—Г–Ї–µ —Б –љ–µ–њ—А–Є–≤—Л—З–Ї–Є –≤–Є—Б–µ—В—М —Г—Б—В–∞—ОвА¶
12 —З–∞—Б–Њ–≤ 00 –Љ–Є–љ—Г—В. –Ю–±–µ–і. –Э–∞ —Б—В–Њ–ї–µ –±—Г—В—Л–ї–Ї–Є —Б –≤–Є–љ–Њ–Љ. –° –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞ —Г—Е–Њ–і–Є—В—М –љ–µ —Б–Њ–±–Є—А–∞—О—Б—МвА¶
13 —З–∞—Б–Њ–≤ 42 –Љ–Є–љ—Г—В—Л. –У–ї—Г–±–Є–љ–∞ 30 –Љ–µ—В—А–Њ–≤ вАУ –ї—О–±–Њ–≤—М –љ–µ –њ—А–Њ–њ–∞–і–∞–µ—В. –°—В—А–∞–љ–љ–Њ. –ѓ –љ–Є–≥–і–µ –љ–µ —З–Є—В–∞–ї, —З—В–Њ –≤–Њ–і–∞ –ї—О–±–≤–µ–њ—А–Њ–≤–Њ–і–љ–∞вА¶
13 —З–∞—Б–Њ–≤ 45 –Љ–Є–љ—Г—В. –У–ї—Г–±–Є–љ–∞ 45 –Љ–µ—В—А–Њ–≤. –Ъ—Г–і–∞ –ґ–µ –≤—Л?вА¶
13 —З–∞—Б–Њ–≤ 47 –Љ–Є–љ—Г—В. –У–ї—Г–±–Є–љ–∞ 64 –Љ–µ—В—А–∞. –Х—Й—С –љ–µ –ґ–µ–љ–Є–ї—Б—П –љ–∞ –Ы—О–і–µ, –∞ —Г–ґ–µ –њ—А–Њ–њ–∞–і–∞—ОвА¶
13 —З–∞—Б–Њ–≤ 50 –Љ–Є–љ—Г—В. –У–ї—Г–±–Є–љ–∞ 25 –Љ–µ—В—А–Њ–≤. –•–Њ–ї–Њ—Б—В–Њ–Љ—Г –ї—Г—З—И–µвА¶
13 —З–∞—Б–Њ–≤ 52 –Љ–Є–љ—Г—В—Л. –У–ї—Г–±–Є–љ–∞ 0 –Љ–µ—В—А–Њ–≤. –Р –Љ–Њ–ґ–µ—В –ї—Г—З—И–µ –ґ–µ–љ–Є—В—М—Б—П?вА¶
13 —З–∞—Б–Њ–≤ 53 –Љ–Є–љ—Г—В—Л. –Ю—В–і—А–∞–µ–љ –≤–µ—А—Е–љ–Є–є —А—Г–±–Њ—З–љ—Л–є –ї—О–Ї. –°–ї–∞–≤–∞ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–∞–Љ!
18 —З–∞—Б–Њ–≤ 00 –Љ–Є–љ—Г—В. –£–ґ–Є–љ. –°—Г–њ, –Љ–∞–Ї–∞—А–Њ–љ—Л, –Ї–Њ–љ—Б–µ—А–≤—Л, –Ї–Њ–Љ–њ–Њ—В, –Ї–∞–Ї–∞–Њ, –њ–µ—З–µ–љ—М–µ, –≥–∞–ї–µ—В—Л. –•–Њ—А–Њ—И–Њ –±—Л—В—М –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Њ–Љ!
18 —З–∞—Б–Њ–≤ 30 –Љ–Є–љ—Г—В. –С—А–∞—В—Ж—Л, —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ?! –£–ґ–µ –і–≤–µ–љ–∞–і—Ж–∞—В—М —Б –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–Њ–є —З–∞—Б–Њ–≤ –љ–µ —А–∞–Ј–≥–Є–±–∞—О —Б–њ–Є–љ—Г –Ј–∞ —И—В—Г—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ —Б—В–Њ–ї–Є–Ї–Њ–Љ. –Ъ–Њ–ї–µ–љ–Є –≤—Б–µ —Б–±–Є—В—Л вАУ –ї—О–Ї –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Є–є, –∞ –≤–Ј–∞–і-–≤–њ–µ—А—С–і –љ–∞–≤–µ—А—Е –Є –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –±–µ–≥–∞—В—М —З–∞—Б—В–ЊвА¶
19 —З–∞—Б–Њ–≤ 00 –Љ–Є–љ—Г—В. –Э–∞—З–Є–љ–∞–µ—В—Б—П —И—В–Њ—А–Љ. –≠—В–Њ–≥–Њ –µ—Й—С –љ–µ —Е–≤–∞—В–∞–µ—ВвА¶ –Ґ–µ–њ–µ—А—М –њ—А–Њ–њ–∞–і—Г: –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П —И—В–Њ—А–Љ–∞ –Њ—З–µ–љ—М —Б—В—А–∞–і–∞—О –Њ—В ¬Ђ–≤–∞—А–≤–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –∞–њ–њ–µ—В–Є—В–∞¬ї.
19 —З–∞—Б–Њ–≤ 15 –Љ–Є–љ—Г—В. –Э–∞ —Б—В–Њ–ї–µ –њ—А—Л–≥–∞–µ—В –±—Г—В—Л–ї–Ї–∞ —Б —В—Г—И—М—О. –Я—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—О —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –Ї–∞–Ї —П —Б–∞–Љ –њ—А—Л–≥–∞—О, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤–µ–і—Г –њ—А–Њ–Ї–ї–∞–і–Ї—Г.
19 —З–∞—Б–Њ–≤ 15 –Љ–Є–љ—Г—В. –•–Њ—А–Њ—И–Њ –Љ–Є–љ—С—А—Г. –Ю–љ –љ–Є —З–µ—А—В–∞ –љ–µ –і–µ–ї–∞–µ—ВвА¶
19 —З–∞—Б–Њ–≤ 30 –Љ–Є–љ—Г—В. –®—В–Њ—А–Љ —Г—Б–Є–ї–Є–≤–∞–µ—В—Б—П. –Я—А—Л–≥–∞—О –µ—Й—С –±–Њ–ї—М—И–µ. –Я—А–Њ–±—Г—О —А—Г–Ї–∞–Љ–Є —Г–і–µ—А–ґ–∞—В—М –ї–Њ–і–Ї—Г –Њ—В –Ї–∞—З–Ї–Є вАУ –љ–µ –њ–Њ–ї—Г—З–∞–µ—В—Б—ПвА¶
19 —З–∞—Б–Њ–≤ 43 –Љ–Є–љ—Г—В—Л. –£—А–∞! –Я–Њ–і—Е–Њ–і–Є–Љ –Ї –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—О!
20 —З–∞—Б–Њ–≤ 47 –Љ–Є–љ—Г—В. –Ю—И–≤–∞—А—В–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М. –Т—Л—Е–Њ–ґ—Г –≥–Њ—А–і—Л–Љ. –Я–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Є вАУ –ї—Г—З—И–Є–µ –ї—О–і–Є –љ–∞ –Ч–µ–Љ–ї–µ!вА¶
11 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 1953 –≥–Њ–і–∞
–Я–µ—А–µ—Е–Њ–і –≤ –С–∞–ї–∞–Ї–ї–∞–≤—Г. –£—А–∞! –Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж-—В–Њ –Љ—Л ¬Ђ–і–Њ–Љ–∞¬ї!

12 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 1953 –≥–Њ–і–∞
–Я–Њ–ї—Г—З–Є–ї –њ–Є—Б—М–Љ–Њ –Њ—В –Ы—О–і—Л. –°–ї–∞–≤–∞ –С–Њ–≥—Г, –њ–Є—Б—М–Љ–Њ —Г–ґ–µ –љ–µ —В–∞–Ї–Њ–µ —Г–њ–∞–і–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ, –Ї–∞–Ї –њ–µ—А–≤–Њ–µ.
–Т–Њ—В–Ї–љ—Г–ї–Є –Љ–µ–љ—П –≤ –љ–∞—А—П–і —Б —Б—Г–±–±–Њ—В—Л –љ–∞ –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ—М–µ. –Т–Њ—В —Н—В–Њ —Б—О—А–њ—А–Є–Ј! –Ш –Ј–∞—З–µ–Љ –ґ–µ —П –≥–ї–∞–і–Є–ї—Б—П?
13 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 1953 –≥–Њ–і–∞
–Я–Њ–≥–Њ—А–µ–ї. –Т—Б–µ –љ–∞—А—П–і—Л —Б —Б—Г–±–±–Њ—В—Л –љ–∞ –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ—М–µ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –Ї–Њ–љ—З–∞—О—В—Б—П –і–Њ–±—А–Њ–Љ. –£–Ј–љ–∞–ї —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ, —З—В–Њ –і–≤–Њ–µ –Љ–∞—В—А–Њ—Б–Њ–≤ —Б —Б–Њ—Б–µ–і–љ–µ–є –ї–Њ–і–Ї–Є –љ–∞—Е–Њ–і—П—В—Б—П –≤ —Б–∞–Љ–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ–є –Њ—В–ї—Г—З–Ї–µ. –Э–∞–і–µ—П—Б—М, —З—В–Њ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞—О—Й–Є–є –Њ—Д–Є—Ж–µ—А —Б–∞–Љ —А–µ—И–Є—В, —З—В–Њ –і–µ–ї–∞—В—М —Б–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є —Б–∞–Љ–Њ–≤–Њ–ї—М—Й–Є–Ї–∞–Љ–Є, –≤ 24 —З–∞—Б–∞ –і–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї –і–µ–ґ—Г—А–љ–Њ–Љ—Г –њ–Њ –±–∞–Ј–µ, —З—В–Њ –≤—Б—С –≤ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ. –Э–Њ —В–∞–є–љ–Њ–µ —Б—В–∞–ї–Њ —П–≤–љ—Л–Љ.
–°–Њ–±–Є—А–∞—О —З–µ–Љ–Њ–і–∞–љ, –≥–Њ—В–Њ–≤–ї—О—Б—М –љ–∞ –≥–∞—Г–њ—В–≤–∞—Е—В—Г.
15 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 1953 –≥–Њ–і–∞
–Т—В–Њ—А–Њ–є –і–µ–љ—М –±–Њ–ї—В–∞—О—Б—М –≤ –Љ–Њ—А–µ. –Э–∞–і–Њ –Љ–љ–Њ–є –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–µ—Б—П—В–Ї–Њ–≤ –Љ–µ—В—А–Њ–≤ –≤–Њ–і—Л, –∞ –њ–Њ–і–Њ –Љ–љ–Њ–є вАУ 2000 –Љ–µ—В—А–Њ–≤. –Я–Њ–ґ–∞–ї—Г–є, –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ.
–°—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П –ґ–∞—А–Ї–Њ. –Т–µ–і—Г –њ—А–Њ–Ї–ї–∞–і–Ї—Г ¬Ђ–Љ–µ–ґ–і—Г –і–≤—Г—Е –Њ–≥–љ–µ–є¬ї: —Б–њ—А–∞–≤–∞ —Б—В–Њ–Є—В —И—В—Г—А–Љ–∞–љ, –∞ —Б–ї–µ–≤–∞ –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї. –Т–Њ—В –Є –њ–Њ–њ—А–Њ–±—Г–є –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ –Њ—А–Є–µ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –Љ–µ–ґ–і—Г —В–∞–Ї–Є–Љ–Є ¬Ђ–Њ–≥–љ—П–Љ–Є¬ї.
16 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 1953 –≥–Њ–і–∞
–£–ґ–µ —В—А–µ—В–Є–є –і–µ–љ—М –њ–Њ–і –≤–Њ–і–Њ–є. –Х—Й—С –љ–µ —Б–њ–∞–ї, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –љ–∞—Е–Њ–і–Є–Љ—Б—П –љ–∞ –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є –Є –Ї–∞–ґ–і—Г—О –Љ–Є–љ—Г—В—Г –љ—Г–ґ–љ–Њ –±—Л—В—М –љ–∞ ¬Ђ—В–Њ–≤—Б—М¬ї.
–Ф–∞! –®—В—Г—А–Љ–∞–љ—Г-–њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї—Г –Њ—З–µ–љ—М —В—П–ґ–µ–ї–Њ. –Ш–Ј–Љ–∞—В—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –Њ–љ –±–µ–Ј—Г–Љ–љ–Њ. –Ъ–∞–ґ–і—Г—О –Љ–Є–љ—Г—В—Г –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –Ј–љ–∞—В—М —В–Њ—З–љ–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ –ї–Њ–і–Ї–Є. –°–њ–∞—В—М –љ–µ–Ї–Њ–≥–і–∞. –Э–Њ –Ј–∞—В–Њ —Н—В–Њ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ!
–Э–∞ –≥–ї—Г–±–Є–љ–µ, –Ї—Г–і–∞ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –њ—А–Њ–љ–Є–Ї–∞–µ—В —Б–≤–µ—В, –Є–і—С—В –ї–Њ–і–Ї–∞. –•–Њ—В—М —В–∞–Љ –Є –≤–µ—З–љ—Л–є –Љ—А–∞–Ї, —Е–Њ—В—М —И—В—Г—А–Љ–∞–љ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –≤–Є–і–Є—В, –Ї—А–Њ–Љ–µ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —Б—В–Њ–ї–Є–Ї–∞, –µ–Љ—Г –љ–∞ –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М –њ—А–Є—Е–Њ–і—П—В –µ–≥–Њ –Ј–љ–∞–љ–Є—П –Є —В–Њ—З–љ—Л–µ –њ—А–Є–±–Њ—А—Л. –Ы–Њ–і–Ї–∞ –Є–і—С—В —Г–≤–µ—А–µ–љ–љ–Њ, —В–Њ—З–љ–Њ –≤—Л—Е–Њ–і–Є—В –≤ –Ј–∞–і–∞–љ–љ–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ, –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ —Г–Ј–Ї–Њ—Б—В–Є, –Љ–µ–ї–Є –Є –і—А—Г–≥–Є–µ –њ—А–µ–њ—П—В—Б—В–≤–Є—П –Є, –µ—Б–ї–Є –љ—Г–ґ–љ–Њ, –њ–Њ—А–∞–ґ–∞–µ—В –≤—А–∞–≥–∞ —Б–≤–Њ–Є–Љ —Б–Љ–µ—А—В–Њ–љ–Њ—Б–љ—Л–Љ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ–Љ.
–Ґ–Њ, —З—В–Њ —Б–ї—Г–ґ–±–∞ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Њ—З–µ–љ—М —В—П–ґ—С–ї–∞—П, –њ–Њ-–љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–Љ—Г –њ–Њ–љ—П–ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–µ–є—З–∞—Б. –Ю–љ–∞ –љ–µ –Є–і—С—В –љ–Є –≤ –Ї–∞–Ї–Њ–µ —Б—А–∞–≤–љ–µ–љ–Є–µ —Б–Њ —Б–ї—Г–ґ–±–Њ–є –љ–∞ –љ–∞–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П—Е. –Ґ–∞–Љ –њ—А–Њ—Б—В–Њ—А, —Г–і–Њ–±—Б—В–≤–∞, —Б–≤–µ–ґ–Є–є –≤–µ—В–µ—А, –і—Л—Е–∞–љ–Є–µ –Љ–Њ—А—П. –Р –Ј–і–µ—Б—М —В–µ—Б–љ–Њ—В–∞, –Њ–±–Њ—А—Г–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –љ–∞–њ–Є—З–Ї–∞–љ–Њ –і–Њ –њ—А–µ–і–µ–ї–∞, –≤–Љ–µ—Б—В–Њ —Б–≤–µ–ґ–µ–≥–Њ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–µ—В—А–∞ –≤ –Њ—В—Б–µ–Ї–µ 55 –≥—А–∞–і—Г—Б–Њ–≤ –ґ–∞—А—Л, –∞ –≤–Љ–µ—Б—В–Њ –і—Л—Е–∞–љ–Є—П –Љ–Њ—А—П вАУ —Г–ґ–µ —Г–ї–Њ–≤–Є–Љ—Л–µ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї–Є –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Ї–∞ –Ї–Є—Б–ї–Њ—А–Њ–і–∞ –Є –Є–Ј–±—Л—В–Ї–∞ —Г–≥–ї–µ–Ї–Є—Б–ї–Њ–≥–Њ –≥–∞–Ј–∞.
–Э–Њ —Е–Њ—В—М –≥–Њ–ї–Њ–≤–∞ –Љ–Њ—П —Г–ґ–µ –њ—А–Њ–±–Є—В–∞ –≤ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е –Љ–µ—Б—В–∞—Е –Њ—В –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Б—В–≤–∞ —Б –њ—А–Є–±–Њ—А–∞–Љ–Є –Є –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–Љ–∞–Љ–Є, –њ–Њ–і–≤–µ—И–µ–љ–љ—Л–Љ–Є —Б–≤–µ—А—Е—Г, —Е–Њ—В—М –Ї–Њ–ї–µ–љ–Є –≤—Б–µ —Б–±–Є—В—Л –Њ—В –±–µ—Б–Ї–Њ–љ–µ—З–љ—Л—Е –њ—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Є–є –љ–∞ –Љ–Њ—Б—В–Є–Ї –Є –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ, —П –≤—Б—С-—В–∞–Ї–Є —Б—З–∞—Б—В–ї–Є–≤, —З—В–Њ —П вАУ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї.
–†—Г–≥–∞—В—М—Б—П —П –љ–∞—Г—З–Є–ї—Б—П –∞—А—В–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є! –°–Ї–Њ—А–Њ —П –њ—А–Є–і—Г –љ–∞ —Б–≤–Њ—О –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Г—О –ї–Њ–і–Ї—Г –њ–Њ–ї–љ–Њ–њ—А–∞–≤–љ—Л–Љ —З–ї–µ–љ–Њ–Љ —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–∞. –°–Ї–Њ—А–Њ –Њ–і–Є–љ –Є–Ј —З—Г–і–µ—Б–љ—Л—Е –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є –±—Г–і–µ—В –Љ–Њ–Є–Љ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—С–Љ –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б–Њ –≤—Б–µ–є –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —В–µ—Е–љ–Є–Ї–Њ–є. –Р –Ї–∞–Ї –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Њ–љ —З—Г–і–µ—Б–µ–љ вАУ —Н—В–Њ—В –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М вАУ –љ–µ–≤–Є–і–Є–Љ–Ї–∞.
–Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–µ–є—З–∞—Б –њ–Њ–љ—П–ї, –Ї–∞–Ї —В—П–ґ–µ–ї–Њ –ґ—С–љ–∞–Љ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤-–њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤. –І–∞—Б—В—Л–µ –≤—Л—Е–Њ–і—Л –≤ –Љ–Њ—А–µ –љ–∞ –і–ї–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є —Б—А–Њ–Ї, –і–µ–ґ—Г—А—Б—В–≤–∞, —Б—В–Њ—П–љ–Ї–Є –≤ –≥–Њ—В–Њ–≤–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ –Љ–µ—Б—П—Ж—Г –Є –±–Њ–ї—М—И–µ, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Б –ї–Њ–і–Ї–Є –љ–µ –і–µ–ї–∞—О—В –Є —И–∞–≥—Г, вАУ –≤—Б—С —Н—В–Њ –Њ–±—А–µ–Ї–∞–µ—В –ґ–µ–љ—Г –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–∞-–њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–∞ –њ–Њ—З—В–Є –љ–∞ –Њ–і–Є–љ–Њ–Ї–Њ–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ.
–І–∞—Б—В–Њ –±—Л–≤–∞–µ—В –Є —В–∞–Ї, —З—В–Њ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞–µ—В—Б—П –Є–Ј –і–∞–ї—М–љ–µ–≥–Њ –Є –і–Њ–ї–≥–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Е–Њ–і–∞, –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В –і–Њ–Љ–Њ–є –Є, –љ–µ —Г—Б–њ–µ–≤ –њ—А–Њ–±—Л—В—М –і–Њ–Љ–∞ –Є –њ–Њ–ї—З–∞—Б–∞, –Њ–њ—П—В—М —Г—Е–Њ–і–Є—В –њ–Њ –≤—Л–Ј–Њ–≤—Г. –Э–∞ –љ–∞—И–µ–є –ї–Њ–і–Ї–µ –њ–Њ—Б–ї–µ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є—П –Є–Ј –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—П –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤ –Њ—В–њ—Г—Б—В–Є–ї–Є —А–Њ–≤–љ–Њ –љ–∞ –Њ–і–Є–љ —З–∞—Б вАУ –Њ—В–љ–µ—Б—В–Є –і–Њ–Љ–Њ–є –і–µ–љ—М–≥–Є вАУ –Є –≤—Б—С! –Ы–Њ–і–Ї–∞ —Б—А–∞–Ј—Г –ґ–µ –Ј–∞—Б—В—Г–њ–Є–ї–∞ –љ–∞ –і–µ–ґ—Г—А—Б—В–≤–Њ –њ–Њ —Д–ї–Њ—В—Г —Б –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ–є –љ–µ–Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ–є –≥–Њ—В–Њ–≤–љ–Њ—Б—В—М—О –Ї –≤—Л—Е–Њ–і—Г –≤ –Љ–Њ—А–µ.
–Ъ–Њ–≥–і–∞ —П –њ—А–Є—Е–Њ–ґ—Г –љ–∞ –ї–Њ–і–Ї—Г, –≥—Г–ї—П–љ—М—П, —В–∞–љ—Ж—Л, –ґ–µ–љ–Є—В—М–±–∞ –Ї–∞–ґ—Г—В—Б—П –і–∞–ї—С–Ї–Є–Љ–Є –Є —Б–Љ–µ—И–љ—Л–Љ–Є. –Т—Б–µ –Љ—Л—Б–ї–Є –љ–µ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї—П—О—В—Б—П –љ–∞ —Б–ї—Г–ґ–±—Г, –Њ—В–±—А–∞—Б—Л–≤–∞—П –≤—Б—С –ї–Є—И–љ–µ–µ.
–Ы—О–і–∞ –ґ–µ–љ–Њ–є –Љ–Њ–µ–є –љ–µ –±—Г–і–µ—В, —Н—В–Њ –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –µ–є –љ–∞–і–Њ —Г—З–Є—В—М—Б—П. –Я–Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є–≤—И–Є—Б—М —Б–µ–є—З–∞—Б –≤–њ–ї–Њ—В–љ—Г—О —Б –ґ–Є–Ј–љ—М—О –ґ—С–љ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤, —Г–±–µ–ґ–і—С–љ, —З—В–Њ –Ы—О–і–µ –±—Л–ї–Њ –±—Л —В—А—Г–і–љ–Њ –ґ–Є—В—М —В–∞–Ї, –Ї–∞–Ї –ґ–Є–≤—Г—В –Њ–љ–Є. –Ю–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –±—Л –љ–µ—Б—З–∞—Б—В–љ–∞. –Ч–∞—З–µ–Љ –њ–Њ—А—В–Є—В—М –µ–є –ґ–Є–Ј–љ—М?
26 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 1953 –≥–Њ–і–∞
–Я–Є—Б—М–Љ–∞ –љ–µ—В. –Т–Є–і–Є–Љ–Њ, –Љ–µ–ґ–і—Г –љ–∞–Љ–Є –≤—Б—С –Ї–Њ–љ—З–µ–љ–Њ. –Ю–љ–∞ —Б –Ї–µ–Љ-—В–Њ –і—А—Г–≥–Є–Љ. –Э—Г —З—В–Њ –ґ, –ї—Г—З—И–µ, —З—В–Њ —Н—В–Њ —Б–ї—Г—З–Є–ї–Њ—Б—М —Б–µ–є—З–∞—Б, –∞ –љ–µ –њ–Њ–Ј–ґ–µ.
27 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 1953 –≥–Њ–і–∞
–Т —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–µ –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ—М–µ —А–Њ–Ј—Л–≥—А—Л—И –Ї—Г–±–Ї–∞ –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –њ–Њ –≤–Њ–ї–µ–є–±–Њ–ї—Г. –С—Г–і—Г –Є–≥—А–∞—В—М –Ј–∞ –њ–Њ–і–њ–ї–∞–≤. –°–µ–≥–Њ–і–љ—П —Б —Г—В—А–∞ –±—Л–ї –љ–∞ —В—А–µ–љ–Є—А–Њ–≤–Ї–µ. –£—Б—В–∞–ї, –Ї–∞–Ї —Б–≤—П—В–Њ–є –∞–њ–Њ—Б—В–Њ–ї, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г —А–µ—И–Є–ї –Њ—В–і–Њ—Е–љ—Г—В—М –њ–µ—А–µ–і –≤–µ—З–µ—А–љ–Є–Љ –њ–Њ—Е–Њ–і–Њ–Љ –≤ –≥–Њ—А–Њ–і.
–†–∞–Ј–і–µ–ї—Б—П, –Ј–∞–±—А–∞–ї—Б—П –њ–Њ–і –њ—А–Њ—Б—В—Л–љ—О, –Њ—В–Њ–≥–љ–∞–ї –Љ—Г—Е –Є –њ–Њ–і—Г–Љ–∞–ї –Њ –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–љ–Њ–Љ –њ–Њ–Ї–Њ–µ. –Ч–∞—Б–љ—Г—В—М –љ–µ –і–∞–ї–Є —Г–і–∞—А—Л –њ–Њ–≥—А–Њ–Љ—З–µ –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В–љ—Л—Е –≤—Л—Б—В—А–µ–ї–Њ–≤. –Ю–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –Ј–∞ —Б—В–µ–љ–Њ–є ¬Ђ–Ј–∞–±–Є–≤–∞–ї–Є –Ї–Њ–Ј–ї–∞¬ї. –Э–∞ —Д–ї–Њ—В–µ ¬Ђ–Ј–∞–±–Њ–є—Й–Є–Ї–Є¬ї —Б—В–∞–≤—П—В –Ї–Њ—Б—В—П—И–Ї–Є —Б —В–∞–Ї–Є–Љ —Г–і–∞—А–Њ–Љ, —З—В–Њ –Њ—В —Б—В–Њ–ї–∞ –ї–µ—В—П—В —Й–µ–њ–Ї–Є!
–Т —Н—В–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Њ–і–Є–љ –Љ–Њ—А—П–Ї –њ–Є–ї–Є–ї –љ–∞ –±–∞—П–љ–µ, –љ–µ –Є–Љ–µ—П —Б–ї—Г—Е–∞, –∞ –і—А—Г–≥–Њ–є —В—А–µ—Й–∞–ї –Є –њ–Є—Й–∞–ї –њ—А–Є—С–Љ–љ–Є–Ї–Њ–Љ, –њ—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤—Г—П –њ–Њ —Н—Д–Є—А—Г.
–Я–Њ—З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤ –≥–Њ–ї–Њ–≤–љ—Г—О –±–Њ–ї—М, –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П –≤ —Б–∞–љ—З–∞—Б—В—М, —З—В–Њ–±—Л —Е–Њ—В—М —В–∞–Љ –Њ–±—А–µ—Б—В–Є –њ–Њ–Ї–Њ–є. –Э–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї —Б–∞–љ—З–∞—Б—В–Є –њ—А–Њ–Є–Ј–љ—С—Б: ¬Ђ–Х—Б–ї–Є –≤–∞—И–∞ –±–Њ–ї–µ–Ј–љ—М –љ–µ–Є–Ј–ї–µ—З–Є–Љ–∞, —В–Њ –љ–µ—З–µ–≥–Њ –Є –Њ–±—А–∞—Й–∞—В—М—Б—П –Ї–Њ –Љ–љ–µ. –Р –µ—Б–ї–Є –Њ–љ–∞ –Є–Ј–ї–µ—З–Є–Љ–∞, —В–Њ –Є —Б–∞–Љ–∞ –њ—А–Њ–є–і—С—В! –Ф–Њ —Б–≤–Є–і–∞–љ–Є—П!¬ї.
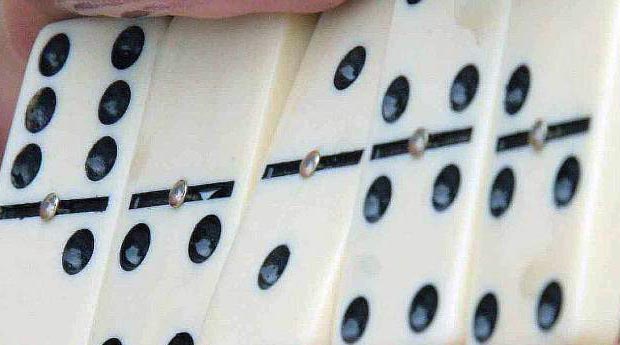
28 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 1953 –≥–Њ–і–∞
–Ю—А–Є–≥–Є–љ–∞–ї—М–љ–Њ —А–∞–Ј–≤–ї–µ–Ї–∞—О—В—Б—П –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Л –љ–∞ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –ї–Њ–і–Ї–∞—Е.
–Э–∞ –Њ–і–љ–Њ–є, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –Њ—В—А–∞–±–Њ—В–∞–љ–Њ, —З—В–Њ –Ї–Њ–≥–і–∞ –Ї—В–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М –≤—Л—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В —Г–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є –њ–∞–ї–µ—Ж, –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–∞—П –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В, –Є –њ—А–Њ–Є–Ј–љ–Њ—Б–Є—В –Ј–≤—Г–Ї–Є –≤—Л—Б—В—А–µ–ї–∞ (¬Ђ–Ъ—Е, –Ї—ЕвА¶¬ї), –≤—Б–µ –і–Њ–ї–ґ–љ—Л —Б –≤–Њ–њ–ї—П–Љ–Є —Г–Љ–Є—А–∞—О—Й–Є—Е –њ–∞–і–∞—В—М –љ–∞ –ї—О–±–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ, –≥–і–µ –Є—Е –Ј–∞—Б—В–∞–ї —Н—В–Њ—В –Ј–≤—Г–Ї.
–Э–∞ –і—А—Г–≥–Њ–є вАУ –њ—А–Є –Ї—А–Є–Ї–µ: –Ю–њ-–њ–∞!¬ї вАУ –≤—Б–µ —А–µ–Ј–Ї–Њ –њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞—О—В —А—Г–Ї–Є –≤–≤–µ—А—Е, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї —Н—В–Њ—В –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞—Б —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–∞–µ—В—Б—П –њ–Њ–ї—С—В–Њ–Љ –Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞, —В–Є–њ–∞ —В–∞–±—Г—А–µ—В–Ї–Є, –њ—Г—Й–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Л –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е. –Э–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ —З–∞—Б—В–Њ ¬Ђ–ї–µ—В–∞–µ—В¬ї –≥—А–∞—Д–Є–љ —Б –≤–Њ–і–Њ–є. –£ –љ–Є—Е —Н—В–Њ—В ¬Ђ–љ–Њ–Љ–µ—А¬ї —В–∞–Ї –Њ—В—А–∞–±–Њ—В–∞–љ, —З—В–Њ –≥—А–∞—Д–Є–љ –µ—Й—С –љ–Є —А–∞–Ј—Г –љ–µ —А–∞–Ј–±–Є–ї—Б—П. –Ъ–∞–ґ–і—Л–є —А–∞–Ј –Њ–љ –њ–∞–і–∞–µ—В –љ–µ –љ–∞ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Л, –Ї –±–Њ–ї—М—И–Њ–Љ—Г —Б–Њ–ґ–∞–ї–µ–љ–Є—О –∞–≤—В–Њ—А–∞ —Н—В–Њ–є ¬Ђ—И—Г—В–Ї–Є¬ї, –∞ –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –≤ –Љ–Њ–ї–љ–Є–µ–љ–Њ—Б–љ–Њ –≤—Л—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е —А—Г–Ї–∞—Е. –Я—А–∞–≤–і–∞, –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –Ї–∞–Ї–Њ–є-–љ–Є–±—Г–і—М –±–ї–Њ–љ–і–Є–љ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї—Б—П —Д–Є–Њ–ї–µ—В–Њ–≤—Л–Љ –Њ—В –Љ–µ—В–Ї–Њ –±—А–Њ—И–µ–љ–љ–Њ–є —З–µ—А–љ–Є–ї—М–љ–Є—Ж—Л. –Ґ–Њ–≥–і–∞ –≤—Б–µ –љ–∞—З–Є–љ–∞—О—В –µ–≥–Њ —Г—Б–њ–Њ–Ї–∞–Є–≤–∞—В—М: ¬Ђ–Э–Є—З–µ–≥–Њ, –≤–Њ—В –њ–Њ—В—А–µ–љ–Є—А—Г–µ—И—М—Б—П –Є —В–Њ–ґ–µ –±—Г–і–µ—И—М –ї–Њ–≤–Ї–Є–ЉвА¶¬ї.
29 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 1953 –≥–Њ–і–∞
–Т –њ—А–Њ—И–ї—Г—О –њ—П—В–љ–Є—Ж—Г –≤ —З–∞—Б –љ–Њ—З–Є –љ–∞—И–∞ –ї–Њ–і–Ї–∞ –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –≤—Л—Е–Њ–і–Є—В—М –≤ –Љ–Њ—А–µ –і–Њ 16 —З–∞—Б–Њ–≤, —В–Њ –µ—Б—В—М –њ—А–Њ–±—Л—В—М –≤ –Љ–Њ—А–µ –Љ–µ–љ—М—И–µ —Б—Г—В–Њ–Ї. –Т –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–µ –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ —П —Г–ґ–µ –±—Л–ї –љ–∞ –ї–Њ–і–Ї–µ, –љ–Њ –≤—Л—Е–Њ–і–∞ –љ–µ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–Њ. –Х–≥–Њ –њ–µ—А–µ–љ–µ—Б–ї–Є –љ–∞ –њ—П—В—М —Г—В—А–∞. –Э–∞ –±–∞–Ј—Г –љ–µ –њ–Њ—И—С–ї, –Ј–∞–≤–∞–ї–Є–ї—Б—П —Б–њ–∞—В—М –љ–∞ –ї–Њ–і–Ї–µ. –Т –њ—П—В—М —З–∞—Б–Њ–≤ –±—Л–ї —А–∞–Ј–±—Г–ґ–µ–љ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–є: ¬Ђ–Я–Њ –Љ–µ—Б—В–∞–Љ —Б—В–Њ—П—В—М, —Б–Њ —И–≤–∞—А—В–Њ–≤–Њ–≤ —Б–љ–Є–Љ–∞—В—М—Б—П!¬ї.
–Я–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї —Б–≤–Њ–є —Б—В–Њ–ї–Є–Ї, —А–∞–Ј–ї–Њ–ґ–Є–ї –Ї–∞—А—В—Г, –љ–∞–≤–Є–≥–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є –ґ—Г—А–љ–∞–ї, –Є–љ—Б—В—А—Г–Љ–µ–љ—В –Є –њ—А–Њ—З–µ–µ. –Ы–Њ–і–Ї–∞ –Њ—В–Њ—И–ї–∞ –Њ—В –њ—А–Є—З–∞–ї–∞, —Г–і–Є—Д—Д–µ—А–µ–љ—В–Њ–≤–∞–ї–∞—Б—М. –Э–∞—З–∞–ї –≤–µ—Б—В–Є –њ—А–Њ–Ї–ї–∞–і–Ї—Г. –Т–і—А—Г–≥ —Б –Љ–Њ—Б—В–Є–Ї–∞ —А–∞–Ј–і–∞—С—В—Б—П –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ: ¬Ђ–®–≤–∞—А—В–Њ–≤—Г—О –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г –љ–∞–≤–µ—А—Е!¬ї. –Ч–љ–∞—З–Є—В, –±—Г–і–µ–Љ —И–≤–∞—А—В–Њ–≤–∞—В—М—Б—П?
–•–Њ—В–µ–ї –њ–Њ–і–љ—П—В—М—Б—П –љ–∞ –Љ–Њ—Б—В–Є–Ї, —З—В–Њ–±—Л —Г–Ј–љ–∞—В—М, –≤ —З—С–Љ –і–µ–ї–Њ, –љ–Њ —Г—Б–ї—Л—И–∞–ї –љ–Њ–≤–Њ—Б—В—М, –Њ—В –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –≤–Њ–ї–Њ—Б—Л –≤—Б—В–∞–ї–Є –і—Л–±–Њ–Љ. –Я–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї, —Б–њ—Г—Б–Ї–∞—П—Б—М –≤–љ–Є–Ј, –њ—А–Њ–Є–Ј–љ—С—Б: ¬Ђ–Т—Б–µ–Љ –±—Л—Б—В—А–Њ –≤ –Ї—Г–±—А–Є–Ї –Є –Ј–∞–±—А–∞—В—М —Б —Б–Њ–±–Њ–є –≤—Б—С: –њ–Њ—Б—В–µ–ї—М, –≤–µ—Й–Є, —В–∞–±–∞–Ї. –£—Е–Њ–і–Є–Љ –љ–∞ —В—А–Є–і—Ж–∞—В—М —Б—Г—В–Њ–Ї!¬ї.
–Я–Њ–љ—П–≤ –≤–µ—Б—М —Г–ґ–∞—Б —В–∞–Ї–Њ–є –њ–µ—А—Б–њ–µ–Ї—В–Є–≤—Л, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –і–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–∞ —Б—В–∞–ґ–Є—А–Њ–≤–Ї–Є –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М –Љ–µ–љ—М—И–µ –Љ–µ—Б—П—Ж–∞, –≤ —В—Г –ґ–µ –Љ–Є–љ—Г—В—Г –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–ї –Є –≤—Л—Б–Ї–Њ—З–Є–ї –љ–∞ –Љ–Њ—Б—В–Є–Ї. –°–Њ–Њ–±—Й–Є–ї –Њ–± —Н—В–Њ–Љ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Г —Б —В–∞–Ї–Є–Љ –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –ї–Є—Ж–∞, —З—В–Њ –Њ–љ, –≤–Ј–≥–ї—П–љ—Г–≤ –љ–∞ –Љ–µ–љ—П, –Њ—В—И–∞—В–љ—Г–ї—Б—П –Є –њ—А–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї: ¬Ђ–Э–µ–Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ –ї–Њ–ґ–Є—В–µ—Б—М –≤ —Б–∞–љ—З–∞—Б—В—М. –Э–∞ –Т–∞—Б –ї–Є—Ж–∞ –љ–µ—В!¬ї.
–°–Ї–Њ—А–±–љ–Њ–є –њ–Њ—Е–Њ–і–Ї–Њ–є —Г–Љ–Є—А–∞—О—Й–µ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ —Б–Њ—И—С–ї —Б –ї–Њ–і–Ї–Є. –Э–∞ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б, –љ—Г–ґ–љ–Њ –ї–Є –Љ–µ–љ—П –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є—В—М, –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї –Њ—В—А–Є—Ж–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ. –°–≤–µ—А–љ—Г–≤ –Ј–∞ —Г–≥–Њ–ї, –Ј–∞—Б—Г–љ—Г–ї —А—Г–Ї–Є –≤ –Ї–∞—А–Љ–∞–љ—Л –Є, –љ–∞—Б–≤–Є—Б—В—Л–≤–∞—П, –≤–њ—А–Є–њ—А—Л–ґ–Ї—Г –њ–Њ–Љ—З–∞–ї—Б—П –≤ –Ї–∞–Ј–∞—А–Љ—Г –≤ –њ—А–µ–і–≤–Ї—Г—И–µ–љ–Є–Є –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–ї–µ–њ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–і–Є–љ–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П: –ї–Њ–і–Ї–∞ —Б –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–Љ –≤ –Љ–Њ—А–µ, –∞ —П –Њ–і–Є–љ –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥—Г.
–Я—А–Є–і—П –≤ –Ї—Г–±—А–Є–Ї –Є –њ–µ—А–µ–Њ–і–µ–≤—И–Є—Б—М, –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П –љ–µ –≤ —Б–∞–љ—З–∞—Б—В—М, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –∞ –≤ –≥–Њ—А–Њ–і, –Ї—Г–і–∞ –Љ–µ–љ—П –њ–Њ–Ј–≤–∞–ї –§–Є–љ–љ –Ї –µ–≥–Њ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Њ–є. –С—Л–ї–Є –Љ—Л —Г –љ–µ—С –і–Њ —Г–ґ–Є–љ–∞, —Б—К–µ–≤ –≤—Б–µ –µ—С –∞—А–±—Г–Ј—Л. –Я–Њ—Б–ї–µ —Н—В–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–Є–ї–Є—Б—М –љ–∞ –±–∞–Ј—Г.
–Ъ–∞–Ї–Њ–≤–Њ –ґ–µ –±—Л–ї–Њ –Љ–Њ—С —Г–і–Є–≤–ї–µ–љ–Є–µ, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Г–Ј–љ–∞–ї, —З—В–Њ –Љ–Њ—П –ї–Њ–і–Ї–∞ –љ–Є–Ї—Г–і–∞ –љ–µ —Г—Е–Њ–і–Є—В?! –Ю–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П, –Ї–∞–Ї –≤—Б–µ–≥–і–∞, –≤—Б—С –њ–µ—А–µ–Є–≥—А–∞–ї–Є! –ѓ –Ј–∞–і—Г–Љ–∞–ї—Б—П. –Э–∞ –ї–Њ–і–Ї–µ-—В–Њ –Ј–љ–∞—О—В, —З—В–Њ —П –≤ —Б–∞–љ—З–∞—Б—В–Є. –І—В–Њ –ґ–µ –і–µ–ї–∞—В—М? –Э–∞ –≥–ї–∞–Ј–∞—Е –≤–µ—А—В–µ—В—М—Б—П –љ–µ–ї—М–Ј—П, –Ј–љ–∞—З–Є—В вАУ –≤ –≥–Њ—А–Њ–і.
–Ґ–∞–Ї –Љ—Л –Є —Б–і–µ–ї–∞–ї–Є. –С—Л—Б—В—А–Њ –њ–Њ—Г–ґ–Є–љ–∞–≤, –§–Є–љ–љ –Є —П, –њ–Њ–љ—П–≤ –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥–∞ –±–µ–Ј —Б–ї–Њ–≤, –љ–∞—Е–ї–Њ–±—Г—З–Є–ї–Є —Б–≤–Њ–Є –Љ–Є—З–Љ–∞–љ–Ї–Є –Є –≤–љ–Њ–≤—М –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї–Є—Б—М ¬Ђ–љ–∞ —Н–Ї—Б–Ї—Г—А—Б–Є—О¬ї.
–Ю–Ї–Њ–ї–Њ –Ъ–Я–Я –і–µ–ґ—Г—А–љ—Л–є –њ–Њ –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є–ї —А–∞–Ј–≤–Њ–і –≤–∞—Е—В—Л. –Ш–Ј –µ–≥–Њ –Њ–±—К—П–≤–ї–µ–љ–Є—П –њ–µ—А–µ–і —Б—В—А–Њ–µ–Љ –Љ—Л —Г–Ј–љ–∞–ї–Є, —З—В–Њ —Б –і–≤–∞–і—Ж–∞—В–Є —З–∞—Б–Њ–≤ –±–∞–Ј–∞ –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –љ–∞ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є. –Э–∞—З–∞–ї–Њ—Б—М –Њ–±—Й–µ—Д–ї–Њ—В—Б–Ї–Њ–µ —Г—З–µ–љ–Є–µ –Є –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–∞–ї–Є—Б—М –ї—О–±—Л–µ —Г–≤–Њ–ї—М–љ–µ–љ–Є—П. –Т–љ–Њ–≤—М –Ј–∞—Б—В—Г–њ–∞—О—Й–Є–Љ –і–µ–ґ—Г—А–љ—Л–Љ –њ–Њ –Ъ–Я–Я –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ –љ–Є–Ї–Њ–≥–Њ –љ–µ –≤–њ—Г—Б–Ї–∞—В—М –Є –љ–µ –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–∞—В—М.
–Я–Њ—Б–Њ–≤–µ—Й–∞–≤—И–Є—Б—М, –Љ—Л —А–µ—И–Є–ї–Є, —З—В–Њ —Б–µ–є—З–∞—Б –Љ—Л –µ—Й—С –њ—А–Њ–є–і—С–Љ, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –і–≤–∞–і—Ж–∞—В–Є —З–∞—Б–Њ–≤ –µ—Й—С –љ–µ—В, –љ—Г –∞ –≤–µ—А–љ—С–Љ—Б—П вА¶ –њ–Њ–і —Г—В—А–Њ –Є –њ—А–Њ–є–і—С–Љ –љ–µ–Ј–∞–Љ–µ—З–µ–љ–љ—Л–Љ–Є. –Ш–Ј–Њ–±—А–∞–Ј–Є–≤ –Њ–Ј–∞–±–Њ—З–µ–љ–љ—Л—Е –ї—О–і–µ–є, –Љ—Л –±—Л—Б—В—А—Л–Љ —И–∞–≥–Њ–Љ –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є–ї–Є—Б—М –Ї –Ъ–Я–Я, –њ—А–Њ—И–ї–Є –µ–≥–Њ, –љ–µ–±—А–µ–ґ–љ–Њ –Ї–Њ–Ј—Л—А–љ—Г–≤ –і–µ–ґ—Г—А–љ–Њ–Љ—Г, –Є –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї–Є—Б—М –≤ –Њ—З–µ—А–µ–і–љ–Њ–µ –љ–Њ—З–љ–Њ–µ –њ—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Є–µ. –С—Л–ї–Є —Г –Э–µ–ї–ї–Є –Є –Ц–µ–љ–Є.
–Ґ–∞–Ї –Љ—Л —Е–Њ–і–Є–ї–Є –≤ –≥–Њ—А–Њ–і –Ї–∞–ґ–і—Л–є –і–µ–љ—М –Є –њ–Њ—Б–Љ–µ–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М: ¬Ђ–Ъ–Њ–Љ—Г –≤–Њ–є–љ–∞, –∞ –Ї–Њ–Љ—Г вАУ –Љ–∞—В—М —А–Њ–і–љ–∞—П¬ї. –Т—З–µ—А–∞ –Њ–њ—П—В—М –±—Л–ї–Є –≤ –≥–Њ—А–Њ–і–µ. –Я–Њ–і –∞–Ї–Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–µ–Љ–µ–љ—В –љ–∞—И–Є—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤—Л–ї–Є –Є —Б–≤–Є—Б—В–µ–ї–Є –љ–∞ –≤–µ—Б—М –≥–Њ—А–Њ–і, –Є–≥—А–∞—П –≤ –≤–Њ–є–љ—Г, –Љ—Л –њ—А–Њ—В–∞–љ—Ж–µ–≤–∞–ї–Є –і–Њ —В—А—С—Е —З–∞—Б–Њ–≤, –∞ –њ–Њ–і —Г—В—А–Њ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–Є–ї–Є—Б—М –≤ –Ї—Г–±—А–Є–Ї.
1 –Њ–Ї—В—П–±—А—П 1953 –≥–Њ–і–∞
–Ь—Л –Њ–њ—П—В—М –≤ –Љ–Њ—А–µ! –Ъ–Њ–≥–і–∞ —П –≤ –Љ–Њ—А–µ, –і–ї—П –Љ–µ–љ—П –љ–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В –љ–Є–Ї–Њ–≥–Њ –Є –љ–Є—З–µ–≥–Њ, –Ї—А–Њ–Љ–µ –ї–Њ–і–Ї–Є. –Т—Б—С, —З—В–Њ –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥—Г, –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П –≥–ї—Г–њ—Л–Љ, –љ–µ–љ—Г–ґ–љ—Л–Љ –Є —Б–Љ–µ—И–љ—Л–Љ. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї –Љ–∞—В–µ—А–Є —Б–Њ—Е—А–∞–љ—П–µ—В—Б—П —В—С–њ–ї–Њ–µ —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ.
–Я–Њ–ї—М–Ј—Г—О—Б—М –Ї–∞–ґ–і–Њ–є —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ–є –Љ–Є–љ—Г—В–Њ–є, —З—В–Њ–±—Л –љ–∞–њ–Є—Б–∞—В—М —Е–Њ—В—М –њ–∞—А—Г —Б—В—А–Њ—З–µ–Ї. –Ь–Њ–є –і–љ–µ–≤–љ–Є–Ї —Б—В–∞–ї –Љ–љ–µ –ї—Г—З—И–Є–Љ –Њ—В–і—Л—Е–Њ–Љ.
2 –Њ–Ї—В—П–±—А—П 1953 –≥–Њ–і–∞
–Т—А–µ–Љ—П 00 —З–∞—Б–Њ–≤ 20 –Љ–Є–љ—Г—В, –≥–ї—Г–±–Є–љ–∞ –њ–Њ–ї—Б–Њ—В–љ–Є –Љ–µ—В—А–Њ–≤, —Е–Њ–і 4,6 —Г–Ј–ї–∞. –Ш–і—С–Љ –≤ —А–∞–Ј–≤–µ–і–Ї—Г. –°—З–∞—Б—В–ї–Є–≤, —З—В–Њ —П вАУ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї.
03 —З–∞—Б–∞ 42 –Љ–Є–љ—Г—В—Л. –Ш–і—С–Љ –≤ –љ–∞–і–≤–Њ–і–љ–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є. ¬Ђ–Я—А–Є–ї–Є—З–љ–∞—П¬ї –≤–Њ–ї–љ–∞. –Э–∞ –Љ–Њ—Б—В–Є–Ї–µ –љ–µ–ї—М–Ј—П —Б—В–Њ—П—В—М, –љ–µ –і–µ—А–ґ–∞—Б—М –Ј–∞ —З—В–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М. –Т–Њ–ї–љ—Л –њ–µ—А–µ–ї–Є–≤–∞—О—В—Б—П —З–µ—А–µ–Ј –Ї–Њ—А–њ—Г—Б –ї–Њ–і–Ї–Є. –Э–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Є–Ј –љ–Є—Е –Њ–Ї–∞—В—Л–≤–∞—О—В —Б –љ–Њ–≥ –і–Њ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Л —Б—В–Њ—П—Й–Є—Е –љ–∞ –Љ–Њ—Б—В–Є–Ї–µ.
–Ґ—С–Љ–љ–∞—П, —В—С–Љ–љ–∞—П –љ–Њ—З—М, –љ–µ –≤–Є–і–љ–Њ –њ—А–Њ—В—П–љ—Г—В–Њ–є —А—Г–Ї–Є. –Т—Б—С –љ–µ–±–Њ —Г—Б–µ—П–љ–Њ –Ї—А—Г–њ–љ—Л–Љ–Є –Ј–≤—С–Ј–і–∞–Љ–Є. –°–≤–µ–ґ–Є–є –≤–µ—В–µ—А, –±–µ–Ј —А–µ–≥–ї–∞–љ–∞ –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б—В–Њ—П—В—М –љ–∞–≤–µ—А—Е—Г. –Т–µ—В–µ—А —Б—А—Л–≤–∞–µ—В —Б –≥—А–µ–±–љ–µ–є –≤–Њ–ї–љ –±—А—Л–Ј–≥–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –±–Њ–ї—М–љ–Њ —Г–і–∞—А—П—О—В –≤ –ї–Є—Ж–Њ. –Т–Њ–ї–љ—Л —Б —А—С–≤–Њ–Љ –Њ–±—А—Г—И–Є–≤–∞—О—В—Б—П –љ–∞ –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Є–є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –ґ–µ–ї–∞—П –µ–≥–Њ –њ—А–Њ–≥–ї–Њ—В–Є—В—М.
–†—Г–≥–∞—О—Б—М –≤–Њ –≤—Б–µ—Е –С–Њ–≥–Њ–≤, –љ–Њ —Б –Љ–Њ—Б—В–Є–Ї–∞ –љ–µ —Г—Е–Њ–ґ—Г. –Ю—З–µ–љ—М –Ї—А–∞—Б–Є–≤–ЊвА¶
–Я—А–Є—И–ї–Є —Б –Љ–Њ—А—П, –Є–і—С–Љ –≤ –≥–Њ—А–Њ–і. –Ф–µ–љ–µ–≥, –Ї–∞–Ї –≤—Б–µ–≥–і–∞, –љ–µ—В. –Ю—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г–≤–Њ–ї—М–љ–µ–љ–Є—П —В–Њ–ґ–µ –љ–µ—В вАУ ¬Ђ–≤–Њ–є–љ–∞¬ї –≤—Б—С –µ—Й—С –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–µ—В—Б—П.
3 –Њ–Ї—В—П–±—А—П 1953 –≥–Њ–і–∞
07 —З–∞—Б–Њ–≤ 00 –Љ–Є–љ—Г—В. –Ш–Ј –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–Є–ї–Є—Б—М –≤ 4.00. –Ґ—А–Њ–µ –њ–Њ–≥–Њ—А–µ–ї–Є. –Ю–±–≤–Є–љ—П—О—В –≤ –і–µ–±–Њ—И–µ, —Е—Г–ї–Є–≥–∞–љ—Б—В–≤–µ –Є –±–∞–љ–і–Є—В–Є–Ј–Љ–µ. –ѓ –≤ —З–Є—Б–ї–µ —В—А—С—Е. –Э—Г —З—В–Њ –ґ, –±—Г–і–µ–Љ –≤—Л–Ї—А—Г—З–Є–≤–∞—В—М—Б—ПвА¶
10 —З–∞—Б–Њ–≤ 00 –Љ–Є–љ—Г—В. –°–Њ–±—Л—В–Є—П —А–∞–Ј–≤–Є–≤–∞—О—В—Б—П. –Т—Л–Ј–≤–∞–ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –ї–Њ–і–Ї–Є. –Ю–љ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –і–µ–ґ—Г—А–љ—Л–є –њ–Њ –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є. –У–Њ–≤–Њ—А–Є—В, —З—В–Њ –Ј–∞ —Б–∞–Љ–Њ–≤–Њ–ї—М–љ—Г—О –Њ—В–ї—Г—З–Ї—Г –њ–Њ–є–і—Г –њ–Њ–і —Б—Г–і, вАУ —В–∞–Ї —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–і–Є–ї—Б—П –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є. –†–∞–Ј–≤–Є–≤–∞—О –±—Г—А–љ—Г—О –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –њ–Њ ¬Ђ–≤—Л–Ї—А—Г—З–Є–≤–∞–љ–Є—О¬ївА¶
11 —З–∞—Б–Њ–≤ 30 –Љ–Є–љ—Г—В. –°–Њ–±—Л—В–Є—П –њ–Њ–ї–µ—В–µ–ї–Є. –Ч–∞—Е–Њ—В–µ–ї–Є –њ–Њ—Б–∞–і–Є—В—М –Є –њ–Њ—Б–∞–і—П—В. –Т–Љ–µ—Б—В–µ —Б –Ъ–Њ–ї–µ–є –Ґ–∞–Є—А–Њ–≤—Л–Љ –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї—П–µ–Љ—Б—П –љ–∞ –≥–∞—А–љ–Є–Ј–Њ–љ–љ—Г—О –≥–∞—Г–њ—В–≤–∞—Е—В—Г –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—П.
16 —З–∞—Б–Њ–≤ 15 –Љ–Є–љ—Г—В. –Ю–њ–∞–Ј–і—Л–≤–∞–µ–Љ –љ–∞ ¬Ђ–≥—Г–±—Г¬ї –љ–∞ 15 –Љ–Є–љ—Г—В, –Є –љ–∞—Б –љ–µ —Б–∞–ґ–∞—О—В. –У–Њ–≤–Њ—А—П—В, —З—В–Њ –љ—Г–ґ–љ–Њ –њ—А–Є–≤—Л–Ї–∞—В—М –Ї –њ–Њ—А—П–і–Ї—Г! –Т–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞–µ–Љ—Б—П –≤ –С–∞–ї–∞–Ї–ї–∞–≤—Г, –Њ–њ–∞–Ј–і—Л–≤–∞–µ–Љ –љ–∞ —Г–ґ–Є–љ –Є –≥–Њ–ї–Њ–і–љ—Л–µ –Є–і—С–Љ –≤ –Ї–Є–љ–Њ.
4 –Њ–Ї—В—П–±—А—П 1953 –≥–Њ–і–∞
–Ч–∞–≤—В—А–∞ –љ–∞—И–∞ –ї–Њ–і–Ї–∞ —Г—Е–Њ–і–Є—В –Є–Ј –С–∞–ї–∞–Ї–ї–∞–≤—Л. –Э—Г–ґ–љ–Њ –љ–µ —Б–µ—Б—В—М –љ–∞ –≥–∞—Г–њ—В–≤–∞—Е—В—Г –Є –њ–Њ–њ—А–Њ–±–Њ–≤–∞—В—М –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –љ–µ —Б–∞–і–Є—В—М—Б—П, —З—В–Њ–±—Л —Б–і–∞—В—М –≤—Б–µ —Н–Ї–Ј–∞–Љ–µ–љ—Л –Є —Г–µ—Е–∞—В—М –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б–Њ –≤—Б–µ–Љ–Є. –Я–Њ–њ—А–Њ–±—Г–µ–Љ —З—В–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М ¬Ђ–∞—Д–µ—А–љ—Г—В—М¬ї.
–Ю–њ—П—В—М –њ–Њ—А—Г–≥–∞–ї—Б—П —Б –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–Љ. –°–µ–Љ—М –±–µ–і вАУ –Њ–і–Є–љ –Њ—В–≤–µ—В! –Э–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А—П—В, —З—В–Њ –Љ–љ–µ –њ–Є—И—Г—В –Њ—З–µ–љ—М –њ–ї–Њ—Е—Г—О —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї—Г –Є –і–Њ–±—М—О—В—Б—П, —З—В–Њ–±—Л –Љ–µ–љ—П –≤—Л–њ—Г—Б—В–Є–ї–Є –Љ–ї–∞–і—И–Є–Љ –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В–Њ–Љ. –Я–Њ-–Љ–Њ–µ–Љ—Г, —Н—В–Њ –њ–ї–Њ—Е–ЊвА¶
–Я—А–Є–і—Г–Љ–∞–ї–Є –і–ї—П –Љ–µ–љ—П —Б–∞–Љ–Њ–µ —Б—В—А–∞—И–љ–Њ–µ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ: –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є —Б–∞–Љ–Њ–Љ—Г –њ–Є—Б–∞—В—М –љ–∞ —Б–µ–±—П —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї—Г. –•–Њ—А–Њ—И—Г—О –љ–µ —Б–Љ–Њ–≥ –љ–∞–њ–Є—Б–∞—В—М, –љ–µ —Е–≤–∞—В–Є–ї–Њ —Б–Є–ї. –Э–∞–њ–Є—Б–∞–ї –њ–ї–Њ—Е—Г—О. –Ч–∞–≤—В—А–∞ –µ—С —Г—В–≤–µ—А–і—П—В, –Є —Г –Љ–µ–љ—П –±—Г–і–µ—В –њ–ї–Њ—Е–∞—П —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї–∞, –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–љ–∞—П –Љ–Њ–µ–є –ґ–µ —А—Г–Ї–Њ–є. –Ю—З–µ—А–µ–і–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ—Л–є –∞–љ–µ–Ї–і–Њ—В.
5 –Њ–Ї—В—П–±—А—П 1953 –≥–Њ–і–∞
–£—И–ї–Є –≤ –њ–Њ–і–њ–Њ–ї—М–µ. –°–µ–≥–Њ–і–љ—П –љ–µ–ї—М–Ј—П –љ–Є–Ї–Њ–Љ—Г –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М—Б—П –љ–∞ –≥–ї–∞–Ј–∞, —З—В–Њ–±—Л –љ–µ —Б–µ—Б—В—М –љ–∞ –≥–∞—Г–њ—В–≤–∞—Е—В—Г. –Р –≤ –љ–Њ—З—М –ї–Њ–і–Ї–∞ —Г—Е–Њ–і–Є—В.
–°–∞–і–Є—В—М—Б—П –љ–∞ –≥—Г–±—Г –љ–µ–ї—М–Ј—П –µ—Й—С –њ–Њ —В–Њ–є –њ—А–Є—З–Є–љ–µ, —З—В–Њ –њ—А–Є–µ—Е–∞–ї –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї—М –Є–Ј —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞. –Ю–љ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В, —З—В–Њ —Н–Ї–Ј–∞–Љ–µ–љ—Л –Ј–∞ —Б—В–∞–ґ–Є—А–Њ–≤–Ї—Г –±—Г–і–µ–Љ —Б–і–∞–≤–∞—В—М 7вАУ10 –Њ–Ї—В—П–±—А—П.
–Э—Г –Є ¬Ђ–љ–∞–њ–µ–ї–Є¬ї –ґ–µ –µ–Љ—Г! –І—В–Њ –Љ—Л –Є –±–∞–љ–і–Є—В—Л, –Є —Е—Г–ї–Є–≥–∞–љ—Л, –Є –њ—М—П–љ–Є—Ж—Л, –Є —А–∞–Ј–±–Њ–є–љ–Є–Ї–Є. –Ю–і–љ–Є–Љ —Б–ї–Њ–≤–Њ–Љ, вАУ –±–∞–ї—В–Є–є—Ж—Л! –Ф–∞ –Є –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ: –Ј–∞ –і–≤–∞ –Љ–µ—Б—П—Ж–∞ —Б—В–∞–ґ–Є—А–Њ–≤–Ї–Є —Г –љ–∞—Б –љ–∞ –≤—Б–µ—Е 122-–µ —Б—Г—В–Њ–Ї –≥–∞—Г–њ—В–≤–∞—Е—В—Л, —В–Њ –µ—Б—В—М –±–Њ–ї–µ–µ, —З–µ–Љ —З–µ—В—Л—А–µ –Љ–µ—Б—П—Ж–∞. –Ш–Ј –Њ–і–Є–љ–љ–∞–і—Ж–∞—В–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї —И–µ—Б—В–µ—А–Њ –±—Л–ї–Є –љ–∞ –≥–∞—Г–њ—В–≤–∞—Е—В–µ.
–Э–∞—З–∞–ї—М—Б—В–≤–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –Њ—В–Ї—А–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ, —З—В–Њ –њ–Њ—Б—В–∞—А–∞–µ—В—Б—П ¬Ђ–Ј–∞—Б—Л–њ–∞—В—М¬ї –љ–∞ —Н–Ї–Ј–∞–Љ–µ–љ–∞—Е —В–µ—Е, –Ї—В–Њ –њ—А–Њ–≤–Є–љ–Є–ї—Б—П, –Є –њ–Њ—Б—В–∞—А–∞–µ—В—Б—П, –Ї–∞–Ї –Љ–Є–љ–Є–Љ—Г–Љ, –Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ—Г –Є–Ј –љ–∞—Б –µ—Й—С –љ–∞ –Љ–µ—Б—П—Ж —Б—В–∞–ґ–Є—А–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –Ј–∞ —Б—З—С—В –Њ—В–њ—Г—Б–Ї–∞! –Э–µ —Е–Њ—З—Г!
–Ш—В–∞–Ї, —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П —Б–Ї—А—Л–≤–∞—О—Б—М, —Б–µ–і—М–Љ–Њ–≥–Њ —Б–і–∞–≤–∞—В—М. –Ю—Б—В–∞—С—В—Б—П —И–µ—Б—В–Њ–µ. –Ч–∞ –Њ–і–Є–љ –і–µ–љ—М –љ—Г–ґ–љ–Њ: –Є–Ј—Г—З–Є—В—М –І–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–є —В–µ–∞—В—А, –Ј–љ–∞—В—М —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–Њ –ї–Њ–і–Ї–Є –Є —Г–Љ–µ—В—М –њ—Г—Б—В–Є—В—М –≤ —Е–Њ–і –≤—Б–µ –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–Љ—Л –Є —Г–њ—А–∞–≤–ї—П—В—М –Є–Љ–Є, –Є–Ј—Г—З–Є—В—М –≤—Б–µ —И—В—Г—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–Є–µ –њ—А–Є–±–Њ—А—Л, –≤—Л—Г—З–Є—В—М –Я–°–Я –Є –Я–Я–°–°, –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—О —Б–ї—Г–ґ–±—Л –љ–∞ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–µ, —А–µ—И–Є—В—М —И—В—Г–Ї —В—А–Є–і—Ж–∞—В—М –∞—Б—В—А–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Ј–∞–і–∞—З, –њ—А–Њ–≤–µ—Б—В–Є –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ–ї–Є—В–Ј–∞–љ—П—В–Є–є, –њ—А–Є–≤–Є—В—М —Е–Њ—А–Њ—И–Є–µ –љ–∞–≤—Л–Ї–Є –Љ–∞—В—А–Њ—Б–∞–Љ –Є —Б—В–∞—А—И–Є–љ–∞–ЉвА¶–Э–∞–і–Њ–µ–ї–Њ –њ–µ—А–µ—З–Є—Б–ї—П—В—М, –ґ–∞–ї–Ї–Њ –±—Г–Љ–∞–≥–Є. –Т –Њ–±—Й–µ–Љ –љ–∞–і–Њ –≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В—М—Б—П –Ї –±–Њ—О. –Ч–і–µ—Б—М —Н–Ї–Ј–∞–Љ–µ–љ—Л –±—Г–і–µ—В —В—А—Г–і–љ–Њ —Б–і–∞–≤–∞—В—М, –љ–µ —В–Њ, —З—В–Њ –≤ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ.
–Т—Б—С –≤ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ! –Ъ–Њ–≥–і–∞ —П –њ—А–Њ—З–Є—В–∞–ї —Б–≤–Њ—О —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї—Г –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Г –С–І-1 (—И—В—Г—А–Љ–∞–љ –µ—С –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –њ–Њ–і–њ–Є—Б–∞—В—М), –Њ–љ —А–∞—Б—Б–Љ–µ—П–ї—Б—П –Є –≤—Л–≥–љ–∞–ї –Љ–µ–љ—П –Є–Ј –Ї–∞—О—В—Л. –Ч–∞—Б—В–∞–≤–Є–ї –љ–∞–њ–Є—Б–∞—В—М —Е–Њ—А–Њ—И—Г—О. –ѓ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї, –Њ–љ –њ–Њ–і–њ–Є—Б–∞–ї, –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –њ–µ—З–∞—В—М, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А —Г—В–≤–µ—А–і–Є–ївА¶ –Є —Г –Љ–µ–љ—П –≤ —З–µ–Љ–Њ–і–∞–љ–µ –ї–µ–ґ–Є—В —В—А–Є —Н–Ї–Ј–µ–Љ–њ–ї—П—А–∞ —Е–Њ—А–Њ—И–µ–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї–ЄвА¶
–Я—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–Є –љ–∞—И—Г –ї–Њ–і–Ї—Г. –•–Њ—В—М –љ–∞ —Б—В–∞–ґ–Є—А–Њ–≤–Ї–µ –Љ—Л –±—Л–ї–Є –Њ—З–µ–љ—М –Љ–∞–ї–Њ –Є –њ–Њ—З—В–Є –љ–Є–Ї–Њ–≥–Њ –љ–µ –Ј–љ–∞–µ–Љ, —А–∞—Б—Б—В–∞–≤–∞—В—М—Б—П –±—Л–ї–Њ –Њ—З–µ–љ—М –ґ–∞–ї–Ї–Њ. –Я—А–Њ–≤–Њ–ґ–∞–ї–Є –Ї–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ —А–Њ–і–љ—Л—Е –Є –±–ї–Є–Ј–Ї–Є—Е –і—А—Г–Ј–µ–є. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –ї–Њ–і–Ї–∞ –≤—Л—И–ї–∞ –Є–Ј –≥–∞–≤–∞–љ–Є –Є —Б–Ї—А—Л–ї–∞—Б—М –Ј–∞ –Љ—Л—Б–Њ–Љ, —Б—В–∞–ї–Њ —В–Њ—Б–Ї–ї–Є–≤–Њ. –Э–µ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –њ–Њ—З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї —Б–µ–±—П –Њ–і–Є–љ–Њ–Ї–Є–Љ –Є –≤—Б–µ–Љ–Є –њ–Њ–Ї–Є–љ—Г—В—Л–Љ.
–Я–µ—А–µ–і —Б–∞–Љ—Л–Љ –≤—Л—Е–Њ–і–Њ–Љ, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Г–ґ–µ –≤—Б–µ –њ—А–Њ—Й–∞–ї–Є—Б—М, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –Я–Ы –Њ—З–µ–љ—М —В–µ–њ–ї–Њ —Б –љ–∞–Љ–Є –њ–Њ–њ—А–Њ—Й–∞–ї—Б—П –Є —Б–љ—П–ї —Б –љ–∞—Б –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–Є—П. –Ю–і–љ–Є–Љ —Б–ї–Њ–≤–Њ–Љ, –≤—Б—С –Ї–Њ–љ—З–Є–ї–Њ—Б—М –±–ї–∞–≥–Њ–њ–Њ–ї—Г—З–љ–ЊвА¶
6 –Њ–Ї—В—П–±—А—П 1953 –≥–Њ–і–∞
–Э–Њ –Ї–Њ–љ—З–Є–ї–Њ—Б—М –ї–Є? –Ъ–∞–ґ–µ—В—Б—П, –љ–µ—В! –°–µ–≥–Њ–і–љ—П —Г—В—А–Њ–Љ –Њ–њ—П—В—М —Б—Л–≥—А–∞–ї–Є –±–Њ–µ–≤—Г—О —В—А–µ–≤–Њ–≥—Г. –Т—Б–µ –њ–Њ–±–µ–ґ–∞–ї–Є –љ–∞ –ї–Њ–і–Ї–Є, –Ї–∞–Ї –Є –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Њ –њ–Њ —В—А–µ–≤–Њ–≥–µ. –Р –≤ –Ї—Г–±—А–Є–Ї–µ —Б—В–∞–ґ—С—А–Њ–≤, –Ї–∞–Ї –≤—Б–µ–≥–і–∞, –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї—Б—П –±–µ–Ј–Љ—П—В–µ–ґ–љ—Л–є —Б–Њ–љ. –°–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ –Ї –љ–∞–Љ –Ј–∞–±—А—С–ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –±—А–Є–≥–∞–і—Л. –І—В–Њ —В—Г—В –±—Л–ї–Њ, –Ї–∞–Ї–Њ–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А –Є–Љ–µ–ї —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А, –і—Г–Љ–∞—О –Є —В–∞–Ї —П—Б–љ–Њ!
–Т—Л–є–і—П –Є–Ј –Ї—Г–±—А–Є–Ї–∞, –Ї–Њ–Љ–±—А–Є–≥ –Њ–±—А–∞—В–Є–ї—Б—П –Ї –Њ–і–љ–Њ–Љ—Г –Є–Ј –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤, –њ—А–Є–±–µ–ґ–∞–≤—И–Є—Е –љ–∞ –µ–≥–Њ –Ї—А–Є–Ї: ¬Ђ–Т—Л –њ–Њ—Б–∞–і–Є–ї–Є —В–µ—Е –і–≤—Г—Е –Ї—Г—А—Б–∞–љ—В–Њ–≤?¬ї. –Я–Њ–ї—Г—З–Є–≤ –Њ—В—А–Є—Ж–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є –Њ—В–≤–µ—В, –Њ–љ —А–∞—Б—Б–≤–Є—А–µ–њ–µ–ї –µ—Й—С –±–Њ–ї—М—И–µ –Є –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї: ¬Ђ–°–µ–≥–Њ–і–љ—П –ґ–µ –њ–Њ—Б–∞–і–Є—В—М!¬ї.
–Т —В–Њ—В –ґ–µ –Љ–Є–≥ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –≤ –љ–∞—И–µ–Љ –Ї—Г–±—А–Є–Ї–µ –Є —Б –њ–Њ—А–Њ–≥–∞ –њ—А–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї: ¬Ђ–Ы–µ–љ–Є–љ—Ж–µ–≤ –Є –Ґ–∞–Є—А–Њ–≤, —Б–Њ–±–Є—А–∞–є—В–µ—Б—М. –°–µ–≥–Њ–і–љ—П –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є—В–µ—Б—М –љ–∞ –≥–∞—Г–њ—В–≤–∞—Е—В—Г!¬ї.
¬Ђ–Я–Њ–Ј–і–љ–Њ!¬ї вАУ –і—А—Г–ґ–љ–Њ –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї–Є –Љ—Л –Є –і–Њ–±–∞–≤–Є–ї–Є: ¬Ђ–Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А —Г–ґ–µ —Б–љ—П–ї —Б –љ–∞—Б –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–Є—П!¬ї. ¬Ђ–Ю-–Њ-–Њ-–Њ!¬ївА¶ –њ—А–Њ—В—П–љ—Г–ї –Њ—Д–Є—Ж–µ—А –Є —Б–Ї—А—Л–ї—Б—П –Ј–∞ –і–≤–µ—А—М—О. –Т–Ј–≥–ї—П–љ—Г–≤ –µ–Љ—Г –≤—Б–ї–µ–і, –Љ—Л –Ј–∞–Љ–µ—В–Є–ї–Є, –Ї–∞–Ї –Њ–љ –Є—Б—З–µ–Ј –≤ –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В–µ –Ї–Њ–Љ–±—А–Є–≥–∞. –І–µ—А–µ–Ј –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–µ–Ї—Г–љ–і –Њ—Д–Є—Ж–µ—А –≤–љ–Њ–≤—М –њ–Њ—П–≤–Є–ї—Б—П –≤ –љ–∞—И–µ–Љ –Ї—Г–±—А–Є–Ї–µ –Є –њ—А–Њ–Є–Ј–љ—С—Б: ¬Ђ–Ъ–Њ–Љ–±—А–Є–≥ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї: –≤—Б—С —А–∞–≤–љ–Њ —Б–∞–ґ–∞—В—М!¬ї.
–£ –љ–∞—Б —С–Ї–љ—Г–ї–Є —Б–µ—А–і—Ж–∞. –Я—А–Є–Ї–∞–Ј –Ї–Њ–Љ–±—А–Є–≥–∞ вАУ –Ј–∞–Ї–Њ–љ! –І—В–Њ –і–µ–ї–∞—В—М?
–Ь—Л –±—Л–ї–Є –≤–µ–Ј–і–µ: –Є –≤ –њ–Њ–ї–Є—В–Њ—В–і–µ–ї–µ, –Є —Г –Ї–Њ–Љ–±—А–Є–≥–∞, –љ–Њ –Њ–љ –Њ—Б—В–∞–ї—Б—П –љ–µ—Г–Љ–Њ–ї–Є–Љ. –Э–∞–Љ –Њ–љ –Ј–∞—П–≤–Є–ї —В–∞–Ї: ¬Ђ–Х—Б–ї–Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А —Б–љ—П–ї —Б –≤–∞—Б –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–Є—П, —В–Њ —Б—З–Є—В–∞—О –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –љ–µ–њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ—Л–Љ–Є. –Р—А–µ—Б—В–Њ–≤—Л–≤–∞—О –≤–∞—Б —Б–≤–Њ–µ–є –≤–ї–∞—Б—В—М—О¬ї. –Э–∞ –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ –љ–∞—И–µ–≥–Њ —Б—В–∞—А—И–µ–≥–Њ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–∞ –Є–Ј —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞ –Њ–љ –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї: ¬Ђ–ѓ –Є—Е –Њ—Б—В–∞–≤–ї—О –µ—Й—С –љ–∞ –і–≤–∞ –Љ–µ—Б—П—Ж–∞ –љ–∞ —Б—В—А–∞—Е –њ–Њ—В–Њ–Љ–Ї–∞–Љ, —З—В–Њ–±—Л –≤–∞—И–Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–µ –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–Є –љ–µ –і–Њ–њ—Г—Б–Ї–∞–ї–Є —Н—В–Њ–≥–Њ¬ї.
–Х–і–µ–Љ –љ–∞ –≥–∞—А–љ–Є–Ј–Њ–љ–љ—Г—О –≥–∞—Г–њ—В–≤–∞—Е—В—Г —Б –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–Љ вАУ —Н—В–Њ –Њ—З–µ–љ—М –њ–ї–Њ—Е–Њ. –Ч–љ–∞—З–Є—В, —Б—П–і–µ–Љ. –Ґ–µ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ, —З—В–Њ —Н—В–Њ—В –Њ—Д–Є—Ж–µ—А –≤ —Е–Њ—А–Њ—И–Є—Е –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П—Е —Б –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–Љ –≥–∞—Г–њ—В–≤–∞—Е—В—ЛвА¶
–Э–µ —Б–µ–ї–Є!!! –Ъ–∞–Ї —Н—В–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Њ, —Б–∞–Љ –љ–µ –њ–Њ–є–Љ—Г, –љ–Њ –Љ—Л –љ–µ —Б–µ–ї–Є! –Ь—Л —Г–ґ–µ –±—Л–ї–Є –љ–∞ –≥–∞—Г–њ—В–≤–∞—Е—В–µ, –љ–Њ –љ–µ —Г—Б–њ–µ–ї —З–∞—Б–Њ–≤–Њ–є –Ј–∞–Ї—А—Л—В—М –Ј–∞ –љ–∞–Љ–Є –≤–Њ—А–Њ—В–∞, –Ї–∞–Ї –Љ—Л –≤—Л—Б–Ї–Њ—З–Є–ї–Є –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ. –Э–Є —Г–≥–Њ–≤–Њ—А—Л, –љ–Є –њ—А–Њ—Б—М–±—Л, –љ–Є –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –љ–∞—И–µ–≥–Њ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–∞ –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є –Ј–∞—Б—В–∞–≤–Є—В—М –љ–∞—Б —Б–і–≤–Є–љ—Г—В—М—Б—П —Б –Љ–µ—Б—В–∞.
–†–∞–Ј–≤–µ –µ—Б—В—М —Б–Љ—Л—Б–ї –љ–∞–Љ —Б–∞–і–Є—В—М—Б—П –љ–∞ –і–µ—Б—П—В—М —Б—Г—В–Њ–Ї, –µ—Б–ї–Є 9-–≥–Њ –Љ—Л —Б–і–∞—С–Љ —Н–Ї–Ј–∞–Љ–µ–љ, –∞ 10-–≥–Њ –Љ–Њ–ґ–µ–Љ —Г–µ—Е–∞—В—М –≤ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і?
7 –Њ–Ї—В—П–±—А—П 1953 –≥–Њ–і–∞
–Т—Б—С-—В–∞–Ї–Є –Ј–∞–≤—В—А–∞ –љ–∞—Б –њ–Њ—Б–∞–і—П—В. –°–µ–≥–Њ–і–љ—П –±—Л–ї–Є –≤ –≥–Њ—А–Њ–і–µ, –Є –Ф–Є–Љ–∞ –°–Є–ї–Є–љ –њ–Њ–≥–Њ—А–µ–ї. –Я–Њ–≥–Њ—А–µ–ї –Њ–љ –Њ—З–µ–љ—М –Ї—А–µ–њ–Ї–Њ, –µ–≥–Њ –≤—А—П–і –ї–Є –≤—Л–њ—Г—Б—В—П—В –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–Љ. –Т –Њ–±—Й–µ–Љ, —Б–∞–ґ–∞—В—М –љ–∞—Б –±—Г–і—Г—В –≤–Љ–µ—Б—В–µ.
8 –Њ–Ї—В—П–±—А—П 1953 –≥–Њ–і–∞
–°–µ–≥–Њ–і–љ—П –Њ–њ—П—В—М –њ–Њ–≤–µ–Ј—Г—В –љ–∞ –≥–∞—Г–њ—В–≤–∞—Е—В—Г. –°–µ–≥–Њ–і–љ—П —Г–ґ–µ –љ–µ –Њ—В–≤–µ—А—В–µ—В—М—Б—П.
–Т—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї, –Ї–∞–Ї –≤—З–µ—А–∞ –Љ–µ–љ—П –њ–Њ—Б—З–Є—В–∞–ї–Є –Ј–∞ –њ—М—П–љ–Њ–≥–Њ. –Я—А–Є—И–ї–Є –Љ—Л –≤ –Њ–і–Є–љ –і–Њ–Љ. –С—Л–ї —П, –Ї–∞–Ї –≤—Б–µ–≥–і–∞, —В—А–µ–Ј–≤, –Є –Ї–Њ–≥–і–∞ —Б–µ–ї–Є –Ј–∞ —Б—В–Њ–ї, –≤—Л–њ–Є–≤–∞—В—М –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П. –Ъ–∞–Ї –ґ–µ –Љ–љ–µ –±—Л–ї–Њ —Б–Љ–µ—И–љ–Њ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–і–љ–∞ –і–µ–≤—Г—И–Ї–∞ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞: ¬Ђ–Я—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ. –Т–Є—В–∞–ї–Є—О –±–Њ–ї—М—И–µ –љ–µ–ї—М–Ј—П. –Ю–љ –Є —В–∞–Ї —Г–ґ–µ –Є–Ј—А—П–і–љ–Њ –њ—М—П–љ!?¬ї.
–Э–Њ –Љ—Л –і–∞–ї–Є –њ—А–Њ—Й–∞–ї—М–љ—Л–є –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В!!!
–Ґ—А–Є —З–∞—Б–∞ –і–љ—П. –Я–Њ-—Б–∞-–і–Є-–ї–Є-–Є-–Є-–Є!
¬Ђ–°–Є–ґ—Г –Ј–∞ —А–µ—И—С—В–Ї–Њ–є –≤ —В–µ–Љ–љ–Є—Ж–µ —Б—Л—А–Њ–євА¶¬ї –Є –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О: –≤ 1-–µ –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ–µ –Т–Т–Ь–£ –Љ–µ–љ—П –њ–µ—А–µ–≤–µ–ї–Є 22 –љ–Њ—П–±—А—П 1952 –≥–Њ–і–∞. –Р 24 –љ–Њ—П–±—А—П —П —Г–ґ–µ —Б–Є–і–µ–ї –љ–∞ –≥–∞—Г–њ—В–≤–∞—Е—В–µ.
–°—В–∞–ґ–Є—А–Њ–≤–Ї–∞ –Љ–Њ–≥–ї–∞ –Ї–Њ–љ—З–Є—В—М—Б—П 9-–≥–Њ —З–Є—Б–ї–∞, –Є –Љ—Л —Б—А–∞–Ј—Г –Љ–Њ–≥–ї–Є —Г–µ—Е–∞—В—М –≤ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і. –Р 8-–≥–Њ —З–Є—Б–ї–∞ —П –њ–Њ–њ–∞–і–∞—О –≤ ¬Ђ—В–µ—А–µ–Љ-—В–µ—А–µ–Љ–Њ–Ї¬ї. –Ъ–Њ–ї–µ –Ґ–∞–Є—А–Њ–≤—Г —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –Ј–∞–ї–µ—З—М –≤ —Б–∞–љ—З–∞—Б—В—М –Є ¬Ђ—Б–∞–Ї–∞–љ—Г—В—М¬ї –Њ—В –≥—Г–±—Л.
–Ъ–∞–Ї –ґ–µ –≤—Л—Б–Ї–Њ—З–Є—В—М –Њ—В—Б—О–і–∞ —А–∞–љ—М—И–µ —Б—А–Њ–Ї–∞? –Ъ–∞–Ї –≤—Л–є—В–Є –њ–Њ–Ј–ґ–µ, —П –Ј–љ–∞—О. –Э–Њ –Ї–∞–Ї —А–∞–љ—М—И–µвА¶? –Э—Г–ґ–љ–Њ —З—В–Њ-—В–Њ —Б–і–µ–ї–∞—В—М. –Э–µ —Б–Њ–±–Є—А–∞—О—Б—М –њ—А–Њ—Б–Є–і–µ—В—М –≤—Б–µ –і–µ—Б—П—В—М —Б—Г—В–Њ–Ї. –Ч–∞–≤—В—А–∞ –±—Г–і—Г —Ж–µ–ї—Л–є –і–µ–љ—М –і—Г–Љ–∞—В—М. –Э–∞–і–µ—О—Б—М, —З—В–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М –≤—Л–є–і–µ—ВвА¶
9 –Њ–Ї—В—П–±—А—П 1953 –≥–Њ–і–∞
–Ф—Г–Љ–∞–ї –њ–Њ–ї–і–љ—П. –Ъ–∞–ґ–µ—В—Б—П, —З—В–Њ-—В–Њ –њ—А–Є–і—Г–Љ–∞–ї. –Ю—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П—В—М –љ–∞—З–љ—Г –Ј–∞–≤—В—А–∞. –Ч–∞–≤—В—А–∞ –Є–ї–Є –њ–Њ—Б–ї–µ–Ј–∞–≤—В—А–∞ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –≤—Л–є—В–Є. –° –љ–∞–Љ–Є –С–Њ–≥! –Р–Љ–Є–љ—М!
–Р –≤—Б—П –љ–∞—И–∞ ¬Ђ—И–∞—А–∞¬ї, –љ–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ, —Б–µ–є—З–∞—Б —Б–і–∞—С—В —Н–Ї–Ј–∞–Љ–µ–љ –Є –≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В—Б—П –Ї –Њ—В—К–µ–Ј–і—Г. –Т –±–Њ–ї–µ–µ –≥–ї—Г–њ–Њ–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –µ—Й—С –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –њ–Њ–њ–∞–і–∞–ї.

–Я—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В
12.10.201506:5512.10.2015 06:55:38
–°—В—А–∞–љ–Є—Ж—Л:
–Я—А–µ–і.
|
1
|
...
|
258
|
259
|
260
|
261
|
262
|
...
|
1584
|
–°–ї–µ–і.
|