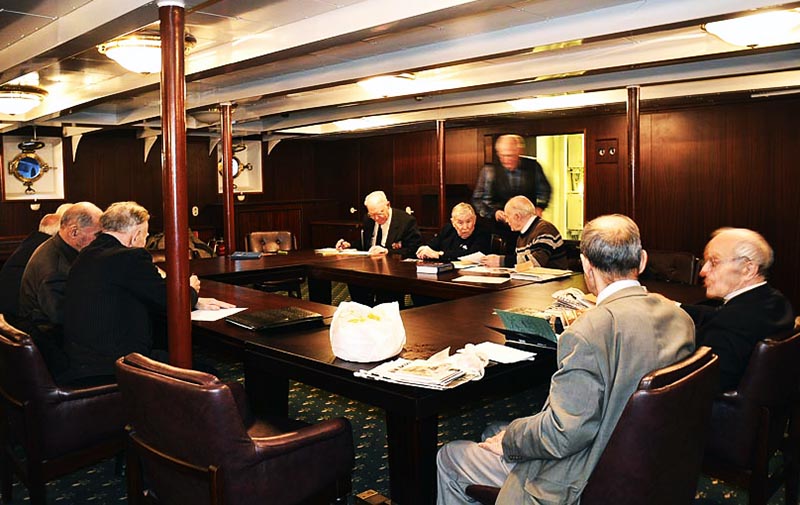Продолжаем публикацию книги Владимира Константиновича Грабаря "Морская школа России"
Ссылки на предыдущие части:
Часть 8
• Гардемаринская рота
Особым подразделением академии являлась Гардемаринская рота. Она возникла как тренировочное подразделение Морского полка Алферия Шневенца и, вероятно, находилась в расположении полка в Шневенской слободе, в устье рек Фонтанки и Мойки, где швартовались галеры.
В 1718 г. число гардемаринов пополнили выпускники Морской академии: Сухотин, Чаплин, Нагаев, Иван-меньшой Кошелев, Чихачев и другие. Гардемаринская рота стала подразделением практического обучения, куда переходили гардемарины академии, завершившие теоретический курс. Туда поступали по экзамену другие образованные юноши: дворяне, бывшие в матросах, сыновья офицеров, побывавшие с отцами в двух кампаниях, и др. В строевом отношении гардемарины составляли роту по образцу гвардейской. В мае 1729 г. адмирал Сиверс уменьшил гардемаринскую роту до комплекта солдатской роты в 144 человека.
20 мая 1723 г. гардемаринам установили форму, сходную с формой Преображенского полка. Гардемарины имели шпаги с золоченым эфесом. Из лучших гардемаринов назначались сержанты и «корпоралы», следившие за порядком в свои отделениях (дивизиях). Из нижних чинов при роте состояли писарь, цирюльник, барабанщик. Имуществом роты ведал каптенармус, тот имел на руках ротные вещи и амуницию и не ходил в походы.
Адмиралтейский регламент определил нахождение гардемаринов в Кронштадте, где они расселялись по квартирам, а в 7 утра собирались и после молитвы шли «в полату, где мастеры их будут учить». Для них было определено недельное расписание занятий: в понедельник утром – рисование (2 часа), в полдень – артиллерия; во вторник утром – инженерская наука, в полдень – навигация; в среду должны ходить в дом, где корабельные мастеры и офицеры объясняют строение кораблей и пропорции всех частей (2 урока по 2 часа). Гардемарины участвовали во всех такелажных работах и валянии корабля.
С острова Котлин в Санкт-Петербург гардемаринов отпускали с разрешения главного командира порта, а домой – только с разрешения Адмиралтейской коллегии. Если вовремя не возвратятся, наказываются, как солдаты. Тот же Адмиралтейский регламент запрещал гардемаринам жениться без указа ранее 25 лет. За нарушение предусматривалось наказание в 3года каторги.
На время плавания Главный командир порта распределял гардемаринов по кораблям в счет солдат десанта, что определялось чеканной фразой государя: «В бой как солдаты; в ходу как матросы» (Веселаго Ф.Ф. Очерк истории Морского кадетского корпуса. С. 68). При этом они имели прислугу – по одному на трех гардемаринов. Согласно уставу, «Капитан должен прилежание иметь, дабы гардемарины обучались наукам (которые они уже в школах имели). И крепко радеть о их обучении, дабы по времени они могли офицерами быть, в чем ежели леностно поступать, тяжкий ответ будет иметь, яко пренебрегатель пользы государства» (Морской устав. Кн. III. Гл. XX, п. 2. (ПСЗ. Ч. I, т. 6. № 3485)). Для изучения наук отводилось 4 часа в день: полтора часа для «штюрманского обучения», полчаса для упражнений с мушкетом, час для об-учения пушечного, час для обучения управлению кораблем. Занятия проводили штурман, констапель и приставленный к ним офицер, практикой занимались «по указанию на верхней или нижних палубах, где пристойно». Каждый гардемарин вел свой журнал.
Командиры и офицеры роты назначались из лейб-гвардии: один капитан, один лейтенант, два унтер-лейтенанта. До 1728 г. командовал ротой гвардии капитан Александр Козинский, затем бывшие при нем капитан-поручик Алексей Захарьин и подпоручики Пасынков (уволен по старости в 1738 г.) и Стерлегов (умер в 1741 г. в Астрахани). В 1741 г. командиром Гардемаринской роты назначен Борис Загряжский, пришедший в роту 20 марта 1728 г. сухопутным унтер-лейтенантом (ПСЗ. Т. 11. № 8367. 28 апр. 1741 г.). С 5 сентября 1747 г. командовал Гардемаринской ротой и проводил экзерциции заведующий Морской академией капитан Селиванов.
Обучение в Кронштадте производилось офицерами флота, недавними выпускниками академии. Бывало, что Адмиралтейств-коллегия вызывала из Кронштадта «для определения в Академию к обучению гардемарин». Так, по просьбе командира Гардемаринской роты лейб-гвардии капитана Козинского были вызваны Алексей Чириков и Алексей Нагаев. Мичману Нагаеву в то время было 18,5 лет, унтер-лейтенант Чириков на 3 месяца старше. Чириков показал себя талантливым педагогом и оставался при академии до 1724 г., когда его избрали в экспедицию Беринга. Нагаев оставался до 1729 г., затем участвовал в учебном походе эскадры Д.И.Калмыкова в Архангельск и вместе с ним уехал в Астрахань, занимался гидрографическими работами на Каспии и Финском заливе. Алексею Скуратову в 1724 г. было 18, он также «в бытность при гардемаринской академии, в управлении сержантской должности, обучал гардемарин указанным наукам и экзерциции ружьем» и только в 1726 г. произведен в мичманы, а затем тоже попадает в Северную экспедицию, в отряд Степана Малыгина. Загряжский, бывший геодезии подмастерье, обучил как минимум десятерых гардемаринов, хорошо аттестуемых в 1738 г.
Гардемарину надлежало быть в чине не менее 7 лет, даже если он исполнял должность мичмана. За это время он должен был привыкнуть к морю, овладеть навигацией, артиллерией и прочими офицерскими обязанностями. Обучаясь на палубах кораблей, гардемарины «совершили с нашим флотом все плавания, трудились при съемках берегов, в близких и дальних морях, и участвовали во всех наших морских битвах» (Книга Устав Морской 1720 г. СПб., 1763. С. 49; Веселаго Ф.Ф. Очерк истории Морского кадетского корпуса. С. 77).
В 1733 г. командир роты Захарьин представил к экзамену 20-летнего гардемарина Григория Спиридова (1713-1790), показавшего отличные знания. Но в академии Г.Спиридов не учился, он пришел на флот волонтером в 10лет, в гардемарины зачислен в 15, служил на Каспии, где его воспитывал А.И.Нагаев, и милостиво награжден рангом «мичмана», обогнав в чине 36 человек, «чтобы прочие гардемарины, смотря на то, рачительнее тщились обучать науки». Ученики академии, перешедшие в гардемарины, не многим отличались от пришедших в гардемаринскую роту со стороны. Разница в том, что одни первые четыре года учились в Санкт-Петербурге и три года служили на кораблях, другие поступали, имея запас знаний. И все ходили два дня в неделю на теоретические занятия в школах, организованных в портах.
С 1728 по 1734 г. Гардемаринская рота состояла при Академии, для чего ей были отведены две комнаты, и звание «гардемарин» распространили почти на всех учеников, чтобы поднять им жалование. В 1732 г. рота участвовала во встрече кортежа Анны Иоанновны при возвращении двора в Петербург. Помимо всего, рота являлась неким кадровым «депо» – запасом подготовленных людей, ожидавших производства в офицеры на открытые вакансии. В 1737 г. исключены 24 гардемарина возраста от 32 до 45 лет, а в 1739 г. гардемарин оставалось всего 39 (66) человек. В 1744 г. «по болезни и старости, и как ко обучению наук находиться уже не надежен» уволен после 30-летней службы 54-летний гарде-марин Иван Трубников (Веселаго Ф.Ф. Очерк истории Морского кадетского корпуса. С. 135. Примеч. 110; ЖАК. 1744 г. Дек.). Стать офицером было очень трудно, что не касалось высоких особ (при Екатерине I годовалого А.А.Нарышкина произвели в мичманы флота). Затем роту перевели снова в Кронштадт, в 1740-е гг. туда посылались и учителя академии, а с 1748 по 1752 г. 90 гардемаринов зимой вновь находились при академии, а в иные периоды рота гардемаринов и Морская академия сливаются.
Академическая экспедиция
Большую путаницу в список начальников академии внесло два вида управления. После Александра Нарышкина управление Морской академией разделилось на главное командование из флагманов Адмиралтейств-коллегии и директорство академией из капитанов. Так, в отношении вице-адмирала Вильстера, принявшего в 1727 г. дела у Нарышкина, говорилось как о высшей дирекции над академией по чину Адмиралтейств-коллегии. Непосредственно руководил академией капитан 3-го ранга П.К.Пушкин, как «директор для управления Морскою Академией». В марте 1730 г. его сменил капитан 2-го ранга Василий Алексеевич Мятлев, а в 1732 г. – капитан-лейтенант Василий Михайлович Арсеньев (Возможно, речь идет о Василии Михайловиче Арсеньеве (ум. после 1727) – брате жены Меншикова Дарьи Михайловны. Он в молодости находился при русском посольстве в Голландии, затем принимал участие в Северной войне в качестве капитана каперского корабля на Балтике, в царствование Петра II стал гофмейстером. Его карьера закончилась после ссылки «светлейшего», т. е. Меншикова).
По штату декабря 1732 г. Академия попала в ведение одного из двух советников Адмиралтейства в ранге контр-адмирала (О разделении дел Адмиралтейской коллегии и контор по экспедициям (ПСЗ. Т. 8. № 6156от 21авг. 1732 г.; ПСЗ. Ч. 1, т. 44. № 6273от 3дек. 1732 г.). По мнению Веселаго и других авторов, в 1732 г. Академическая контора преобразована в Экспедицию Академий и Школ, имевшую в своем ведении все морские и губернские училища, типографию и всю гидрографическую часть. Но законом отдельной академической экспедиции или конторы никогда не предусматривалось, а было два советника (см.: Веселаго Ф.Ф. Очерк истории Морского кадетского корпуса. С. 140)). Таким советником, заведующим Морской академией и школами, с февраля 1731 по июнь 1739 г. был контр-адмирал князь В.А.Урусов. С 16 октября 1739 до 30 октября 1741 г. эту должность как советник Адмиралтейств-коллегии исполнял, теперь уже контр-адмирал, Петр Калинович Пушкин (его брат Иван был женат на Татьяне Меншиковой, сестре светлейшего князя).
Второй советник занимался гидрографией, таковым был А.И.Нагаев, назначенный в Академическую экспедицию в 1744 г. и вновь в октябре 1746 г. Вместе с лейтенантом Афросимовым он составлял карты Камчатского моря и Американского берега по материалам, привезенным капитаном А.И.Чириковым, и приводил другие карты «в самую аккуратность». Чириков также был поставлен 18 апреля 1746 г. «в присутствие в Академическую Экспедицию к смотрению над школами». В течение шести последующих лет на должность директора Морской академии никого не назначали, пока в 1752 г. на исправление дел не был поставлен капитан 2-го ранга Нагаев.
Непосредственно академией руководил командир гардемаринской роты. Последний заведующий академией Селиванов, окончив в академии круглую навигацию, попал в фехтовальные подмастерья и получал чины как офицер «от солдат». В 1739 г. он принял академию, и, в конце концов, на нем замкнулось все управление захиревшим морским образованием.
Морская подготовка во флоте
• Организация морской подготовки флота в 1720-е гг.
Деятельность экипажа корабля во все времена являет собой образец согласованной коллективной деятельности, где все члены команды, от матроса до капитана, знают свои обязанности и умеют их вовремя исполнить. Только отменная выучка и четкое понимание своих действий всеми моряками без исключения позволяют надеяться на счастливое плавание, на победу в бою, на успех в борьбе с непогодой. Обучение личного состава флота, корабельных служителей, организовывал генерал-адмирал или аншеф командующий, устраивая учения при любой возможности.
Каждый матрос должен был точно знать свои действия в различных ситуациях, из них самое трудное – работа с парусами. Матрос должен изучить все многообразие снастей, разбираться во всех сложностях бегучего такелажа, уметь не только ставить, убирать или зарифливать паруса (подвязывать для уменьшения парусности), но и устранять неисправности и штормовые повреждения. «Наирасторопнейшие» матросы определялись в рулевые и марсовые. Рулевые должны знать компас и уметь править рулем, бросать ручной лот. Марсовые – те, кто работал на мачтах, в верхних ее частях, стеньгах и бом-стеньгах, – должны обладать качествами настоящего моряка.
В матросы набирали мужчин от 15 до 20 или 25 лет. В 1720-е гг. считалось, что хороший матрос, как и хороший работник, не может получиться ранее 5 лет службы на море и быть моложе 20 лет, «разве какой чрезвычайный случай будет» (См.: Книга Устав Морской 1720 г. Кн. 3. Глава 1. «О капитане», п. 53; а также: ПСЗ. Ч. I, т. 6. № 3561 от 5 апр. 1720 г.; № 3728 от 3 февр. 1721 г.). Английский офицер Д.Ден, служивший в Российском флоте с 1711 г., через 10 лет помянул: «Если вычесть офицеров, унтер-офицеров, гардемарин и каютных юнг, при выходе в море не оказывается и 40, а то и менее 30 таких, которых можно бы было считать матросами 1-й статьи» (Ден Д. История Российского флота в царствование Петра Великого. СПб., 1999. С. 128). А к концу Северной войны на флоте уже задумывались, как в мирное время не потерять накопленную квалификацию. Велено было из новых матросов каждого пятого отдавать на торговые суда для учебы. Позволялось молодым матросам 14-15 лет служить на английских и голландских кораблях под поручительство отцов и матерей и иных свойственников вновь представить их в 17 и 20 лет. «Малолетние», служившие на торговых судах, с 18 лет автоматически считались матросами (Регламент о Управлении Адмиралтейства и верфи и часть вторая Регламента Морского. Гл. I, п. 75, 76, 78, 80 (ПСЗ. Ч. I, т. 6. № 3937 от 5 апр. 1722 г. С. 538-539)).
Чины унтер-офицеров по способу обучения можно разделить на две группы. Одна – те, кто продвигался от нижних чинов, не повышая образования, и чьи знания обретались вместе с опытом службы: сержант – капрал – боцман – шхипер. Другая группа – высокие профессионалы, получившие первоначальное профессиональное образование: штурман, лекарь и, отчасти, констапель. Занятия с ними проводились в их профессиональных объединениях: в штурманской роте, в портовых госпиталях, в артиллерийских командах и т.п.
Штурманов, как и лекарей, не считали военными людьми, к тому же основную их часть составляли иностранцы. Они приходили на корабль только на время похода. В Адмиралтейском регламенте упоминаются «штурмана с их матами» (Регламент о Управлении Адмиралтейства и верфи и часть вторая Регламента Морского. Гл. I, п. 64), что дало повод для множества прибауток о хамском поведении штурманов, их холопском происхождении и о допуске их в кают-компанию. Но на кораблях Петра I кают-компаний не было, а под «матами» (от английского mate – приятель, помощник, напарник) подразумевались всего лишь подштурманы, также как боцманматы у боцманов. Штурманы из русских учились в навигацкой школе вместе с будущими капитанами и не раз доказывали свой высокий уровень подготовки. Вышедшая в 1720 г. Табель о рангах оставила штурманов за рамками 14 классов, что обернулось для штурманов из дворян настоящей трагедией.
• Обучение личного состава флота в порту
Во время пребывания корабля в порту экипаж судна, кроме караула, переходил на берег, поднимаясь на борт только для работ. Судно разоружалось, разоснащалось (снимались мачты и пр.), а на зиму даже разбирались палубы, чтобы избежать гниения дерева. В Кронштадте пять месяцев в году стоял лед, это время использовалось для ремонта и обучения.
Все морские служители на берегу оставались в ротах со своими командирами. Главный командир порта приказывал устраивать всякие экзерциции по должности чинов, как определено, и смотреть, дабы отправлялись не видом, но самым делом. Занятия должны были посещать лейтенанты, унтер-лейтенанты и гардемарины, отдельно занимались солдаты, артиллерийские команды, матросы и корабельные ученики.
Матросы под руководством командира роты (командира корабля) обучались экзерциции солдатской. За этим зорко следили майор или секунд-майор, командовавший солдатами. Конечно, трудно представить, чтобы с матросами проводились другие занятия, когда в Кронштадте строились гавани и форты. Судя по эпизодам военного времени, обучение матросское начиналось при выходе в море и длилось до подхода к Гогланду, после чего они вступали в бой.
Лейтенант и унтер-лейтенант в порту обязаны ходить в школы так часто, как командир над портом определит… Все офицеры должны присутствовать в конференциях, которые случатся у главных командиров об исправлении навигации морской… Занятия по устройству корабля организует обер-сарваер (главный кораблестроитель). Он должен проверять занятия в школах, правильность толкования офицерами о корабельном деле, равно и занятия, где морским офицерам и гардемаринам и ученикам корабельные мастера толкуют пропорции и члены корабельные, и следить, чтобы объяснялось исправно и вразумительно. Также он должен обучать мачтовому делу тех плотников, которые посылаются на корабли, «дабы в вояже могли не токмо починку мачтам, райнам (реям) и стеньгам, но и новые сделать» (Регламент о Управлении Адмиралтейства и верфи и часть вторая Регламента Морского. Гл. XX, п. 28 С. 583).
В Регламенте не единожды упоминаются занятия в школах, под этим понимаются классные занятия, может быть, даже в специальном помещении. Занятия гардемаринов в порту описаны настолько подробно, что Гардемаринскую роту принимают за Академию. Специальное обучение также должно быть у штурманов и артиллеристов, но загадка в том, что долгое время никаких сведений о специальных образовательных учреждениях не было.
• Некоторые сведения об обучении констапелей
По артиллерийской части занятия устраивали цейхмейстер и офицер артиллерии гавани. Им вменялось, чтобы в обучении было не менее 150 пушкарей, при этом отбирать «лучших и охочих, дабы потом оные не токмо в унтер, но и в обер-офицеры годились. Прочих же пушкарей, что нужное обучать…». В обер-офицеры попадали школьники Московской навигацкой школы или грамотные юноши, знавшие основы геометрии. Пушкари должны были уметь заряжать и наводить орудия не только в хорошую погоду, но и при волнении, в условиях качки. Изучали свойства и силу пороха в пробах и как его употреблять с осторожностью. На учебных стрельбах делали горизонтальные выстрелы прямой наводкой и «с элевацией» с разных дистанций, для чего следовало устроить мишени – подобие корабля в 150 сажень геометрических, по которым можно стрелять с берега и кораблей с учетом морского волнения. «На стрельбах присутствовать всем офицерам, унтер-офицерам и рядовым, капитаны должны посылать каждый день десятую часть матросов и солдат роты для науки пушечной» (Регламент о Управлении Адмиралтейства и верфи и часть вторая Регламента Морского. Гл. IV, п. 2, 11-13; Гл. V, п. 3 (Там же. C. 624, 626)). Таким образом, подготовка артиллеристов от пушкаря до констапеля на флоте проводилась практическим путем.
Особое внимание подготовке артиллеристов уделялось во времена Анны Иоанновны и при Елизавете Петровне. Тому способствовали инженеры по образованию К.-Б.Миних, затем А.П.Ганнибал и П.И.Шувалов. Указом от 22 апреля 1734 г. на пробу был устроен Корпус морской артиллерии, состоявший из 4 батальонов и отдельной бомбардирской роты в роли учебного подразделения (О штате учрежденного корпуса Морской Артиллерии на пробу Корпус Морской Артиллерии (ПСЗ. Ч. I, т. 9. № 6568 от 22 апр. 1734 г.). В начальной биографии героя Архипелага Исаака Ганнибала есть следующее замечание: в 1744 г. вопреки воле родителей 9-летнего мальчика записали в военную службу и определили для обучения в Петербургскую морскую артиллерийскую школу. Трудно представить, чтобы в семье генерал-майора и ревельского обер-коменданта фон Ганнибала, инженера и артиллериста, возражали против зачисления сына в артиллерийскую школу, но никто в Петербурге не знает адреса этой школы. Легче представить, что военный инженер Абрам Ганнибал, уже обучавший кондукторов в Пернове (Пярну, 1731 г.), организовал такую школу в Ревеле, где он оставался до 1745 г. На эту мысль наталкивает факт из биографии Петра Кашкина, кому также приписывают создание артиллерийской школы. В 1742 г. он получил тяжелое ранение в ногу и, по некоторым сведениям, лечился в Ревеле, а в 1747 г. ему поручено формировать ревельский гребной флот. В любом случае появление в Ревеле артиллерийской школы не вызывает удивления.
Продолжение следует
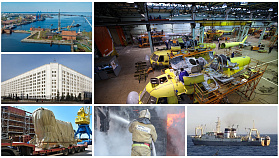 Важное
Важное
Главное в отраслевых СМИ за неделю: оптимизация Минобороны, субсидии для ОПК на "гражданку", стоимость модернизации "Северной верфи"