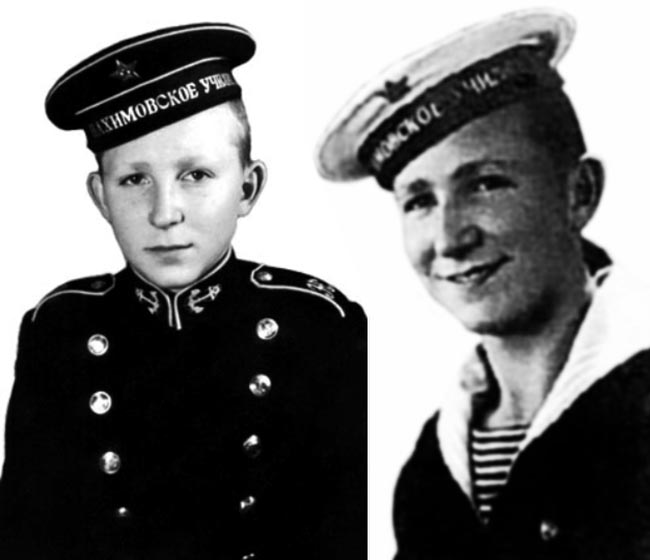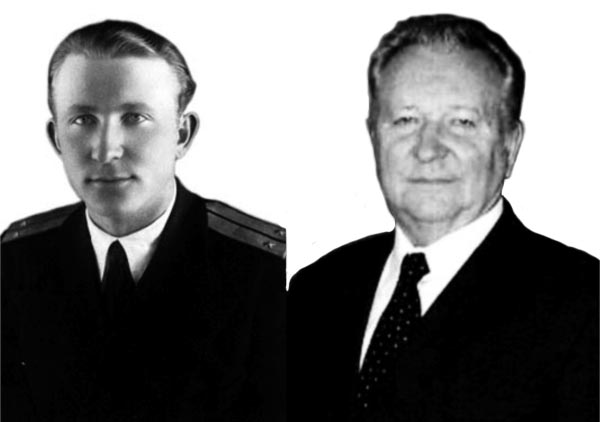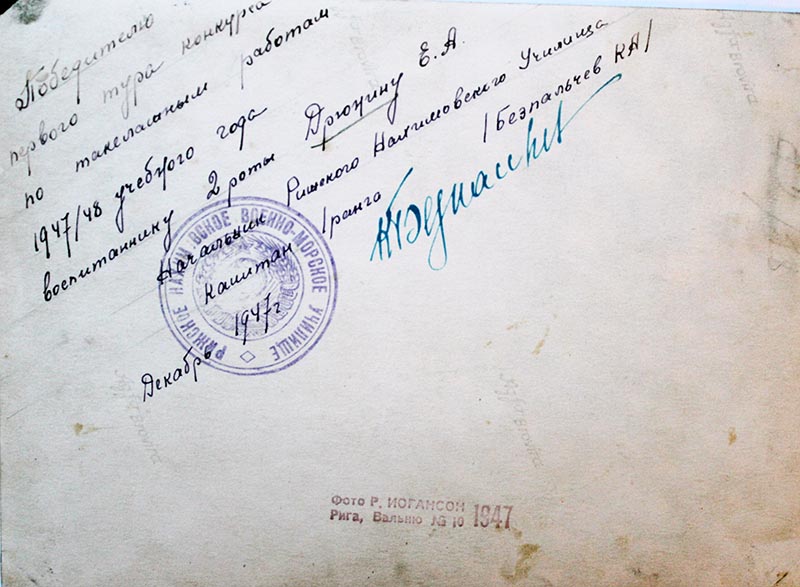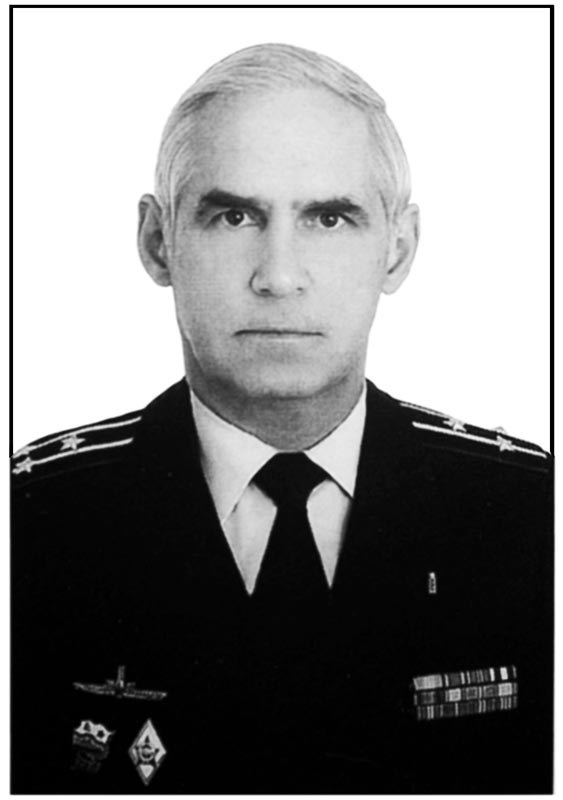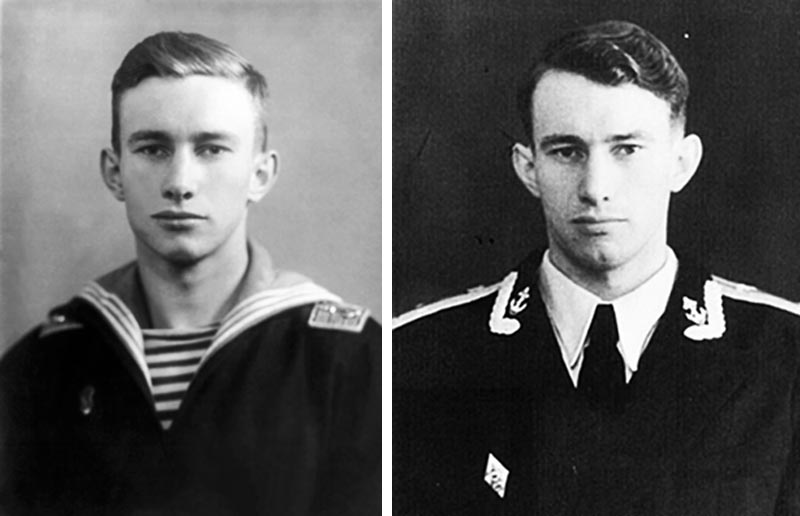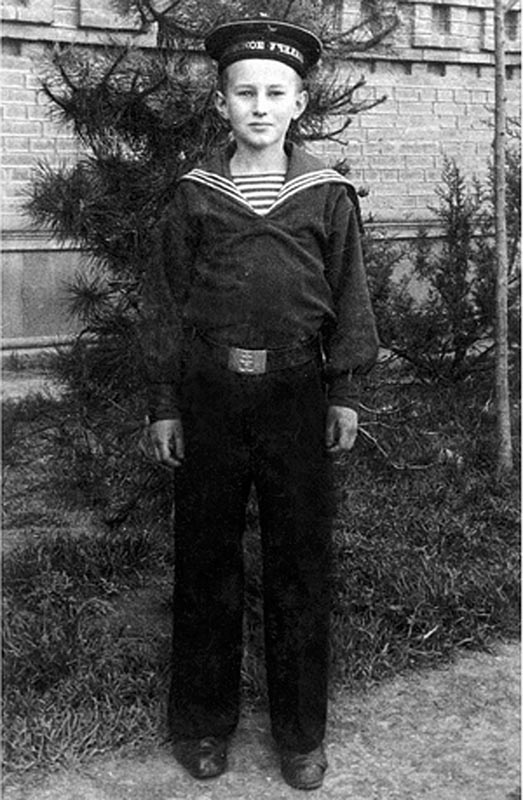20 ноября в полдень на рейд Ханко прибыл новый отряд кораблей под командованием командира дивизиона тральщиков капитана 3 ранга Д.М. Белкова. В состав отряда входили сетевой заградитель «Азимут», сторожевой корабль «Вирсайтис» и тихоходные тральщики №№ 58, 35, 42 и «Клюз». Чуть позже этого отряда пришли два базовых тральщика.
21 ноября погрузили и отправили следующий эшелон в составе транспорта «Вахур», сетевого заградителя «Азимут» и шести тихоходных тральщиков. Эшелон под командой М.Д. Белкова увез с Ханко 2051 человека, 520 тонн продовольствия, 8 тонн медицинского имущества. В трюм транспорта «Вахур» погрузили 18 танков Т-26, 400 тонн ржаной муки, 66 тонн сахара, 16 тонн макарон, много шоколада, какао, варенья, шпротов и т.д.
Погода, когда этот отряд ушел, резко ухудшилась. Тихоходный «Вахур» отстал от остальных. Но он все же благополучно дошел до Гогланда. А вот сетевой заградитель «Азимут» на пути к этому острову в ночь на 22 ноября натолкнулся на плавающую мину и затонул. На нем погибли 288 человек из гарнизона Ханко и весь экипаж. Подорвался на мине и тральщик № 35 «Менжинский». Вместе с ним погибли еще 290 человек с Ханко. Только десять человек подобрали другие корабли.
22 ноября наконец вышел в Кронштадт минный заградитель «Урал» в сопровождении базовых тральщиков №№ 205, 215,217 и 218 и пяти катеров МО под общим командованием капитана 1 ранга Н.И. Мещерского. Этот пятый эшелон увез 4588 человек с Ханко. Отряд Мещерского благополучно прибыл в Кронштадт. После ухода пятого эшелона на полуострове еще остались 13180 человек. Кроме того, предполагалось отправить в Ленинград 500 тонн боезапаса и 800 тонн продовольствия.
23 ноября на Ханко прибыл новый отряд под командованием капитан-лейтенанта Г.С. Дуся. В его составе были транспорт № 548 «Минна», сторожевой корабль «Коралл», тральщик «Ударник» и два катера МО. Немедленно началась погрузка на эти корабли. Наиболее вместимым оказался транспорт, он принял вооружение, боеприпасы и 1756 человек. Не успела еще закончиться погрузка этих кораблей, как утром 24 ноября на рейд прибыл отряд капитана 3 ранга Белкова. Он привел сторожевые корабли «Вирсайтис» и № 18, тральщики «Клюз» и «Орджоникидзе» («Т1Ц-42»), два катера МО. Теперь на Ханко собралось 11 кораблей - загруженных и ожидавших погрузки. К вечеру 24 ноября была закончена погрузка транспорта «Минна», сторожевого корабля «Вирсайтис», тральщиков «Ударник», «Клюз», «Орджоникидзе» и четырех катеров МО. Эти корабли взяли на борт 2556 человек и 350 тонн продовольствия. С наступлением темноты данный отряд под общим командованием Белкова вышел в Кронштадт. До Гогланда дошли все корабли, кроме тральщика «Клюз», который подорвался на мине и затонул в течение четырех минут: из-за взрыва образовался большой дифферент на нос, оголились винты, и корабль почти вертикально ушел под воду. Спасти никого не удалось. Вместе с «Клюзом» и его экипажем погибли 150 эвакуированных. На подходе в светлое время к Гогланду отряд был трижды атакован авиацией противника, но сумел отразить все атаки, не понеся потерь. После ухода с Ханко отряда Белкова в базе остались парусно-моторная шхуна «Эрна», пришедшая с Хийумаа, и два сторожевых корабля – «Коралл» и № 18. Началась погрузка этих кораблей. Шхуну «Эрна» решили полностью загрузить продовольствием и боезапасом и дать ей небольшую охрану (22 человека). 27 ноября с наступлением темноты шхуна «Эрна» покинула Ханко. Следуя вдоль северного берега Финского залива, она благополучно дошла до Гогланда. 28 ноября ушли последние сторожевые корабли «Коралл» и № 18, взявшие на борт 399 человек и 150 тонн угля, необходимого для снабжения кораблей, участвовавших в эвакуации гарнизона. И этот эшелон дошел благополучно. После этого на Ханко остались 11820 человек, считая гарнизон Осмуссар. 22 ноября началась эвакуация острова Осмуссар, где находились 1008 человек. С 23 по 30 ноября канонерская лодка «Лайне» вывезла с острова на Ханко 649 человек.
Для эвакуации последнего эшелона гарнизона на Ханко 29 и 30 ноября прибыли два отряда кораблей. В первом были эсминцы «Стойкий», «Славный», базовые тральщики №№ 205, 207, 211, 215, 217, 218, семь катеров МО и огромный турбоэлектроход «И. Сталин». Во второй отряд входили базовый тральщик № 210, тральщик «Ударник», сторожевик «Виртсайтис», канонерская лодка «Волга», два катера МО и транспорт № 538. В 40 милях от п-ва Ханко корабли второго отряда были атакованы отрядом кораблей противника в составе трех канлодок и четырех сторожевых кораблей, после непродолжительной перестрелки, ответным огнем сторожевого корабля «Виртсайтис» и канлодки «Волга», атака была отбита.
В ночь с 1 на 2 декабря с острова Осмуссар тральщик «Гафель» снял 359 последних его защитников. В ночь со 2 на 3 декабря батареи Осмуссара были взорваны, а подрывники на катере МО без захода на Гангут ушли к острову Гогланд. На Ханко также были взорваны все батареи, семь танков Т-26 и одиннадцать плавающих танков Т-37.
Интересный случай произошел с 305-мм железнодорожной батареей № 9. По приказу командования стволы были взорваны, разрушены противооткатные устройства, железнодорожные тележки сброшены в воду. Казалось бы, батарею полностью уничтожили. Но в 1944 году разведка доложила, что все три установки введены в строй и ведут огонь по позициям советских войск на Карельском перешейке. Оказалось, что немцы передали финнам захваченные во Франции 305-мм орудия линкора «Генерал Алексеев» (бывший «Воля», бывший «Император Александр III»), входившего в 1920-24 годы в состав эскадры Врангеля в Бизерте. Финны подняли тележки из воды и заменили сломанные детали противооткатных устройств. В январе 1945 года 305-мм железнодорожная батарея была возвращена СССР, где вошла в строй под № 294. Сейчас одно из этих орудий экспонируется в форте «Краснофлотский» («Красная Горка»). 2 декабря в 17.55 покинул Ханко отряд кораблей в составе транспорта № 538, базового тральщика № 210, канонерских лодок «Волга» и «Лайне», сторожевого корабля «Вирсайтис», тральщика «Ударник», двух катеров МО и четырех ханковских буксиров. На борту этих кораблей находилось 2885 защитников Гангута. Этот отряд благополучно прошел до Ленинграда, если не считать гибели 3 декабря сторожевого корабля «Вирсайтис» (из 246 находившихся на нем эвакуируемых удалось спасти только 96) и повреждения на мине канонерской лодки «Волга». 2 декабря в 22 часа с рейда Ханко вышел последний эшелон - отряд кораблей под командованием вице-адмирала В.П. Дрозда. В его составе были: турбоэлектроход «И. Сталин», эсминцы «Стойкий» и «Славный», базовые тральщики №№ 205, 207, 211, 215 и 218, семь катеров МО и четыре торпедных катера. Эти корабли везли 8935 гангутцев. Из них на борту турбоэлектрохода «И. Сталин» находилось 5589 человек.
3 декабря в 1.16 транспорт № 521 «И. Сталин» подорвался на мине. Взрыв вывел из строя рулевое управление и гирокомпас. Было повреждено правое крыло мостика, ресторан 3-го класса, где были убитые и раненые. Корабль покатился вправо, став поперек курса. В 1.22 за первый взрывом последовал второй - в кормовой части. Взрывом была оторвана корма с румпельным отделением и, по-видимому, винтами. Разрушена часть кают 2-го класса и кормовая часть трюма № 3, который заполнился водой, в нем погибли люди. Судно осталось без хода и управления. Около гибнущего турбоэлектрохода находились эсминец «Славный», базовые тральщики № 217 и № 205, четыре катера МО и ханковский катер ЯМБ. Эсминец «Славный» и базовый тральщик № 217, выполняя приказ командующего эскадрой, попытались взять турбоэлектроход на буксиры.
Но в 1 час 26 минут под корпусом турбоэлектрохода раздался третий взрыв в районе трюма № 1. Трапы, ведущие в трюм, были уничтожены, разрушен форпик, носовой отсек и каюты 3-го класса, отдался правый якорь. Большинство людей, находившихся в разрушенных помещениях и трюме № 1, погибли. Уцелевшие одиночки вытаскивались из трюма на тросах, так как трапы были сбиты.
Эсминец «Славный», на борту которого находилось 602 эвакуированных, боясь подрыва, отошел от гибнущего судна. Которое потеряв брашпиль и якоря беспомощно дрейфовало на минном поле.
В 3.25 «Славный» опять начал сдавать задним ходом к турбоэлектроходу, пытаясь подать концы на транспорт. С левого борта в расстоянии 1,5 кб были замечены всплески от падения снарядов, 305-мм финская батарея с острова Макилуото батарея открыла огонь по кораблям. В 3.31 корма эсминца подошла к носу турбоэлектрохода. Подали бросательные концы и проводник, но в этот момент (около 3.32) произошел четвертый и самый сильный взрыв под носовой частью «И. Сталина». Огромный столб огня, высотой метров семьдесят, поднялся над турбоэлектроходом. От взрыва сдетонировали снаряды в трюме № 3. Корабль стал резко погружаться носом. Взрыв произвел разрушения палубы, надстроек и мостика. Большинство людей в трюме № 2 и вблизи трюма погибли. Также были убиты все находившиеся в салоне № 2. Одновременно со многими бойцами-ханковцами погибла почти вся палубная команда «И. Сталина»
В таких условиях буксировка турбоэлектрохода становилась невозможной. С «И. Сталина» передали на «Славный»: «Снимать людей и уходить». У командования конвоя явно сдали нервы. Когда катер МО-112 попытался подойти к борту «Сталина» с целью спасения экипажа, командир эсминца «Славный» решил, что конвой атакован финским кораблем и открыл огонь по катеру. Попаданием 130-мм снарядов катер был потоплен. Переполненные корабли с трудом сняли со «Сталина» и подобрали из воды 1740 человек. На борту транспорта осталось 3346 человек. В конце концов, адмирал Дрозд отказался от снятия людей со «Сталина» и приказал идти в Кронштадт.
Полузатопленный транспорт дрейфом снесло к южному берегу, и через несколько дней его захватили немецкие катера и отбуксировали к эстонскому берегу. Как писал немецкий адмирал Фридрих Руге, на борту «Сталина» были обнаружены «несколько тысяч трупов и живых людей».
Из воспоминаний участника тех событий командира МО - 210 старшего лейтенанта В. М. Панцырного: «Я получил приказание идти в охранение теплохода «Иосиф Сталин». В трюмах этого океанского красавца были погружены снаряды и мука.
В каютах размещались раненые. Их было много - целый госпиталь.
Поздно вечером эскадра снялась с якорей. МО-210 занял свое место в походном строю в пятидесяти метрах от левого борта теплохода.
Вдали виднелся опустевший городок. По его заминированным улицам бродили только оставленные кошки. Дома, деревья, столбы и скалы от наклеенных листовок и писем Маннергейму стали пестрыми. Все, что имело хоть какую-нибудь ценность, - изрублено, поломано, уничтожено. На полуострове остались лишь команды саперов и подрывников. Они будут догонять эскадру на торпедных и пограничных катерах.
Погода выдалась неблагоприятной для похода. Волнение усиливалось. Резкий ветер дул в корму. Он как бы подгонял корабли быстрей пройти опасные места.
Луна то пряталась за клубящиеся беспокойные облака, то выглядывала на несколько минут, чтобы по¬серебрить черные силуэты кораблей.
Эскадра, развив хорошую скорость, к двум часам ночи вышла к большому минному полю, перегораживающему самую узкую часть Финского залива. И здесь почти на траверзе Таллина раздались первые взрывы.
Ровно в два часа десять минут раздался взрыв по левому борту теплохода. Взрыв сильный, подбросило даже наш катер, хотя мы шли стороной метрах в шестидесяти. Но теплоход двигался с прежней скоростью. «Значит, машины не повредило», - подумал я. Через десять минут новый взрыв, уже по правому борту. У теплохода заклинило руль. Вижу - разворачивается прямо на меня, словно уступая путь позади идущим. Я тоже отошел влево. Жду, что будет дальше. Слышу, загремела якорь-цепь теплохода.
Миноносец «Славный» обошел нас справа и вскоре застопорил ход. Остановился и концевой тральщик. А корабли, которые были впереди нас, продолжали двигаться. Вскоре они скрылись.
В половине третьего я записал в вахтенный журнал, что ветер усилился до семи баллов. Видимость еще больше ухудшилась. Якорь теплохода, наверно, оторвался. Корабль развернуло почти на обратный курс и ветром сносило на зюйд-ост.
Я все время находился по левому борту, нес охранение. Взрывы, конечно, привлекли внимание противника. С берега принялись стрелять дальнобойные пушки, стремясь нащупать нас. Снаряды рвались с недолетом.
Ровно в три часа под кормой теплохода раздался новый взрыв. Пассажиры, требуя, чтобы их сняли с подбитого судна, принялись палить в воздух из автоматов и винтовок трассирующими пулями. Они не понимали, что помогают артиллеристам противника пристреляться.
Два тральщика протралили на минном поле коридор к миноносцу. «Славный» задним ходом стал подходить к теплоходу. Он почти приблизился вплотную, осталось только подать буксирный конец... и в эту минуту в теплоход угодил крупнокалиберный снаряд. На полубаке во все стороны полетели красные и зеленые огни.
Миноносец, опасаясь нового попадания, быстро отошел на старое место и бросил якорь.
К «Славному» попытался было подойти один из вернувшихся МО, но командир миноносца, приняв его за торпедный катер противника, приказал открыть огонь.
С первого же залпа катер был накрыт. Он разлетелся в щепки. Тральщик подобрал только двенадцать человек из всей команды.
Теплоход с сильным дифферентом на нос продолжал дрейфовать на минном поле. Его полубак был на уровне моря. Волны перекатывались по палубе. Стало ясно: таким притопленым миноносец не сможет его буксировать. Надо спасать людей. Я решил приблизиться.
Вокруг теплохода сновали тральщики и катера. Они, как и я, подходили к нему, пытаясь снять людей. Но делать это было трудно. Стоило подойти к борту, как обезумевшие пассажиры сверху сыпались на палубу. За одну минуту у меня очутилось человек сорок. Пришлось отойти.
В темноте я наткнулся на какие-то плавающие обломки, за которые держались люди. Даю приказание: «Подобрать тонущих!»
Вытаскивать полуживых людей из воды в штормовую погоду очень трудно. На обледенелой палубе ноги скользят. Катер то вздымается вверх, то летит вниз. Но мои ребята наловчились крюками подцеплять за одежду плавающих и, уловив момент, втягивать на катер.
Мы спасли еще человек десять, разместили их в кубриках и в машинном отсеке, где было жарко.
Тут ко мне приблизился МО-106. Капитан третьего ранга Капралов в мегафон спросил, сколько мы подобрали. Узнав, что мне некуда девать спасенных, он приказал идти к миноносцу.
Первым к «Славному» подошел МО-106. Но пришвартоваться к борту не смог. Волной катер поднимало выше палубы миноносца. Единственное, что можно было сделать, это подойти с кормы на бакштов. Капралов так сделал. Он подал конец на корму миноносца и подтянулся. Но сгрузить всех людей не успел, катер бросило волной на миноносец. Затрещал форштевень.
Больше Капралов не пытался подходить к миноносцу. - Скоро будет светать, - крикнул он мне. - Ты тут с таким перегрузом бесполезен. Пойдешь в охранении «Славного». В случае артобстрела прикроешь дымзавесой.
В семь часов двадцать пять минут «Славный» снялся якоря и лег курсом на Гогланд. Я занял свое место по левому борту. Пошли малым ходом, у миноносца что-то неладное было с машиной.
Ветер повернул, стал дуть с норд-оста. Волна встречная. Катер заливало. Он оброс льдом и сосульками. Время от времени я приказывал скалывать лед.
Вся одежда на мне промокла, стал похож на деда-мороза. Кругом посветлело. В далекой дымке виднелись башни Таллина.
В девять часов двадцать четыре минуты нас принялась обстреливать крупнокалиберная артиллерия с финского берега. Я прикрыл «Славного» такой дымзавесой, что сам не смог его разглядеть. Обстрел прекратился. Но как только дымзавесу развеяло, опять начали воз¬никать белые столбы разрывов по курсу. Противник никак не мог приспособиться к скорости миноносца.
Механики «Славного» сумели на ходу исправить повреждения, и машины заработали как им полагалось. Я едва поспевал идти впереди и тянуть за собой хвост густого дыма. Снаряды рвались близко, но ни один не угодил в нас.
По пути мы встретили миноносец «Свирепый», мощный буксир и спасательное судно. Они спешили на помощь к покинутому теплоходу.
«Не поздно ли их выслали?» - подумалось мне. Шторм не унимался. В просвете среди рваных облаков показалось тусклое солнце. Обледеневшие корабли засверкали как бриллиантовые. Красота была зловещей.
К Гогланду мы подошли в темноте. В бухту не войти. Огромные водяные валы с пушечным грохотом и ревом разбивались о волнорез. Ветер дул в корму. Нас бросало из стороны в сторону. Катер подхватило высокой накатной волной и боком внесло в проход бухты.
Здесь первым долгом мы высадили укачавшихся пассажиров. Шторм и морская болезнь сильно измотали ханковцев. Они едва брели, держась друг за дружку.
Мои ребята тоже устали, но у них хватило сил произвести приборку в помещениях. Только после того, как была наведена чистота, мы повалились на койки.
На другой день вернулся ходивший на поиски миноносец «Свирепый». Он, конечно, не нашел покинутый на минном поле теплоход. Куда тот делся - никто не знал, так как рация теплохода перестала действовать.
Доложив о себе лишь командиру дивизиона, я никому больше не показывался. Может быть, поэтому в течение двух суток о нашем существовании забыли. Мы как следует отоспались и подготовились к новому переходу.
Шестого декабря я получил приказ сопровождать в Кронштадт миноносец «Свирепый». Все корабли и войска в течение двух дней должны были покинуть Гогланд.
От Гогланда эскадра шла по чистой воде. За островом Лавенсаари - встретило сало, затем корабли вошли в сплошной лед и стали проламывать дорогу.
Деревянный МО для этого дела не приспособлен. Командир миноносца просигналил, чтобы я перешел в кильватер ему. Я так и сделал, но от этого не стало легче: льдины за кормой миноносца смыкались и так сдавливали катер, что он трещал.
Я попросил взять катер на буксир и подтянуть как можно ближе к корме.
На буксире идти было спокойней. Но длилось это недолго. В торосах «Свирепому» приходилось оставлять мой катер на месте, а самому с разгона проламывать лед. В такие минуты катер попадал в ледяные тиски. Он так кряхтел и трещал, что, казалось, вот-вот будет расплющен в лепешку. Во льдах корабли продвигались черепашьей скоро¬стью. В шестом часу утра катер дрогнул от удара и я услышал треск проламываемых досок. В левый борт ткнулась огромная льдина и поволокла катер в сторону. Я сыграл аварийную тревогу. Механик обнаружил пробоины в машинном отделении и в районе бензобака. Пришлось создать крен на правый борт и на ходу заво¬дить пластырь. У Шепелевского маяка нас встретил ледокол. Он помог дотащиться до Кронштадта».
Трагедия турбоэлектрохода «И.Сталин»
Из воспоминаний капитана 1-го ранга Л.Е.Родичева:
2 декабря в 21.25 мы снялись с якоря. Впереди строем уступа шли три тральщика. За ними, образуя второй ряд, следовали еще два тральщика, за которыми шел флагман - эсминец «Стойкий». Следом двигались турбоэлектроход «И.Сталин», эсминец «Славный», тральщик без трала и катер «Ямб». Отряд сопровождали семь катеров морских охотников и четыре торпедных катера.
Я был на мостике эсминца «Славный». Лицо обжигал северо-восточный морозный ветер. Волнение 5-6 баллов. За кормой, на Ханко, пылали город и порт.
3 декабря в 00.03, по сигналу с флагмана «Стойкого», согласно утвержденному маршруту, изменили курс с 90 на 45 градусов. В течение пяти минут после поворота у трех тральщиков взрывами мин были перебиты тралы. Началась поспешная их замена.
В 01.14 при перемене курса «И.Сталин» вышел из протраленной полосы, раздался взрыв мины у левого борта турбоэлектрохода. Первый же взрыв вывел из строя автоматику управления рулями. Судно начало двигаться по кривой и, оставив протраленную полосу, по инерции вошло в минное поле. Через две минуты вторая мина взорвалась с правого борта лайнера. Уклоняясь от плавающих мин и отталкивая их шестами, эсминец «Славный» подошел к правому борту «И.Сталина» на расстояние в 20-30 метров.
01.16. Взрыв мины под кормой турбоэлектрохода, дрейфующего по ветру. С эсминца прокричали на лайнер: «Стать на якорь!»
01.25. От командира отряда с эсминца «Стойкий» получена радиограмма: «Командиру «Славного» взять турбоэлектроход на буксир».
01.26. Третий взрыв мины у носа лайнера. С «И.Сталина» передали: «Оторвало брашпиль и якоря, стать на якорь не можем!» Эсминец «Славный», отталкиваясь шестами от плавающих мин, стал на якорь. Турбоэлектроход продолжал дрейфовать по минному полю на юго-восток.
01.48. На помощь от эсминца «Стойкий» прибыл базовый тральщик. Взрывом мины его правый параван (Параван - подводный аппарат для защиты корабля от якорных контактных мин) выведен из строя.
02.44. Эсминец «Славный» снялся с якоря и задним ходом стал приближаться к сдрейфовавшему на 1,5 мили лайнеру для подачи буксирного троса. Обнаружив за кормой плавающую мину, «Славный» дал ход вперед. Мина отброшена движением воды из-под винтов.
03.25. Финская батарея Макилуото открыла артиллерийский огонь по нашим кораблям. На турбоэлектроход со «Славного» начали подавать буксирный трос. В этот момент один из снарядов противника попал в носовой трюм лайнера. В трюме были снаряды и мешки с мукой, на которых сидели солдаты. Взрыв тяжелого снаряда и сдетонировавших боеприпасов был ужасен. Столб пламени от горевшей муки поднялся над «И.Сталиным». Нос турбоэлектрохода еще сильнее погрузился в воду. Буксировать лайнер возможности больше не было.
Узнав по радио о происшедшем, вице-адмирал Дрозд приказал всем кораблям и катерам снимать бойцов. Тральщики начали принимать людей с «И.Сталина». Мешало сильное волнение. На помощь от флагманского эсминца «Стойкий» подошли еще два тральщика.
С наступлением дня можно было ожидать налета авиации противника, и наш отряд получил приказ: следовать к Гогланду! Позади, на минном поле, остался израненный турбоэлектроход.
Из воспоминаний начальника стройбата Анатоли Семеновича Михайлова:
- После взрывов мин и сдетонировавших снарядов на подошедшие переполненные тральщики стали в давке прыгать те, кто мог протолкнуться к борту. Люди разбивались, падали между бортами кораблей в воду. Паникеров расстреливали в упор, а тральщики вынуждены были отойти.
Порядок на судне, в этих отчаянных условиях, с трудом наводил комендант транспорта «И.Сталин» капитан-лейтенант Галактионов, командовавший 50 вооруженными автоматами краснофлотцами.
Около 50 моряков из экипажа турбоэлектрохода по приказу капитана лайнера Степанова и с разрешения вице-адмирала Дрозда к 05.00 утра подготовили спасательную шлюпку.
Капитан Степанов отдал свой браунинг подшкиперу Д. Есину, уходящему на шлюпке.
- Передай властям. Я не могу оставить бойцов. Буду с ними до конца. Старшим на шлюпке назначаю второго помощника Примака. Я вручил ему все документы (шлюпка встретилась с нашими кораблями и ее пассажиры благополучно были доставлены в Кронштадт прим.).
На разбитом лайнере стараниями механиков по-прежнему неустанно работали помпы, выкачивая воду из разбитых отсеков. На рассвете противник снова обстрелял лайнер, но быстро прекратил огонь.
Во время обстрела кто-то на верхней надстройке выбросил белую простыню, но его тут же застрелили.
Не дождавшись помощи, командир лайнера, капитан 1-го ранга Евдокимов и капитан Степанов собрали в кают-компании всех командиров подразделений, находившихся на судне, - около двадцати человек.
Из воспоминаний командира артиллерийской батареи Николая Прокофьевича Титова:
- На совещании, кроме других командиров, присутствовал и комендант судна капитан-лейтенант Галактионов.
Обсуждали два вопроса:
1. Открыть кингстоны и вместе с 2500 оставшимися в живых бойцами пойти на дно.
2. Всем покинуть судно и вплавь добираться до берега, а это 8-10 километров.
Учитывая, что в ледяной воде не только раненые, но даже здоровые не выдержат более 15-20 минут, второй вариант посчитали равноценным первому.
Я, как самый молодой, неопытный в жизни, патриотически воспитанный в училище, взял слово:
- Балтийцы не сдаются, - заявил я.
- Конкретнее, - сказал Евдокимов.
- Открыть кингстоны и пойти всем на дно, - уточнил я.
Воцарилась тишина, после чего взял слово командир судна Евдокимов.
- В том, что с нами случилось, никто не виноват. Мы не одни, у нас на судне люди, и решать за них нельзя.
Вы - пассажиры, и я как командир один буду отвечать по морским законам перед правительством за ваши жизни. Что предлагает товарищ Титов - не лучший способ. Считаю, нужно браться за дело. Убитых на палубе предать по морскому обычаю морю. Раненым оказать помощь, обогреть, напоить горячим. Все, что есть плавучее, связать в плоты. Может, кто-нибудь ночью доберется к партизанам. Степанов с Евдокимовым согласился.
Из воспоминаний воентехника второго ранга Михаила Ивановича Войташевского:
- ... Вскоре дрейфующий лайнер пригнало на мелкое место. Судно еще больше потеряло остойчивость. Под ударами волн оно ползло по мели, заваливаясь то на один, то на другой борт. Чтобы не опрокинуться, мы непрерывно переходили с борта на борт и перетаскивали с собой тяжелые ящики со снарядами.
К утру все выбились из сил. Пронизывал колючий морозный ветер. Шторм усилился. Неожиданно сползавший с мели лайнер опасно накренился. Оставшиеся ящики полетели за борт. Выравнивая крен, все, кто мог двигаться, перебрались на противоположный борт, но крен не уменьшился. Тогда решили сбросить за борт тяжелый резервный якорь. За якорь брались и тащили кто как мог. Лишь с рассветом удалось столкнуть его в воду. То ли судно само сошло с мели, то ли якорь помог, крен уменьшился.
По-прежнему стонали раненые. Большинство ждали, верили, надеялись: «братишки не бросят, выручат».
- 5 декабря около 10 часов утра с «И.Сталина» заметили корабли. Чьи?! Оказались немецкие тральщики и две шхуны. Многие рвали документы и даже деньги. Вода вокруг судна побелела от бумаг.

Поврежденный, полузатопленный турбоэлектроход «И.Сталин»,
фотография сделана с немецкого корабля
Ближайший немецкий тральщик запросил: может ли судно самостоятельно двигаться? Никто не ответил. Двигаться мы не могли. Немцы начали швартоваться к «И.Сталину». С автоматами наготове они перебрались на лайнер. Через переводчика передали команду: сдать личное оружие. Кто не сдаст, будет расстрелян. На первый тральщик взяли капитана 1-го ранга Евдокимова, капитана судна Степанова, командиров и политработников, электромеханика Онучина и его жену буфетчицу Анну Кальван.
После того как немцы увезли командиров, они переправили в Купеческую гавань Таллина старшин и рядовых. Откуда они были переведены в различные концлагеря, в которых выжило только несколько сот человек.
11 июля 1945 г. судно было поднято и приведено в Таллин.
Из воспоминаний капитана 1-го ранга в отставке Евгения Вячеславовича Осецкого:
- Последний раз я видел турбоэлектроход, вернее, останки его, в 1953 году. В то время я командовал судами вспомогательного флота Таллинского порта. Проржавевший корпус пытались разрезать на металл, но обнаружили снаряды, уложенные слоями с мешками муки. Сверху лежали истлевшие тела защитников Ханко. Солдаты извлекли погибших, очистили судно от снарядов и разрезали корпус на металл. Где похоронили погибших - не знаю.
Всего за время эвакуации Ханко с 23 октября по 5 декабря 1941 года совершено 11 боевых походов, из 88 кораблей и судов (66 боевых кораблей, сторожевых и торпедных катеров, 22 вспомогательных судна, ледоколы, транспорты, спасательные суда, буксиры, катера) участвовавших в операции, погибло 25. С Ханко и Осмуссара были вывезены 22822 человека (из 27 809 эвакуируемых) с личным оружием, полевая и зенитная артиллерия базы, 1265 тонн боеприпасов и топлива 1735 тонн продовольствия. В ходе эвакуации базы было спасено свыше 3 тысяч человек с погибших боевых кораблей и транспортных судов.