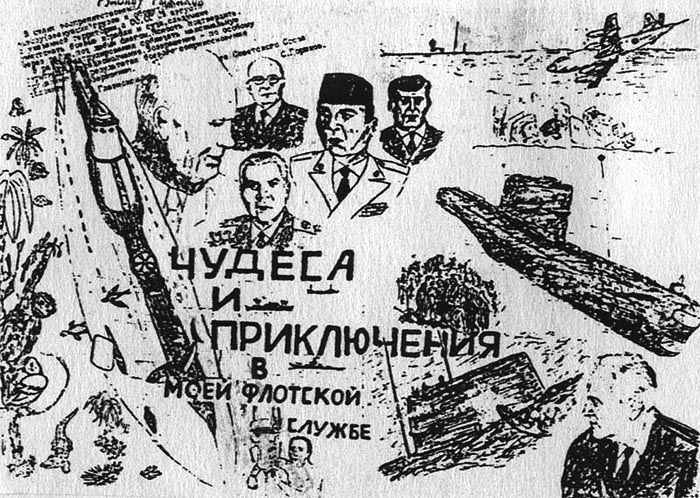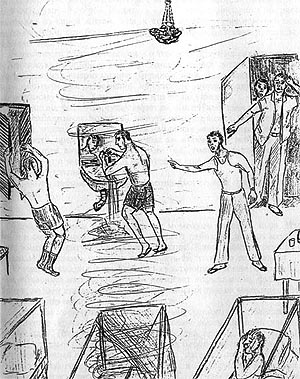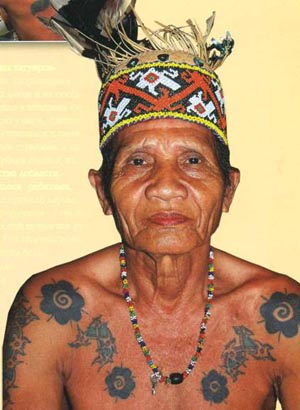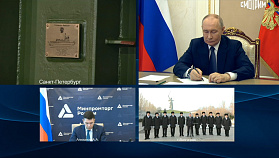Гибель «Комсомольца»

К-278 «Комсомолец»
К-278 спустили на воду 9 мая 1983 года, а 20 октября того же года атомная подлодка вошла в состав Северного флота.
После ввода К-278 в строй подводная лодка находилась в опытной эксплуатации в течение нескольких лет. Проводились интенсивные испытания субмарины. В частности, провели погружение на предельную глубину со стрельбой из торпедных аппаратов. Субмарина привлекалась к учениям флота. На глубине около 1 тыс. метров подлодку практически невозможно было обнаружить гидроакустическими, а также другими средствами противника. Кроме того она была неуязвимой для его оружия.
Атомной подлодке К-278 в октябре 1988 года присвоили название «Комсомолец».
7 апреля 1989 г. «К-278» возвращалась с боевой службы в Норвежском море. Подводная лодка шла на глубине 380 метров со скоростью 8 узлов.
В 11.00 командир отделения машинистов трюмных ст.матрос Н.О.Бухникашвили находящийся один в 7 отсеке (седьмой отсек необитаем) доложил вахтенному офицеру : «Седьмой осмотрен… Замечаний нет».
Вахтенный журнал: «11.00 – Руль 5° на левый борт. Курс – 222°. Отсеки осмотрены. Замечаний нет. Содержание водорода 0,2%. Система батарейной вентиляции в режим «дожигания водорода». Вакуум равен 35 мм вод ст.».
11.03 - Курс - 222°. Податъ ЛОХ в 7-й отсек!»
(ЛОХ – система объемного химического пожаротушения на подводных лодках. В качестве огнегасителя используется хладон (фреон -114 В2). Огнегасящая концентрация - 185-310 г/м3 при отсутствии избыточного давления и содержании кислорода - 21%. При 23%-ном содержании кислорода рекомендуется двукратная подача фреона, при 25%-ном - трехкратная. В каждом отсеке подводной лодки имеется станция системы ЛОХ, с которой огнегаситель можно подать в свой либо соседние отсеки. Система применяется для тушения больших пожаров на любой стадии их развития. Команда «Подать ЛОХ в 7-й отсек» означает подать огнегаситель в 7-й отсек для тушения пожара).
Из показаний капитана-лейтенанта С.А.Дворова: «В 11.05 или 11.06 - я не могу сказать точно, что первое сработало, – на пульте «Молибден» появилась сигнализация «Температура больше 70° С в 7-м отсеке», И практически одновременно на пульте «Онега» загорелось табло «Низкое сопротивление изоляции на щитах 7-го отсека»…
Здесь необходимо обратить внимание на запись в вахтенном журнале: 11.03… Податъ ЛОХ в 7-й отсек» и словами «В 11.05 или 11.06… появилась сигнализация «Температура больше 70° С в 7-м отсеке». Т.е. сначала подали ЛОХ и только через три минуты появился на пульте сигнал о повышении температуры, возникает вопрос, на основании чего был подан ЛОХ?. Соответствующая запись в вахтенном журнале отсутствует, но можно сказать с большой долей уверенности сказать, что доклад о пожаре был сделан вахтенным VII отсека Бухникашвили, он же вероятно, первым вступил в борьбу с огнем.
На запросы по внутренней связи 7-ой отсек больше не отвечал.
Вахтенный журнал:
11.06 - Аварийная тревога! Всплытие на глубину 50 метров. Подать ЛОХ в 7-й отсек».
Кому была отдана команда о подаче ЛОХ в 11 часов 3 минуты – неизвестно (можно полагать, что команда на подачу фреона в 7-й отсек была отдана вахтенному 7-го отсека, т е. ему была дана команда - подать ЛОХ «на себя» и покинуть 7-й отсек. Однако вахтенный 7-го отсека по каким-то причинам выполнить эту команду не смог).
Вахтенный журнал:
11.10 – Вышли из Гренландского моря. Приготовлена аварийная партия из 8 человек. В 6-м плохо дышать. К… разведчиков».
Получен доклад мичмана Колотилина из 6-го отсека о том, что в нем тяжело дышать. Это означает, что пожар в 7-м отсеке продолжался, давление в отсеке от нагрева воздуха росло и горячий воздух с продуктами сгорания попадал в 6-й отсек, так как переборка между этими отсеками не загерметизирована из-за работы линии вала. Нет доклада о подаче огнегасителя в 7-й отсек. Пожара в 6-м отсеке еще нет, а капитан-лейтенант Дворов со своими людьми еще бежит к нему, чтобы занять свои места по тревоге, которая прозвучала четыре минуты назад (здесь необходимо отметить такой момент, что в нарушение статьи 22 РБЖ-ПЛ-82 по аварийной тревоге; в I отсек не прибыли два торпедиста - матросы А. А. Грундуль и С. К. Шинкунас (остались во II отсеке); в III отсек не прибыл техник гидроакустической группы мичман А. П. Кожанов (убыл в I отсек); в VI отсек не прибыли командир отсека капитан-лейтенант С. А. Дворов и турбинист мичман С. С. Бондарь, а также командир VII отсека - командир электротехнической группы капитан-лейтенант Н. А. Волков и рулевой-сигнальщик матрос В. Ф. Ткачев (остались в V отсеке). Объективных причин неприбытия части личного состава в свои отсеки не имелось).
На глубине 150 метров сработала аварийная защита паротурбинной установки. Подводная лодка потеряла ход.
Вахтенный журнал:
11.13 – Остановлены масляные насосы. Давление в 6-м поднимается. Рубежи – кормовая переборка 3-го, носовая и кормовая переборка 6-го отсека».
11.14 – В 6-м закрыть ЛОХ!»
11.14 – Всплываем в надводное положение. Поднять «Бухту». Перископ. Продуть главный балласт. Руль вертикальный в ручное управление. Продувается главный балласт».
Продувается средняя группа балластных цистерн, а на глубине 70-100 м продуваются концевые ЦГБ.
При продувании цистерн главного балласта воздух под высоким давлением – около 200 – 250 кгс/см2 – поступает в трубы, подходящие к каждой цистерне. При отсутствии какой-либо информации о пожаре в 7-м отсеке решение о продувании кормовой группы цистерн главного балласта было очередной серьезной ошибкой руководства подводной лодки, так как в момент продувания нагружались высоким давлением трубы, которые могли находиться в зоне пожара. Объективные данные говорят о том, что в момент начала продувания кормовых цистерн главного балласта произошел разрыв трубы аварийного продувания цистерны главного балласта № 10 левого борта, расположенной в 7-м отсеке. Практически весь воздух, предназначенный для продувания цистерны № 10, попал в 7-й отсек, что привело к перерастанию локального пожара в объемный. Почти мгновенно температура достигла 800-1000 0С. Давление в 7-м отсеке резко поднялось до 5 – 6 кгс/см2. Воздух с продуктами сгорания через уплотнения главного упорного подшипника и трубопровод слива масла поступил в цистерну циркуляционного масла главной машины, расположенную в 6-м отсеке. Давление в цистерне циркуляционного масла поднялось, турбинное масло по сливным трубам пошло «обратным ходом» и струями ударило в отсек и на окружающее оборудование. До объемного пожара в 6-м отсеке оставались считанные секунды. В этот момент в центральный пост поступил последний доклад мичмана Колотилина.
Мичман В. В. Колотилин (он своевременно прибыл в VI отсек и боролся за его живучесть в одиночестве) не успел выполнить мероприятия по герметизации отсека и погиб (Последний доклад от мичмана Колотилина был получен около 11 часов 14 минут - «Поступление гидравлики на левый турбогенератор, на турбину тоже, прошу разрешения переключиться в ИДА». Затем никаких докладов больше не поступало несмотря на запросы, что было зафиксировано в вахтенном журнале в 11 часов 16 минут).
Пожар из VII отсека беспрепятственно распространился в VI отсек.
Капитан-лейтенант С.А.Дворов (магнитофонная запись опроса): «Проскочил 5-й и слышал, как за мной закрылась дверь. 5-й отсек был загерметизирован. Я побежал к кормовой переборке и начал открывать кремальеру между 5-м и 6-м отсеками, оттуда повалил черный клубами дым. Дверь была на защелке. Дверь закрыл и связался по громкоговорящей связи с центральным постом, тогда связь еще была».
В 11.16 корабль всплыл на поверхность с частично продутой цистерной главного балласта № 10 правого борта и не продутой цистерной № 10 левого борта. Горячие газы из 7-го отсека по разрушенной трубе аварийного продувания поступали в цистерну главного балласта № 10 только правого борта и продували ее, вызывая образования воздушных пузырей возле борта
На ходовой мостик корабля вышли старший на борту с правами командира дивизии капитан 1-го ранга Б. Коляда и помощник командира капитан-лейтенант А. Верезгов.
Поднявшиеся наверх вахтенные офицеры посмотрев на корму увидели, что толстое резиновое покрытие по правому борту вспучилось и отстало от корпуса.
В это время сработала аварийная защита ядерного реактора (в 11 часов 23 минуты реактор был заглушен всеми поглотителями (стержнями аварийной защиты A3 и стержнями компенсирующей решетки КР) с посадкой их на нижние концевые выключатели, однако в вахтенном журнале записано это только в 13 часов 39 минут). Межсекционный автомат обесточил секцию отключаемой нагрузки главного распределительного щита № 2. Все потребители электроэнергии, питающиеся от секции неотключаемой нагрузки главных распределительных щитов, «сели» на аккумуляторную батарею. Обесточился гидроакустический комплекс.
Вышла из строя громкоговорящая связь с кормой!
После всплытия горели уже два отсека 6 и 7. Произошло задымление 2, 3 и 5-го отсеков, примерно в это же время происходит возгорание пульта в 3 отсеке и чуть позднее вспышка горючих газов в 5-м.
Вахтенный журнал:
«11.17 – Приготовить дизель-генератор. Устанавливается связь по телефону».
Главный командный пункт пытается установить связь с кормой. Молчит 6-й отсек. Нет никаких известий от капитан-лейтенанта Дворова.
Своевременно отдана команда на приготовление дизель-генератора. На подводной лодке «Комсомолец» был установлен дизель-генератор с аварийным пуском. Один человек при отсутствии электроэнергии и воздуха высокого давления, при неработающей системе гидравлики и при низкой температуре в отсеке может запустить дизель-генератор и принять на него нагрузку за время не более 10 минут. Два часа шестнадцать минут потребовалось экипажу, чтобы запустить дизель-генератор и принять на него нагрузку. И это при обеспеченности всеми видами электроэнергии, воздухом высокого давления, при работающей системе гидравлики и нормальной температуре в отсеке. Один этот факт говорит об уровне боевой подготовки экипажа и качестве отработки им задач по борьбе за живучесть подводной лодки.
В это же время устанавливается первый рубеж обороны (Рубежи обороны – при аварии главный командный пункт назначает рубежи обороны, т е. указывает поперечные переборки отсеков, которые отделяют аварийную зону от неаварийной. На этих рубежах обороны личным составом осуществляются герметизация переборок и перекрытие магистральных трубопроводов, проходящих в аварийный отсек. На рубежах обороны устанавливается постоянный контроль герметичности переборок и трубопроводов, температуры переборки и давления в аварийном отсеке), по кормовой переборке 6-го отсека.
Из вахтенного журнала:
11.21 пожар в 4 отсеке. Горит пусковая станция насоса (искрит и дымит). Насос обесточен.
11.27 принесен огнетушитель в центральный пост. На пульте управления движением лодки появился очаг открытого огня. Загазованность и ухудшение видимости в центральном посту.
Всем кто был не занят борьбой за живучесть корабля была дана команда подняться на верх.
Оставшийся в лодке личный состав включен в шланговые дыхательные аппараты (ШДА) (ШДА – шланговый дыхательный аппарат. Предназначен для дыхания личного состава в задымленной атмосфере отсеков. Воздух для дыхания подается из корабельных воздушных магистралей высокого и среднего давления через стационарную дыхательную систему. Обеспечивает ограниченное перемещение человека, включенного в аппарат ШДА. «Включиться в ШДА» – означает надеть маску и начать дышать воздухом стационарной дыхательной системы), в систему которых попадают продукты горения - личный состав начинает выходить из строя в результате отравления угарным газом, организовывается работа аварийных партий по выводу пострадавших из отсеков.
Из вахтенного журнала:
11.34 – Увеличивается крен на левый борт. Продут главный балласт, крен 8° (Давление в 7-м отсеке растет из-за поступления в него воздуха через магистрали воздуха среднего давления (ВСД), воздуха забортных устройств (ВЗУ) и воздуха давлением 200 кгс/см2 (ВВД-200). Горячий воздух с продуктами горения через разрушенный трубопровод аварийного продувания поступает в цистерну главного балласта № 10 правого борта и продувает ее. От этого растет крен на левый борт. Командование лодки даже не попыталось разобраться в причине увеличения крена. Никто не проверил состояние балластных цистерн. Вместо этого повторно продули концевые группы цистерн главного балласта. Бесцельно израсходовали запас воздуха высокого давления и добавили свежий воздух в 7-й отсек, что привело к усилению пожара.).
11.41 – Увеличивается крен.
11.42 – С 6-м связи нет. Перестукиванием из 3-го в 4-й передали об открытии захлопки.
11.43 – По вытяжной… 4 и 5 откр. захлопку. Крен выравнивается»
В главном командном пункте по-прежнему не знают о пожаре в 6-м отсеке. Только так можно понимать запись об отсутствии связи с ним.
В это же время перестукиванием передана команда в 4-й отсек об открытии захлопки вытяжной вентиляции между 4-м и 5-м отсеками, видимо, для снятия давления с 5-го отсека через вытяжную магистраль кормового кольца системы общесудовой вентиляции. Но выполнять эту команду было некому, так как лейтенант Махота и мичман Валявин находились в аппаратной выгородке в беспомощном состоянии.
В 5-м отсеке возник пожар: На высоте один метр над палубой и до самого подволока пронеслось пламя голубого цвета, как из огнемета, по всему проходу от кормовой до носовой переборки. Сноп пламени прошел, загорелись одежда, волосы, и через минуту его уже не было. Люди потушили на себе одежду. Сильно обгорел Волков (руки, расплавилась маска на лице), лейтенант Александр Шостак и другие. Находившийся в V отсеке командир VI отсека капитан-лейтенант Сергей Дворов ожогов не получил. Огонь шел из кормы в нос по среднему проходу. Вероятно газы из аварийного 7-го отсека, проходя через масляные цистерны ТЦНА, вспенили масло, что привело к падению давления в напорной магистрали масляной системы и к срабатыванию аварийной защиты агрегатов. Одновременно дымовые газы выносили пары масла в центральный проход 5-го отсека, что и явилось причиной вспышки в нем. Вспышка произошла от искры при выключении масляных насосов капитан-лейтенантом Дворовым.
Из вахтенного журнала:
11.45 - передано три сигнала аварий. Квитанций (подтверждений о приеме радио) нет. (Разгерметизация трубопроводов гидравлики в 7-м отсеке привела к потере рабочей жидкости в системе судовой гидравлики, выдвижные устройства начали опускаться под собственным весом, возможно, в этом заключается причина ненадежности передачи аварийного сигнала - на берегу он был принят и расшифрован лишь после 8 раза, в 12 час 19 мин). Остановить дизель. Выйти на связь начальнику химической службы.
Дизель был остановлен, питание перешло на аккумуляторную батарею (При возгорании в 3-м отсеке пульта управления рулями «Корунд» были обесточены распределительные щиты РЩН № 6,7, что привело к остановке дизеля).
11.50 - разобраться с охлаждением дизеля. Приказ командира: врачу прибыть в центральный пост, рассчитать время снятия давления с 6-го отсека. В 6-м отсеке 13 атмосфер.
11.53 - Маркову разобраться с питанием насоса охлаждения дизеля.
В 11.17 была отдана команда о приготовлении к запуску дизель-генератора. Прошло 36 минут а личный состав не может запустить насос охлаждения дизель-генератора. Потому, что распределительный щит дизель-генератора получает питание от распределительного щита РЩН № 7, который был обесточен личным составом 2-го отсека по команде «Аварийная тревога! Пожар в 3-м отсеке». В этих условиях достаточно было возбудить генератор, и насос охлаждения запустили бы от самого дизель-генератора. Слабое знание членами экипажа материальной части привело к остановке дизеля.
Разгерметизация корпуса лодки По ориентировочным расчетам, за время с 11 часов 6 минут до 11 часов 58 минут, т е. за 52 минуты, в 7-й отсек из системы воздуха высокого давления поступило около 6500 килограммов воздуха, что более чем в двадцать раз превышает объем отсека. В отсеке была устроена форменная «доменная печь» – в тридцать-сорок раз мощнее максимально возможного пожара в обычных условиях. Ориентировочные расчеты показывают, что среднеобъемная температура в 7-м отсеке могла быть около 800-900° С. Это означает, что в верхней части 7-го отсека, где расположены кабельные вводы, температура была такова, что плавились алюминиевые и медные сплавы, а металл прочного корпуса в отдельных местах мог нагреться до температуры перекристаллизации. Под воздействием горячих газов со стороны цистерны главного балласта № 10 правого борта и пожара в 7-м отсеке потеряли герметичность кабельные вводы резервного движительного комплекса этого борта.
Куда стравливалось давление из 6-го и 7-го отсеков? Как уже говорилось, давление стравливалось в другие отсеки подводной лодки через трубопроводы раздачи кислорода и удаления углекислого газа системы регенерации воздуха, через воздушный трубопровод системы дифферентовки, через трубопровод дистанционного управления арматурой воздуха высокого давления, через сливной трубопровод системы гидравлики и через систему уплотнения турбонасосного агрегата ТЦНА. Кроме того, горячие газы выходили через трубу аварийного продувания в цистерну главного балласта № 10 правого борта. В это время появились новые пути травления газов из 7-го отсека. Оператором пульта главной энергетической установки не был перекрыт кингстон охлаждения дейдвудного сальника (при ограничении мощности реактора до 30 % система охлаждения не влияет на ход подводной лодки и в соответствии со статьей 91 РБЖ-ПЛ-82 должна выводиться из действия без приказания). От пожара потерял герметичность и прогорел резинометаллический патрубок системы охлаждения дейдвудного сальника. Газы из 7-го отсека начали поступать в прогоревший патрубок и выходить за борт через открытый кингстон и змеевик охлаждения дейдвудного сальника. Горячие газы «размыли» уплотнение кабельных вводов резервного движительного комплекса правого борта и начали выходить в цистерну главного балласта № 10 правого борта. Кабельные вводы левого борта герметичность не потеряли, так как цистерна главного балласта № 10 левого борта была заполнена водой, что обеспечило интенсивное охлаждение уплотнения.
В это время в главном командном пункте принимают очередное безграмотное решение. Вместо того, чтобы перекрыть магистрали воздуха давлением 200 кгс/см2, воздуха забортных устройств и воздуха среднего давления, идущие в кормовые отсеки (необходимо было закрыть три клапана в 3-м отсеке), отдается команда о закрытии подгрупповых клапанов на перемычке воздуха высокого давления № 1, расположенной в 1-м отсеке, и на перемычке ВВД № 3 - в 3-м отсеке.
После выполнения команды главного командного пункта о закрытии подгрупповых клапанов воздуха высокого давления подводная лодка осталась без воздуха и практически без средств борьбы за живучесть. И это еще не все. Личный состав 2-го и 3-го отсеков, а также два человека в 5-м отсеке были включены в аппараты ШДА стационарной дыхательной системы. Этого не могли не знать в главном командном пункте, и, отдавая приказ о закрытии подгрупповых клапанов ВВД, руководство подводной лодкой в прямом смысле этого слова перекрывало кислород людям, включенным в аппараты ШДА.
Вахтенный журнал:
11.46 – Доложить температуру в 5-м отсеке.
11.47 – Остановлен дизель. Рубежи обороны в 4-м отсеке – носовая, кормовая переборка. В 3-м – кормовая переборка».
Командование лодки назначило новые рубежи обороны. При этом из главного командного пункта, по-видимому, отдан приказ личному составу 5-го отсека перейти в 4-й. Только этим можно объяснить назначение рубежей обороны в 4-м отсеке и следующую запись в вахтенном журнале:
11.58 – С 4-м связи нет. Приблизительно в 4-м 9 человек».
Этот приказ личным составом 5-го отсека не был получен либо его не смогли выполнить из-за заклинки двери в тамбур-шлюзе.
Вахтенный журнал:
12.10 – В районе 7-го по правому борту масляные пятна, травит воздух (с мостика).
Падает давление в 6-м и 7-м отсеках. Воздух из них вместе с продуктами горения выходит через цистерну главного балласта № 10 правого борта и кингстон охлаждения дейдвудного сальника, что подтверждается докладом с ходового мостика.
12.11 – В 1-м обстановка нормальная. Водород, кислород и углекислый газ в норме, личного состава состояние хорошее.
12.12 – Головченко, Краснов во 2-м отсеке потеряли сознание. Переключить их в ИДА (ИДА – изолирующий дыхательный аппарат ИДА-59. Имеет автономную систему обеспечения дыхания. Применяется для подводных работ и работ в отсеках с высоким давлением и отравленной атмосферой), включить кислородный баллон (приказание из ЦП). Приоткрыть по вдувной в 3-м (Отравленный воздух 7-го отсека сделал свое дело: люди, включенные в аппараты ШДА, начали терять сознание. Общей команды об использовании других средств защиты органов дыхания вместо аппаратов ШДА не последовало).
12.18 - Личный состав в аппаратной 4-го кор.Р. Личный состав из аппаратной выйти не может. Вышли Юдин, Третьяков. В 5-м люди в тамбур-шлюзе не могут открыть двери. Подняты в ВСК Краснов, Головченко. Грундуль поднялся сам. Во 2-м, 3-м замерить газовый состав. Давление снято с 4-го, 5-го, вывести личный состав. Мичман Каданцев… включен в ИДА 20 минут. Открыть люки 4-го и 5-го помещений. Удовл.».
Видимо, 4-й отсек находился под небольшим давлением, которое было снято разведчиками при входе в него. Только этим можно объяснить повышенное давление в аппаратной выгородке по сравнению с атмосферным и большую загазованность отсека. После снятия давления с отсека автоматически включился компрессор вакуумирования аппаратной выгородки, и пока это давление не было снято, в выгородку нельзя было войти. Разведчики сняли давление и с 5-го отсека. Переборочная дверь в 5-й отсек была открыта, но открыть дверь тамбур-шлюза этого отсека не удалось из-за заклинки ее от происшедшей в помещении вспышки.
Давление в 4-м и 5-м отсеках было снято, и Юдину, Третьякову и Каданцеву отдана команда о выводе людей из них. Сокращение «кор.Р.», видимо, означает «на корпусе реактора», а «Удовл.» говорит о состоянии членов аварийной партии.
Вахтенный журнал:
12.33 – Из 4-го отсека переведены 2 человека: Махота, Валявин. Поднялись наверх.
Мичман В.С. Каданцев (объяснительная записка): «После пожара в 4-м отсеке личный состав этого отсека скрылся в аппаратной. Для их эвакуации была создана аварийная партия в составе командира дивизиона живучести капитана 3-го ранга Юдина, меня и лейтенанта Третьякова. Включились в ИП-6 и убыли в 4-й отсек. Отсек был сильно задымлен. Командир дивизиона живучести отдраил дверь в тамбур-шлюз аппаратной и вошел туда, закрыв за собой дверь. В это время я проверил готовность отсека к вентилированию в атмосферу. Из 5-го отсека были слышны стуки. Открыв переборочную дверь в 5-й отсек, я вошел в тамбур-шлюз 5-го отсека, но дверь тамбур-шлюза открыть не удалось. Не удалось это сделать и вместе с командиром дивизиона живучести».
Лейтенант А.В.Махота (магнитофонная запись опроса): «Первая партия разведчиков нас вскрыть не смогла. Второй партии удалось, очевидно потому, что работали компрессоры ваккумирования (снимали давление). Мы надели ПДУ и вышли в 3-й отсек, и нас вывели наверх в надстройку».
Благодаря активным действиям капитана 3-го ранга Юдина личный состав 4-го отсека удалось вывести из аппаратной. В это же время была проверена готовность 4-го отсека к вентилированию в атмосферу. Но прошло после этого еще 2 часа 24 минуты, прежде чем начали вентилирование отсека (Ничем не оправданная задержка).
Вахтенный журнал:
12.25 – Получена окончательная квитанция на сигнал аварии. Вынести теплое белье наверх.
Членов экипажа, получивших отравление, вывели в ограждение рубки, и для них вынесли теплое белье.
12.41 – Вышли Юдин, Каданцев, Третьяков. Задымленность в 4-м отсеке большая.
12.55 – Махота включился в ИП-6 (Изолирующий противогаз, имеет автономную систему обеспечения дыхания. Применяется для защиты органов дыхания от воздействия отравленного воздуха при нормальном атмосферном давлении. «Быть включенным в ИП» – означает находиться в изолирующем противогазе ИП-6). Валявин в ИДА-59, идут в 4-й, 5-й. Плохо мичману Геращенко в ВСК. Разбить стекло тамбур-шлюза для выравнивания давления с 5-м отсеком.
13.00 – Посчитать всех людей. Нагружен редуктор ВВД-200. Готов к пуску дизель.
Лейтенант А.В.Махота (объяснительная записка): «Потом нас двоих вызвали в центральный пост и приказали, включившись в ИП-6, убыть в 4-й отсек и помочь личному составу 5-го отсека. Прибыв в 4-й отсек, мы зашли в тамбур-шлюз между 4-м и 5-м отсеками. Дверь тамбур-шлюза не открывалась, ее заклинило. Тогда мы выбили ее ногами и помогли выйти 6 человекам».
13.05 – Работает водоотлив дизеля. Доставлены из 5-го: Волков – 1, Ткачев – 2, Козлов – 3, Дворов – 4, Замогильный – 5, Шостак – 6. Кулапин в 5-м включен в ШДА. У него нет ИДА. Живой.
Когда их вывели из отсека, у некоторых пострадавших кожа свисала с обгоревших рук лохмотьями. Сильные ожоги получили пять человек. Когда врач на верху, на мостике, начал им делать обезболивающие наркотики капитан-лейтенант Волков и мичман С.Замогильный начали отказываться, несмотря на страшную боль, говоря, что они потерпят, а морфин необходимо поберечь на будущее.
13.08 – В ШДА в 5-м – Бондарь по левому борту. 6 человек из 5-го – наверх. Перед.
13.07 – Дворов, Махота – в 5-й за Кулапиным и Бондарем. Включены в ИП-6. Пришел Валявин из 5-го, поднес Бондаря и Кулапина в тамбур-шлюз. Задымленность в 5-м средняя. Валявин поднялся наверх.
Из 5–го отсека выведены шесть человек; цифры после фамилий означают порядок вывода людей из отсека. Не совсем понятно, почему запись в вахтенном журнале в 13 часов 8 минут оказалась ранее записи в 13 часов 7 минут.
Мичман Бондарь и матрос Кулапин, включенные в аппараты ШДА, остались в 5-м отсеке.
В вахтенном журнале допущена неточность: мичман Валявин только пытался поднести Кулапина, но не смог этого сделать.
Лейтенант А.В.Третьяков (объяснительная записка): «Мичман Валявин доложил, что матроса Кулапина он пытался тянуть из отсека, но так как тот был тяжел и Валявин плохо себя чувствовал, он не смог один этого сделать».
Капитан-лейтенант С.А.Дворов (объяснительная записка): «Примерно через 1,5 часа дверь саншлюза была открыта из 4-го помещения, и нас всех вывели в 3-е помещение. Я включился в новый ИП-6 и убыл снова в 5-е помещение с двумя ИП-6 для эвакуации матроса Кулапина и мичмана Бондаря, которые были подключены в ШДА. В 5-м помещении они были найдены в бессознательном состоянии. С мичманом Валявиным мы вынесли их в 3-е помещение».
Создается впечатление, что капитан-лейтенант Дворов во время пребывания в 5-м отсеке не контролировал как командир отсека состояние людей, включенных в аппараты ШДА.
Из его объяснений неясно, делалась ли попытка надеть маски противогазов ИП-6 на мичмана Бондаря и матроса Кулапина. Кроме того, в эвакуации этих людей принимали участие не только капитан-лейтенант Дворов и мичман Валявин, но и капитан 3-го ранга Юдин, лейтенанты Третьяков, Махота, Федотко, мичман Слюсаренко, старший матрос Вершило. При этом следует заметить, что командование подводной лодки, зная, что в 5-м отсеке остались два человека, включенных в аппараты ШДА, не смогло организовать более многочисленную аварийную партию для одновременной эвакуации пострадавших. Два человека, посланные в 5-й отсек, не смогли вынести сразу двоих.
Вахтенный журнал
13.19 – Передано РДО (радиодонесение) № 12.
13.25 – Получена окончательная квитанция на РДО № 12. Нет информации о Колотилине,
Бухникашвили ориентировочно в 6-м отсеке.
13.27 – Выведен (Так в тексте) из 5-го Кулапин. Начался сеанс связи. Идет персонально в наш адрес. Нет пульса у Кулапина, поднят наверх.
13.33 – Слюсаренко, Федотко, Дворов, Валявин пойти в корму. Принята нагрузка на ДГ.
13.39 – Состояние ГЭУ: заглушен реактор всеми поглотителями, A3, КР, на нижних концевых выключателях. Температура 1-го контура 75° С, давление 1-го контура 105 кгс/см2, уровень 3-го КО – 19%, производится расхолаживание через систему ББР, в работе 2 ЦНПК. Полностью отсутствует управление ГЭУ. У Кулапина пульса нет.
13.40 – Дворов потерял сознание в 3-м отсеке. Бондарь в 3-м отсеке в тамбур-шлюзе.
13.41 – В 5-м людей нет. 5-й осмотрен. Вышли Валявин, Слюсаренко, Федотко, Вершило. В 1-м отсеке: Григорян, Анисимов, Кожанов, Сперанский. Во 2-м отсеке: Марков, Грегулев. Бондарь поднялся (так в тексте) наверх (без сознания).
Закончилась эвакуация личного состава из 5-го отсека. На эвакуацию двух человек из 5-го отсека потребовалось 36 минут. Матрос Кулапин был поднят наверх за 20 минут. Более многочисленная аварийная партия эвакуацию мичмана Бондаря провела всего за 8 минут. Есть все основания полагать, что командование подводной лодки не имело возможности комплектовать многочисленные аварийные партии. В них входило всего одиннадцать человек из шестидесяти девяти членов экипажа, при этом командир дивизиона живучести капитан 3-го ранга Юдин был вынужден восемь раз ходить в кормовые отсеки в составе аварийных партий.
Несмотря на все старания старшего лейтенанта медслужбы Л.А.Зайца спасти матроса Кулапина и мичмана Бондаря не удалось.
В это время на берегу события развивались следующим образом. В 12 часов 19 минут (а возможно, и в 11 часов 41 минуту) был расшифрован сигнал об аварии. В 12 часов 39 минут в район аварии направили самолет ИЛ-38, почему-то без специалиста-подводника на борту. В результате штаб Северного флота до конца трагедии был лишен объективной информации, а подводная лодка, может быть, квалифицированных рекомендаций, которые могли бы круто изменить дальнейший ход борьбы с аварией.
В 12 часов 50 минут штаб Северного флота передал на «Комсомолец» радиосообщение, в котором запрещалось погружение корабля и предлагалось находиться ему в дрейфе. Также было сообщено, что к подводной лодке следует самолет, ожидаемое время прибытия – 14 часов.
Прошли двадцать три (а может быть, и шестьдесят одна) минуты после расшифровки сигнала об аварии, и лишь тогда штаб Северного флота «догадался» запросить у объединения «Севрыба» дислокацию его судов. Время было 12 часов 42 минуты. Ответ получили в ту же минуту. Прошло еще 8 минут, и штаб Северного флота в 12 часов 50 минут наконец принимает решение – направить к месту аварии плавбазу «Алексей Хлобыстов». В результате только в 13 часов 20 минут плавбаза смогла начать движение в указанные штабом Северного флота координаты.
Вахтенный журнал:
13.55 – Включились В ИП-6 – Юдин, Апанасьевич, Третьяков, Слюсаренко.
13.56 – Слюсаренко, Третьяков – страхующие, Юдин, Апанасьевич – аварийная партия в 6-й отсек. Передано РДО № 13».
Аварийная партия направилась в 6-й отсек. Цель похода подать огнегаситель в 7-й отсек.
14.12 – Прибыли Юдин, Федотко, Слюсаренко, Апанасьевич. Температура переборки 6-го отсека более 70° С, войти невозможно.
14.15 – Переснаряжены ИП-6, в 5-й для дачи ЛОХ в 6-й отсек убыли: Юдин, Апанасьевич, Слюсаренко.
14.18 Установлена связь с самолетом на УКВ.
14.20 – Дан ЛОХ в 6-й отсек из 5-го. Прибыли капитан 3-го ранга Юдин, матрос Апанасьевич, мичман Слюсаренко не ходил».
14.40 – Визуально обнаружен самолет. Дымит, заходит с левого борта, обозначая свое место, 4-моторный.
14.41 – Выключен «маячок» «Комара». ИЛ-38 – классифицирован».
В район аварии прибыл самолет, установлена связь с подводной лодкой, сделаны первые фотоснимки. С самолета сообщили, что к 18 часам к подводной лодке подойдут надводные корабли. В это время через самолет на подводную лодку из штаба Северного флота был сделан запрос о поступлении воды в прочный корпус и о пожаре. Одновременно обращалось внимание командования подводной лодки на необходимость использования всех возможностей системы ЛОХ для подачи фреона в 6-й и 7-й отсеки, на герметизацию кормовых отсеков, на исключение загазованности других отсеков подводной лодки, на ведение постоянного контроля за газовым составом в отсеках и на экономное использование индивидуальных средств защиты. Командный пункт Северного флота, не имея никакой информации о развитии аварии и ходе борьбы с ней, вынужден был передать набор типовых рекомендаций, известных и молодому матросу.
Тем временем подводная лодка начала валиться на правый борт из-за заполнения цистерны главного балласта № 10 правого борта. Вся борьба с креном на левый борт оказалась не только бесполезной, но и вредной. Был бесцельно потерян запас плавучести. Через прогоревший кингстон охлаждения дейдвудного сальника в 7-й отсек постепенно поступала вода. На снимке, сделанном с самолета в 14 часов 40 минут, отчетливо виден небольшой бурун по правому борту в районе указанного кингстона – это «пробулькивал» воздух из 7-го отсека. Нет точных отметок времени, когда крен начал переходить на правый борт и когда закончилось заполнение цистерны главного балласта № 10 правого борта. Показания членов экипажа противоречивы.
Поступление воды внутрь прочного корпуса
Пожар выжег все горючие материалы в 6 и 7 отсеках и постепенно затухал, в аварийных отсеках стало падать давление, которое вентилировало балластные цистерны и создавало противодавление забортной воде, в результате вода, через выгоревшие резиновые прокладки уплотнения на горловинах и клапанах вентиляции ЦГБ № 10, 9 и прогоревший кингстон в 7 отсеке стала поступать внутрь прочного корпуса. По мнению рабочей группы правительственной комиссии поступление воды внутрь прочного корпуса подводной лодки началось после 14 часов и к 15 часам количество поступившей в 7-й отсек воды составляло 20 тонн, что отражено в объединенном акте 4-й и 7-й секций этой рабочей группы. Дифферент нарастал постепенно, и к 16 часам 30 минутам он составлял 2,5 – 3° на корму.
Также постепенно терялся запас плавучести из-за заполнения балластных цистерн и поступления воды внутрь прочного корпуса. На указанное выше время потеря запаса плавучести оценивалась рабочей группой в 760 тонн, при этом количество воды, поступившей в прочный корпус, – в 120 тонн.
Члены рабочей группы правительственной комиссии от промышленности считают, что при общей потере запаса плавучести в 760 тонн в прочный корпус к этому времени уже поступили свыше 200 тонн воды.
Поступление воды в корпус лодки ускорили открытые шахты вентиляции. Для того чтобы лучше понять, как это могло произойти, необходимо рассмотреть устройство 1-х и 2-х запоров шахт вентиляции. Из их устройства ясно же видно, затопление может произойти при нахождении 1-го запора в промежуточном положении, когда действующая ватерлиния окажется выше первого запора при открытом 2-м запоре. Версий затопления может быть несколько.
Первая. 1-й запор открыли не до конца, а значит, не закрыли сливную решетку шахты. После последовательного заполнения ЦГБ № 10, 9, 7 осадка и дифферент на корму возросли, решетка погрузилась в воду, и в отсек хлынула вода по вентиляционным трубам. Если учесть, что в IV и V отсеках никого не было, и только разведчики периодически ходили контролировать температуру кормовой переборки V, то начало поступления воды могло остаться незамеченным. Последний раз Юдин и Каданцев вернулись оттуда в 16.24, а в 17.08 лодка утонула.
Вторая. С увеличением осадки и крена (в 16.40 крен - 6° на правый борт, дифферент - 1,5° на корму - согласно Вахтенного журнала это не подтверждается снимками сделанными с самолета, дифферент на корму был значительно больше) решили загерметизировать ПЛ и начали закрывать 1-е и 2-е запоры, когда сливная решетка уже была под водой. Вот тут еще раз уместно напомнить, что первый запор открывается первым, а закрывать первым надо второй запор, иначе в момент закрытия в отсек хлынет вода. Причем, она не будет успевать сливаться в воздухопровод внизу, заполнит его и хлынет со всех щелей. Тут можно и дрогнуть, и испугаться, особенно, если начал закрывать 1-й запор вручную ключом-трещоткой.
Скорее всего, произошло комбинированное затопление: в IV отсеке не до конца открыли 1-й запор по вытяжной, а в 3-м начали закрывать 1-е запоры вручную, когда сливные решетки шахт вентиляции уже были под водой. Об этом свидетельствует наличие избыточного давления в ВСК (а значит, и в III отсеке) и отсутствие команды на остановку ДГ. Другими словами поступления забортной воды в IV отсек началось, когда действующая ватерлиния пересекла незакрытое сливное отверстие шахты вентиляции.
15.18 – Передано на самолет: поступления воды нет. Пожар тушится герметизацией. Воздух только в одной группе ВВД».
В донесении, полученном командным пунктом Северного флота в 15 часов 35 минут, сказано: «Пожар в 6-м, 7-м отсеках продолжается. Погибли мичман Колотилин, старший матрос Бухникашвили, нуждаюсь в буксировке. ВВД осталось только в командирской группе. Систему ЛОХ больше использовать не могу. Давление и температуру контролирую».
Трудно сказать, чего больше в этих донесениях – полуправды или сознательной дезинформации. У руководства подводной лодки не было никаких оснований утверждать, что пожар в аварийных отсеках продолжается. В них было подано более 30% общекорабельных запасов воздуха высокого давления. В процессе аварии газы из аварийных отсеков беспрепятственно попадали в 5-й, 3-й и 2-й отсеки. О каком тушении пожара методом герметизации может идти речь?
Замер температуры переборки между 5-м и 6-м отсеками не проводился.
Действительно, воздух высокого давления остался только в одной командирской группе баллонов, но это произошло более трех часов назад, и с тех пор на подводной лодке в магистралях нет воздуха, а система пожаротушения ВПЛ не работает. К этому времени на корабле уже погибли четыре человека, но сообщается о гибели только двоих. Подводная лодка нуждалась в буксировке с 11 часов 23 минут, когда, согласно записи в пультовом журнале главной энергетической установки, стержни аварийной защиты и компенсирующие решетки реактора были посажены на нижние концевые выключатели. Безосновательным было и утверждение командования подводной лодки о том, что поступлений воды внутрь прочного корпуса нет. К моменту подачи сообщения положение корабля было катастрофическим, что подтверждается сделанными с самолета фотографиями. Крен подводной лодки перешел на правый борт. Дифферент возрос до 1,5-2° на корму.
На лодке проводится разведка аварийных отсеков. Несмотря на то, что газовый состав 5-го отсека в результате вентилирования и уменьшения количества поступающего газа практически находился в норме, личный состав так и не вернулся ни в 4-й, ни в 5-й отсеки. Было ясно, что борьба за живучесть подводной лодки постепенно прекращалась. В дальнейшем только командир дивизиона живучести капитан 3-го ранга Юдин и старшина трюмной команды мичман Каданцев продолжали эту борьбу. Остальные члены экипажа (за исключением 1-го отсека, вахтенного у дизель-генератора и связистов) находились в ограждении рубки либо осуществляли «общее руководство».
Вахтенный журнал:
16.12 – Каданцев, Юдин включились в ИП-6. Пошли в 5-й отсек для замера температуры кормовой переборки 5-го отсека.
16.24 – Пришли Юдин, Каданцев. Температура 111° С кормовой переборки 5-го отсека.
Наблюдаются удары, похожие на взрывы в районе 6-го и 7-го отсеков. Предположительно, регенеративные патроны (Регенеративные патроны – химические вещества, применяемые на подводных лодках для регенерации (восстановления процентного содержания кислорода и углекислого газа) воздуха в отсеках. Изготовляются в виде плоских пластин, размещающихся в металлических запаянных прямоугольных банках. На подводной лодке «Комсомолец имелся только аварийный запас регенеративных патронов). В 6-м отсеке – 10 банок, в 7-м – 11 банок.
Продолжаются попытки выровнять лодку продуванием балластных цистерн, были использованы последние запасы ВВД, в результате боковой крен стал равен нулю но появился новый дифферент на корму.
К 16.30 ситуация начала стремительно обостряться, корма стала быстро погружаться, а нос выходить из воды, и в 16.40 по кораблю был отдан приказ готовиться к эвакуации лодки, приготовить ВСК (всплывающая спасательная камера), покинуть отсеки.
16.50. Радиограмма от командира лодки Евгения Ванина: «Готовлю к эвакуации 69 человек».
Личный состав начал отдавать спасательные плоты, однако удалось использовать лишь один из них. Второй был отнесен от лодки ветром и волнами. На борту лодки, в 1-м отсеке, находилась авиационная спасательная лодка ЛАС-5М, вместимостью пять человек, с веслами и парусом. Эта спасательная лодка могла бы изменить положение самым кардинальным образом: появилась бы возможность использовать второй плот ПСН-20 и плоты, сбрасываемые с самолетов (с самолета было сброшено два спасательных плота). И тогда всем подводникам удалось бы разместиться на плотах, и даже не умеющие плавать были бы спасены. Но по неизвестным причинам она была не использована.
В 17.08 лодка с дифферентом на корму до 80 град стремительно затонула на глубине 1685 метров в точке с координатами 73°43'17 с.ш. 13°15'51 в.д.
В момент быстрого затопления корабля почти весь экипаж находился наверху, в ограждении рубки и поэтому все сразу оказались на поверхности моря.
Часть экипажа разместилась на плотике (около 30 человек), кому не досталось места плавали в воде держась за плотик и за находящихся на нем.
Не все умели плавать, попав в воду они не смогли доплыть до плотика и погибли первыми. Два человека из числа не умевших плавать остались на корпусе подводной лодки и вместе с ней ушли под воду.
Все кто выходил из аварийной лодки не думал, что придется плавать в ледяной воде, надеялись дождаться помощи, поэтому никто не использовал спасательные жилеты и гидрокостюмы находящиеся в лодке, многие были в легкой одежде (РБ) или уже находясь сбрасывали в воде мешавшие плыть куртки и бушлаты.
В ледяной воде без спецкостюма даже физически крепкий человек может продержаться только несколько минут…
Примерно через полчаса, волнение на море усилилось и находящихся в воде стало накрывать с головой, многих волны отрывали от плотика и уносили, кто-то и сам терял силы: глаза стекленели на губах выступала пена руки разжимались и они тут же уходили под воду.
Умирали все достойно, молча. Никто не кричал. Не прощался…
Капитан-лейтенант Евгений Науменко чувствуя, что уже нет сил держаться на воде попросил находящихся на плоту подать ему руку. Однако находившиеся на плоту от переохлаждения, впали в состояние апатии и безразличия, как к своей собственной жизни, так и к жизни своих товарищей, руку ему никто не подал…(Их интервью лейтенанта А.Третьякова).
Из отсеков подводной лодки не успели выбраться ее командир капитан 1-го ранга Евгений Ванин, командир дивизиона живучести Юдин, командир электротехнического дивизиона Испенков, а также мичманы Черников, Краснобаев и Слюсаренко.
Четверо уже находились в ВСК и только Испеков и Слюсаренко находились в самой лодке.
Мичман В.Ф.Слюсаренко (магнитофонная запись опроса): «Я взял секретную папку, которую мне дал командир БЧ-1, и пошел к секретчикам, сдал папку, так как началась эвакуация. В гиропосту никого не было, я взял два нагрудных жилета (других не нашел) и побежал к выходу. Смотрю – командир стоит одной ногой на трапе под люком. Он спросил меня: «Ты что, последний?». Я сказал: «Да», так как никого не видел. Тут Юдин сверху кричит, что остался еще капитан 3-го ранга Испенков – он дежурил возле дизеля, подменял ослабленного матроса Филиппова. Я побежал за Испенковым, в этот момент лодка сильно накренилась на корму. Я спустился по трапу и крикнул Испенкову, чтобы он бросал все и бежал наверх. Он был в наушниках. В эго время Испенков поднимался и кричал о поступлении воды в 3-й отсек. Струя воды била с правого борта из кормы 2-го отсека».
Из сообщения мичмана Слюсаренко следует, что капитан 3-го ранга Испенков не был предупрежден об эвакуации.
Даже начинающему подводнику известно, что возле работающего дизель-генератора человеческого голоса не слышно уже на расстоянии одного-двух метров и никакие команды голосом не доходят до боевого поста у дизель-генератора. Извещать капитана 3-го ранга Испенкова об эвакуации нужно было специальным посыльным, а это сделано не было.
Войти внутрь корабля можно было только через отделяемую от корпуса всплывающую капсулу. В ней мог разместиться весь экипаж, все 57 человек (штатная численность экипажа) плотно усаживались в два яруса, механик отдавал стопора и камера всплывала с глубины 1500 м.
Когда Слюсаренко начал влезать в камеру, из верхнего люка, с 10 метровой высоты обрушился столб воды. Стало ясно, что «Комсомолец» погружается с открытым рубочным люком.
Внезапно поток воды прервался. Как потом выяснится это мичман Копейка, прежде чем спрыгнуть с рубки в воду успел захлопнуть входной люк.
Застрявшего в люке Слюсаренко Юдин и Черников втащили в ВСК и принялись задраивать нижний люк, Нижняя крышка откидывалась, в отличии от верхнего люка с накидной крышкой, поэтому задраить ее было труднее.
Лодка проваливалась в глубину. Сквозь все еще не закрытую щель в камеру с силой шел воздух, выгоняемый водой из отсеков, он надувал титановую капсулу будто компрессор. С каждой сотней метров давление росло, камеру заволокло холодным паром, а голоса у всех стали писклявыми.
Наконец крышку закрыли и стали обжимать кремальеру чтобы плотнее задраить люк. Сделать это было непросто. Шахта люка метра на полтора заполнилась водой, и Юдину приходилось погружаться с головой, нащупывая гнездо ключа. Вдруг снизу раздались стуки. Это Испеков добрался до входного люка и просился в камеру.
Мичман В.Ф.Слюсаренко (объяснительная записка): «Тут снизу мы услышали стук. Это стучал, по всей видимости, Испенков. Командир стал кричать: «Давайте, открывайте люк, они еще, может, там живы!» Он, видно, не знал, что Испенков был один».
Юдин снова окунулся пытаясь открутить винт кремальеры но тут камеру встряхнуло из лодки послышался треск ломающихся переборок. Стуки с низу затихли (Командир электротехнического дивизиона Испенков А.М. до конца выполнил свой долг, до последней возможности нес вахту у вновь запущенного дизель-генератора, давая свет и энергию в отсеки, чтобы все смогли выбраться из погибающего корабля).
Начали выполнять действия по отделению капсулы, но стопор не поддавался. Сильное обжатие корпуса заклинило стопор.
Корпус лодки содрогнулся вода вошла в последний отсек. Камеру вдруг затрясло и задергало.
- Всем включиться в аппараты ИДА! – крикнул Юдин.
Слюсаренко и Черников быстро выполнили команду – это их и спасло (В своих последующих интервью Слюсаренко утверждал, что голос отдавший команду был не похож на голоса находившихся в ВСК людей т.е. это был голос свыше. Здесь необходимо пояснить, что при повышенном давлении тембр голоса меняется – становится тоньше, писклявей, поэтому если Слюсаренко не смотрел на отдавшего команду он мог голоса не узнать
прим.).В следующую секунду Юдин замешкавшийся с аппаратом, вдруг сник, и без чувств свалился в притопленную шахту нижнего люка. Оба мичмана тут же его вытащили и уложили на сиденья нижнего яруса. Он задыхался. На него попытались надеть маску аппарата, но он умер. Захрипели и начали биться в конвульсиях Ванин и Краснобаев. Все трое Юдин, Ванин и Краснобаев – умерли от отравления окисью углерода (угарный газ). Камера была задымлена, а угарный газ под давлением умерщвляет в секунды.

Отрыв всплывающей спасательной камеры во время пожара на ПЛА К-278 «Комсомолец» пр.685. С картины художника
ВСК вдруг оторвалась и полетела верх. Когда ее выбросило на поверхность давление внутри камеры увеличилось настолько, что вырвало верхний люк. Черникова потоком воздуха вышвырнуло наружу. Следом полетел Слюсаренко, но вылетел из камеры только по пояс. Камера продержалась на плаву 5-6 секунд и едва Слюсаренко выбрался из нее пошла вниз (Реактивной силой воздушной струи камера была притоплена и, «зачерпнув» воду, утонула. Ориентировочные расчеты показывают, что для этого достаточно было иметь первоначальное давление в камере около 0,5 кгс/см2). Черников плавал неподалеку, лицом вниз, вылетев из капсулы он упал на грудь, ударившись о воду, воздух из дыхательного мешка под давлением устремился в легкие и разорвал их…
Подошедшая через сорок минут к месту крушения плавбаза «Алексей Хлобыстов» подобрала оставшихся в живых моряков, на борту им оказали квалифицированную медицинскую помощь, подняла из воды погибших.
Вместе с кораблем и в районе затопления погибло 39 членов экипажа, тела 16 погибших и 30 оставшихся в живых были подняты на борт рыбопромысловой базы «Алексей Хлобыстов». Из числа спасенных три человека Молчанов, Нежутин и Грундуль умерли на борту плавбазы. После ужина вышли на верхнюю палубу покурить…
Подводники во время аварии до предела надышались окисью углерода. Они были ослаблены длительным пребыванием в холодной воде. Они находились на грани жизни и смерти. Выкуренная сигарета добавила очередную порцию окиси углерода, которая в их положении была самым сильнодействующим ядом. Эта порция окиси углерода оборвала их жизнь.
В итоге общее количество погибших составило 42 человека, выжило 27 человек.
Дальнейшая оценка причин катастрофы в различных источниках значительно разнится - руководство ВМФ обвиняло в несовершенстве лодки конструкторов и судостроителей, последние, в свою очередь заявляли о неумелых и порой даже безграмотных действиях экипажа.
Работа правительственной комиссии по расследованию причин катастрофы на «Комсомольце» под председательством секретаря ЦК КПСС Олега Бакланова в течение года выявила клубок нерешенных проблем в теоретическом, технологическом, конструктивном и информационном обеспечении живучести корабля, прежде всего его взрывопожаробезопасности, остойчивости и непотопляемости.
Комиссией было установлено, что пожар, возникший в концевом седьмом отсеке лодки из-за возгорания электрооборудования привода рулевой системы, привел к воспламенению горючих отделочных материалов. В течение двух-трех минут температура в отсеке достигла почти 1000 градусов, что в силу конструктивных недостатков привело к разгерметизации магистрали воздуха высокого давления. Поступление в отсек воздуха под большим давлением увеличило интенсивность пожара, ликвидировать который не удалось. Недостаточная температурная стойкость элементов конструкции корабля и средств борьбы с пожаром не позволила экипажу эффективно противостоять нарастающей аварии.
За первые 30 минут развития аварийной ситуации вышли из строя управление рулями и связь между отсеками, стало невозможным дистанционное управление общекорабельными системами кормовых отсеков, прекратила работу главная энергетическая установка, развился пожар в шестом и возникли местные возгорания в пятом, четвертом и третьем отсеках, почти во всех отсеках содержание окиси углерода намного превысило предельно допустимую норму. Кроме того, сильный жар вызвал потерю герметичности ряда систем и устройства седьмого и шестого отсеков и прилегающих к ним цистерн главного балласта, что привело к поступлению забортной воды в кормовые балластные цистерны и внутрь прочного корпуса подводной лодки. Из-за этого она в 17 часов 08 минут затонула в 106 милях к юго-западу от острова Медвежий, исчерпав запас плавучести.
В 1991 году затонувшая подлодка была обследована на грунте глубоководными аппаратами «Мир». В последующие осмотры (1994-1995г) была проведена заделка отверстий для предотвращения возможного выхода в водную среду продуктов распада спецбоеприпасов. Также было обнаружено несанкционированное посещение затонувшей ПЛ иностранными подводными средствами.