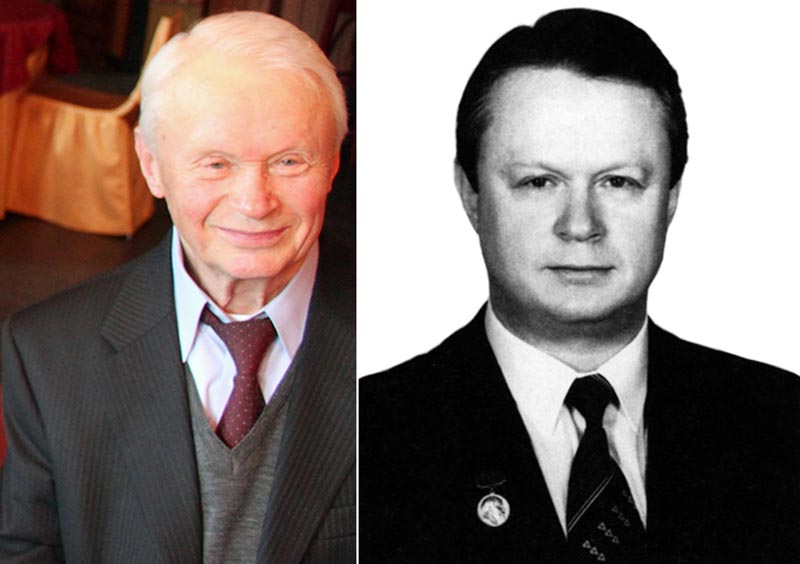Хочу продолжить тему Петергофского десанта затронутую уважаемым sad39, в моем архиве есть соответствующий материал и надеюсь он будет к месту.
Высадившиеся в Петергофе десантники продолжали до бой до 7-го октября и погибли почти все.
В опубликованной в Западном Берлине книге фон Веделя «Германия в огне» эти события представлены следующим образом: «Матросский десант в Петергофе застал наши войска врасплох. Боевая тревога была объявлена, когда он уже высадился на берег и снял нашу охрану. Матросы неудержимо продвигались вперед, захва¬тывая наши позиции. Бой шел трое суток...».
7 октября 1941 года берлинское радио сообщало, что «5 октября западнее Ленинграда, в Петергофе, был высажен морской десант из Кронштадта. Это были мощные советские силы, состоящие из коммунистов, специально отобранные для борьбы с войсками фюрера. В многодневных и упорных боях с матросами наши войска понесли большие потери, но и комиссарский десант был измотан и уничтожен частично нами, частично самими матросами, так как они не сдавались в плен, предпочитая смерть...».
После войны в Петергофском парке была найдена фляга с двумя записками.
В первой - последний командующий десантом Вадим Федоров писал: «Люди! Русская земля! Любимый Балтфлот! Умираем, но не сдаемся. Рядом убит Петрухин. Деремся вторые сутки. Командую я. Патронов! Гранат! Прощайте, братишки! Вадим Федоров».
В другой записке всего четыре слова: «Живые! Пойте о нас! Мишка».
Судьба десантаДля связи с десантом высаженным в Новом Петергофе были посланы самолеты и катера, с самолетов место нахождения десантников увидеть не удалось, а катера не смогли подойти к берегу из-за плотного пулеметно-артиллерийского огня немцев. Ночью на катерах были высажены две разведгруппы которые сразу поле высадки были обнаружены и обстреляны, одна группа разведчиков вернулась на стоявшие у берега катера, вторая возвращалась неся раненых, своим ходом вдоль берега, по горло в ледяной воде, через несколько часов разведчики вышли на Ораниенбаумский «пятачок» (всего на поиски десанта было послано 20 групп (11 отправлены берегом из Ораниенбаума и 9 - морем из Кронштада) обратно смогли вернуться лишь 4 группы).
Тогда у командования появилась идея использовать для связи с десантом пловцов, для этой цели удачно подходил политрук Николай Бочкарев, который купался в море в любую погоду. В штабе Бочкареву объяснили, какие трудности надо преодолеть, и предложили до наступления темноты продумать план ночной разведки. Чтобы не тащить с собой тяжелую рацию Бочкарев решил связь со штабом держать с помощь голубей которые жили на чердаке главного здания на о. Кроншлот и кормились у камбуза, а в помощники себе взять краснофлотца из местных жителей. Часа через два Бочкарев доложил командованию, как он намерен действовать в разведке. Начштаба одобрил использование легких водолазных костюмов с кислородными масками и голубей.
Ночью Бочкарев со старшиной Кургапкиным надели теплое егерское белье, свитера, натянули на себя непромокаемые противоипритные костюмы, добытые у начхима, спрятали в резиновые кисеты электрические фонарики, стекла которых были оклеены черной бумагой, пропускающей лишь тоненький лучик света, а взятого с собой голубя посадили в небольшую круглую корзину с крышкой, которая до половины входила в спасательный круг и могла держаться на воде.
На траверз Старого Петергофа их доставила «каэм-ка» с заглушенными моторами.
Катерники спустили на воду надувную десантную шлюпку, усадили в нее разведчиков, подали им голубя и пожелали счастливого плаванья.
Кургапкин оттолкнулся от «каэмки», а Бочкарев начал грести широколопастными короткими веслами. Ветер, дувший разведчикам в спину, помогал двигаться с хорошей скоростью.
Неожиданно по заливу скользнул прожекторный луч. Разведчики прижались к холодному днищу лодки. Они не поднимали голов до тех пор, пока не погас свет, В заливе стало темней.
- Не снесло ли нас ветром? - спросил политрук.
- Есть малость, - ответил старшина. - Надо чуть левей. Дайте я погребу.
Вскоре они остановились. Дальше двигаться в лодке было рискованно.
Бочкарев поставил корзинку с голубем в спасательный круг и шепнул:
- Приготовиться. Будем стравлять воздух. Натянув на себя маски, они включили кислородные приборы. Аппараты действовали хорошо: дышалось легко. Затем разведчики открыли клапаны резиновой лодки. Воздух, испуская слабое шипение, начал выходить, а лодка, теряя плавучесть, постепенно опускалась на дно.
Минуты через три разведчики ощутили ногами твердый грунт. Вода скрыла их из виду. Осторожно пере¬двигаясь вперед, они потащили за собой почти затонувшую лодку и спасательный круг с голубем.
На отмели, где вода была по грудь, они остановились, сняли маски и стали прислушиваться. Кругом было тихо.
Бочкарев вытащил из резинового кисета электрический фонарик и, держа его так, чтобы свет был виден только с моря, несколько раз щелкнул выключателем. Это означало: «Дошли благополучно».
Из парка вырвался яркий луч света. Пронизав тьму, он принялся шарить по заливу и сразу же наткнулся на буруны морских охотников, мчавшихся к петергофской пристани и к Монплезиру.
Из парка ударила пушка, затарахтели пулеметы. Замелькали огни.
Разведчики, оставив в воде под камнем резиновую лодку, выползли к прибрежным валунам, спрятали в камышах корзину с голубем и стали наблюдать за суетой на берегу. Они видели, как пулеметы роями выпускали в море светящихся жуков, как из дотов цепочкой вылетали снаряды и вычерчивали огненные пунктиры. Но на опушках парка и на пляжах, освещаемых ракетами, никто не показывался.
Бочкарев вглядывался в каждый куст и валун. Одно место ему показалось подозрительным. Он дождался взлета новой ракеты и в ее мертвящем, словно лунном свете рассмотрел окопчик с навесом из камыша и бледное лицо человека в каске, лежащего за пулеметом.
Политрук толкнул старшину и показал рукой, куда надо глядеть.
Когда очередная ракета осветила берег, они оба убедились, что в окопчике сидят два гитлеровца.
- Давайте их снимем, пока идет стрельба, - приникнув к уху политрука, шепнул старшина.
- Заходи слева, я справа. Нападем одновременно. Взяв в зубы ножи, принимаясь к земле, они пополз¬ли меж валунов.
Перестрелка с катерами продолжалась.
«Молодец начштаба, - подумал политрук. - Вовремя катера стали изображать высадку десанта».
Всякий раз, как взлетали ракеты, разведчики прижимались к камням и лежали неподвижно. Желтоватые противоипритные костюмы были хорошей маскировкой на песке.
Приблизясь с разных сторон к окопчику, разведчики одновременно поднялись и, как только взлетела очередная ракета, навалились на гитлеровцев. Нападение было столь неожиданным, что один пулеметчик даже не шелохнулся, а другой, повернувшись на спину, хотел было позвать на помощь, но старшина, схватив горсть сырого песку, забил им раскрытый рот фашиста.
Покончив с гитлеровцами, разведчики набросили на себя их маскировочные плащ-палатки и смело прошли в кустарник. От холода или волнения старшину трясло.
В первые минуты среди деревьев трудно было что-либо разглядеть. От света ракет и взрывов тени меняли места, переплетались, делались то длинными, то короткими. Вдруг справа послышался всплеск. Какой-то человек упал с косогора в канаву, поднялся и опять свалился в воду. Он никак не мог подняться.
Свет ракеты осветил его. «В бушлате... свой», - обрадовался Бочкарев.
Они ползком подобрались к человеку, помогли ему выбраться из канавы и осветили тоненьким лучиком электрического фонарика. Это был худощавый краснофлотец, совсем еще мальчик. Лицо его горело от жара.
«Ранен, бредовое состояние», - понял политрук. Он взвалил краснофлотца на спину и отнес в окопчик.
С помощью старшины Бочкарев разжал краснофлотцу зубы и дал ему глотнуть шнапсу из фляги, найденной у убитого гитлеровца.
Краснофлотец вскоре пришел в себя и что-то пробормотал. Политрук наклонился к нему и спросил:
- Откуда ты? Где ваш батальон? Краснофлотец отвечал невнятно. Бочкарев с трудом разобрал, что командир убит еще при высадке, что всюду танки... Нужны гранаты и пушки.
- Наши залегли, - едва шевеля запекшимися губами, бормотал раненый. - Радиста убили, я дополз один... Дайте красную ракету...
- Что же нам теперь делать? - шепотом спросил старшина у политрука.
- Его надо в госпиталь. Иди накачивай лодку.
Старшина, решив, что на этом их разведка и кончится, поспешил выполнять приказание. Когда он вернулся из камышей к окопчику, то увидел, как политрук заканчивает перевязывать краснофлотца.
Они вдвоем перенесли раненого в лодку и укрыли немецкой шинелью. Усадив старшину за весла, Бочкарев сказал:
- Как отойдешь подальше, просигналь фонариком, подберут.
- А вы как же? - недоумевая, спросил Кургапкин.
- Вплавь доберусь, не беспокойся. Я еще поищу наших.
Сказав это, Бочкарев протащил лодку к чистой воде, а там шепнул:
- Если осветят - не шевелитесь.
Убедившись, что лодка благополучно удаляется, политрук подобрал корзину с голубем и поспешил скрыться в кустарнике.
Дозорные катера, всю ночь дрейфовавшие на траверзе Старого Петергофа, подобрали резиновую лодку со старшиной и раненым матросом, впавшим в беспамятство.
Утром прилетел на Кроншлот голубь и принес коротенькое донесение: «От десанта осталась небольшая группа. Нет патронов и еды».
Глубокой ночью гарнизон острова Кроншлот разбудили звонки громкого боя. Тревогу поднял часовой, стоявший на каменистом берегу у зенитного пулемета. Боец увидел, как у самого маяка из воды поднялся человек и, спотыкаясь, чуть ли не на четвереньках стал приближаться. Дав сигнал тревоги, часовой заорал:
- Стой!.. Стой, стрелять, буду!
- Сколько можно в одного человека стрелять! По голосу часовой узнал Бочкарева.
- Прошу прощения, - смущенно пробормотал он и тут же радостно прокричал: - Отбой тревоги! Полный порядок... Товарищ политрук с разведки вернулся!
Матроса не удивило, что политрук Бочкарев в такую стужу стоит в одних трусах.
Из воспоминаний политрука Бочкарева:
- Плохо им, было - но дрались. Никто не вышел с поднятыми руками, не сдался. Два дня не подпускали к себе фрицев. И танки не могли взять. А ведь у ребят не хватало ни гранат, ни патронов. Приходилось в бою добывать.
- На берег не выходили по многим причинам. Командиру полковнику Ворожилову пуля в сердце угодила в самом начале высадки. Командование на себя взял комиссар Петрухин. Десантники, кроме пристани, с ходу захватили Монплезир, Эрмитаж и Марли. Если бы они остались во дворцах, то получили бы подкрепление и боезапасы. Но им было предписано выйти к аэродрому. Они и пошли пробиваться. Захватили Шахматную гору, с боем приблизились к Большому дворцу, в Верхний сад и... попали в танковую засаду. Танки - полукольцом, простреливают каждый метр. С голыми руками на них не пойдешь. И назад дорогу отрезали: автоматчики с тыла по Нижнему парку обошли...
Я наткнулся на ребят, окопавшихся в развалинах Воронихинской колоннады. К концу ночи прямо на них выполз. Они меня за немца приняли: «Хенде хох!» - требуют, а я по-русски: «Не стреляйте, свой... политрук с Кроншлота». У мичмана, который был у них за старшего, еще юмора хватило спросить: «А кто там у вас Начальником канители?» - «Грищенко», - отвечаю. «Верно, - соглашается он. - Подползай, только не вздумай стрелять, гранату брошу!».
Подползаю. А у них в живых четыре человека. И у всех ранения. Ребята голодные, измученные. А у меня, кроме шнапса, ничего с собой. Выпили они по глотку и говорят: «Пока совсем не рассвело, собери с мертвых оружие. Мы уже ползать не в силах».
Пополз я, два автомата подобрал, сумку патронами набил. А с едой плохо, только в мешке убитого краснофлотца банку консервов и два сухаря нашел.
Возвращаюсь, а ребята, видимо, понадеялись на меня, спят. Бодрствовать больше не смогли. Кто где лежал, так и ткнулся носом.
Стал я их охранять. Как покажутся фрицы - даю короткую очередь и отползаю за другой камень.
Утром радио загорланило на русском языке: «Рус, если хочешь жить, сдавайся. Подними руки на голову и выходи. В плену накормят». Но никто конечно не вышел.
В полдень, увидев, что гитлеровцы скапливаются у Золотой горы, я растолкал ребят. Они ополоснули лица водой из канавы, разделили на всех банку консервов, съели по полсухаря и залегли в круговую оборону. Атакующих встретили так, что во второй раз им не захотелось наступать. Но мы трех человек потеряли. Остались в живых я и старшина.
Гитлеровцы, понадеявшись, что мы сами выдохнемся и выйдем сдаваться, больше серьезных атак не предпринимали. Как только наступили сумерки, я зову старшину: «Давай пробираться к морю». А он не хочет: «Иди один, мне не доплыть». - «Так у нас не делается, говорю. Я тебя по воде вдоль берега дотащу к нашим».
Поползли мы. У Вольера в перестрелку попали. Вскрикнул мой старшина и не встает. Смотрю - разрывной пулей висок размозжило. Дальше пополз один, в воду у камышей, как черепаха, на животе вполз. Добрался до глубины, хотел маску надеть, но не пришлось: кислородный прибор пулями повредило.
Пошел я по горло в воде вдоль берега. Добрался до таких мест, где до Кроншлота ближе было. Сбросил с себя мешавшую одежду и поплыл.
Одно могу сказать - наши балтийцы великое дело сделали. Гитлеровцы за эти дни поняли, с какими людьми им придется драться.